Читать онлайн Это началось не с тебя. Как мы наследуем негативные сценарии нашей семьи и как остановить их влияние
- Автор: Марк Уолинн
- Жанр: Психотерапия, Зарубежная психология, Клиническая психология, Практическая психология, Психоанализ, Саморазвитие, Личностный рост, Состояния и явления психики
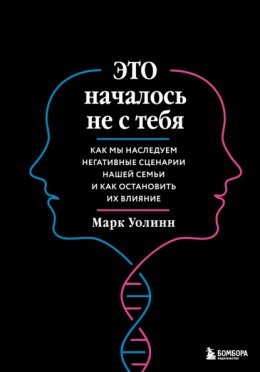
Mark Wolynn
IT DIDN’T START WITH YOU
Copyright © 2016 by Mark Wolynn.
All rights reserved including the right of reproduction in whole or in part in any form.
This edition published by arrangement with Viking, an imprint of Penguin Publishing Group, a division of Penguin Random House LLC
Серия «Практическая психотерапия»
© Цветкова Е., перевод на русский язык, 2020
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2020
Посвящается моим родителям,
Марвину Уолину и Сандре Лазье Уолин-Миллер.
С благодарностью за все, что вы дали мне.
Кто смотрит наружу – видит лишь сны;
кто смотрит в себя – пробуждается.
Карл Юнг
Введение
Тайный язык страха
В темные времена глаз начинает видеть…
Теодор Рётке «В темные времена…»
Эта книга – результат целенаправленных усилий, заставивших меня обогнуть мир и вновь вернуться к своим корням и к профессиональной карьере, которую я представлял совсем иначе, когда мое путешествие начиналось. Более двадцати лет я работал с людьми, которые боролись с депрессией, тревогой, хроническими заболеваниями, фобиями, навязчивыми мыслями, ПТСР[1] и другими состояниями, подрывающими здоровье и силы человека. Многие из них приходили ко мне разочарованными и надломленными после долгих лет психотерапии, медикаментозного и других методов лечения, которые так и не выявили источник проявлявшихся симптомов и не облегчили их страданий.
Из опыта, полученного во время профессионального обучения и клинической практики, я понял, что ответ может лежать не столько в собственной истории жизни, сколько в жизнях наших родителей, дедушек и бабушек, и даже прадедушек и прабабушек. Последние научные исследования, которые теперь широко освещены в печати, также говорят нам, что эффект от травматического события в жизни может передаваться от одного поколения к другому. Подобное явление мы сейчас называем наследственной семейной травмой, и факты подтверждают, что это вполне реальный феномен. Боль не всегда проходит сама по себе или излечивается со временем. Даже если человек, переживший первичную травму, умер, даже если его история спрятана за годами молчания, какие-то фрагменты его жизненного опыта, воспоминаний, ощущений могут продолжать жить, как бы протягиваясь из прошлого, чтобы найти решение в умах и телах тех, кто живет сейчас.
Данная книга – синтез эмпирических наблюдений, которые я сделал во время работы в Институте семейной констелляции[2] в Сан-Франциско, и последних открытий нейронаук, эпигенетики[3] и языкознания. В ней также нашли отражение некоторые моменты моего профессионального обучения у Берта Хеллингера, известного немецкого психотерапевта, чей метод семейной терапии показывает, какой физиологический и психологический эффект оказывает наследственная семейная травма на множество последующих поколений.
Большое внимание в книге уделяется определению наследственных семейных паттернов[4] – страхов, чувств и типов поведения, которые мы неосознанно усвоили и которые из поколения в поколение поддерживают наш цикл страданий. И, конечно, тому, как наконец прервать его, – это и является сутью моей работы. Вы, как и я, сможете увидеть, что многие из этих паттернов не принадлежат нам; они просто были заимствованы у других членов семейного дерева. Почему это так? Я глубоко убежден, что история, которая скрыта в семье, наконец должна выйти на свет. Разрешите мне поделиться с вами своей.
Я никогда не ставил себе цели создать собственный метод преодоления тревоги и страхов. Все началось с того дня, когда я стал терять зрение. Меня накрыла первая в жизни глазная мигрень. Сильной физической боли я не испытывал – это был просто циклон темного ужаса, в котором мои глаза вдруг обложило мглой. Мне было тридцать четыре. Я находился в своем офисе и стал натыкаться на предметы, так как меня накрыла темнота. Я нащупал телефон на письменном столе и кнопки на нем и набрал 911. «Скорая» сказала, что они скоро приедут.
Обычно глазная мигрень не представляет особой опасности. Зрение затуманивается, но где-то через час все приходит в норму. Просто, когда такое случается неожиданно, человек обычно не знает этого. Однако для меня глазная мигрень стала только началом. В течение нескольких последующих недель зрение в левом глазу начало пропадать. Вскоре лица и дорожные знаки стали для меня лишь серой пеленой.
Доктора сказали мне, что у меня была центральная серозная ретинопатия – заболевание без возможности лечения, так как причина его неизвестна. За сетчаткой глаза скапливается жидкость, затем вытекает, повреждая ткани и снижая остроту зрения. Некоторые, а точнее 5 % людей с хронической формой заболевания, которая была и у меня, по-настоящему ослепли. Мне сказали, что болезнь развивается таким образом, что скоро оба моих глаза станут видеть хуже. Это было лишь делом времени.
Доктора не могли объяснить, что явилось причиной потери зрения и что могло вернуть его. Все, что пробовал я сам, – витамины, соковые диеты, хилерские практики[5], – казалось, только ухудшало мое состояние. Я был растерян. Мой самый жуткий страх стал реальным, и я был бессилен что-либо сделать. Слепой, не в состоянии заботиться о себе самостоятельно, одинокий – я не выдержу. Моя жизнь будет разрушена. Я потеряю волю к жизни.
В голове я вновь и вновь прокручивал этот сценарий. Чем больше я думал об этом, тем сильнее чувство беспомощности укоренялось в теле. Меня засасывало все глубже. Всякий раз, когда я пытался вытащить себя из этого состояния, мысли возвращались к образам одинокого, беспомощного и раздавленного меня. Я не знал тогда, что слова «одинокий», «беспомощный», «раздавленный» являлись частью моего языка страха. Они были отражением тех травматических эпизодов, которые имели место в истории моей семьи еще до того, как я был рожден. Неукрощенные и необузданные, эти слова кружились в моей голове и сотрясали тело.
Я гадал: что дало моим мыслям такую силу? У других людей случались беды пострашнее моей, но они не опускались до такого состояния. Что особенного было во мне и так глубоко укоренилось в моем страхе? Прошли годы, прежде чем я смог ответить на этот вопрос.
А тогда все, что я смог сделать – это уехать. Я порвал близкие отношения, оставил семью, бизнес, родной город – все, что я знал. Я не мог найти ответ в том мире, частью которого являлся, – мире, где так много людей, казалось, были потеряны и несчастны. У меня были лишь вопросы и отсутствие желания продолжать жить прежней жизнью. Я передал свой бизнес (успешную компанию по организации мероприятий) кому-то, кого едва знал, и уехал на Восток – так далеко, как только мог, пока наконец не достиг Юго-Восточной Азии. Я хотел излечиться. Только не имел понятия, каким образом.
Я читал книги и занимался с учителями, которые их писали. Как только слышал о ком-то, кто мог бы помочь мне – будь то старая женщина в хижине или смеющийся человек в робе, – я ехал туда. Участвовал в различных курсах обучения и пел мантры с гуру. Один из них как-то сказал, что хотел бы окружить себя только «находителями». Искатели, сказал он, так и остаются искателями – они в постоянном поиске.
И я захотел стать «находителем» – тем, кто находит. Каждый день я часами медитировал и постился по несколько дней подряд. Заваривал травы и вел непримиримую борьбу с токсинами, которые, как мне казалось, наводнили ткани моего тела. И тем не менее зрение продолжало ухудшаться, а депрессия – углубляться.
Я не понимал тогда, что, сопротивляясь переживанию чего-то болезненного, мы тем самым продлеваем ту боль, которую как раз пытаемся избежать. Делать так – значит продлевать страдание. Есть еще кое-что относительно характера наших поисков, и оно не дает нам найти то, что мы ищем. Если мы постоянно смотрим вокруг себя, мы можем просмотреть тот момент, когда достигнем цели. Внутри нас может происходить что-то очень важное, но если мы не настроены на это, то можем пропустить.
«Чего ты не хочешь видеть?» – раз за разом спрашивали хилеры, побуждая меня заглянуть глубже в себя. Но как я мог знать это? Тогда я блуждал в темноте.
Один гуру из Индонезии открыл для меня больше, чем другие, когда однажды спросил: «Кем вы себя считаете, если думаете, что у вас не должно быть проблем со зрением?» А затем продолжил: «Возможно, уши Йохана не слышат так же хорошо, как уши Герхарда, а легкие Элизы не столь сильны, как легкие Герты. А Дитрих не так быстро ходит, как Себастьян». (На этой программе все были из Германии или из Голландии, и у всех, кажется, было какое-то заболевание.) И вдруг что-то для меня открылось. Он был прав. Кто я такой, чтобы не иметь проблем со зрением? Для меня было самонадеянно спорить с реальностью. Нравится мне это или нет, моя сетчатка иссечена рубцами, а зрение стало плохим. И неожиданно я – то самое «я», спрятанное глубоко под всеми чувствами, – вдруг стало успокаиваться. Вне зависимости от того, какие у меня глаза. Боль и отчаяние вдруг перестали быть довлеющим фактором моего самоощущения.
Чтобы мы закрепили полученные знания, этот самый гуру заставил нас провести семьдесят два часа – три дня и три ночи – с завязанными глазами и заткнутыми ушами в медитации на маленькой подушечке. Без сна, не поднимаясь, не ложась, без разговоров. Если нужно было в туалет, поднимали руку, и тебя провожали на улицу, где для этого находилась дырка в земле.
Целью такого безумия было одно – непосредственно осознать сумасшествие разума через наблюдение за ним. Я увидел, как мой разум постоянно провоцирует меня, прокручивая самые худшие сценарии событий, и обманывает, предлагая поверить в то, что если я буду достаточно сильно волноваться по всем этим поводам, то смогу тем самым изолировать себя от того, чего так боюсь.
После такого опыта и еще нескольких подобных мое внутреннее зрение начало потихоньку проясняться. Однако состояние глаз оставалось без изменений; слезоточивость и отслоение сетчатки продолжались. Проблема со зрением оказалась многоуровневой метафорой. В конце концов, я осознал, что дело не столько в том, насколько хорошо я вижу, сколько в том, каким образом я смотрю на вещи. Но на поправку я пошел не тогда.
Только на третий год того, что я сейчас называю своим «квестом в поисках зрения», я нашел то, что искал. К тому времени я уже много медитировал. Депрессия практически ушла. Я мог проводить бесчисленное количество часов в молчании, наедине со своим дыханием и телесными ощущениями. Это было самое легкое.
Однажды я стоял в очереди в ожидании сатсанга – встречи с духовным учителем – несколько часов. На мне было белое одеяние, которое надевают все стоящие в храме. Подошла моя очередь. Я ждал, что мастер оценит мою преданность и самоотверженность. Вместо этого он посмотрел сквозь меня и увидел то, чего я видеть не мог. «Езжай домой, – сказал он. – И позвони матери и отцу».
Что? Я рассвирепел. Меня потряхивало от гнева. Конечно же, он неверно прочитал меня. Я больше не нуждался в своих родителях. Я вырос. Я порвал с ними давным-давно и поменял их на гораздо лучших – духовных родителей, всех тех учителей, гуру, мудрых мужчин и женщин, которые вели меня к следующему уровню просветления. Более того, имея за плечами несколько лет неудачной терапии, с битьем подушек и разрыванием на кусочки картонных чучел своих родителей, я верил, что уже «исцелил» свои взаимоотношения с ними. И я решил игнорировать полученный совет.
Однако что-то зацепило меня. Я не смог до конца отпустить то, что он мне сказал. Постепенно я начал понимать, что любой опыт является полезным. Все, что с нами происходит, несет свой смысл вне зависимости от того, понимаем мы его или нет. Все, что случается в нашей жизни, в конце концов ведет нас к чему-то.
Тем не менее я решил не касаться своих представлений о том, кто я есть. Для этого мне достаточно было уцепиться за мысль о том, что я – человек, продвинутый в медитации. Затем я стал искать другого духовного учителя – такого, который, как я верил, расставит все по своим местам. Этот человек наполнял сотни людей в день своей божественной любовью. Конечно же, он увидит, какой я глубоко духовный; именно таким я себя тогда представлял. И вновь я прождал в очереди весь день, и она подошла. Я стоял впереди всех. Тогда это произошло. Опять. Те же слова. «Позвони родителям. Езжай домой и примирись с ними».
В этот раз я услышал, что мне сказали.
Великие учителя знают. По-настоящему великих учителей не заботит, веришь ли ты в их учения или нет. Они дают тебе правду, а затем оставляют наедине с самим собой, чтобы ты нашел собственную истину. Писатель Адам Гопник в своей книге «Сквозь детскую калитку»[6] говорит о разнице между гуру и учителями: «Гуру дает нам себя самого, а затем свою систему. Учитель дает нам учение, а затем себя».
Великие учителя понимают, что то, откуда мы пришли, влияет на то, куда мы идем, и что неразрешенный груз прошлого влияет на настоящее. Они знают, что родители – важны, вне зависимости от того, были они хорошими или нет. Обойти это нельзя. История семьи – наша история тоже. Нравится нам это или нет, она живет в нас.
Какими бы ни были отношения, родителей невозможно стереть или вырвать из памяти. Они есть в нас, а мы – часть их, даже если никогда не виделись с ними. Отвергая их, мы лишь дальше отходим от себя и увеличиваем страдания. Оба учителя смогли это увидеть. Я – не смог. Моя слепота была и буквальной, и фигуральной. Теперь я начал потихоньку просыпаться, понимая, что дома я оставил полную неразбериху.
Годами я довольно жестко судил о своих родителях. Я представлял себе, что я эффективнее, гораздо чувствительнее и человечнее, нежели они. Я винил их за все плохое в своей жизни. Теперь я должен был вернуться к ним и восстановить то, чего мне недоставало – восприимчивость. Я начал понимать, что моя способность принимать любовь от других была связана с тем, как я принимаю любовь от своей матери.
Я понимал, что принять ее любовь будет трудным испытанием. У меня был настолько глубокий разрыв с матерью, что, когда она обнимала меня, я воспринимал это как медвежий капкан. Мое тело автоматически деревенело, как будто формируя панцирь, сквозь который она не могла бы пробраться. Эта внутренняя рана наложила отпечаток на каждый аспект моей жизни – особенно на способность быть открытым в личных отношениях.
Мать и я могли не разговаривать месяцами. А когда говорили, я находил способ или через слова, или через язык тела, выражавший оборону, свести на нет те теплые чувства, которые она проявляла по отношению ко мне. Я держался холодно и отстраненно. Одновременно я обвинял ее в том, что она не в состоянии услышать и понять меня.
С твердым намерением восстановить порванные отношения я забронировал билеты домой в Питтсбург. Я шел по дороге и почувствовал в груди напряжение. Я отнюдь не был уверен, что наши отношения можно восстановить; внутри меня бурлили различные чувства. Я готовил себя к худшему, проигрывая в уме возможные сценарии: она меня обнимет, а я, желая расслабиться в ее руках, сделаю как раз противоположное. Я задеревенею.
В принципе это и произошло. С трудом дыша, я едва вытерпел ее объятия. Однако попросил ее, чтобы она продолжила обнимать меня. Я хотел понять изнутри сопротивление моего тела, где именно я напрягался, какие ощущения возникали, как я закрываюсь от нее. Информация для меня не была новой. Я видел, как этот паттерн проявлялся и в моих личных отношениях. Только на сей раз я не уходил от него. Мой план был – залечить рану в самом ее источнике.
Чем дольше она обнимала меня, тем больше мне казалось, что я взорвусь. Это было даже физически больно. Боль превращалась в онемение, а онемение – в боль. Затем, по прошествии многих-многих минут, наконец что-то поддалось. Грудь и живот начали дрожать мелкой дрожью. Я начал расслабляться, и в течение следующих недель напряжение начало уходить.
В одном из многих разговоров, которые происходили в то время, практически случайно она рассказала мне об одном происшествии, которое произошло, когда я был маленьким. Ее должны были госпитализировать на три недели, ей предстояла операция на желчном пузыре. Получив эту информацию, я начал сопоставлять, что происходило внутри меня. Где-то в возрасте двух лет – именно тогда нас с матерью разделили – в моем теле начало появляться какое-то смутное напряжение. Когда мама вернулась, я перестал доверять ее заботе. Перестал воспринимать ее. Я стал отталкивать ее и продолжал это делать на протяжении последующих тридцати лет.
Все, что с нами происходит, несет свой смысл, вне зависимости от того понимаем мы его или нет. Все, что случается в нашей жизни, в конце концов, ведет нас к чему-то.
Другое событие в ранние годы моей жизни, вероятно, также повлияло на страх, что жизнь может быть внезапно разрушена. Мать рассказала мне, что у нее были трудные роды, и во время них доктор использовал щипцы. В результате я родился с множественными синяками и частично сплющенным черепом, что довольно обыденно для родов с применением щипцов. Мать с сожалением поведала мне, что я выглядел так, что ей даже было трудно в первый раз взять меня на руки. Ее история нашла во мне отклик и помогла объяснить чувство, что я «раздавлен», жившее где-то глубоко внутри меня. Особенно травматические воспоминания, заложенные при моем рождении, давали себя знать, когда я «рождал» новый проект или представлял его перед аудиторией. Только одно понимание этого вернуло мир в моей душе. Также это неожиданно сблизило нас с матерью.
Налаживая отношения с ней, я начал строить заново свои взаимоотношения и с отцом. Он жил один в маленькой, захудалой квартирке – той же, в которой поселился после развода (мне тогда было тринадцать). Мой отец, в прошлом солдат морской пехоты и строительный рабочий, даже не озаботился приведением в порядок собственного жилища. Старые инструменты, болты, шурупы, гвозди, мотки проводов и изоленты валялись по всем комнатам и коридорам – так же, как и много лет назад. Когда мы стояли посреди этого моря ржавого железа и стали, я сказал ему, что соскучился по нему. Казалось, что слова растворились в пустоте. Он не знал, что с ними делать.
Я всегда жаждал близких отношений с отцом, но ни он, ни я не знали, как позволить этому случиться. Однако на сей раз мы продолжили разговор. Я сказал ему, что люблю его и что он был хорошим отцом. Я поделился с ним воспоминаниями о том, что он делал для меня, когда я был маленьким. Я чувствовал, что он вслушивается в то, что я говорил ему, хотя его действия – пожимание плеч, попытка сменить тему – вроде бы свидетельствовали об обратном. Потребовались многие недели разговоров и обмена воспоминаниями. Как-то раз за обедом он посмотрел мне прямо в глаза и сказал: «Я никогда не думал, что ты любишь меня». У меня перехватило дыхание. Стало очевидно, какая огромная боль переполняла каждого из нас. В этот момент что-то переломилось. Открылись наши сердца. Иногда в сердце что-то должно переломиться, прежде чем оно откроется. В конце концов, мы начали проявлять свою любовь по отношению друг к другу. Теперь я видел результаты того, что я поверил словам своих духовных учителей и вернулся домой, чтобы исцелить отношения с родителями.
Впервые, сколько себя помнил, я разрешил себе принимать любовь и заботу своих родителей – и не ту, которую я когда-то от них ждал, а ту, которую они были в состоянии мне дать. Что-то во мне открылось. Не имело значения, насколько сильно они любили меня. Важным стало, как я получал то, что они могли дать. Они остались прежними, какими были всегда. Изменения произошли во мне. Я возвращался к тому чувству любви, которое должен был чувствовать тогда, в детстве, до того, как разрушилась моя связь с матерью.
Ранняя разлука с ней, вместе с другими травмами, которые я унаследовал из семейной истории (особенно тот факт, что три моих деда потеряли матерей в раннем детстве, а прабабушка лишилась отца в младенчестве, а вместе с ним и львиной доли внимания матери, которая была погружена в свое горе), и сформировали мой тайный язык страха. Такие слова, как «один», «беспомощный», «раздавлен» и все сопутствующие им чувства, наконец стали терять свою силу и больше не сбивали меня с пути. Мне подарили новую жизнь, и нынешние отношения с родителями составляли ее значительную часть.
За несколько месяцев я восстановил нежные отношения с матерью. Ее любовь, когда-то казавшаяся назойливой и раздражающей, теперь успокаивала и прибавляла сил. Мне повезло, что еще шестнадцать лет я наслаждался близкими отношениями с отцом. Страдая от старческой деменции в последние четыре года своей жизни, он преподал мне, наверное, самый значительный урок открытости и любви в моей жизни. Мы встречались там, за гранью мысли и ума, где существовала только глубочайшая любовь.
Во время путешествий я встречал много великих учителей. Оборачиваясь назад, я понимаю, что мой глаз – изможденный, проблемный, рождавший ужас глаз – заставил меня проехать полмира, вернуться к родителям, пройти через трясину семейных травм и наконец вернуться к собственному сердцу. Он, бесспорно, был самым великим моим учителем.
Где-то на этом пути я даже перестал думать о своем глазе и беспокоиться, улучшается его состояние или нет. Я больше не ждал, что ясное зрение вернется ко мне. Каким-то образом это перестало быть важным. Однако вскоре после описанных событий зрение начало возвращаться ко мне. Я не ожидал этого. Мне даже не было это нужно. Я научился чувствовать себя полноценно вне зависимости от своих глаз.
Сегодня мое зрение 20/20, хотя офтальмолог утверждает, что с тем количеством шрамов, которое есть на моей сетчатке, я не должен видеть вообще. Он только качает головой и рассуждает о том, что, наверное, световой сигнал каким-то образом отражается и обходит центральную фовеолярную зону сетчатки. Так же как и в большинстве историй об исцелении и трансформации, то, что казалось суровым испытанием, на деле было скрытой милостью Божией. По иронии судьбы, обшарив самые дальние уголки планеты в поисках ответов, я нашел самый главный источник исцеления внутри себя, он только и ждал, когда его откроют.
В конечном счете исцеление – результат внутренней работы. Спасибо моим учителям за то, что они вернули меня домой, к родителям и к самому себе. Я открыл для себя историю своей семьи, и это принесло мир моей душе. В знак благодарности и из чувства вновь обретенной свободы я сделал своей миссией – помогать другим открывать для себя такую же свободу.
Так получилось, что в мир психологии я вошел через слово. Будучи сначала студентом, а затем и клиницистом, меня мало занимали тесты и теории, а также модели поведения. Вместо них я вслушивался в язык. Я разработал свои техники слушания и учился слышать то, что люди говорили на самом деле – в своих жалобах, в повторявшихся историях. Я научился помогать им вычленять определенные слова, которые вели к источнику их боли. Хотя некоторые теоретики утверждают, что язык не участвует при формировании образа травматического эпизода, я самолично вновь и вновь убеждался, что язык никуда не пропадает. Он блуждает в областях бессознательного и ждет, когда его услышат.
То, что язык для меня является действенным инструментом исцеления, неудивительно. Насколько я могу вспомнить, язык всегда был моим учителем и способом организовывать и понимать мир. Еще подростком я начал писать стихи и готов был бросить все (ну или почти все), почувствовав, как рождается и требует выхода новая волна языкового самовыражения. Я знаю, что если я подчинюсь этому порыву, то на другом конце его лежит уникальная информация, которая могла бы не открыться мне другим способом. Так для меня на собственном пути было важно увидеть слова «один», «беспомощный», «раздавлен».
Во многом исцеление от психологической травмы сродни написанию стихотворения. И то и другое требует точного момента времени, точных слов и точного образа. Когда все эти элементы выстраиваются в верной последовательности, нечто очень важное приходит в движение и даже ощущается в теле. Чтобы исцелиться, движение должно быть точно размерено. Если мы слишком быстро придем к образу, то можем не зацепить его корень. Если слова, несущие нам успокоение, придут слишком быстро, мы можем оказаться не готовы воспринять их. Если слова будут неточны, мы можем их не услышать или не соотнесем себя с ними.
В ходе своей деятельности в качестве наставника, а затем и ведущего семинаров, я объединил аналитическую информацию и методы, полученные при обучении в сфере психологии наследственных семейных травм, со своими знаниями о важности роли языка. Я называю этот подход методом ключевого языка. С помощью специальных вопросов я помогаю людям добраться до главной причины, лежащей в основе их физических и эмоциональных симптомов, причины, которая удерживает их в этой трясине. Применяя данный метод, я наблюдал, как глубоко укоренившиеся паттерны депрессии, тревоги, пустоты изменялись в свете внезапного озарения.
Локомотивом в этом странствии является язык – глубоко запрятанный язык наших страхов и тревог. Очень возможно, что он жил в нас всю жизнь. Возможно, он возник еще у родителей или даже многие поколения назад, у бабушек и дедушек. Наш истинный язык хочет быть услышанным. Если мы последуем за ним и услышим его истинную историю, он сможет растворить все наши самые глубокие страхи.
На этом пути мы можем встретить членов семьи, как известных, так и малознакомых. Некоторые из них мертвы уже много лет. Некоторые могут быть даже не такими близкими родственниками, но их страдания или их жестокость могли изменить судьбу нашей семьи. Мы можем даже обнаружить один-два секрета в давно погребенных историях. Но вне зависимости от того, куда заведет нас исследование, мой опыт говорит, что мы прибудем в новое место жизни, в наших телах появится больше свободы и мы будем способны пребывать в мире с самими собой.
В книге я привожу истории людей, с которыми работал на своих семинарах, тренингах и в индивидуальных сессиях. Обстоятельства этих историй реальны, но, уважая их право на конфиденциальность, я изменил имена и некоторые узнаваемые черты. Я глубоко признателен им за возможность поделиться их тайным языком страхов, за их доверие ко мне и за то, что они позволили мне услышать то важное, что скрывалось за словами.
Часть I
Паутина семейных травм
Глава 1
Травмы: потерянные и найденные
Прошлое никогда не умирает. Оно даже не прошлое.
Уильям Фолкнер. «Реквием по монахине»
Особенность травмы, которая известна многим, – неспособность выразить словами, что же конкретно происходит с нами. Она убедительно подтверждена многими документальными доказательствами. Мы не только не находим слов, но и еще что-то случается и с нашей памятью. Во время травмирующего инцидента мыслительные процессы могут быть настолько дезорганизованы и рассредоточены, что мы можем даже не ассоциировать воспоминания с определенным событием. Фрагменты воспоминаний, разбросанные в виде образов, телесных ощущений и слов, хранятся в нашем бессознательном и, спустя время, могут быть активированы чем-то, что хотя бы отдаленно напоминает пережитое. Когда что-то пробуждает их, как будто нажали невидимую кнопку перемотки, в повседневной жизни начинают воспроизводиться какие-то проявления травмы. Бессознательно мы можем реагировать на определенных людей, события или ситуации тем или иным знакомым способом, который перекликается с прошлым.
Зигмунд Фрейд открыл этот паттерн более ста лет назад. Реконструкция травмы, или «навязчивое повторение», как назвал ее Фрейд, – это попытка бессознательного вновь проиграть то, что когда-то осталось нерешенным, чтобы «сделать все правильно». Бессознательное стремление переживать прошлые события может быть одним из механизмов, действующих в случаях, когда в семьях на протяжении нескольких поколений повторяются нерешенные травмы.
Современник Фрейда, Карл Юнг, также считал, что все, оказавшееся в бессознательном, не исчезает, но скорее проявляет себя в жизни как фатум или судьба. Все, что не является сознательным, говорил он, далее переживается как фатум. Другими словами, мы стремимся повторять бессознательные паттерны поведения до тех пор, пока не привнесем в них свет осознанности. И Юнг, и Фрейд подчеркивали: все, что нам слишком трудно переработать, само по себе не исчезает, а сохраняется в нашем бессознательном.
Фрейд и Юнг замечали, как фрагменты блокированного, подавленного или вытесненного жизненного опыта проявляют себя в словах, жестах и поведении пациентов. В последующие десятилетия терапевты искали подсказки в виде оговорок, особенностей поведения или образов сновидений, надеясь, что они прольют свет на неизъяснимые и немыслимые области жизни их пациентов.
Недавние успехи технологий построения и обработки изображений позволили исследователям раскрыть, как функции мозга и тела «дают осечку» или надламываются во время сокрушительных переживаний. Бессель ван дер Колк – голландский психиатр, известный своими исследованиями посттравматического стресса. Он говорит, что во время травмирующего эпизода речевой центр блокируется, так же как и префронтальная кора головного мозга – та часть мозга, которая отвечает за переживание настоящего момента. Он описывает такое состояние как бессловесный ужас, при котором теряются все слова, что типично, когда нейронные проводящие пути головного мозга, ответственные за память, заторможены в моменты угрозы или опасности. «Когда человек вновь переживает свой травмирующий опыт, – говорит он, – это оказывает повреждающее воздействие на лобные доли головного мозга. В результате ему трудно думать и говорить. Он уже не способен объяснить самому себе или кому-то другому, что в точности происходит» (1).
Реконструкция травмы, или «навязчивое повторение», как назвал ее Фрейд, – это попытка бессознательного вновь проиграть то, что когда-то осталось нерешенным, чтобы «сделать все правильно».
Все же это не абсолютная тишина: слова, образы и импульсы, которые распались на фрагменты после травмирующего инцидента, возрождаются и формируют тайный язык страданий, который мы несем в себе. Ничто не теряется. Куски нашего опыта были просто направлены по другим маршрутам. Появляющиеся сейчас тенденции в психотерапии начинают смотреть за пределы личной травмы одного человека и обращают внимание на травмирующие события в семье и социальной истории, чтобы увидеть картину в целом. Трагедии, различные по своему типу и интенсивности (например, отказ от ребенка, самоубийство, война или же ранняя смерть кого-то из родителей, брата или сестры, или собственного ребенка) вызывают ударные волны горя и боли, передающиеся от одного поколения к другому. Недавние открытия в области молекулярной биологии, эпигенетики и психологии развития подчеркивают важность исследования по меньшей мере трех поколений фамильной истории для того, чтобы понять механизм, лежащий в основе повторяющихся травматических паттернов и страданий.
Следующая история дает нам яркий пример. Когда я впервые увидел Джесси, он практически не спал ночами уже более года. Бессонница явно выдавала себя темными кругами под глазами, но пустой взгляд заставлял предположить, что за этим лежит нечто большее. Джесси было всего двадцать, но выглядел он на десять лет старше. Он упал на софу в моем кабинете так, словно его ноги уже не держали вес тела.
Джесси рассказал, что он был перспективным спортсменом и круглым отличником, но из-за постоянной бессонницы все больше погружался в депрессию и отчаяние. В результате он ушел из колледжа и лишился стипендии, за которую в свое время так боролся. Он отчаянно нуждался в помощи, чтобы вернуться в прежнюю жизненную колею. За последние три года он побывал у трех докторов, двух психологов и натуропата[7], лежал в клинике сна. Ни один из них не дал ему ни понимания происходящего, ни помощи. Джесси, глядя в пол, сказал, что он просто на краю.
Когда я спросил, есть ли у него самого какие-либо идеи относительно того, что вызвало бессонницу, он покачал головой. Сон обычно всегда приходил к нему быстро. Но вот, отпраздновав свой девятнадцатый день рождения, он внезапно проснулся в 3.30 утра. Его колотил озноб, он дрожал и не мог согреться никакими способами. Спустя три часа Джесси, укрытый несколькими одеялами, по-прежнему не спал. Он не только испытывал холод и усталость, его охватил необъяснимый страх, которого он никогда не испытывал прежде. Он боялся, что если заснет, то случится нечто ужасное. «Если я засну, я больше никогда не проснусь». Каждый раз, когда начинал засыпать, он вздрагивал, и страх будил его. То же самое повторилось и следующими ночами. Вскоре бессонница стала его постоянным мучением. Джесси знал, что его страх – иррационален, и в то же время ничего не мог с ним поделать.
Пока он говорил, я слушал очень внимательно. В его рассказе для меня выделялась одна необычная деталь – ему было очень холодно, он «замерзал». Так он сказал, описывая первый эпизод случившегося. Я начал исследовать это вместе с Джесси и спросил его, переживал ли кто-либо из членов его семьи какой-либо травмирующий эпизод, включающий в себя холод, сон или возраст девятнадцать лет.
Джесси вспомнил, что лишь недавно мать рассказывала ему о трагической смерти старшего брата отца (то есть дяди), о котором Джесси даже раньше не знал. Дядя Колин замерз до смерти, когда ему было всего девятнадцать, проверяя линии электропередач во время снежной бури. Это случилось к северу от Йеллоунайф, что в Северо-Западных территориях Канады. Следы на снегу свидетельствовали о том, что он старался держаться до последнего. В конце концов, его нашли в снегу, лежащим лицом вниз. Он потерял сознание из-за переохлаждения. Его смерть была настолько тяжелой потерей для близких, что в семье даже перестали произносить его имя.
Теперь, три десятилетия спустя, Джесси неосознанно переживал обстоятельства смерти дяди – особенно страх уйти в бессознательное состояние. Для Колина уснуть означало смерть. Джесси ощущал приблизительно то же самое. Когда мы нашли эту связь, она стала поворотным моментом для Джесси. Как только он понял, что у бессонницы есть источник в событии, произошедшем тридцать лет назад, он наконец-то получил объяснение своей боязни уснуть. С этого момента можно было начинать, собственно, процесс исцеления. С помощью техник, которые Джесси освоил во время нашей работы с ним и которые я позже раскрою в книге, он смог отделить себя от травмирующего опыта своего дяди. Он его даже не знал, но страх бессознательно ощущал как собственный. Джесси не только освободился от тяжелого тумана бессонницы, он глубже почувствовал свою связь с семьей, как с прошлыми ее членами, так и с нынешними.
В попытках объяснить случаи, подобные истории Джесси, ученые обнаружили так называемые биологические маркеры – свидетельство того, что травматические переживания могут передаваться и передаются от одного поколения другому. Рашель Иегуда, профессор психиатрии и нейробиологии из медицинского института Маунт-Синай в Нью-Йорке (Mount Sinai School of Medicine) – один из ведущих мировых экспертов по посттравматическим стрессовым расстройствам (ПТСР), настоящий пионер в данной области. В своих многочисленных трудах Иегуда изучала нейробиологический аспект ПТСР у выживших жертв холокоста и их детей. Ее исследования кортизола (гормон стресса, помогающий организму вернуться к норме после пережитой травмы) и его влияния на мозг радикальным образом изменили подход к лечению ПТСР по всему миру. (Люди с таким заболеванием переживают чувства, ассоциированные с травмой, даже несмотря на то, что травмирующий инцидент произошел в прошлом. Симптомы болезни включают в себя депрессию, тревогу, ступор, бессонницу, ночные кошмары, устрашающие мысли. Люди с ПТСР легко пугаются и могут ощущать, что они «на краю».)
Иегуда и ее команда обнаружили, что дети выживших жертв холокоста, страдающих ПТСР, рождались с низким уровнем кортизола. Такой же был и у их родителей. Это служило предрасполагающим фактором к переживанию детьми симптомов ПТСР предыдущего поколения. Открытие о низком уровне кортизола у людей, переживших острый травматический стресс, вызвало острую полемику, так как шло вразрез с широко распространенным тогда мнением, что сильные переживания сопровождаются высоким уровнем кортизола. Однако измерения уровня гормона у выживших жертв холокоста и их детей подтвердили, что в случаях хронического ПТСР выработка кортизола может подавляться.
Иегуда обнаружила такой же низкий уровень кортизола у ветеранов войны и у беременных женщин с ПТСР, развившимся после террористических атак на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке, и их детей. В исследованиях она не только обнаружила, что у выживших вырабатывается меньше кортизола (особенность, которая может наследоваться их детьми), но и показала, что некоторые обусловленные стрессом психические заболевания (включая ПТСР, хронический болевой синдром и синдром хронической усталости) сопровождаются низким уровнем этого гормона в крови (2). Интересно, что от 50 до 70 % пациентов с ПТСР имеют сходные симптомы, что и люди с глубокой депрессией или иными аффективными или тревожными расстройствами (3).
Исследования профессора Иегуды показывают, что все мы в три раза больше предрасположены к проявлению симптомов ПТСР, если оно было у кого-то из наших родителей, и, как следствие, скорее всего, будем страдать от депрессии или тревожности (4). Иегуда считает, что наследуется именно такой тип генерационного ПТСР[8] и что это расстройство развивается вовсе не от того, что на детей влияют истории родителей об их тяжелых испытаниях (5). Иегуда была одним из первых исследователей, показавшим, что потомки выживших в травматических обстоятельствах людей несут в себе физические и эмоциональные симптомы травм, которые они непосредственно не переживали.
Как раз такой случай был у Гретхен. Она много лет принимала антидепрессанты, посещала групповые и персональные психотерапевтические сессии, испробовала различные когнитивные подходы, но симптомы депрессии и тревоги не проходили.
Гретхен сказала, мне, что больше не хочет жить. Потому что, сколько она себя помнит, ей постоянно приходится бороться с эмоциями настолько сильными, что ей с трудом удается сдерживать их напор. Несколько раз Гретхен увозили в психиатрическую клинику. Там ей поставили диагноз – биполярное и тяжелое тревожное расстройство. Лекарства принесли ей некоторое облегчение, но не заглушили мощное побуждение к суициду, жившее в ней. Подростком она наносила себе увечья, прижигая горящей сигаретой. Теперь, в тридцать девять, у Гретхен уже не осталось сил. Она говорила, что ее депрессия и тревога не дали ей выйти замуж и завести детей. Твердым голосом она безапелляционно заявила мне, что до следующего дня рождения покончит с собой.
Слушая Гретхен, я укреплялся во мнении, что в истории ее семьи есть какой-то очень важный травматический эпизод. В таких случаях я уделяю особое внимание словам, которые произносит человек, стараясь найти ключи к травматическому случаю, лежащему в основе симптоматики.
Когда я спросил ее, каким именно образом она намеревается убить себя, Гретхен сказала, что она «испарит» себя. Хотя для большинства из нас такое совершенно непостижимо, тем не менее у нее был четкий план. Она хотела прыгнуть в чан с расплавленным металлом на заводе, где работал ее брат. «Мое тело испепелится в секунды, – сказала она, прямо глядя мне в глаза. – Даже не успеет достичь дна».
Меня поразило отсутствие эмоций, когда она это говорила. Что бы ни лежало внутри, оно было очень глубоко спрятано. А в моей голове грохотали слова: испариться и испепелиться. Поскольку я работал со многими детьми и внуками тех, чьи семьи пережили холокост, я научился обращать внимание на подобные слова. Я попросил Гретхен, чтобы она рассказала мне больше.
Я спросил, имел ли кто-то из ее семьи еврейские корни и пережил ли холокост. Гретхен сначала сказала – нет, но затем запнулась и вспомнила историю о своей бабушке. Бабушка родилась в еврейской семье в Польше. Приехав в Соединенные Штаты в 1946 году, она вышла замуж за дедушку Гретхен и приняла католицизм. Двумя годами ранее вся семья бабушки погибла в печах Аушвица. Их отравили газом – окутали смертоносным дымом – и испепелили. Никто из непосредственного семейного окружения Гретхен никогда не заговаривал с бабушкой о войне или о судьбе ее братьев и сестер или родителей. Как часто бывает при подобных острых травматических случаях, этой темы старались совершенно не касаться.
Потомки выживших в травматических обстоятельствах людей несут в себе физические и эмоциональные симптомы травм, которые они непосредственно не переживали.
Гретхен знала только общие факты своей семейной истории, но никогда не связывала их со своей тревогой и депрессией. Для меня было понятно, что слова, которые она произносила, и чувства, которые описывала, не возникли в ней самой, а были словами и чувствами погибших членов ее семьи.
Когда я объяснял ей эту связь, Гретхен напряженно слушала. Ее глаза расширились, а щеки порозовели. Я видел: то, что я говорил ей, находило в ней отклик. Впервые Гретхен получила объяснение своим страданиям и стала его понимать.
Чтобы помочь ей глубже осознать все, я попросил ее, чтобы она представила себя на месте своей бабушки. Для этого я положил на ковер в центре своего кабинета следы от ботинок из вспененной резины. Я попросил Гретхен представить, что могла чувствовать ее бабушка, потеряв своих близких. Затем я спросил, может ли она пойти дальше и встать на эти следы, и почувствовать в своем теле то, что чувствовала тогда ее бабушка. Гретхен сказала, что испытывает чувство оглушающей потери и горя, одиночества и изоляции. Она также ощутила огромное чувство вины, которое обычно испытывают многие выжившие. Чувство вины за то, что они живут, в то время как их близкие убиты.
Прорабатывая травмирующий опыт, часто бывает полезно, чтобы клиент сам пережил те чувства, которые глубоко скрыты в его теле. Когда Гретхен наконец стали доступны эти чувства, она поняла, что ее желание уничтожить себя сильно связано с умершими членами ее семьи. Она также осознала, что в какой-то степени приняла на себя желание бабушки умереть. Когда Гретхен все это поняла, увидев в новом свете историю своей семьи, ее тело начало разжиматься, словно что-то сжатое внутри ее могло наконец расслабиться.
Осознание Гретхен, что корни ее травмы лежали в умалчиваемой истории ее семьи, было лишь первым шагом на пути к выздоровлению. Как и в случае с Джесси. Интеллектуальное осознание само по себе редко приводит к устойчивому сдвигу в состоянии. Часто оно должно сопровождаться еще и глубоко прочувствованным внутренним переживанием. Далее мы исследуем методы, которые делают процесс исцеления комплексным и всеобъемлющим, позволяющим полностью высвободить и отпустить раны прошлых поколений.
У мальчика могут быть длинные ноги отца и нос матери, а Джесси унаследовал страх своего дяди никогда не проснуться. Гретхен же несла в своей депрессии семейную историю холокоста. Внутри каждого из них спали фрагменты травмирующих событий, столь всеобъемлющих, что их невозможно было преодолеть за одно поколение. Когда кто-то в нашей семье пережил невыносимое травмирующее событие или испытал колоссальную вину или горе, чувства могут быть непереносимыми, превышающими способность человека справиться с ними или как-то преодолеть ситуацию. В природе человека заложено: когда боль слишком сильна, мы стараемся избежать ее. Однако когда мы блокируем наши чувства, то неосознанно тормозим необходимый процесс исцеления, который привел бы к естественной переработке ситуации.
Порой боль таится до тех пор, пока не найдет себе путь для выражения или разрядки. Такое проявление боли может обнаруживаться в последующих поколениях, возникая в виде симптомов, не поддающихся объяснению. У Джесси постоянный холод и дрожь проявились лишь тогда, когда он достиг возраста, при котором его дядя Колин замерз до смерти. У Гретхен тревожное отчаяние и суицидальные порывы ее бабушки были с ней, сколько она себя помнит. Эти чувства настолько слились с ее жизнью, что никому и в голову не пришло, что причина могла скрываться не в ней.
В настоящее время общество не предоставляет таким людям, несущим в себе осколки унаследованных семейных травм (как Джесси и Гретхен), особого разнообразия в помощи. Обычно они пользуются консультацией врача, психолога или психотерапевта, получают лекарства или проходят курс психотерапии, или же и то и другое в различных комбинациях. Все эти методы могут приносить некоторое облегчение, но обычно они не дают полного излечения.
Не у всех нас в семейной истории есть столь драматические травматические эпизоды. Однако такие события, как смерть кого-то из родителей, ребенок, которого пришлось отдать из семьи, потеря дома или даже лишение внимания матери могут произвести эффект упавших стен. Мы лишаемся опоры, и это пресекает поток любви в семье. Когда мы выводим на свет источник травм, с долголетними семейными паттернами бывает покончено. Важно отметить, что не все последствия от травмирующих событий являются негативными. В следующей главе мы познакомимся с эпигенетическими изменениями – химическими преобразованиями, происходящими в клетках в результате травмирующего события.
Согласно Рашель Иегуде, цель эпигенетических изменений – расширить диапазон способов, с помощью которых мы реагируем на стрессовые ситуации, и в этом она усматривает позитивный эффект. «Кем бы вы хотели быть, оказавшись в зоне военных действий? – спрашивает она. – Тем, у кого был опыт подобной беды (и) кто знает, как защищаться? Или тем, кому никогда не приходилось ни за что сражаться?» (6) «Поняв, какие биологические изменения производит стресс и травматический опыт, – говорит она, – мы сможем лучше объяснить себе, какими истинными способностями обладаем и каков наш истинный потенциал» (7).
Если взглянуть с этой точки зрения, наследуемые травмы или опыт, получаемый непосредственно, могут формировать преемственность не только стресса, но и силы и устойчивости, которые проявятся в последующих поколениях.
Глава 2
Три поколения общей семейной истории: тело семьи
Я всегда был убежден, что нахожусь под влиянием событий или вопросов, которые были не до конца разрешены или на которые не до конца ответили мои родители, бабушки и дедушки и даже более далекие предки. Часто кажется, что в семье существует некая безличная карма, которая передается от родителей к детям. Мне всегда казалось, что я должен был… завершить, а может, и продолжить то, что они оставили незавершенным в свое время.
Карл Юнг. «Воспоминания, сновидения, размышления»
История, которую вы разделяете со своей семьей, начинается еще до вашего зачатия. На самой ранней стадии биологического существования, будучи всего лишь неоплодотворенной яйцеклеткой, вы уже имеете общую клеточную среду с матерью и бабушкой. Когда бабушка была на пятом месяце беременности вашей мамой, клетка-предшественник той яйцеклетки, из которой затем родились вы, уже присутствовала в яичниках вашей матери.
Это означает, что еще до того, как мать была рождена, она, бабушка и самые ранние зачатки вас находились в одном теле – то есть три поколения существовали в единой биологической среде (1). Такая идея не нова: учебники по эмбриологии говорят об этом уже более века. Зарождение вас можно также отследить и по отцовской линии. Клетка – предшественник спермы, из которой вы развились, уже присутствовала в теле отца, когда он был всего лишь утробным плодом в лоне своей матери (2).
Опираясь на исследования профессора Иегуды и других ученых о том, как наследуется стресс, мы можем понять, каким образом биологические следы травмирующих событий, которые переживала ваша бабушка, могут передаваться последующим поколениям.
Существует, однако, значительная биологическая разница между эволюцией яйцеклетки и эволюцией спермы. Сперматозоиды отца продолжили делиться по достижении им пубертатного возраста, а мать уже родилась с конечным набором яйцеклеток на всю ее жизнь. Как только ее яйцеклетки сформировались в утробе бабушки, деление этой клеточной линии прекратилось (3). И вот, спустя 20–40 лет, одна из яйцеклеток, оплодотворенная сперматозоидом, в конце концов развилась в то, кем вы являетесь. Сейчас наука говорит нам о том, что и на яйцеклетке-предшественнице, и на сперматоците могут отпечатываться события, которые потенциально способны повлиять на будущие поколения. Поскольку сперматозоиды отца продолжают развиваться на всем протяжении подросткового и зрелого возрастов, они все это время остаются восприимчивыми к травмирующим импринтам[9] вплоть до момента вашего зачатия (4). Если верить появляющимся исследованиям, вероятные последствия такого явления на удивление обширны.
Раньше ученые считали, что гены родителей моделируют матрицу, из которой появлялись дети, и что при достаточной заботе и питании они развиваются в соответствии с заложенным планом. Однако мы знаем, что генетический код – всего лишь отправная точка, так как влияние окружающей среды начинает лепить нас эмоционально, психологически и биологически, как только сформировалось наше восприятие, и этот процесс продолжается всю жизнь.
Сейчас наука говорит нам о том, что и на яйцеклетке-предшественнице, и на сперматоците могут отпечатываться события, которые потенциально способны повлиять на будущие поколения.
Один из ведущих клеточных биологов Брюс Липтон продемонстрировал, как на ДНК человека могут влиять негативные и позитивные мысли, убеждения и эмоции. Будучи профессором медицинского института и ученым-исследователем, доктор Липтон посвятил десятки лет изучению механизма, с помощью которого клетки получают и обрабатывают информацию. С 1987 по 1992 год он был стипендиатом и исследователем в Стэнфордском университете. В этот период он провел много научных экспериментов и доказал, что сигналы из окружающей среды способны проникать сквозь клеточную мембрану, контролируя поведение и физиологию клетки. А это, в свою очередь, может активировать ген или отключить его. Идеи и открытия Липтона, которые тогда считались спорными, с тех пор были подтверждены многими учеными. В результате его исследований, которые он проводил как с клетками животных, так и с клетками человека, сейчас мы имеем прорыв в понимании того, как клеточная память передается в утробе от матери нерожденному ребенку.
Согласно Липтону, «эмоции матери, такие как страх, гнев, любовь, надежда, способны биохимически изменить экспрессию генов[10] ее ребенка» (5). Во время беременности питательные элементы в крови матери передаются плоду через стенки плаценты. Кроме них, в ее организме имеются гормоны и информационные сигналы, образующиеся под влиянием переживаемых эмоций. Такие химические сигналы активируют в клетках особый рецепторный белок, запускающий каскад физиологических, метаболических и поведенческих изменений как в теле матери, так и у плода.
Хронические или повторяющиеся эмоции, такие как гнев или страх, способны оставить свой след и на ребенке, по сути, подготавливая или «программируя» то, как он затем будет адаптироваться к окружающей среде (6). Липтон говорит так: «Когда гормоны стресса проникают сквозь плаценту (у человека)… они заставляют кровеносные сосуды внутренних органов плода сжиматься, направляя больше крови к периферии, тем самым подготавливая плод к поведенческой реакции «бей или беги» (7).
Сейчас существует множество исследований, документально подтверждающих, что стресс матери во время беременности даже в первом триместре может повлиять на ребенка. Одно из них, опубликованное в 2010 году в журнале «Биологическая психиатрия», было посвящено изучению влияния пренатального стресса на неврологическое развитие младенцев. Исследователи замерили количество кортизола в околоплодной жидкости у 125 беременных женщин и определили уровни стресса. Они обнаружили, что те дети, которые в утробе подвергались повышенному воздействию кортизола, при проверке на семнадцатой неделе после рождения уже демонстрировали сниженное когнитивное развитие (8).
Сигналы из окружающей среды способны проникать сквозь клеточную мембрану, контролируя поведение и физиологию клетки. А это, в свою очередь, может активировать ген или отключить его.
В своей книге «Заботимся о нерожденном ребенке: как успокаивать, стимулировать и общаться со своим ребенком все девять месяцев»[11] Томас Верни пишет: «Если во время беременности мать испытывает острый или хронический стресс, ее организм будет вырабатывать гормоны стресса (в том числе адреналин и норадреналин). С кровотоком они достигнут утробы и вызовут такое же стрессовое состояние и у ее ребенка» (9). Верни продолжает: «Наши исследования показали, что у матерей, находящихся под воздействием чрезмерного и постоянного стресса, чаще рождаются недоношенные дети, с весом ниже среднего, гиперактивные, легковозбудимые, страдающие коликами. В самых крайних случаях могут родиться дети с повреждением пальцев или даже с язвой» (10).
Липтон подчеркивает важность «осознанного родительства». Так он называет родительство, при котором мать и отец осознают, что с момента зачатия и в течение всего пренатального периода развитие и здоровье ребенка во многом зависят от мыслей, отношений и поведения родителей (11). «Родители, не хотевшие ребенка, постоянно озабоченные своим выживанием и, соответственно, шансами на выживание своего чада, женщины, подвергающиеся физическому или эмоциональному насилию во время беременности, – все это случаи ключевой информации о неблагоприятной среде, окружающей рождение малыша, которая может в дальнейшем передаться потомкам» (12).
Зная, что эмоции могут передаваться биологическим путем и что в утробе матери три поколения делят одну биологическую среду, представьте себе такой сценарий. За месяц до рождения вашей матери бабушка получает ужасающую новость о том, что ее муж погиб при несчастном случае. Так как она ждет ребенка, у нее нет достаточного времени на оплакивание своей утраты и, скорее всего, она спрячет эмоции внутри себя, в теле, которое она делит в тот момент со своей дочерью и внуком/внучкой. Вы и ваша мама будете знать об этом горе откуда-то изнутри вас, из того места, которое вы когда-то втроем разделяли.
Именно в этой самой совместной среде стресс может внести свои изменения в ДНК. В следующем разделе книги мы рассмотрим, как события семейной истории влияют на гены.
Работы Брюса Липтона по клеточной памяти одновременно и предварили, и поддержали возникновение смежной области науки – эпигенетики. Она исследует наследственные изменения в функции гена, возникающие в стабильной последовательности ДНК (13). Раньше считалось, что генетическое наследование происходит только через хромосомную ДНК, которую мы получаем от своих родителей. Теперь, имея более точное понимание человеческого генома, ученые обнаружили, что хромосомная ДНК (то есть ДНК, ответственная за передачу физических признаков, таких как цвет волос, глаз и кожи) неожиданным образом составляет всего 2 % от ДНК в целом (14). Остальные 98 % представляют собой так называемые некодирующие ДНК (нкДНК), отвечающие за множество эмоциональных, поведенческих и личностных черт, которые мы наследуем (15).
Ученые прозвали их «мусорными» ДНК, полагая, что они абсолютно бесполезны, и лишь недавно начали осознавать их важность. Интересно, что чем сложнее организм, тем больше некодирующих ДНК, и у человека их количество максимально (16).
Известно, что некодирующие ДНК подвержены воздействию стрессогенных факторов окружающей среды, таких как токсины, ненадлежащее питание, а также и отрицательные эмоции (17, 18). Подвергшаяся негативному воздействию ДНК передает информацию, которая должна подготовить нас к жизни вне материнской утробы таким образом, чтобы сформировались определенные черты, необходимые для адаптации в окружающей среде (19). Согласно Рашель Иегуде, эпигенетические изменения биологически подготавливают нас к тому, чтобы мы могли справиться с травмирующим опытом, с которым пришлось столкнуться нашим родителям (20). Они обеспечивают нам готовность к сходным стрессогенным факторам, и мы рождаемся с определенным набором средств, которые должны содействовать выживанию.
Теперь, имея более точное понимание человеческого генома, ученые обнаружили, что хромосомная ДНК (то есть ДНК, ответственная за передачу физических признаков, таких как цвет волос, глаз и кожи) неожиданным образом составляет всего 2 % от ДНК в целом. Остальные 98 % представляют собой так называемые некодирующие ДНК (нкДНК), отвечающие за множество эмоциональных, поведенческих и личностных черт, которые мы наследуем.
С одной стороны, это хорошая новость. Мы появляемся на свет уже с набором врожденных навыков («приспособляемостью к среде», как называет это Иегуда), позволяющих нам адаптироваться в стрессовых ситуациях (21). С другой стороны, эти унаследованные адаптивные черты могут принести и вред. Например, ребенок родителя, который в ранние годы жил в зоне боевых действий, может унаследовать черту резко шарахаться в сторону при неожиданном громком звуке. Несмотря на то что подобная черта может служить защитным навыком при угрозе бомбардировки, она же может держать человека в постоянном реактивном состоянии даже в отсутствие какой-либо опасности. В таком случае будет существовать несоответствие между эпигенетической готовностью ребенка и его фактической окружающей средой. Подобный дисбаланс может послужить причиной появления в течение жизни обусловленных стрессом расстройств или заболеваний (22, 23).
Такие адаптивные изменения вызываются химическими сигналами в клетке, известными как эпигенетические маркеры. Они присоединяются к ДНК и приказывают клетке либо активировать, либо отключить какой-то ген. «Есть что-то такое в окружающем мире, что влияет на внутреннюю среду, и, прежде чем мы даже что-то успеваем понять, ген начинает функционировать по-другому», – говорит Иегуда (24). Сама по себе последовательность ДНК не меняется, но благодаря эпигенетическим маркерам меняется экспрессия генов. Исследования показали, что эпигенетические маркеры могут быть ответственны за то, как мы реагируем на стресс в дальнейшей жизни (25).
Раньше ученые считали, что последствия стресса в клетках-предшественниках сперматозоидов и яйцеклеток (сразу после оплодотворения) стираются до того, как какая-либо эпигенетическая информация начинает воздействовать на следующее поколение (словно информация с жесткого диска компьютера). Однако теперь они доказали, что определенные эпигенетические маркеры избегают процесса перепрограммирования и на самом деле передаются клеткам – предшественникам сперматозоидов и яйцеклеток, которые в один прекрасный день станут новым человеком (26). Наиболее распространенным является эпигенетический маркер под названием метилирование ДНК. Он участвует в процессе, блокирующем прикрепление протеинов к гену, и предотвращает его экспрессию (27). Метилирование ДНК может как положительным, так и отрицательным образом повлиять на наше здоровье, отключая «полезные» или «неполезные» гены. При появлении стрессогенного фактора или при травмирующем событии ученые наблюдали нарушения в метилировании ДНК, которые могут передаваться по наследству вместе с предрасположенностью к определенным физическим или эмоциональным проблемам (28, 29).
Другой эпигенетический механизм, играющий значительную роль в регуляции генов, – маленькая молекула некодирующей РНК. Ее называют микроРНК. Так же как и в случае с метилированием ДНК, обусловленные стрессовым воздействием нарушения в микроРНК могут повлиять на экспрессию генов в последующих поколениях (30).
Среди огромного числа генов, затрагиваемых стрессом, есть ген CRF1 (рецептор кортикотропин-рилизинг-гормона) и CRF2. Повышенный уровень этих генов наблюдался у людей, страдающих депрессией и тревожностью (31). Они могут наследоваться от матерей, испытывавших стресс и также имевших повышенный их уровень (32). Ученые получили документальные свидетельства о существовании других генов, на которые также могут влиять травмирующие обстоятельства ранних лет жизни (33, 34).
«Наши исследования показывают, что в генах… остается некоторая память прошлого опыта», – говорит доктор Джейми Хэкет из Кембриджского университета (35).
Исследования, предпринятые профессором Иегудой в 2005 году, не оставляют сомнений в том, что паттерны, выработанные под влиянием стресса, передаются от матери ребенку еще в утробе. У беременных женщин (второй или третий триместр), находившихся рядом или непосредственно во Всемирном торговом центре во время террористических атак 11 сентября в Нью-Йорке и у которых развился ПТСР, родились дети с низким уровнем кортизола (36). Они демонстрировали повышенный уровень стресса в ответ на появление нового раздражителя. При аномальных уровнях кортизола нарушается способность регулировать собственные эмоции и справляться со стрессом. Также эти дети были меньше своего гестационного возраста[12] (37). Иегуда со своей командой предположили, что исследования женщин, оказавшихся участницами трагических событий 11 сентября, дали такой результат из-за эпигенетических механизмов. Они обнаружили, что экспрессия 16 генов у женщин с развившимся ПТСР отличалась от тех, у кого его не возникло (38).
В исследовании, опубликованном в августе 2015 года в журнале «Биологическая психиатрия», Иегуда и ее команда из Нью-Йоркского госпиталя Маунт-Синай продемонстрировали, что генные изменения могут передаваться от родителей к детям. Анализируя конкретный участок гена FKBP5, ответственный за регуляцию стресса, ученые обнаружили, что евреи, получившие травмирующий опыт во время холокоста, и их дети имеют сходный генетический паттерн. Особенно интересно то, что и у родителей, и у детей они обнаружили эпигенетические маркеры на одних и тех же участках гена. Сравнив результаты с данными еврейских семей, живших во время Второй мировой войны не на территории Европы, они определили, что изменения в генах могут быть объяснены только травмирующим опытом, который перенесли родители (39).
Сейчас существует большое количество исследований, демонстрирующих, как травмирующий опыт родителей влияет на экспрессию генов и стресс-паттерны их детей. В своей статье под названием «Эпигенетические механизмы депрессии», опубликованной в журнале «Психиатрия» Американской медицинской ассоциации в феврале 2014 года, доктор Эрик Нестлер пишет: «Действительно, доказано, что тяжелые жизненные события изменяют чувствительность к стрессовым воздействиям в последующих поколениях» (40). У женщин с развившимся ПТСР после событий 11 сентября, родились дети не только с измененным уровнем кортизола. Они еще и остро реагировали на громкие звуки и незнакомых людей. Одно из исследований в Англии отмечало, что эмоциональные и поведенческие проблемы детей возрастали вдвое, если их матери во время беременности испытывали тревогу (41).
Определенные эпигенетические маркеры избегают процесса перепрограммирования и на самом деле передаются клеткам – предшественникам сперматозоидов и яйцеклеток, которые в один прекрасный день станут новым человеком
«Травмирующий опыт способен протягиваться из прошлого и требовать себе новых жертв», – писал психиатр по вопросам зависимостей доктор Дэвид Сак в журнале «Психология сегодня». «Сегодня у детей, родители которых страдают от посттравматического стрессового расстройства, иногда может развиться собственное, которое мы называем вторичным ПТСР». Он пишет, что около 30 % детей военных с диагностированным ПТСР, служивших в Иране или Афганистане, страдают от тех же симптомов. «Травма родителя, – говорит он, – становится собственной травмой ребенка, и тогда его поведение и эмоциональные проблемы оказываются отражением поведения и эмоциональных проблем родителя» (42). Например, дети, чьи родители пострадали от геноцида в Камбодже, имеют тенденцию к депрессии и тревоге. У детей австралийских ветеранов войны во Вьетнаме процент самоубийств выше, чем у населения страны в целом (43). Уровень самоубийств среди молодежи индейского населения Америки, проживающего в резервациях, самый высокий в Западном полушарии. В некоторых частях страны он в 10–19 раз выше, чем в других регионах (44). Альберт Бендер, историк и адвокат из племени чероки, специалист в области индейского права. Он считает, что «та межпоколенческая травма, которую чувствует весь коренной народ Америки, а в особенности индейская молодежь, является результатом исторической политики геноцида. Ее выражением стали бесконечные кровавые бойни, принудительные перемещения и военные действия, продолжавшиеся вплоть до конца XIX века. Кульминацией стала Бойня на ручье Вундед-Ни»[13]. Он убежден, что горе, которое живет в поколениях индейцев, является топливом для самоубийств. «Все эти воспоминания, – говорит он, – так или иначе, резонируют в умах молодых людей». Бендер рассказывает: «Из-за того, что так много молодых людей вешаются, теперь во многих резервациях считают, что если неделя прошла без повешенного, то это уже благословение» (45).
ЛеМануэль «Ли» Битсои, научный сотрудник Гарвардского университета, специализирующийся на генетике племени навахо, утверждает, что молодые люди в своей симптоматике заново переживают опыт предков. Он верит, что исследования в области эпигенетики наконец-то дают убедительные доказательства того, что межпоколенческая травма – реально существующий феномен (46).
Индейская молодежь, дети ветеранов войны, жертв холокоста, людей, переживших геноцид в Камбодже и террористические атаки на Всемирный торговый центр – это все новые, современные жертвы межпоколенческих травм. Пугает то, что список таких жертв растет. Насилие, война и угнетение продолжают сеять семена повторного переживания травмирующего опыта в поколениях, поскольку выжившие бессознательно передают его последующим поколениям.
Приведу яркий пример. Многие молодые люди, рожденные в Руанде после 1994 года и не ставшие свидетелями бессмысленного убийства примерно 800 000 человек[14], имеют те же симптомы посттравматического стресса, как и те, кто видел и пережил эту жестокость. Молодые жители Руанды говорят о том, что испытывают чувство острой тревоги и навязчивые видения, сходные с кошмарами, которые появились с самого раннего детства.
«Это феномен, которого стоило ожидать… Все, что не сказано, то все равно передается», – говорит психиатр Наассон Муньяндамутса. Даже те семьи, которые избежали насилия, все равно затронуты тем, что психиатр Рутакайиле Бизоза называет «заразой коллективного бессознательного» (47).
Иегуда утверждает, что у детей, матери которых страдают ПТСР, шансы диагностирования его же в три раза выше, чем у детей в контрольных группах. Кроме того, у них в три-четыре раза больше вероятность появления депрессии или тревоги, или склонности к употреблению наркотических веществ (48). Иегуда и ее команда смогли на основании симптоматики ребенка определить, кто из родителей передал по наследству ПТСР (49). Она обнаружила, что ПТСР, переданное по наследству отцом, увеличивает вероятность того, что ребенок будет чувствовать себя «как бы отделенным от своих воспоминаний», а ПТСР, унаследованное от матери, увеличивает вероятность трудностей с успокоением (50).
Особенно Иегуда подчеркивала то, что дети отцов, имевших ПТСР, «возможно, более подвержены депрессии или впоследствии разовьют хронический стресс» (51). Она отмечает, что матери, пережившие холокост, боялись, что их разлучат с ребенком. Дети таких матерей впоследствии жаловались, что их матери были чрезмерно привязаны к ним (52).
Иегуда считает, что вызванные стрессом эпигенетические изменения, наследуемые от отцов, возникают до момента зачатия и затем передаются через сперму отца. Она также убеждена, что подобные изменения по линии матерей происходят или до зачатия, или же на протяжении беременности (53). Иегуда также указывает на важную роль возраста матери, в котором произошло травмирующее событие, так как от этого зависит, что она передаст своему будущему ребенку. Например, дети жертв холокоста унаследовали разные изменения в энзиме (он превращает активный кортизол в неактивный) в зависимости от того, были ли их матери совсем юными или уже взрослыми во время холокоста (54).
ПТСР, которым страдал кто-то из бабушек или дедушек, также может передаться последующим поколениям. Как мы видели в случае с Гретхен, психологическая травма времен войны может влиять на внуков тех, кто ее пережил.
Травмирующий опыт не только от пережитой войны, но и просто от других значительных событий способен нарушить эмоциональное равновесие семьи. Преступление, самоубийство, ранняя смерть, внезапная и неожиданная потеря – все это может приводить к симптоматике вновь переживаемой психологической травмы. Сак пишет: «Травма может путешествовать сквозь все общество, а также сквозь поколения» (55).
Лишь недавно ученые начали понимать те биологические процессы, которые участвуют в наследовании травмирующего опыта. Чтобы узнать об этом больше, они обратились к исследованиям на животных. У людей и мышей на удивление сходная генетическая схема – 99 % генов человек, имеют свой аналог у мышей. Поэтому исследования на мышах дают нам призму, через которую мы можем увидеть последствия наследования стресса для человека. Подобные опыты ценны еще и вот чем: поскольку мыши способны к воспроизводству следующего поколения приблизительно через двенадцать недель после рождения, то изучение нескольких поколений проходят за сравнительно короткое время. А такое же исследование в отношении человека может занять около шестидесяти лет.
Химические изменения в крови, мозге, яйцеклетках и сперме мышей связали с поведенческими паттернами (такими, как тревога и депрессия) более поздних поколений. Так, например, исследования потомства показали, что травмирующий опыт, например отлучение от матери, вызвал изменение в экспрессии генов, которое прослеживалось на протяжении трех поколений.
В одном таком эксперименте ученые не давали самкам кормить своих детенышей на протяжении трех часов в день в первые две недели их жизни. Позже это потомство продемонстрировало поведение, похожее на то, что у людей мы зовем депрессией. Более того, симптомы ухудшались с возрастом мышат. Удивительным оказалось то, что некоторые из самцов сами не проявили подобное поведение, но эпигенетически передали изменения своим потомкам-самкам. Ученые также обнаружили у мышей, подвергавшихся стрессу, изменения в метилировании и экспрессии генов. Среди них был ген CRF2, ответственный за регуляцию тревоги как у мышей, так и у людей. Ученые обнаружили, что на половые зародышевые клетки (клетки – предшественники яйцеклеток и сперматозоидов) и на мозг потомков повлиял стресс от разлучения с матерями (56). В другом эксперименте с участием крыс детеныши, получавшие мало материнской заботы, во взрослом возрасте проявляли больше тревожности и были сильнее подвержены стрессу, чем те, о которых матери заботились достаточно (57).
Сейчас общеизвестно, что младенцы, которых рано отлучили от матери, могут испытывать больше трудностей в жизни. В исследованиях на мышах-самцах, мышата, отлученные от матерей, на протяжении всей жизни демонстрировали повышенную подверженность стрессу и рождали потомство, проявлявшее сходные стресс-паттерны в течение нескольких поколений (58, 59). В одном из таких исследований, которое проводилось в научно-исследовательском институте мозга Цюрихского университета в 2014 году, ученые подвергали мышей-самцов периодическим и длительным стрессовым воздействиям, отлучая их от матерей. Впоследствии у них проявились симптомы, сходные с депрессией. Затем, когда эти мыши дали потомство, ученые обнаружили, что мышата во втором и третьем поколениях проявили такие же симптомы травмы, хотя никогда подобного опыта не переживали (60).
Исследователи также обнаружили аномально высокие показатели микроРНК – генетического материала, регулирующего экспрессию генов – в сперме, крови и гиппокампе подвергнутых стрессу мышей. (Гиппокамп – зона мозга, участвующая в реакции на стресс.) Аномальные показатели микроРНК были также обнаружены в крови и гиппокампе мышей второго поколения. И хотя мыши в третьем поколении проявляли те же симптомы травмы, как их отцы и деды, повышенных значений микроРНК зафиксировано не было. Это позволило исследователям предположить, что поведенческие эффекты от травмирующего события могут проявляться на протяжении трех поколений, но, возможно, не дальше (61).
«Обнаружив дисбаланс микроРНК в сперме, мы тем самым открыли ключевой фактор, каким именно образом травмирующий опыт может передаваться», – объясняет Изабель Мансуй, соавтор исследования (62). Она с коллегами в настоящее время изучант роль микроРНК в наследовании травмирующего опыта у людей.
В более позднем исследовании, опубликованном в 2016 году, Мансуй и ее коллегам удалось показать, что у мышей симптомы травмы обратимы, если во взрослом возрасте они прожили в позитивной среде, практически лишенной стресса. Не только поведение мышей улучшалось. Также у них наблюдались изменения в метилировании ДНК, что предотвращало передачу симптомов следующим поколениям (63). Значение этих исследований очень важно. В дальнейших главах мы научимся создавать положительные образы и переживания, которые помогут нам изменить стресс-паттерны, влиявшие на нашу семью в течение многих поколений.
Исследования на мышах стали такими важными, потому что теперь наука может подкрепить доказательствами тот факт, что невзгоды, пережитые одним поколением, способны стать наследием, передающимся другим. В 2013 году в ходе исследования потомства мышей, подвергавшихся воздействию стресса, ученые с медицинского факультета Университета Эмори обнаружили, что травматические воспоминания могут передаваться последующим поколениям через эпигенетические изменения в ДНК. Мышей одного поколения научили бояться запаха ацетофенона, сходного с запахом цветов вишни. Каждый раз, одновременно с ним, они получали разряд тока. Через некоторое время мыши выработали большее количество обонятельных рецепторов, настроенных именно на этот запах, что позволяло им чуять его при гораздо меньших концентрациях. В их мозгу также увеличилась область, ответственная за эти рецепторы. Кроме того, исследователям удалось выявить изменения в сперме мышей.
Однако наиболее любопытным в этом исследовании оказалось то, что произошло с мышами на протяжении двух последующих поколений. Когда мышатам и второго, и третьего поколения дали почуять ацетофенон, они начали подпрыгивать, пытаясь всячески избежать его, хотя никогда раньше не сталкивались с ним. При этом в их мозгу произошли те же изменения, что наблюдались и у первого поколения. Мыши унаследовали не только чувствительность к данному запаху, но также и сопровождавшую его реакцию страха (64).
Брайан Диас, один из участников исследования, предполагает, что «в сперме есть нечто, что несет информацию и позволяет ей наследоваться» (65). Он и его команда отметили аномально низкое метилирование ДНК как в сперме папы-мыши, так и в сперме его потомка (66). Хотя точный механизм того, как родительский травмирующий опыт сохраняется в ДНК, все еще изучается, Диас говорит, что «он позволяет предкам информировать своих потомков о том, что определенная среда была для них негативной» (67).
Исследование дает нам убедительное доказательство существования того, что ученые называют «межпоколенческим эпигенетическим наследованием». Под ним подразумевается способ, при котором поведенческие схемы могут передаваться от одного поколения другому. Когда в своей практике я работаю с семьями, то вижу повторяющиеся паттерны болезней, депрессии, тревожности, финансовых трудностей или трудностей во взаимоотношениях, и мне всегда хочется заглянуть глубже. Какое неизведанное событие из жизни прошлых поколений движет поведением человека, теряющего все свои деньги на бегах, или женщины, которая всегда предпочитает вступать в отношения только с женатыми мужчинами? Что повлияло на их генетическое наследие?
Диас и его группа надеются продолжить работу, чтобы определить, имеют ли место сходные эффекты в генах человека. Пока данные исследований человека только собираются, так как должны затронуть многие поколения. Но сведения, имеющиеся у нас сегодня из экспериментов на животных, заставляют остановиться и обдумать, как все же мы рождаемся, наследуя стресс дедов и прадедов.
В 2013 году в журнале «Биологическая психиатрия» ряд ученых из Хайфского университета – Хиба Зайдан, Мика Лешем и Инна Гайслер-Саломон – опубликовали исследование. В ходе него они обнаружили, что даже сравнительно небольшой стресс перед зачатием и беременностью способен повлиять на потомство. Несколько крыс подвергали воздействию несильного стресса (например, изменению температуры) через сорок – сорок пять дней после их рождения, что равнозначно подростковому периоду в жизни человека. Эффект от этого воздействия прослеживался в следующем поколении (68).
Фокусируя свое внимание на гене CRF1, который отвечает за молекулы, участвующие в реакции организма на стресс, исследователи выявили повышение количества молекулярного вещества данного гена в мозгу крыс-самок, подвергнувшихся стрессу. Они также обнаружили существенное повышение концентрации того же молекулярного вещества в яйцеклетках подвергнутых стрессу самок, а также в мозгу их потомства. Это демонстрирует нам, что информация о стрессовом опыте передается через яйцеклетку. Ученые настаивают, что измененное поведение новорожденных крысят не связано с заботой, которую они получали от своих матерей (69). Данное исследование позволяет предполагать, что даже если человек получает от родителей заботливый уход в младенчестве, мы все равно остаемся реципиентами стресса, который наши родители пережили до нашего зачатия. В следующей главе мы исследуем, как дети, рожденные от одних родителей, могут наследовать разный травмирующий опыт и прожить разные жизни, несмотря на то, что у них было одинаковое воспитание.
В 2014 году ученые Летбриджского университета в Канаде изучали влияние стресса на беременных крыс и на преждевременные роды. Их открытия показали, что крысы-самки, подвергшиеся стрессу, рожали раньше положенного срока, и самки в их потомстве, в свою очередь, также имели сокращенные сроки беременности. А в третьем поколении срок беременности самок был еще меньше, чем у их матерей. Больше всего исследователей поразило третье поколение. У крыс-«внучек» из-за стресса крыс-«бабушек» сроки беременности оказались еще короче, несмотря на то, что их матери не подвергались негативным воздействиям (70). Герлинда Метц, основной автор статьи, пишет: «Удивительно было обнаружить, что воздействие стресса, от малого до среднего, оказало свое влияние на ряд поколений. И с каждым поколением эффект от этого воздействия возрастал» (71). Метц считает, что эпигенетические изменения происходят благодаря молекулам некодирущих РНК (72). Эти открытия могут оказаться важны для женщин, которые сталкиваются с трудностями во время беременности или родов из-за испытываемого стресса.
Хотя точный механизм того, как родительский травмирующий опыт сохраняется в ДНК, все еще изучается, Диас говорит, что «он позволяет предкам информировать своих потомков о том, что определенная среда была для них негативной».
Учитывая, что у людей поколение отсчитывается через каждые двадцать лет, изучение подобных процессов у человека на протяжении нескольких поколений все еще продолжается. Однако, имея за плечами исследования на мышах, демонстрирующие, что стресс может передаваться на протяжении по меньше мере трех поколений, ученые предполагают, что и у человека дети, рожденные от родителей, перенесших травмирующее или стрессогенное событие, также передадут соответствующий психологический паттерн, причем не только своим детям, но и внукам. Страшно сказать, что Библия, а именно Книга чисел 14:18, подтверждает то, что открыто современной наукой, говоря, что грехи, беззакония или последствия дурных деяний (термины зависят от того, какой перевод вы читаете) родителей могут пасть на потомков до третьего или четвертого колена. В частности, в современном переводе Библии говорится: «Господь долготерпелив и многомилостив, прощающий беззакония и преступления, но не оставляющий без наказания и наказывающий беззаконие отцов в детях до третьего и четвертого рода».
По мере появления новых открытий в области эпигенетики способы снижения межпоколенческого эффекта травмирующего опыта могут вскоре стать стандартной практикой. В наше время исследователи видят, как мысли, внутренние образы и ежедневные практики, такие как визуализация и медитация, могут изменить экспрессию генов. Эту тему мы подробнее рассмотрим в следующей главе.
Глава 3
Семейное сознание
Зачем вы употребляете в Земле Израилевой эту пословицу: «Отцы ели кислый виноград, а у детей на зубах оскомина»?
Книга пророка Иезекииля 18:2
Говоря простым языком, мы наследуем особенности материнства бабушки через мать. Травмирующий опыт, который перенесла бабушка, ее боль и горе, трудности детства или взаимоотношений с дедом, потери того, кого она горячо любила, – все это в определенной степени стало окружающими обстоятельствами, в которых она растила вашу мать. Если мы оглянемся еще на одно поколение назад, то же самое будет верно и в отношении материнской заботы, которую получила бабушка.
Детали событий, сформировавших их судьбы, могут быть нам неизвестны, но тем не менее их воздействие мы можем в полной мере ощутить на себе. Не только то, что мы унаследовали от родителей, но также и то, как о них заботились в детстве, влияет на взаимоотношения с партнерами, с самими собой, на то, как мы воспитываем своих детей. Хорошо это или плохо, но родители обычно стараются дать детям то воспитание, которое получили сами.
Такие паттерны обычно глубоко укореняются в мозгу и начинают формироваться еще задолго до нашего рождения. Связь, которую устанавливает с ребенком мать, пока тот еще в утробе, играет важную роль в развитии его нейронной сети. Томас Верни говорит: «С момента зачатия внутриутробный опыт формирует мозг и закладывает основу личности, темперамента и умственные способности» (1). Паттерны, как матрица, скорее передаются по наследству, нежели усваиваются.
Первые девять месяцев после рождения являются как бы продолжением развития нервной системы, начавшегося в утробе. Какие нервные контуры останутся, какие будут отбракованы, каким образом будут организованы оставшиеся, зависит от опыта взаимодействия младенца с матерью или воспитателем. Именно через эти взаимодействия ребенок продолжает формировать матрицу управления эмоциями, мыслями и поведением.
Если мать несет в себе наследственную психологическую травму или пережила разрыв со своей матерью, это может повлиять на хрупкую связь, которая формируется у нее с собственным ребенком, и, скорее всего, она прервется. Влияние разрыва связи мать – дитя – будь то из-за длительного пребывания в больнице, несвоевременного отпуска или длительной разлуки – для ребенка может оказаться пагубным. Глубокая телесная близость, основанная на знании материнского запаха, прикосновения, голоса, вкуса – все, что ребенок узнал и от чего зависел, – внезапно исчезает.
«Мать и ребенок живут в таком биологическом состоянии, которое очень похоже на зависимость, – говорит писатель, автор книг о поведении Уинифред Галлахер. – Если их разлучить, младенец не просто скучает по матери. Он испытывает физическую и психологическую нехватку матери… что весьма сходно с состоянием героинового наркомана, у которого ломка» (2). Такая аналогия помогает понять, почему все новорожденные млекопитающие, включая человека, так энергично протестуют, когда их отнимают от матери. С точки зрения младенца отлучение от матери воспринимается как «угроза жизни», – говорит доктор Рэйлин Филипс, неонатолог детской больницы Университета Лома-Линда. «Если отлучение длится определенное время, – говорит она, – реакцией ребенка будет отчаяние. Ребенок сдается и перестает надеяться» (3). Доктор Филипс не одинока в подобном мнении. Ее поддерживают Нильс Бергман и другие эксперты нейробиологии, изучающие связь матери и ребенка.
Из моего раннего жизненного опыта мне знакомо чувство, когда перестаешь надеяться и сдаешься. То, что моя мать не получила от своей, повлияло на то, что она смогла дать мне и моим братьям и сестрам. И хотя я всегда чувствовал ее любовь, во многом ее поведение как матери, определило травмирующие эпизоды нашей семейной истории. Особенно важным стал тот факт, что ее мать, Ида, в возрасте двух лет потеряла обоих родителей.
Семейное предание говорит следующее. Когда в 1904 году моя прабабушка умерла от пневмонии, родители обвинили во всем ее мужа Эндрю, которого они называли бездельником и аферистом. Сора подхватила пневмонию, высовываясь из окна в середине зимы, умоляя мужа вернуться домой. Моей бабушке Иде говорили, что ее отец «проиграл деньги, отложенные за аренду квартиры» – фразу, которая потом отдавалась эхом еще во многих поколениях нашей семьи. После смерти Соры мой прадед Эндрю был изгнан из семьи, и больше о нем никто ничего не слышал. Даже будучи ребенком, я чувствовал горечь, с которой бабушка рассказывала эту историю – а рассказывала она ее много раз, – и грустил, что она никогда так и не увидела своего отца.
Ида осталась сиротой в два года, и ее взяли на воспитание престарелые бабушка и дедушка, которые зарабатывали тем, что торговали тряпьем с тележки в районе Хилл-Дистрикт в Питтсбурге. Она обожала своих бабушку и дедушку, и лицо ее всегда озарялось светом, когда она вспоминала о них и о том, как они любили ее. Но это была лишь часть истории, та часть, которую она осознанно помнила. Более глубокая суть лежала вне пределов ее досягаемости.
Прежде чем Ида научилась ходить, может даже еще в утробе, она впитала в себя чувства страданий своей матери, которые рождались от постоянных ссор, слез и разочарований. Все это должно было оказать огромное влияние на развитие нервной системы и нейронных связей в мозгу Иды. А потеря матери в возрасте двух лет, вероятно, просто эмоционально потрясла ее.
Дело не только в том, что моя мать воспитывалась сиротой, которая не могла дать ей необходимую заботу, поскольку не получила ее сама. Она также наследовала висцеральную травму разлучения Иды со своей матерью в раннем детстве. Хотя физически Ида присутствовала в жизни своей дочери, она не могла дать ей ту глубину эмоциональной поддержки, которая могла бы помочь в ее развитии. Отсутствие эмоциональных связей стало частью наследия и моей матери.
Судьба отца моей матери также непроста. Его мать, Рашель, умерла при родах, когда дедушке Гарри было всего пять лет. Отец Гарри, Самуэль, полагал, что он виноват в смерти своей жены, поскольку сделал ее беременной, и всю жизнь нес бремя этой вины. Самуэль быстро женился вновь на женщине, которая больше заботилась о собственном ребенке, чем о Гарри. С ним она обращалась с равнодушием, граничащим с жестокостью. Дед редко рассказывал о своем детстве. То, что я знаю, мне рассказала мать, которая вспомнила о том, как Гарри едва не умер от голода в юности. Он выскребал остатки еды из консервных банок, выброшенных в мусор, и ел листья одуванчиков, только чтобы не умереть с голоду. Мальчишкой я представлял себе деда в детстве, как он сидел на краю тротуара и грыз черствый кусок хлеба или отдирал протухшее мясо с куриной косточки.
Бабушка и дедушка оба рано потеряли своих родителей и бессознательно передали наследие этой травмы дальше. В нашей семье связь мать – дитя прерывалась по меньшей мере на протяжении трех поколений. Если бы разрушения этих связей не произошло до того, как родилась моя мать, возможно, я, братья и сестры получили бы совсем другую заботу и воспитание. Но так как родители матери не могли дать ей любовь, в которой она нуждалась, получилось так, что она часто ощущала тревогу и расстройство.
Чтобы прервать наконец цикл наследуемой травмы в своей семье, а также ради моего собственного исцеления, я осознал, что должен восстановить связь с матерью. Я знал, что не мог изменить того, что произошло в прошлом, но я совершенно точно мог изменить те отношения, которые были между нами сейчас.
С момента зачатия внутриутробный опыт формирует мозг и закладывает основу личности, темперамента и умственные способности.
Моя мать унаследовала стресс-паттерны бабушки, так же как и я. Она часто обхватывала себя руками и жаловалась, что чувствует в теле тревогу. Теперь я понимаю, что она бессознательно переживала страх и одиночество, которые лейтмотивом пронизывают всю жизнь нашей семьи, ужас быть разлученным с тем, в ком нуждаешься больше всего – со своей матерью. Помню, когда был маленьким, всего лет пяти или шести, я приходил в такой ужас, если мама уходила из дома, что шел в ее комнату, открывал шкаф, где висели ее шарфики и ночные рубашки, зарывался в них лицом и вдыхал ее запах. Я очень четко помню это ощущение – будто я никогда больше ее не увижу и что ее запах будет единственным, что у меня останется. Став взрослым, я поделился этими воспоминаниями с матерью и узнал, что она делала то же самое – зарывалась лицом в одежду своей матери, когда та уходила из дома.
Как показывает моя история, ранний обрыв связи мать – ребенок может произойти задолго до того, как вы были зачаты. Последствия этого сохраняются в нашем бессознательном и живут в телах в виде соматической памяти, которая может сработать, если в окружении появится нечто, напоминающее опыт отвержения или оставления.
Когда такое происходит, мы чувствуем в себе некую разобщенность. Мысли становятся невыносимыми, мы оказываемся захвачены и даже напуганы ощущениями, которые вдруг проявляются в теле. Так как травмирующее событие произошло слишком давно, оно часто лежит вне пределов нашего осознания. Мы чувствуем, что есть проблема, но никак не можем точно определить, «в чем же конкретно дело». Тогда мы предполагаем, что проблема в нас и что-то «слетело» в нас. Охваченные тревогой или страхом, мы часто пытаемся контролировать свое окружение, чтобы почувствовать себя в безопасности. Это нетрудно объяснить: когда мы были маленькими, мало что находилось под нашим контролем и вряд ли для нас существовало безопасное место, когда мы переживали чрезмерные по интенсивности эмоции. Если мы осознанно не изменим связующий паттерн, обусловленный травмирующим опытом, он может продолжить передаваться через многие поколения.
Идея о том, что мы наследуем и «заново проживаем» какие-то аспекты семейной истории, является центральной во многих книгах известного немецкого психотерапевта Берта Хеллингера. Более пятидесяти лет он изучал различные семьи, вначале будучи католическим священником, а затем семейным психотерапевтом и философом. Хеллингер учил, что мы разделяем единое семейное сознание со всеми членами биологической семьи, бывшими до нас. Он наблюдал, как травмирующие события, такие как преждевременная смерть родителя, ребенка, брата или сестры или же отказ от ребенка, преступление, суицид могут значительным образом влиять на нас, накладывая отпечаток на всю семейную систему[15] на протяжении многих поколений. По мере того как члены семьи бессознательно повторяют страдания старших родственников, эти отпечатки постепенно становятся семейной матрицей.
Повторение травмирующего переживания не всегда является точной копией изначального события. В семье, где кто-то из предков совершил преступление, может позже родиться человек, который искупит его, даже не осознавая, что он или она это делают. Однажды ко мне пришел мужчина по имени Джон, которого недавно выпустили из тюрьмы. Он отсидел три года за присвоение чужих средств, преступление, которого, как говорил, он не совершал. На суде Джон заявил, что невиновен, но так как все факты говорили против него (это было ложное обвинение, сфабрикованное его бывшим партнером по бизнесу), то адвокат посоветовал ему пойти на соглашение и признать вину. Когда Джон вошел в мой кабинет, он выглядел очень возбужденным. Челюсти были стиснуты, он кинул на кресло свое пальто и заявил, что его подставили, и теперь он одержим идеей мести. Обсуждая его семейную историю, мы вышли на случай, произошедший одним поколением ранее, в 1960-е годы. Его отца обвинили в убийстве делового партнера, но освободили в зале суда на основании несоблюдения формальностей. Все в семье знали, что отец виновен, но никто об этом никогда не говорил. С моим опытом в области семейной травмы я даже не удивился, узнав, что Джон был того же возраста, что и отец, когда того осудили. Справедливость, в конце концов, восторжествовала, но цену заплатил другой человек.
Хеллингер считает, что в основе таких повторений лежит механизм, который он назвал «бессознательная лояльность». Именно ее он считает источником многих страданий в семьях. Будучи не в состоянии соотнести причины своей симптоматики с произошедшим в предшествующих поколениях, люди часто начинают искать корни своих проблем в собственном жизненном опыте и не находят решения. Согласно учению Хеллингера, каждый имеет одинаковое право быть членом семейной системы, и нет такой причины, по которой кто-либо когда-либо может быть исключен из нее. Членом семейной системы является и дед-алкоголик, который довел до нищеты бабушку и бросил ее, и мертворожденный брат, чья смерть разбила сердце матери, и даже соседский ребенок, которого случайно на дороге задавил ваш отец, сдавая назад. Преступник-дядя, сводная сестра матери, ребенок, от которого избавились, сделав аборт, – все они принадлежат к вашей семье. Этот список можно продолжать. Даже те люди, которых мы даже не включили бы в него, должны быть туда включены. Если кто-то причинил вред, убил или обманул члена вашей семьи, этого человека тоже нужно учесть. Соответственно если кто-то из членов вашей семьи причинил вред, убил или обманул кого-то, жертву также необходимо включить в вашу семейную систему.
Добрачные партнеры родителей, бабушек и дедушек также должны быть включены. Их смерть или уход открыли возможность мамам, папам, бабушкам и дедушкам войти в систему, которая в конце концов дала рождение нам.
Хеллингер заметил, что, когда кого-то отвергают или оставляют вне семейной системы, этот человек позже может быть представлен каким-то другим, родившимся позднее членом семьи. Он может разделить или воспроизвести судьбу своего старшего родственника, повторив некоторые особенности его поведения или аспекты его страданий. Если, например, дедушка был изгнан из семьи по причине пьянства, пристрастия к азартным играм и донжуанства, есть вероятность, что одна или несколько черт его поведения проявятся в ком-то из его потомков. Таким образом страдания в семье продолжатся в последующих поколениях.
Мы разделяем единое семейное сознание со всеми членами биологической семьи, бывшими до нас.
Для семьи Джона тот человек, которого убил его отец, стал теперь частью семейной системы. Когда Джона подставил его деловой партнер и затем он попал в тюрьму, лелея убийственные планы мести, он бессознательно проживал моменты опыта своего отца, имевшего место сорок лет назад. Когда Джон связал то, что произошло с отцом, с тем, что случилось с ним, он смог в конце концов оставить обуревавшие его навязчивые мысли и двигаться дальше. Две судьбы замысловатым образом переплелись, как будто два человека имели одну судьбу. Пока же эта связь оставалась не видна, Джон был очень ограничен в духовной свободе.
Хеллингер подчеркивает, что каждый из нас должен нести свою судьбу вне зависимости от ее тяжести. Никто не может пытаться взять на себя судьбу кого-то из родителей, дедушки, бабушки, сестры или брата, дяди или тети без связанного с этим страдания. Для описания этого типа страдания Хеллингер использует слово «вовлеченность». Когда вовлечены, вы бессознательно принимаете на себя и несете чувства, признаки, поведение или невзгоды старшего члена семейной системы, как если бы они были ваши собственные.
Даже дети, рожденные от одних и тех же родителей, живущие в одном доме, воспитывающиеся вместе, скорее всего, унаследуют разные травмы и проживут разные судьбы. Например, сын-первенец, вероятнее, наследует то, что в свое время не решил для себя его отец, а дочь примет на себя то, что остается нерешенным для матери. Хотя это и не всегда происходит именно так. Верным может оказаться и иное: более поздние дети могут наследовать различные проявления родительских травм или же какие-то элементы травмирующего опыта своих бабушек и дедушек.
Например, первая дочь может выйти замуж за человека, эмоционально холодного и любящего все контролировать – то есть такого, который напоминает ей отца. И, поступив так, она разделит сценарий жизни матери. Сделав такой выбор, она тем самым повторит опыт матери и разделит с ней череду неудовлетворенностей и досады. Вторая дочь может нести в себе скрытый гнев матери. Таким образом, она находится под воздействием той же травмы, но в ней проявится другой ее аспект. Она может совершенно отвергать своего отца, в то время как первая дочь его не отвергает.
Последующие дети в семье могут нести в себе неразрешенные конфликты своих дедушек и бабушек. В той же самой семье третья или четвертая дочь могут никогда не выйти замуж из страха, что ее будет контролировать человек, которого она не любит.
Однажды я работал с семьей из Ливана, в которой наблюдал похожую динамику. Когда мы посмотрели через поколение назад, мы увидели, что ливанские бабушки были отданы замуж очень рано – одна бабушка в возрасте девяти лет и другая в возрасте двенадцати лет. Неся в себе опыт бабушек, которых насильно отдали замуж, когда они были еще детьми, две сестры из этой ливанской семьи в чем-то повторили некоторые аспекты их судеб в своих. Как и их бабушки – одна вышла замуж за человека гораздо старше ее. Вторая же никогда не выходила замуж, утверждая, что мужчины отвратительны и любят всех подавлять – это похоже на то, что чувствовала ее бабушка с отцовской стороны в своем браке без любви.
Каждый из нас должен нести свою судьбу вне зависимости от ее тяжести. Никто не может пытаться взять на себя судьбу кого-то из родителей, дедушки, бабушки, сестры или брата, дяди или тети без связанного с этим страдания.
Разрыв связи мать – дитя братья и сестры от одной матери будут переживать по-разному. Один ребенок может стремиться всем угождать из страха, что, если он не будет хорошим или начнет чем-то возмущаться, то потеряет связь с другими людьми. Другой может выработать убеждение, что такая связь вообще не для него, и стать конфликтным человеком, отталкивая близких ему людей. А третий может вообще самоизолироваться и свести свои контакты с людьми до минимума.
Я заметил, что, если братья и сестры пережили ранний разрыв эмоциональной связи мать – дитя, они часто проявляют гнев и ревность в отношении друг друга или не испытывают тесных родственных связей. Например, старший ребенок может отталкивать от себя самого младшего в семье, полагая, что тот получает любовь, которая не досталась ему, первенцу. Поскольку гиппокамп – часть мозга, которая отвечает за создание наших воспоминаний, – до возраста двух лет еще не вполне развит, то старший ребенок осознанно может не помнить, как мама держала его на руках, кормила и баюкала, но он помнит, что эту материнскую любовь получали младшие дети в семье. Тогда он начинает чувствовать себя ущемленным и может неосознанно винить младшего брата или сестру за то, что тот получает все, что не досталось ему или ей.
Кроме того, разумеется, есть те дети, которые, кажется, вовсе не несут в себе каких-либо семейных травм. Вполне возможно, что у них сформировалась прочная эмоциональная связь с матерью и/или отцом, и эта связь сделала ребенка невосприимчивым к переносу травмирующего опыта прошлого. Возможно, был некий период, когда мать была в состоянии дать одному ребенку больше любви, чем всем остальным. Вероятно, улучшились отношения между родителями. А может быть, мать испытала особую связь с одним из детей и не смогла создать такую же с остальными. Может показаться, что судьба младших детей (хотя и не всегда) складывается лучше, чем у первенцев или у единственных детей в семье, которым приходится принимать на себя большую часть нерешенных проблем из семейной истории.
Когда мы говорим о братьях и сестрах и наследовании семейного травмирующего опыта, не существует готовых и четких правил, каким образом он влияет на каждого из детей. Много переменных, помимо особенностей родов и пола, вступают в силу и влияют на то, какой выбор делают братья и сестры и какую жизнь они проживают. Со стороны может показаться, что кого-то из братьев или сестер семейная травма не затронула, в то время как другой ею обременен. Однако мой клинический опыт говорит мне следующее: большинство из нас все же несут пусть и небольшие, но следы семейных травм. В это уравнение включается также множество других переменных, влияющих на то, насколько глубоко укореняются в нас эти травмы. Среди этих переменных – способность к самоанализу, самоуспокоению, а также мощная способность к внутреннему самоисцелению.
Идеи о том, что мы заново проживаем травмы своей семьи, вполне могут лежать в основе того, на что ссылается в своей новаторской книге под названием «Пластичность мозга. Потрясающие факты о том, как мысли способны менять структуру и функции нашего мозга»[16] психиатр Норман Дойдж. Определив источник поколенческих травм, мы, как пишет доктор Дойдж, «можем превратить их из привидений, преследующих нас, всего лишь в часть семейной истории» (4).
Один ключевой способ, которым мы можем воспользоваться, чтобы это произошло, – позволить себе быть захваченными таким опытом или образом, который бы затмил эмоции и переживания старой травмы, живущие в нас. Мозг обладает потрясающей способностью к исцелению через образы. Когда мы представляем себе сцены прощения, покоя, как мы освобождаемся от неприятного в жизни или просто визуализируем любимого человека, подобные образы, способны глубоко укореняться в наших умах и телах. В своей работе я понял, что если помочь человеку раскопать тот образ, который лучше всего резонирует с ним, это послужит краеугольным камнем его исцеления.
Понимание целительной силы образов существовало задолго до того, как появилось сканирование головного мозга. Более ста лет назад поэт Уильям Батлер Йейтс писал о том, что «мудрость вначале проявляет себя через образы» и, если мы последуем за тем образом, который живет в нас, наши души станут «простыми, как пламя», а тела – тихими, как «агатовая лампа». В 1913 году Карл Юнг ввел термин «активное воображение» для обозначения техники, которая использует образы (часто из сновидений) для вступления в диалог с бессознательным и проливает свет на то, что было скрыто во мраке. За последнее время идея использования визуализации в медицинской практике получила широкое распространение. Были созданы лечебные программы по управляемым психическим образам, направленные на снижение стресса и тревожности, повышение спортивных результатов, а также на преодоление определенных страхов и фобий.
Идею об образах поддержала наука. Дойдж совершил революцию в понимании поведения человеческого мозга. Он изменил представления о мозге, как о постоянной и неизменяемой структуре в сторону понимания его как структуры подвижной, способной изменяться. Его работы показали, как новый опыт может создавать новые нейронные связи. Эти связи усиливаются в результате повторений и углубляются благодаря фокусированному вниманию. То есть чем больше мы практикуемся в чем-то, тем больше тренируем изменения в мозгу.
Этот фундаментальный принцип отражен в высказывании, которое резюмировало работу канадского нейропсихолога Дональда Хебба, которую он представил в 1949 году: «Нейроны, которые вместе загораются, друг с другом и сплавляются». То есть, по сути, когда клетки головного мозга вместе активируются, связи между ними укрепляются. Проще говоря, с каждым повторением определенный опыт все больше закрепляется. А при достаточном количестве повторений он становится автоматическим.
Мы больше всего выигрываем, если применяем принцип Хебба для выработки нового опыта, такого, который считаем положительным, вознаграждающим и значительным для нас и который задевает любопытство и любознательность. Например, это может быть опыт получения утешения или поддержки, симпатии, благодарности – всего, что даст нам возможность чувствовать себя внутренне сильнее и в мире с самим собой.
Когда мы снова и снова испытываем чувства, связанные с новым опытом, не только соответствующие структуры мозга начинают соединяться. Тем самым мы способствуем выработке нейромедиаторов, ответственных за хорошее настроение, – серотонина и дофамина, а также «гормона счастья» окситоцина. Мы даже можем влиять на экспрессию наших генов. Те самые гены, которые участвуют в реакции организма на стресс, могут повести себя иным, улучшенным образом.











