Читать онлайн Глубинные коды одиночества мужчин
- Автор: Александр Андрианов
- Жанр: Психологические тренинги, Общая психология, Практическая психология
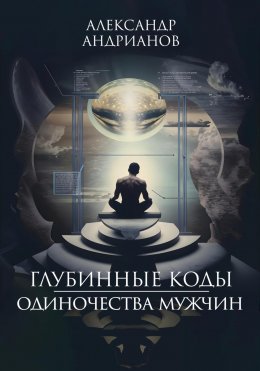
Эта книга про отношения, про то, как попытаться мужчине решить свои внутренние вопросы мешающие гармонии и созданию партнерских отношений, приносящих радость, книга для тех, кто устал от поверхностных советов на тему отношений и готов к погружению в пласты собственной психики – туда, где рождаются сны, хранятся детские воспоминания и формируются бессознательные сценарии.
Если вы чувствуете, что ваши «почему» не умещаются в рамки рациональных ответов, если вам интересно, как отношениях ваших родителей, незаметные жесты, повторяющиеся сюжеты вашей жизни или внезапные эмоции могут стать ключами к внутренним конфликтам – возможно вы здесь найдете ответы.
Если вы ловите себя на том, что сценарии отношений повторяются (расставания, конфликты, эмоциональные «стены»), но не понимаете, откуда они берутся, то эта книга для вас, как хорошее начало длинного пути.
Если детские травмы (холодный отец, гиперопекающая мать, опыт отвержения) до сих пор влияют на ваш выбор партнерш, то чтение книги будет для вас полезным занятием.
Если страх быть уязвимым сильнее желания близости – читайте эту книгу.
Если вы не верите в психологию, то просто купите эту книгу и пусть в один прекрасный день, вам придет сигнал, и вы начнете ее читать.
Глава 1. «Почему вы ходите по кругу? Археология мужского одиночества»
Представьте, что ваша жизнь – это старый комод. Так себе сравнение для молодого мужчины, лучше бы конечно образ тигра или леопарда, но здесь не образ себя, как я себя вижу, а жизнь в целом, как некий процесс, часть которого уже безвозвратно прошла, ну в этой жизни, по крайней мере.
Так вот верхний ящик – взрослая версия вас: успешный (или не очень), бородатый (или гладковыбритый), с абонементом в спортзал (или лекторий), паролем от Netflix (или Pornohub), кредитными картами (кучей наличных или без денег). Но если заглянуть глубже, в самый нижний ящик, заваленный пыльными машинками и дневником с двойкой по математике, там прячется ваш внутренний мальчишка. Тот, кого когда-то возможно дразнили в школе, кто может быть боялся признаться, что любит котят, кто до сих пор помнит, как пахли мамины духи, как было грустно, когда она плакала в ванной, как папа собирался рано утром и поздно ночью приходил с работы и многое, многое другое.
Все всегда с вами и никуда не делось и оказывает влияние на то, что происходит сейчас, порой витиевато, порой настойчиво, системно, опосредованно, явно, скрытно, быстро, медленно – и никуда от этого не деться, весь этот «материал», который вы помните или который как вам кажется вы забыли, или вытеснили и составляет глубинные коды вашей психики, если правильно его расшифровать, чем мы и будем заниматься.
Мужское одиночество – это не про то, что мужчина обязательно фактически одинок (или свободен?), а про то, что и в паре, и в семье, можно чувствовать одиночество и страдать от этого. И здесь есть очень большая разница, между мужским и женским одиночеством, так как женщина, как правило, активно вкладывается в социальные связи, в общение с подругами, знает как это делать и системно это делает, а мужчина – нет, поэтому в случае, например расставания, мужская изоляция и страдания от нее несравнимо больши, чем у женщины.
Прибавить еще сюда то, что мужчинам не свойственно делиться друг с другом эмоциональными переживаниями и проблемами, которые надо как будто не замечать и в лучшем случае забывать их на работе, ну или запивать в баре или зажимать штангой. У женщин есть даже специальные практики в группах, широко представленные, на которые можно прийти (если ты женщина), не являясь постоянным участником сообщества, получить понимание и поддержку и составить план на будущее, «Женские круги» называется. Не слышал ничего подобного у мужчин.
А если и доходит до того, что мужчина делится с другим деталями своей непростой ситуацией, то зачастую вся обратная связь может ограничиться на уровне «забей», «держись», «нажрись», «пошла она на». Все это на уровне палеолита – и смешно, и грустно. Конечно, есть исключения – мужские сообщества, в которых приняты поддержка, обмен опытом, наставничество, внимательное отношение друг другу. Но это обычно закрытые коллективы, в которые не имеет возможности попасть посторонний человек, не связанный общей темой, историей или обстоятельствами с остальными. И развитие «гибких» сообществ, открытых к новым участникам – отдельная, важная тема, которой надеюсь найдется место этой книге.
Небольшая часть мужчин, решая свою проблему одиночества, доходит и до психолога и там тоже сталкивается с реальностью, что все психологи разные, нет единого подхода (откуда ему, собственно, взяться), что есть личное мировоззрение специалиста, которое он зачастую не хочет держать в себе (хотя иногда это вполне уместно) и у каждого есть свои особенности консультирования, которые могут не подходить по разным соображениям. Вообще найти «своего» психолога – это лотерея, но кто ищет – тот находит, зачастую первый опыт работы с психологом является и последним.
«Психолог не сказал мне ничего нового», «посоветовал то-то и то-то», «ничего не изменилось» – такие комментарии можно услышать достаточно часто, и они нередко от непонимания того, что происходит в результате работы с психологом. Возможно, стоит этой теме тоже посвятить главу, но если кратко, то редко когда на первой сессии происходит озарение, но и такое бывает, а вообще работа с психологом – это долгосрочная тема, это как спортзал – только не два – три раза, а можно и раз в неделю. Год-два-три. Ну никто же не ждет результата от тела, которым никогда не занимались на протяжении 30 лет от первой тренировки? Первые результаты будут видны через два месяца – вот так же и с психологом. Проекции, перенос, доверие, сопротивление – серьезный процесс, советы в котором могут иметь минимальный вес, а то и вовсе отсутствовать.
И даже если вы попали к понимающему психологу, который знает что делать и вам подходит – первое время будет стойкое желание закончить эту ерунду, эти странные предположения психолога о маме, «которая вообще не причем и всю жизнь лишь мне помогает и все у меня хорошо с родителями, ну да их можно понять и вообще зачем мне все это и это все не научно и пр и др. а проблема в другом – просто мир такой и в этой жизни у меня так, но может в другой будет по-другому».
То есть как процесс, который можно бросить, здесь есть гораздо больше предпосылок чем в любом другом – психолог задает «неудобные» вопросы, не впечатляется вашим видением ситуации, переворачивает все с ног на голову. Но давайте я буду честен – психолог – это хорошая тема, для того, кто может себе это позволить, чаще всего финансово.
И эта книга, как отчасти бесплатный психолог (если не считать стоимость книги), здесь приведены наиболее часто встречающиеся взаимосвязи детско-родительских отношений и того, что мы можем наблюдать в результате во взрослой жизни, как эти отношения раскрылись, во что превратились и какую принесли проблематику.
Конечно, стоить отметить «гуру по отношениям», которые привлекают своими радикальными идеями, которые часто связаны с упрощением сложных социально-психологических процессов, эксплуатацией стереотипов и подменой профессиональной психологии популистскими лозунгами.
Например, подача межличностных отношений как системы чётких правил («10 шагов чтобы завоевать женщину»), игнорируя индивидуальность людей, эмоциональную сложность и культурный контекст или утверждения вроде «Женщины любят только сильных» или «Мужчина должен всегда доминировать» создают токсичные шаблоны, малоприменимые в реальности, так как формирует установку, что партнёр – объект для «победы», а не равный участник диалога.
Тема гендерного детерминизма тоже не выдерживает критики: жёсткое разделение ролей по полу («мужчина – добытчик, женщина – хранительница очага»), игнорирующее современное разнообразие моделей семьи и личностных ценностей, отрицание женской автономии («Женщина должна слушаться мужчину»), стигматизация мужской эмоциональности («Мужчины не плачут»), укрепляет гендерное неравенство, подавляет аутентичность, провоцирует конфликты в парах с нешаблонными запросами – вообще уводит не туда.
Зачастую идет игнорирование психологических знаний, подмена научных концепций (привязанности по Боулби, теории коммуникации Вацлавика) упрощёнными мифами, взявшимися из неоткуда. Трактовка сексуальности только через призму доминирования, что формирует неадекватные ожидания и поведение, изначально ведущие к дисфункциям в отношениях. Приведу краткое описание концепции Боулби и Вацлавика.
Теория привязанности Джона Боулби (кратко):
Эмоциональная связь с первичным опекуном (чаще матерью) в детстве формирует «стиль привязанности», который влияет на все будущие отношения. Джон Боулби выделяет четыре стиля. Надежный: уверенность в близости, баланс автономии и доверия. Избегающий: страх зависимости, эмоциональная закрытость («Мне никто не нужен»). Тревожный: навязчивая потребность в подтверждении любви («Не покидай меня»). Дезорганизованный: хаотичное сочетание избегания и тревоги (часто из-за травмы). Например, мужчина с избегающим стилем выбирает эмоционально недоступных партнёрш, повторяя детский сценарий «отсутствующего родителя». Привязанность (Боулби) объясняет почему мужчина боится близости (детские травмы).
Теория коммуникации Павла Вацлавика (кратко):
«Нельзя не коммуницировать»: даже молчание или уход – это сообщение. Существует Два уровня коммуникации: Контентный (что говорится) и Реляционный (как это влияет на отношения, скрытые послания). Так же большое значение уделяется симметричным и комплементарным взаимодействия: борьба за власть vs взаимодополнение. Из дисфункционального: Двойные послания («Будь сильным, но не дави на меня») и Патологические петли: например, партнёры бесконечно повторяют конфликт, не решая его. Пример: фраза «Делай что хочешь» (контент) на реляционном уровне означает: «Ты меня разочаровал, я отстраняюсь». Коммуникация (Вацлавик) показывает, как он воспроизводит этот страх в отношениях (через маски, двойные послания).
В книге объединены оба подхода: работа с корнями (стили привязанности) + перепрограммирование коммуникативных паттернов (ролевые игры, ритуалы).
«Чтобы выйти из одиночества, нужно не просто „полюбить себя“, а пересобрать язык, на котором вы говорите с миром – от привязанности до каждого жеста». А не просто поверить в какие-то привлекательные идеи.
Ну а эта токсичная мужественность, брутальность, пропаганда гипермаскулинности как единственной нормы: «Настоящий мужчина не проявляет слабость», «Всегда будь готов к сексу». Игнорирование мужской уязвимости, давления на партнёрш просто ведёт к эмоциональной изоляции, депрессии, проблемам с психическим здоровьем, насилию, девиантному поведению. Вы знаете сколько одиноких мужчин ходят по спортивным залам, крутых и доминантных?
А использование терминов из психологии («травма привязанности», «нарциссизм») без понимания их смысла, где слушатели тратят ресурсы на иллюзорные решения, усугубляя чувство неполноценности? А отрицание этики, поощрение поведения, нарушающего границы других: «Не принимай отказ – продолжай добиваться», что это если не оправдание сталкинга? «Женщины любят наглых», это разве не нормализация харассмента?
Все это формирует установки и поведение, ведущие к правонарушениям и токсичным отношениям, зачастую становится просто общественно опасным и часто приводит адептов учения не к удовольствиям от общения с женщиной, а на многолетний тренинг по пошиву рукавиц, в места малокомфортные, с исключительно мужским контингентом, где старшие товарищи, если повезет, привьют новые паттерны и мировоззрение.
Как отмечал Эрих Фромм: «Любовь – это активная заинтересованность в жизни и развитии того, кого мы любим». Никакие манипуляции не заменят искренности и уважения – я бы так резюмировал тему про помощь «гуру».
Да, конечно, в вопросе помощи есть еще родители. Можно своими рассказами растревожить тревожную маму, можно пытаться от дистантного папы получить «еще немного мудрости» в кратких ответах, ничего в результате не получив, кроме увеличения количества звонков от мамы и ее переживаний, от «тебе надо жениться» или «посмотри какая хорошая была Марина, может вам сойтись опять». Хотя стоит признать – у многих мужчин папа в авторитете, и они прислушиваются к его советам, насчет отношений и работы.
И в итоге, мужчина остается наедине со свое проблемой, или в окружении тех, кто собственно эту проблему если не создает, то является активным участником представления. Попытки решить ее таким составом упираются в ограничения самоанализа, получается такое хождение по кругу и невозможность увидеть ситуацию под другим углом – просто некому это сделать, это если мужчина один. Застревание, МКАД, бег на месте – хорошие образы для этой ситуации. Если мужчина не один, а в паре, там возможна такая же история и те же образы, потому что у каждого есть свое мнение и свое видение ситуации, и свои паттерны, наработанные за жизнь и полученные в детстве.
Как говорил Карл Юнг, от этого спасение только в войне, любви и психотерапии.
Правда в том, что мы не рождаемся одинокими. Мы научились быть одинокими. Как? Да очень просто. Папа говорил: «Не реви!». И мы засунули обиды в дальний карман. Мама вздыхала: «Ты же мой защитник». И мы решили, что просить помощи – предательство. Первая любовь назвала «тормозом».
Где-то в прошлом нас научили:
Любить – это как экзамен. Надо заслужить.
Слабость – позорнее, чем забыть день рождения мамы.
Лучшая защита – это нападение. Особенно если «нападаешь» первым, чтобы не признать: ты просто боишься.
И мы заменили искренность на сарказм. Ну мы много что сделали, для того чтобы не потерять любовь родителей или остатки этой любви – приняли детские решения, которые легли в основу нашего «взрослого мифа», выработали «правильное» поведение, актуальное тогда, но неуместное сейчас. Увидели жизнь, так как увидели, а не так как она есть, через призму той оптики – несовершенной, ранимой, испуганной, бесправной.
В следующей главе я предлагаю погрузиться в двадцать наиболее распространенных дисфункциональных паттернов которые лежат в основе дисгармонии отношений. Попробовал через пример раскрыть и показать корни. Очень часто они связаны между собой, интенсивность проявления у всех разная: где-то четкое попадание, где-то вы можете найти легкие намеки, что такой паттерн присутствует в вашей жизни, где-то вы пройдете мимо и ваши защиты не позволят вам опознать себя – просто смотрите, помечайте, соотносите, записывайте вопросы. Представьте, что дальше вы погружаетесь в процесс терапии и книга ведет вас по темным уголкам ваших отношений, вашего детства, ваших сегодняшних ситуаций, будьте честны с собой, расслаблены и верьте, что все хорошее непременно произойдет в вашей жизни.
Часть 1: Карта двадцати дисфункциональных паттернов
Начнем анализ типовых дисфункциональных паттернов, которые лежат в фундаменте неудач и негармоничных отношений, назовем их в том числе и «ловушками» – они хитры, незаметны обывателю, наносят долгосрочный урон, но они не приговор, а карта, которая помогает разглядеть прошлое.
Работа с ними требует не столько анализа, сколько смелости встретиться с тем ребёнком внутри, который всё ещё дрожит в углу, боясь любви. Но как писал Рильке: «И, если страшно – пусть страшно будет с чем-то огромным». Ваша «огромность» – это право любить и быть любимым без оглядки на призраков вчерашнего дня.
1. Выбор эмоционально недоступных и критикующих партнёрш
Связь с холодными, критикующими или отстранёнными женщинами обычно воспроизводит динамику отношений с родителями. Если отец был эмоционально закрыт, а мать – гиперопекающей, бессознательно мы ищем партнёрш, которые подтвердят знакомый сценарий: «Любовь – это боль и дистанция».
Пример:
Мужчина, выросший с гиперопекающей, но при этом критикующей или матерью-перфекционистской, подсознательно может выбирать женщин, которые его критикуют. Так он пытается «заслужить» любовь, повторяя детский паттерн. Конечно, он этого не осознает и это не является его лозунгом в отношениях.
Бессознательное повторение этого детского сценария создаёт иллюзию контроля и достижения – «на этот раз я заслужу любовь». Но вместо исцеления это закрепляет убеждение, что близость возможна только через боль, блокируя здоровые отношения.
Если отец был эмоционально холоден, а мать – гиперопекающей, мужчина так же может «соединить» оба родительских образа в одном партнёре. Холодная женщина символизирует как отстранённость отца, так и потребность «доказать себя», заложенную матерью. Это создаёт знакомый эмоциональный ландшафт, даже если он болезненный.
Гиперопека часто воспринимается как вторжение в личные границы. Взрослый мужчина может избегать эмоционально открытых партнёрш, ассоциируя близость с удушьем. Холодные женщины становятся «безопасным выбором» – их отстранённость защищает от повторения травматичного опыта слияния с матерью.
И здесь может быть так, что выбирают одних партнёрш, а в тайне мечтают о других – которые полярно отличаются от холодных: мягких, принимающих, неконтролирующих. Это попытка разорвать порочный круг через отрицание детского опыта, но близкие и мягкие напоминают удушье – и вот опять расщепление и движение, и любовные треугольники, между двумя полюсами.
Этот паттерн – словно тень, отбрасываемая семейной историей через поколения. Представьте девочку, которую воспитывали родители, видевшие в ней не ребёнка, а «проект для исправления». Её рисунки встречали фразой: «Дерево не может быть синим», а пятёрки в школе – вопросом: «Почему не пятерки везде?». Ей не говорили «я тебя люблю», но учили: «Любовь надо заслужить». Став матерью, она, сама того не желая, превращает сына в живое зеркало своих тревог. Его успехи растворяются в её вечном «можно лучше», а ошибки становятся поводом для гиперопеки – как будто, контролируя каждый его шаг, она может наконец унять хаос внутри себя, с которым не смогли помочь ей справиться родители.
Но откуда эта тревога? Её мать, например, выросшая в послевоенные годы, верила и знала, что мир – опасное место, а эмоции и открытость – роскошь для слабых или сумасшедших. Любовь в семье измерялась жертвами: «Я ради тебя голодала (работала много, страдала и т.п.) – будь идеальной!». Так сформировался замкнутый круг: не получив безусловного принятия, дочь не смогла дать его своему ребёнку, а сын, вырастая, искал в партнёршах знакомый холод – ведь тепло ассоциировалось с обманом. «Если она не критикует, значит, не любит по-настоящему», – шептал ему внутренний голос, закалённый в горниле материнских требований. То есть сын искал и находил то, что он хорошо знает и к чему привык.
Интересно, как нейробиология объясняет этот феномен: мозг, привыкший к эмоциональному «голоду», воспринимает редкие всплески внимания как награду. Это как крыса, нажимающая на рычаг в клетке Скиннера – даже случайная порция пищи закрепляет поведение. Для мужчины, выросшего с тревожной матерью, критика партнёрши становится тем самым «рычагом»: «Может, в этот раз я достаточно хорош, чтобы меня полюбили?». Но игра ведётся с подменой правил – выигрыш здесь невозможен.
Ну и теперь перейдем к «сладкому» – к привязанности, замешанной на сексуальном, малообъяснимом желании, холодной и недоступной (как потом оказывается) «стервы».
Мужская страсть к холодным, сексуально притягательным, но эмоционально закрытым женщинам – это не просто влечение к «запретному плоду». Это ритуал саморазрушения, где боль прошлого маскируется под страсть, а неспособность получить любовь превращается в навязчивую игру. Яркая иллюстрация этого – «Шоссе в никуда» Дэвида Линча – словно сюрреалистичное зеркало этого феномена: герои-мужчины погружаются в отношения, где секс, страх и абсурд сливаются в единый коктейль, а партнёрша становится проводником в их собственные психологические бездны.
Если мать в детстве была непредсказуемой – то душила любовью, то игнорировала, – её образ бессознательно сливается с архетипом Роковой Женщины. Её холодность становится знакомым вызовом: «Завоюй меня – и докажи, что ты достоин». В фильме Линча, Рена (Патриция Аркетт) с её ледяным взглядом и взрывной сексуальностью – не просто любовный интерес. Она – символ недостижимой материнской любви, которую герой пытается заполучить через физическую близость.
Для мужчины, выросшего в эмоциональном вакууме, секс со «стервой» становится попыткой расшифровать её холод. Каждая близость – как ребус: «Если я смогу её разгадать, то получу ключ к любви». Но это самообман. Её тело доступно, душа – нет. В этом диссонансе – вся суть паттерна: он повторяет детскую попытку «достучаться» до матери, которая физически рядом, но эмоционально за баррикадой. «Я никогда не буду твоей» – фраза, которую Элис шепчет на ухо Питу в последнем их эпизоде соития и это надо понимать буквально – вот реальность, сценарий этой связи, но сколько уходит времени, сил и разбитых судеб, чтобы это понять?
«Стерва» не просто отвергает – она унижает, и в этом её власть. Для мужчины, которого в детстве хвалили только за достижения, это становится извращённым подтверждением значимости: «Если она со мной так жестока, значит, я достоин её внимания». Как в пьесе Жана Жене «Служанки», где унижение возводится в ритуал, герой путает страдание со страстью.
Но за образом роковой соблазнительницы часто прячется девочка, которую недолюбили. Её холодность – не природная сущность, а броня, выкованная из страха быть уязвимой, её манипуляции и жестокость – крик о помощи, замороженный в подростковом бунте. Она, как и её партнёр, бежит от собственных ран, используя секс как щит, а власть – как меч.
Психологический парадокс: мужчина, влюблённый в «стерву», ищет не её, а разрешения на собственную ненависть к себе. Её неприступность оправдывает его внутренний нарратив: «Я недостоин любви, и она это подтверждает». Их отношения – танец двух раненых, где каждый играет роль и палача, и жертвы.
И здесь же будет сценарий мужского поиска «той самой утраченной страсти», когда мужчина, уставший от брака или краткосрочных отношений, в которых остыли сексуальные энергии (как ему кажется), начинает искать то самое вдохновение, которое вот мимолетно было, но прошло и он замечает в своей партнерше недостатки (которые раньше не видел) и понимает, что она не такая, а нужна другая, та которая подарит вечную страсть, растворение в этой страсти, в которой он будет чувствовать себя свободным и сильным и вырастут крылья. «Наши отношения охладели», «началась бытовуха», «она стала другой» – классика жанра. А ответ в другом – не удалось отличить партнершу от мамы – симбиоз не случился, вдруг на каком-то этапе оказалось, что это не мама, а просто женщина, которая тоже устает, мир которой не вертится вокруг вас, у которой есть свои заморочки.
Но это все не интересно, это как бы ее проблемы, а мужчина вообще-то ожидал что его будет постоянно переть и вдохновлять общество возлюбленной. Ну а зачем еще нужен брак и женщины? Для вдохновения.
И вот он, вчерашний возлюбленный или примерный семьянин, начинает искать свое вдохновение на стороне, играя в разные игры, залезая в другие семьи. Часто эти возвышенные и благородные игры скатываются к банальным и неприятным «В поисках хламидиоза» и «Кого я там раньше не трахнул». В общем, такое поведение мужчины, ничего не говорит о сексуальной потенции и его активности, а обычно о глубине его психологической проблемы. Но нам свойственно рационализировать такие моменты, романтизируя или считая, что таким образом решатся накопленные проблемы в паре – обычно не решатся, данная схема решения приводит к разводу и оголтелому впаданию в новый брак, в котором скорее всего, все повториться сначала.
Важная ремарка —я не выступаю сторонником заключения и сохранения брака в любом случае, может быть вообще не стоит в этот брак вступать, а всю жизнь встречаться, как мы это делали в молодости и, к примеру брак, это навязанная форма социального существования, которая себя изжила. Пожалуйста – я не против.
Я только точно знаю, что большинство – склонны к семейному проживанию, хотят детей и видят в семье смысл. Если кто не хочет – не значит, что может сказать «а мне все пох до этих паттернов – я меняю кого хочу, когда хочу, мне близость не нужна – только секс». Потому что эта схема тоже про избегание близости, и мы ее рассмотрим в дальнейшем.
Итак, вот такое вот описание этого паттерна, надеюсь мы прикоснулись к чему то, что вы узнали и вас это заинтересовали. Тогда следующий вопрос —как разорвать цикл?
Для начала спросить себя: «Я влюблён в неё или в возможность снова проиграть?». Признать, что её холод – не вызов, а зеркало: она отражает вашу убеждённость, что любовь надо заслужить страданием.
Найти «скучную» смелость: здоровые отношения часто кажутся пресными тем, кто привык к эмоциональным «американским горкам». Но именно в них рождается настоящая близость – без игры в кошки-мышки. Это вызов – а куда деть то, что свербит? «Война, любовь, психотерапия» – Карл Густав Юнг.
«Шоссе в никуда» – возможно, это название фильма, а обращение к зрителю: «Ты готов свернуть с дороги, ведущей в прошлое? Вообще, ты готов сворачивать или такой упрямый, что будешь ездить по этим рельсам всю жизнь, меняя декорации и лица?».
Как разорвать цикл? Найти «якорь» в настоящем. Спросить себя: «Я выбираю эту женщину потому, что она нравится, или потому, что её холод знаком?». Я чувствую себя как дома?
Переписать определение любви. Вместо «Любовь – это боль и попытки её преодолеть» на «Любовь – это безопасность и взаимный рост».
Цитата для размышлений: «Мы не выбираем первую семью (а может и вторую), но мы можем выбрать, станет ли она проклятием или уроком» (Джеймс Холлис, юнгианский аналитик). Вообще, это очень хороший подход – рефлексировать и считать жизненные трудности уроком.
Но… «В жизни есть только два состояния – счастье и опыт. Вот наконец-то счастье… ай нет – оказалось снова опыт».
Дать право на ошибку – себе и партнёру. Перфекционизм матери был попыткой убить её собственную уязвимость. Но именно уязвимость – мост к настоящей близости
Следующая паттерн покажет, как страх уязвимости превращает мужчин в эмоциональных беженцев, а их отношения – в поле битвы с невидимым врагом.
2. Страх уязвимости
Многие мужчины часто слышали в детстве: «Мальчики не плачут» или «Будь сильным». Эти установки превращаются в страх показать слабость во взрослой жизни. Мы прячем чувства за сарказмом, молчанием или ролью «спасателя», но это лишь усиливает изоляцию.
Пример:
Сергей, 35 лет, всегда шутил, когда партнёрша спрашивала: «Как ты себя чувствуешь?». Его страх быть отвергнутым за «слабость» привёл в итоге к разрыву – женщина устала от неискренности и «поверхностности», считая Сергея эмоционально-незрелым. Удивительно, да?
Подавление эмоций формирует «эмоциональный панцирь», который защищает от прошлых ран и в этом большой плюс, но и отрезает от настоящей близости. Но сила – не в избегании чувств, а в умении делиться ими без страха осуждения.
Этот паттерн рождается не в вакууме, а в тихом договоре между поколениями – в тех невысказанных правилах, что передаются, как фамильные часы, через приглушенные вздохи отцов и сжатые губы матерей. Представьте мальчика, лет семи, который разбил колени, играя во дворе. Он бежит домой, чтобы найти утешение, но вместо объятий слышит: «Ты же мужчина! Стыдно реветь из-за царапин». Его слезы высыхают, не успев скатиться, а вместе с ними уходит в подполье часть его человечности. Годы спустя этот мальчик станет мужчиной, чьи эмоции будут похожи на запертые комнаты в доме – существующие, но запретные даже для него самого.
Корни здесь уходят в почву, удобренную страхом и стыдом. Возможно, отец этого мальчика сам когда-то получил «в наследство» от своего деда-фронтовика убеждение, что боль – это нечто постыдное, личное, как грязное бельё. Тот, вернувшись с войны, не говорил о пережитом, запивая молчание водкой, а его жена, боясь разбудить спящие в нём демоны, учила сыновей: «Не тревожь отца вопросами». Так формировался климат семьи – не проговоренный, но ощутимый, как запах гари после пожара. Сыновья учились читать настроение родителей по скрипу половиц, по тому, как хлопает дверь, но так и не узнали, как читать собственные чувства.
Взрослея, такие мужчины создают ритуалы замены эмоций. Сарказм и ирония становится их языком любви – как будто шуткой можно прикрыть дрожь в голосе. Молчание превращается в крепость, где безопасно, но пусто. А роль «спасателя» – в святой Грааль: помогая другим, они легализуют свою потребность в близости, не рискуя показать уязвимость. Сергей из примера не просто боялся сказать, что чувствует. Он, как и его отец, нёс в себе невидимый чемодан, набитый запретами: «Если откроешь его – обвинят в слабости. Если спрячешь – обвинят в чёрствости». Его партнёрша, не видя содержимого, решила, что чемодан пуст, ее тоже можно понять.
Ну и получается такой мужчина вообще загоняет себя в угол – он должен быть там Мужчиной, там Мужчиной, здесь Мужчиной – перегружая себя внутренними обязательствами и высокими стандартами. Да, многим бы неплохо поучиться у такого яркого и безаппеляционного, но каким напряжением это дается? Что внутри у человека? Как он переживает это напряжение, как справляется? И да – с таким паттерном до психологии, а тем более до психолога редко доходят, потому что признать свою слабость – невыносимо. Проще прийти к инсульту, инфаркту или алкоголизму разной степени тяжести.
Парадокс – такая пара будет со стороны выглядеть идеальной. Он весь в работе, она всем обеспечена и внутренние проблемы такой пары, будут как правило непонятны другим людям. Мужчине, в случае семейных ссор, как правило, родители и знакомые будут оказывать поддержку, ссылаясь на то, что «это у нее чего-то там с головой произошло», а ей будут говорить, что она все придумала, посмотри какой он правильный.
Такие убеждения зачастую переходят в газлайтинг и способны привести к серьезным психическим проблемам у женщины, например неврозам, психозам, глубоким депрессиям. Непробиваемая защита и позиция мужчины, функционально-правильного с подобным паттерном при подкреплении статусом и финансами, становится нетерапевтируемой. Однако, женщины со здоровой психикой еще на ранних этапах понимают риски таких отношений и остаются в них, как правило лишь женщины склонные к зависимости, которым невыносимо одиночество и привычка страдать в отношениях, является более-менее приемлемой для них.
Интересно, что этот паттерн часто переплетается с другими ловушками, например, мужчина, выбравший эмоционально холодную партнёршу, подсознательно ищет того, кто не станет требовать от него эмоций – ведь её отстранённость становится удобным алиби для его страха. Получается замкнутый круг: он боится быть уязвимым, поэтому выбирает тех, кто не сможет эту уязвимость принять, а затем использует их холод как доказательство, что открываться действительно опасно.
Здесь работает древний механизм психики, сформированный ещё у пещерных костров: лучше заранее предвидеть угрозу, чем стать жертвой. Но если для предков угрозой был саблезубый тигр, то для современного мужчины – риск быть осмеянным, непонятым, ненужным. Наш мозг, как перегруженный антивирус, помечает эмоции как потенциально опасные файлы и отправляет их в карантин. Трагедия в том, что, защищаясь от мнимых ран, он лишает себя возможности получить настоящую поддержку – ту самую, что могла бы исцелить старые шрамы.
Этот паттерн питают не только семейные, но и культурные мифы. Вспомните миф о Геракле, который совершал подвиги, но сгорел в ядовитой тунике, не сумев попросить о помощи. Или кумира 90-х Арнольда Шварценеггера – в общем он может быть узнаваемой иконой этого паттерна.
Или современные супергероев, чьи маски никогда не снимаются. Даже язык предаёт нас: слово «слабость» происходит от «слабить» – терять твёрдость. Но разве дождь, размягчающий землю, слаб? Он даёт почве возможность родить новое. Возможно, уязвимость – это не дыра в броне, а корни, позволяющие человеку не сломаться под тяжестью жизни.
Парадокс, но исследования выявили, что мужчины, открыто говорящие о страхах, воспринимаются окружающими как более сильные, а их мозг вырабатывает больше окситоцина – гормона доверия, который снижает уровень кортизола (гормона стресса).
Как разорвать цикл? Заменить «Будь сильным» на «Будь живым». В Японии, например, есть «клубы плача» (Rui-Katsu), где мужчины и женщины учатся выражать эмоции через слёзы под грустные фильмы. Кстати, вот вам и отличная бизнес-идея, в купе с «Мужскими кругами».
Язык тела как мост: если слова даются тяжело, то можно начать с физических проявлений – объятий, касаний. Это очень давно применяется на разных практиках, ретритах, да есть и целое направление, которое я глубоко уважаю и с которого начинал свое обучение, речь идет о телесной психотерапии.
Ролевые модели: например, фильм «Властелин колец», где герой-мужчина Арагорн, не стыдится своей мягкости, показывает слабость, но как воин делает все, что в его силах. То есть мягкость, сомнения, страх – это не показатель отсутствия силы и мужественности. Иметь все это и переживать – нормально для мужчины.
«Сила – не в каменном лице, а в умении сказать: «Я не знаю», «Мне больно», «Помоги» – Брене Браун, исследовательница уязвимости.
3. Бегство от близости – Материнский комплекс
Близость требует доверия, а доверие рождает страх потери контроля и делает беззащитным. Бегство может принимать разные формы: уход в работу, измены, саботаж отношений на пике развития. Рассмотрим, как выглядит бегство, и здесь не все так просто, потому что оно обычно видится чем-то другим.
Пример:
Андрей, 40 лет, появлялось желание разорвать отношения каждый раз, когда партнёрша была нежна, говорила о любви и о совместном будущем. Для него эти слова, как оказалось, носили пугающий характер и поэтому, появлялось желание выйти из контакта.
Этот паттерн напоминает игру в прятки, где человек одновременно и прячется, и хочет, чтобы его нашли, но страх быть обнаруженным перевешивает жажду связи. Близость для таких людей – как огонь: они тянутся к его теплу, но боятся обжечься. Андрей, разрывающий отношения при словах любви, бежал не от партнёрши, а от материнского эха, любовь которой не была нежностью – это был акт присвоения, где его чувства и он сам, растворялись в её тревогах. Став взрослым, он воспринимал искренность как угрозу: «Если я позволю ей подойти ближе, она поглотит меня, как когда-то мать».
Что вообще скрывается за «я не готов к отношениям»? Часто это не честность, а крик запертого в клетку внутреннего ребёнка, который боится, что его снова бросят или, будет так же плохо.
Этот паттерн – словно бег по замкнутому кругу, где мужчина мечется между жаждой связи и ужасом перед ней. Близость для него – как открытый океан: манящий и пугающий. Ведь довериться кому-то – значит потерять контроль, а потерять контроль – значит повторить детскую беспомощность. Андрей бежит не от партнёрши, а от тени матери, чья «забота» напоминала тюремную камеру. Её любовь была удушающим одеялом: она решала, с кем ему дружить, какую профессию выбрать, когда жениться. Её тревога превратила его чувства в заложников – и теперь любое проявление нежности со стороны женщины кажется ему началом конца свободы.
Близость с матерью ассоциировалась с потерей себя. Представьте мальчика, выросшего с матерь, которая страдала перепадами настроения, которая то признавалась в любви, то эмоционально исчезала на несколько днея. Его мир стал лотереей: сегодня он «ангел», завтра – чудовище. Став мужчиной, он бессознательно саботирует отношения на пике счастья – ведь мозг запомнил: за близостью последует боль. Он разрывает связи, как только партнёр начинает казаться «слишком идеальным», потому что его нервная система ждёт подвоха. Его нервная система постоянно ждет подвоха, он сам ждет его и ничего с этим сделать не может.
Бегство кажется спасением, потому что есть страх повторения травмы. Не бывает травм во взрослом возрасте, это все ретравматизация, то есть попадание в уже имеющуюся детскую травму. Если в детстве доверие к родителю обернулось предательством (например, развод, эмоциональный абьюз), мозг воспринимает близость как потенциальную катастрофу.
Разорвать отношения первым – всё равно что выпрыгнуть из самолёта до того, как он рухнет. Это даёт ложное чувство власти: «Я не жертва обстоятельств, я сам всё решил». Но цена – вечное одиночество.
Общество романтизирует образ «одинокого волка», который «ни в ком не нуждается». Мужчины, воспитанные на боевиках, где герой теряет семью, но «побеждает зло», усваивают: близость – это балласт. Женщинам же внушают что-то подобное: «Сильная – значит самодостаточная».
Уход в работу – не просто трудоголизм. Это ритуал, где дедлайны становятся щитом от вопросов: «Почему мы так редко видимся?». Трудоголизм – не карьерная амбиция, а ритуал. Как герой фильма «Социальная сеть» Марк Цукерберг, который создавал Facebook, чтобы заполнить пустоту от разрыва с подругой. Ну, хотя неплохо получилось для всех остальных, одобряем.
Измены, тоже характерные при этом паттерне – на самом деле не поиск страсти, а способ доказать себе: «Я не привязан, я свободен». Как в романе «Посторонний» Камю, где герой равнодушно соглашается жениться на Мари, потому что «всё равно безразлично». А мужчина, пустившийся во всякие тяжкие, может трактовать это себе как любвеобильность, присваивая лавры Дон Жуана и продолжая путь увлекательных эротических и романтических приключений, ай нет, не фурор здесь, а страх и побег от близости.
Проявление самосаботажа – провокация ссор, замалчивание важного. Это бессознательный тест: «Если ты уйдёшь после этого, мои страхи оправдаются. Если останешься – может, мир не так опасен?». Саботаж отношений – способ сохранить власть над своим страхом быть брошенным. Однако побег от риска боли обрекает на одиночество. Доверие – это не потеря контроля, а шаг к взаимности.
Если мать видела в сыне не отдельную личность, а продолжение себя, её любовь становилась клеткой. Например, мать после развода в 30 лет, растворилась в сыне полностью: проверяла его переписку, сопровождала, где могла, рыдала, если он задерживался. Теперь ее сын разрывает отношения при первом намёке на серьёзность – его бессознательное кричит: «Беги, Беэмби, беги!».
Мальчик, которого бросил отец или высмеивала мать за слёзы, запоминает: близость = боль. Мужчину, которого отец называл «тряпкой» за что-то в детстве, теперь может избегать глубоких разговоров с женой. Его стратегия: «Лучше я уйду первым, чем она увидит, как я боюсь её потерять».
Спортзал как крепость. Некоторые мужчины заменяют эмоциональную близость физической усталостью, как будто накачанные мышцы защитят от вопросов: «Что ты чувствуешь?». Ну и сюда прибавляется панцирь, уже мышечный, который так же защищает от близости.
Что скрывается за «мне нужно пространство» или «мне нужно побыть одному»? Часто это не потребность в свободе, а панический страх повторения сценария, где его поглотят, как когда-то мать. Например, молодой человек, чья мать-одиночка водила его к психологу в 15 лет из-за «слишком частых прогулок с друзьями», теперь бежит от любой женщины, напоминающей её тревожный голос. Его бегство – попытка сохранить остатки себя, но цена – одиночество.
Как разорвать цикл? Отделить мать от партнёрши, спросить себя: «Я боюсь её или маминых глаз, которые смотрят через неё?». Начать с малого, делиться не страхами, а интересами: «Я люблю старые автомобили» вместо «Я боюсь, что ты меня бросишь». Практиковать «маленькие доверия». Рассказать о незначительном страхе («Я боюсь темноты») и увидеть, что партнёр не смеётся, а берёт за руку.
Перестать путать близость с поглощением. Мать душила своей любовью, но партнёрша – не мать. Стоит дать ей шанс написать новый сценарий: «Я рядом, но ты свободен».
Найти «безопасного свидетеля» – друга, терапевта, наставника – того, кто примет слабости без осуждения.
Искать «якоря» в теле. Дыхательные практики, чтобы снизить тревогу в моменты сближения.
«Мужество – это сопротивление страху, овладение страхом, а не отсутствие страха». – Марк Твен
«Близость – это не когда двое смотрят друг на друга, а когда они смотрят в одном направлении» (Антуан де Сент-Экзюпери).
Следующая глава – о созависимости как форме «спасения», где желание исцелить другого превращается в бегство от себя, но перед этим, я хочу более подробно остановится на роли образа матери в психике мужчины, его влиянии на взрослую жизнь и рассказать про так называемый «материнский комплекс».
Позитивный и негативный материнский комплекс – как формирует мужскую идентичность
Материнский комплекс – это не про саму мать, а про внутренний образ, который человек проносит через всю жизнь. Как отмечал Юнг, он может быть как позитивным (источник поддержки, базового доверия к миру), так и негативным (ловушка долга, вины, бессознательного повторения травм). Разница – в том, какие эмоции и установки закрепляются в психике: «Я достоин любви» или «Я обязан спасать, чтобы быть любимым».
Негативный материнский комплекс: «Когда долг заменяет любовь».
Представьте мальчика, который каждую ночь засыпал под звуки ссор родителей. Его мать, измученная отношением с отцом, обращалась регулярно к сыну: «Ты мой единственный смысл». Он верил, что, если будет хорошо учиться, перестанет плакать и станет «опорой», мама наконец улыбнется. Но её боль была глубже его детских сил. Став взрослым, он продолжает нести этот груз: выбирает женщин, чьи проблемы напоминают материнские, как будто, исправив их, он наконец исцелит ту девочку из прошлого, которая так и не дождалась спасения.
Зачастую, он так же продолжает спасать свою реальную маму, которой ничего уже не угрожает (да и не факт, что тогда угрожало), давно не нужно спасение, но этот паттерн закрепился и всех устраивает, разве что он раздражает молодую жену мужчины, которая видит в этом что-то не очень здоровое, что мешает их семье, ставя отношение с мамой на первое место. И она говорит: «Надо перестать спасать мать», но эта фраза звучит как предательство, особенно для тех, кто с детства слышал: «Ты же мужчина, ты должен защищать маму». Но за этим долгом скрывается ловушка, которая душит не только отношения, но и саму возможность стать собой.
Попытки «спасти мать» – даже если её давно нет в живых – это бег по бесконечному кругу. Вы несете её образ в каждые отношения, в каждое решение. Ваша партнёрша чувствует это: её бунт, её кризисы – неосознанный крик: «Увидь меня, а не её призрак!». Но вы слышите только эхо детского обещания: «Я всё исправлю».
Мать – не проект, который нужно завершить, а человек со своей историей, выбором и правом на ошибки. Её боль, её зависимости, её несчастья – её путь. Вы не могли спасти её тогда, не потому что были слабы, а потому что ребёнок не обязан быть спасателем. Вы не можете спасти её сейчас, даже став взрослым, потому что спасение – миф. Люди меняются только тогда, когда готовы встретиться с собой, а не когда их тащат за руку.
Верните ей право на её жизнь. Скажите мысленно: «Ты страдала, ты ошибалась, ты боролась – это твоя история. Моя – начинается сейчас».
Научитесь отличать любовь от долга. Любить – не значит жертвовать собой. Это значит видеть другого без розовых очков спасителя.
Разрешите себе злиться. Да, злиться на мать, которая возложила на вас ношу, непосильную для ребёнка. Это не предательство – это освобождение.
Мальчик, ставший «опорой» для матери, усваивает: его ценность зависит от способности решать чужие проблемы. Это формирует дисфункциональный паттерн: «Спасательство» как способ быть «достаточным». Он переносит незавершенный сценарий «исцеления матери» на партнёрш, друзей, коллег.
«Слияние вместо близости» – отношения строятся на болезненной зависимости: «Если я не спасу, меня бросят».
«Ненависть к себе за слабость» – даже достигнув успеха, он чувствует себя обманщиком – ведь детская рана («Я не смог сделать маму счастливой») остаётся открытой. Поэтому, успеха он не чувствует, что бы ни делал.
Позитивный материнский комплекс: «Почему это не про идеальную мать».
Речь не о том, была ли мать «хорошей», а о том, как её образ интегрирован в психике. Позитивный комплекс проявляется, когда есть ощущение, базовое чувство, фундамент, «островок безопасности»: «Меня любили не за что-то, а просто так». И его, к сожалению, у многих нет.
Так же важное проявление позитивного материнского комплекса в том, что границы между поколениями не нарушены: мать не перекладывала на сына роль «заместителя мужа» или терапевта.
Мальчик в детстве не боится быть собой, не боится ранить мать, мать для него сильная, стабильная, мудрая. Развивается свобода и привычка быть собой: мужчина не боится, что его автономность ранит мать, а потому умеет строить с женщинами отношения без жертвенности.
Как негативный комплекс деформирует мужскую идентичность:
Мужчина, находящийся под влиянием материнского комплекса, теряет контакт со своими желаниями. Его «я» растворяется в потребностях других («Что я чувствую? Неважно, надо помочь»). Становясь «контейнером» для других, происходит размытие границ, сложности с пониманием себя, социализацией, достижением целей. Повторяются токсичные сценарии, выбираются эмоционально недоступные партнёрши, бессознательно пытаясь «переиграть» детскую травму. Отвергается здоровая мужественность. Настоящая сила – в умении устанавливать границы, брать ответственность за свою жизнь. Но такой мужчина путает силу с гиперконтролем над чужими чувствами.
Что можно сделать с негативным материнским комплексом?
Отделить историю своей матери от своей. «Твоя боль – твоя. Моя жизнь – моя. Моя – начинается сейчас». Это не эгоизм, а честность.
Разрешить себе никого «не спасать». Иногда самое мужественное – сказать: «Я не могу это решить за тебя». Научитесь отличать любовь от долга. Любить – не значит жертвовать собой. Это значит видеть другого без розовых очков спасителя.
Разрешите себе злиться. Да, злиться на мать, которая возложила на вас ношу, непосильную для ребёнка. Это не предательство – это освобождение. Обычно у мужчин с негативным материнским комплексом заблокирована злость, агрессия, от этого возникает много сопутствующих проблем.
Негативный материнский комплекс рушится, когда мы перестаём видеть в матери «богиню, которую нужно ублажить» или «жертву, которую нужно защищать». Она – обычный человек, который, как и все, совершал ошибки. Ваше исцеление начинается не с её изменения, а с простой фразы: «Я больше не участвую в этой игре». И тогда дисфункциональные паттерны теряют власть – ведь вы больше не мальчик с разбитым сердцем, а мужчина, готовый идти своей дорогой.
Мать – как река, которая когда-то увлекла в своём течении. Вы боролись, хватались за берега, пытались изменить её русло. Но теперь пора выйти на сушу. Река продолжит течь – бурно или спокойно, это её выбор. А вы сможете наконец идти своим путём, не чувствуя вины за то, что не остановили воду.
Следующая ловушка: «Перфекционизм в любви» – почему поиск «идеальной» партнёрши превращается в бегство от реальной близости.
4. Созависимость как форма «спасения»
Стремление «исправить» партнёршу с зависимостями или проблемами – попытка исцелить собственное детство. Если вы росли с родителем-алкоголиком или депрессивной матерью, бессознательно ищете похожий сценарий, чтобы наконец «победить» старую боль. Да, конечно, читатель немного знакомый уже понял, что речь идет о созависимости, которая свойственна в основном женщинам, но и в мужских сценариях мы можем это наблюдать, хоть и несколько реже.
Пример:
Алексей, чья мать страдала от депрессии, выбирал женщин в кризисе. Его последние отношения разрушились, когда партнёрша вылечилась – он потерял смысл «спасателя».
Катя, страдала от депрессии, злоупотреблением алкоголем, были сложности с работой. Алексей стал её «терапевтом» и «коучем»: помогал составить резюме, читал статьи, подготавливал к собеседованиям, лечил как мог. Но когда Катя нашла работу и стала втягиваться в процесс, его охватило разочарование и тревога. Он подсознательно саботировал ее деятельность: стал находить негативные моменты, критиковать, провоцировал ссоры, предлагал устроить вечеринку вместо работы. Его бессознательное взбунтовалось: если она больше не в кризисе, кто он? Зачем он? В итоге Катя ушла, назвав его «токсичным», а он остался с горьким пониманием: её исцеление убило его смысл. После разрыва он признался: «Я чувствовал, что становлюсь ненужным».
Игра в «спасителя» маскирует бессилие изменить собственное детство и фокус на чужих проблемах становится побегом от работы над собой, превращая отношения в бесконечный цикл разочарований.
Мужчины, в этом паттерне, ненавидят хаос, который сами поддерживают. Их отношения – это театр, где они играют роль героя, но сценарий пишется их детскими демонами. Здесь мы можем говорить о некоторой созависимости, которую хорошо отражает миф о Сизифе, в котором бесконечное поднятие камня на гору – метафора созависимости. Мужчина толкает «камень» проблем партнёрши, надеясь, что в этот раз он останется на вершине.
Вспомните замечательный фильм «Реквием по мечте», где Гарри, пытающийся спасти мать от зависимости, сам погружается в наркотический ад. Спасение другого зачастую становится саморазрушением. Но давайте признаем, что сначала, он все же побывал в раю, хоть и наркотическом, поэтому, здесь есть несомненные вторичные выгоды.
А Доктор Живаго, влюблённый в Лару, чья жизнь – череда трагедий? Может быть его одержимость ею – бегство от собственной экзистенциальной пустоты?
Культура часто романтизирует таких «спасателей». Вспомните доктора Хауса, который лечит пациентов, игнорируя собственные раны, или героев мелодрам, жертвующих всем ради любимых. Но реальность куда мрачнее. Созависимые отношения – это танец двух травмированных людей: один боится, что его бросят, если он перестанет быть нужным, другой – что его разлюбят, если он станет здоровым. Это порочный круг, где помощь превращается в контроль, а любовь – в сделка: «Я тебя спасу, а ты дашь мне смысл существовать».
Как в детстве Алексей не мог вытащить мать из депрессии, так и во взрослой жизни его попытки «исправить» партнёршу обречены. Её исцеление зависит от неё, а не от его усилий. Его любовь – не безусловный дар, а инвестиция: «Я тебе помог – теперь ты должна меня любить». Но любовь по долгу убивает страсть.
Происходит замена близости контролем, созависимые мужчины путают заботу с надзором. Они требуют отчётов: «Ты приняла таблетки?», «С кем ты переписывалась?» – думая, что это проявление любви. На деле это реплика поведения их тревожных родителей.
Этот паттерн начинается с благородного порыва – желания помочь, спасти, исцелить. Но очень скоро благородство превращается в навязчивую идею, а отношения – в театр военных действий, где мужчина играет роль героя, а его партнёрша – роль жертвы, которую нужно бесконечно вытаскивать из ямы. Алексей, чья мать годами боролась с депрессией, не осознавал, что, выбирая женщин в кризисе, он повторяет сценарий своего детства. Его мать, опустошённая разводом, целыми днями лежала в постели, а он, десятилетний, приносил ей чай и пытался развеселить анекдотами из школы. Тогда он верил, что, если будет достаточно старательным, мама снова станет прежней – весёлой, живой, готовой печь пироги. Но её депрессия оказалась сильнее его детской магии.
Корни этого сценария – в детской беспомощности. Мальчик, выросший с родителем, который тонул в алкоголе, депрессии или ином хаосе, усваивает: любовь – это служение. Его ценность измеряется тем, насколько он полезен. Отец Дениса пил, а мать рыдала в подушку, и к семи годам умел разогревать суп, прятать бутылки и врать учителям: «Папа в командировке» и его хвалили за «взрослость», то эта похвала была ядом. Став мужчиной, он ищет женщин, которых можно «чинить», как чинил отцовский пьяный стул. Его партнёрши бессознательно чувствуют этот запрос – и играют роль сломанных кукол, чтобы удержать его внимание. Рано повзрослевший ребенок, играющий Родителя.
Разорвать этот круг можно, только осознав, что спасти другого человека невозможно – можно лишь пройти путь рядом с ним. Как писал Карл Юнг: «Мы не исцеляемся от травм, мы учимся нести их с достоинством». Для Алексея это означало бы перестать искать в партнёршах отражение матери и начать видеть их реальными людьми – не проекциями своих детских страхов. Для Дениса – признать, что его ценность не в «исправлении» других, а в умении быть собой: не героем, не спасителем, а просто человеком, который имеет право на усталость, сомнения и покой.
«Спасая других, не хорони себя. Мир нуждается не в мучениках, а в тех, кто осмелился стать цельным» (Эрих Фромм).
Как вырваться из роли «спасателя»? Спросить себя: «Я помогаю ей или пытаюсь доказать, что достоин любви?».
Вернуть ответственность. Сказать партнёрше: «Это твой выбор – пить или лечиться. Я могу поддержать, но не буду решать за тебя».
Найти «здоровый» способ значимости. Волонтёрство, менторство, творчество – туда, где помощь не требует разрушения себя. Да и можно пойти учиться на психолога, тоже рядом.
Следующая ловушка: Перфекционизм в любви – почему поиск «идеальной» партнёрши превращается в бегство от реальной близости.
5. Перфекционизм в любви
Убеждение, что партнёр должен соответствовать идеальному образу (внешность, статус, поведение). Часто корнями в родительском посыле: «Ты достоин любви, только если успешен».
Пример:
Дмитрий разорвал отношения, обнаружив, что невеста «недостаточно амбициозна». Позже признался: боялся, что мать осудит его выбор, как в детстве за «не те» оценки.
Этот паттерн напоминает попытку вписать живого человека в прокрустово ложе идеала – отрубая ему части души, чтобы он соответствовал шаблону. Дмитрий, разорвавший отношения из-за «недостаточной амбициозности» невесты, на самом деле бежал не от неё, а от голоса матери, звучавшего в его голове как набат: «Ты что, не достоин лучшего?». Её любовь в детстве была условной валютой: «Пять по математике – я горжусь тобой», «Четвёрка по литературе – ты меня разочаровал». Он вырос, уверенный, что и партнёрша должна быть «отличницей» во всём – карьера, внешность, социальный статус. Её человечность – усталость, сомнения, несовершенства – казались ему досадными помарками в идеальном романе, который он писал для матери, а не для себя.











