Читать онлайн Дар. 12 ключей к внутреннему освобождению и обретению себя
- Автор: Эдит Ева Эгер
- Жанр: Зарубежная психология, Практическая психология, Саморазвитие, Личностный рост
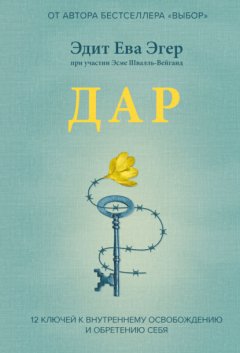
Посвящается моим пациентам. Вы мои учителя. Благодаря вам я нашла в себе смелость вернуться в Аушвиц и начать свой путь к прощению и освобождению. Вы и сегодня воодушевляете меня своей честностью и бесстрашием
Введение. Я научилась выживать в лагерях смерти. Избавление от внутренней несвободы
Весна 1944 года. Мне шестнадцать лет. Я живу с родителями и двумя старшими сестрами в венгерском Кашше. Всюду признаки приближающейся войны, а вокруг нас сжимается кольцо преследований. Мы должны носить желтые звезды обязательно на верхней одежде. Нилашисты, венгерские нацисты, вышвыривают нас из старой квартиры и занимают ее. Газеты сообщают лишь о положении на европейских фронтах и немецкой оккупации. Быстрые взгляды, которыми обмениваются родители, становятся все тревожнее. Гнусный день, когда меня исключают – потому что я еврейка – из олимпийской сборной по гимнастике. И тем не менее я целиком поглощена своими личными делами, ведь я еще совсем юная. В книжном клубе я знакомлюсь с Эриком, и этот высокий, умный, интеллигентный мальчик становится моей первой любовью. Все время прокручиваю в уме наш первый поцелуй. Не могу налюбоваться на новое, из голубого шелка платье – его сшил мне отец. Радуюсь своим успехам в занятиях балетом и гимнастикой. Шучу с красавицей Магдой, нашей старшей сестрой, и Кларой, нашей средней сестрой – скрипачкой, студенткой Будапештской консерватории.
А потом все изменилось.
Одним холодным апрельским утром всех евреев Кашши согнали на окраину города и разместили на старом кирпичном заводе. Через несколько недель Магду, родителей и меня погрузили в вагон для скота и отправили в Аушвиц. В день нашего прибытия в лагерь смерти моих родителей убили в газовых камерах.
В первую ночь в Аушвице я была вынуждена танцевать перед Йозефом Менгеле – заключенные звали его Ангелом Смерти. Перед тем самым офицером СС, который внимательно изучал вновь прибывших, когда мы все проходили селекцию, и который отправил мою мать на смерть. «Танцуй для меня!» – приказал он мне, стоявшей на холодном бетонном полу барака. В ту минуту я оцепенела от страха. Снаружи лагерный оркестр начал играть вальс «На прекрасном голубом Дунае», а мне вспомнились слова матери: Никто не отнимет то, что у тебя в голове. И тогда, закрыв глаза, я ушла в свой внутренний мир, в котором уже не была узницей лагеря смерти – замерзшей, голодной, сломленной, утратившей родных. Я снова стала балериной и исполняла партию Джульетты под музыку Чайковского на сцене Венгерского оперного театра. Хранимая своим воображаемым миром, я велела рукам и ногам двигаться, а телу кружиться. Собрав все силы, я танцевала ради собственного существования.
В Аушвице каждый миг был адом. Земным адом. Но в то же время пребывание там стало для меня самой убедительной школой жизни. Потеряв родителей, испытывая постоянный голод, терпя издевательства, ежеминутно находясь под угрозой смерти, я все-таки сумела выработать нужные средства, чтобы выжить и остаться свободной. Эти найденные когда-то внутренние механизмы продолжают служить мне до сих пор – и в моей работе клинического психолога, и в личной жизни.
Я пишу эти строки осенью 2019 года. Мне уже девяносто два, и более сорока лет я веду терапевтическую практику – с тех пор как в 1978-м получила степень доктора клинической психологии. Мне приходилось иметь дело с самыми разными пациентами: ветеранами войн, студентами, общественными деятелями, руководителями компаний, людьми, пережившими сексуальное насилие, людьми с зависимостями, или тревожным расстройством, или депрессией; парами, запутавшимися во взаимных обидах; парами, желающими вернуть близкие отношения; родителями, которым нужно научиться жить вместе со своими детьми; детьми, которым нужно научиться понимать своих родителей; семьями, которым нужно привыкать к отдельной друг от друга жизни. И, опираясь на свой долгий опыт, я должна заявить, что самой страшной тюрьмой была не та, в которую меня отправили нацисты. Злейшую тюрьму я выстроила для себя сама. Я это говорю вам и как психолог, и как мать, бабушка и прабабушка, и как человек, привыкший следить за собственным поведением, и как специалист, умеющий анализировать поведение других людей, и, наконец, как выжившая после Аушвица.
Несмотря на то что у нас с вами, скорее всего, совсем разные судьбы, вы, вероятно, меня понимаете. Многим из нас знакомо ощущение, будто мы попали в ловушку собственного разума. Наши мысли и убеждения не только определяют, что мы чувствуем, что делаем и на что способны, но часто они, наши мысли и убеждения, и ограничивают нас в наших чувствах, делах и возможностях. За годы работы я обнаружила, что представления, загоняющие нас в ловушку, развиваются и проявляются у каждого индивидуально, но внутренние тюрьмы, заставляющие всех нас страдать, – явление вполне универсальное. Моя книга создавалась как практическое руководство, которое поможет нам определить, что такое внутренняя несвобода, выявить категории собственных тюрем и разработать способы освобождения из них.
В основе свободы лежит право выбора. В последние месяцы войны у меня практически не оставалось вариантов выжить и не было ни одного шанса на побег. Венгерских евреев депортировали в лагеря смерти уже самыми последними среди всех остальных европейских евреев. После восьми месяцев Аушвица меня с моей сестрой и еще сотней других заключенных – незадолго до разгрома немцев русской армией – вывели из концлагеря и отправили маршем через Польшу и Германию в Австрию. На этом пути нас ожидал рабский труд на фабриках, но, кроме того, нас размещали на крышах поездов, перевозивших боеприпасы, – наши тела служили живым щитом, охранявшим груз от британских бомб. (Правда, это не останавливало англичан, и они все равно бомбили немецкие поезда.)
Прошло чуть более года, как мы с сестрой стали узницами Аушвица, и вот в мае 1945-го пришло освобождение. Нас спасли, когда мы находились на территории Австрии, в Гунскирхене – нашем последнем концлагере. К тому времени родителей и почти всех, кого я знала, уже уничтожили. У меня, как потом выяснилось, был переломан позвоночник – сказалось постоянное физическое насилие над телом. Покрытая язвами, в буквальном смысле слова умиравшая от голода, я уже не могла сдвинуться с того места, где лежала среди трупов – трупов людей, которые, так же как и я, болели, голодали, слабели, но чьи тела сдались раньше моего.
Не в моих силах было изменить то, что со мной сделали. Не в моих силах было повлиять на действия нацистов, стремившихся перед близким концом войны уничтожить как можно больше евреев и других «нежелательных элементов», – потому они заталкивали в вагоны для скота, газовые камеры и крематории такое количество людей. Не в моих силах было отменить системное расчеловечивание и планомерное массовое уничтожение целого народа, в результате чего погибло более шести миллионов. Все, что я могла сделать, – это решить, как мне самой реагировать на ужас и безысходность происходящего. Каким-то образом я нашла в себе силы и выбрала надежду.
Но выживание в Аушвице и других местах стало для меня лишь первым этапом освобождения. Многие десятилетия я оставалась заложницей прошлого, хотя со стороны могло показаться, что все у меня складывается хорошо, что я справляюсь со своей травмой и живу дальше. Я вышла замуж за наследника известной и состоятельной семьи в Прешове. Во время войны Бела был партизаном и сражался с нацистами в горных лесах Словакии. Я стала матерью; потом бежала от коммунистов в Европе, иммигрировала в Америку; жила там впроголодь, зарабатывала гроши, но со временем выбралась из нищеты и, когда мне было уже за сорок, поступила в колледж. После его окончания преподавала в средней школе; позже решила вернуться к учебе, чтобы получить степень магистра в области педагогической психологии; затем продолжила образование и получила степень доктора клинической психологии. Перед самым дипломом мне уже доверяли вести собственных пациентов, которым я помогала вылечиваться; в рамках своих клинических исследований я занималась сложнейшими случаями, но при этом все еще пряталась от самой себя: убегала от прошлого, отрицала свое горе и свою травму, занималась самоуничижением; притворялась, стараясь выглядеть идеальной, дабы угодить всем вокруг; винила Белу в своем постоянном недовольстве и разочаровании; гналась за достижениями, будто они могли восполнить мои потери.
Преддипломную клиническую стажировку я проходила в Техасе, на военной базе Форт-Блисс, где находился Медицинский центр сухопутных войск имени Уильяма Бомонта. Чтобы попасть туда, потребовалось выдержать довольно сильную конкуренцию. Однажды, приехав в центр, я, как всегда, надела белый халат, бросив мимолетный взгляд на свой бейдж, но вместо привычной надписи «Доктор Эгер, психиатрическое отделение» увидела совсем другую – «Доктор Эгер, лицемерка». Тогда я поняла, что не смогу оказывать медицинскую психологическую помощь страдающим людям, пока не восстановлюсь сама.
Мой терапевтический подход, эклектический и интуитивный, представляет собой сочетание когнитивно-ориентированных теорий и инсайт-практик. Я называю его терапией выбора, поскольку свобода принципиально связана с альтернативной возможностью. Хотя страдание – явление неизбежное и универсальное, мы всегда можем выбирать, как на него реагировать, поэтому я стремлюсь донести до своих пациентов, что, если они хотят достичь положительных изменений в жизни, у них для этого всегда есть право выбора.
В своей работе я опираюсь на четыре базовых психологических положения.
1. Выученная, или приобретенная, беспомощность – концепция, взятая из позитивной психологии Мартина Селигмана. Мы больше всего страдаем, когда убеждены, что лишены какой-либо силы воздействия на собственную жизнь и что, как бы мы ни поступили, лучше она не станет. И мы расцветаем, когда задействуем так называемый приобретенный оптимизм: силу, жизнестойкость и способность самим задавать значение и направленность своей жизни.
2. Воздействие наших мыслей на наши чувства и поведение – концепция, взятая из когнитивно-поведенческой терапии. Чтобы изменить пагубную, или дисфункциональную, то есть саморазрушительную, модель поведения, мы меняем свой образ мыслей; мы заменяем деструктивные убеждения теми, которые служат нам и помогают нашему росту.
3. Безусловное позитивное отношение к себе – принцип Карла Роджерса, моего научного руководителя, оказавшего на меня огромное влияние. Большая часть наших страданий вызвана ложным представлением, что невозможно быть любимым и одновременно оставаться самим собой, что, если мы хотим заслужить чье-то признание и одобрение, мы должны или скрывать свою истинную природу, или даже отказаться от нее. В своей практике я стараюсь, чтобы мои пациенты сразу и почувствовали, и увидели мое безусловное расположение к ним. Так мне легче доносить до их понимания, что нужно стремиться стать самими собой. Как только люди сбрасывают свои маски, перестают исполнять навязанные им роли, отказываются соответствовать чужим ожиданиям и начинают безоговорочно любить себя, они сразу становятся свободными.
4. Жесточайшие испытания, выпавшие на нашу долю, могут преподносить самые убедительные жизненные уроки. Усваивая их, мы открываем для себя непредвиденные вещи, наполняемся новыми ожиданиями и возможностями. Исцеление, освобождение и самореализация достигаются умением выбирать, как реагировать на то, что преподносит нам жизнь; умением придавать этому нужное значение и извлекать смыслы из пережитого опыта, и в первую очередь из страданий. В своей работе я придерживаюсь этого тезиса, который разделял и Виктор Франкл – мой любимый друг, учитель и собрат, выживший, как и я, в лагерях смерти.
Мы учимся быть свободными всю свою жизнь, так как свобода – это выбор и его нужно делать ежедневно, буквально шаг за шагом. В конечном счете для свободы требуется надежда, которую я определяю следующим образом: во-первых, это осознание, что страдание, даже самое ужасное, – явление временное; во-вторых, это любопытство – желание знать, что произойдет дальше. Надежда позволяет жить не прошлым, а настоящим и отпирать двери наших внутренних тюрем.
Прошло почти семьдесят пять лет после моего освобождения, а я все еще испытываю ночные кошмары. По сей день меня мучает прошлое. Мне суждено до моего смертного часа оплакивать родителей, которым так и не довелось увидеть своих наследников, – все следующие поколения пришли в этот мир из их пепла. Ужас продолжает быть рядом. То, что произошло, нельзя ни преуменьшить, ни стереть – и «обрести свободу» на этом поле уже не получится.
Однако помнить и чтить – отнюдь не означает навсегда застрять в своем прошлом, увязнув по отношению к нему в чувствах вины, стыда, гнева, обиды, страха. Я в состоянии встретиться лицом к лицу с реальностью происшедшего, и я хорошо помню, что никогда не переставала выбирать любовь и надежду, хотя была тогда лишена всего. Испытывая такие мучения, находясь в условиях абсолютного бесправия, я все-таки смогла выработать способность делать свой выбор, и это стало настоящим даром, оставшимся у меня со времен Аушвица.
Наверное, неправильно называть даром что-либо связанное с лагерями смерти. Разве может хоть что-то хорошее исходить из ада? В любой момент меня, вытащив из очереди во время селекции или забрав из барака, могли бросить в газовую камеру – я жила под этим постоянным страхом, как жила под нависшим над лагерем черным дымом, поднимавшимся из труб крематория и ежеминутно напоминавшим, что уже потеряно и с чем предстоит расстаться. Не в моей власти было влиять на эту взбесившуюся реальность. Но я могла сосредоточиться на том, что рождалось в моем сознании. Я не могла противодействовать, но могла погружаться в себя. Аушвиц помог мне обнаружить в себе внутреннюю силу и право на выбор. Я научилась полагаться на те ипостаси себя, существование которых, проживи я другую жизнь, мне никогда не открылось бы.
Во всех нас заложена способность выбирать. Именно тогда, когда не ждешь никакой поддержки со стороны – ни физической, ни моральной, – появляется возможность узнать, кто мы есть на самом деле. Важно не то, каким был наш опыт, а то, как мы отнесемся к нему и как им распорядимся.
Распахиваются двери наших внутренних тюрем, и мы освобождаемся: мы не только свободны от того, что нас там удерживало, но и свободны для другой жизни, то есть теперь мы можем проявить собственную свободную волю. Мне было семнадцать лет, когда я впервые столкнулась с этим феноменом «отрицательной» и «положительной» свободы. Это случилось в мае 1945 года в Гунскирхене в день освобождения. Я лежала в зловонной жиже среди мертвых и умиравших. В лагерь вошли американские солдаты из 71-й пехотной дивизии, они закрывали лица платками, чтобы как-то спастись от зловонного запаха гниющей плоти. Никогда не забуду потрясение и ужас в их глазах. В те первые часы освобождения я наблюдала, как уже бывшие узники – те, кто еще мог передвигаться, – брели вон из лагеря, но через несколько минут возвращались и безучастно садились на сырую траву или грязный барачный пол. В другом лагере смерти такое же явление наблюдал Виктор Франкл. Мы уже перестали быть пленниками, но многие все еще не могли осознать – ни телом, ни умом, – что стали свободными. Каждый из нас был настолько физически истощен болезнями, голодом и страданиями, был настолько психологически травмирован, что уже не мог взять на себя ответственность за свою жизнь. Вряд ли мы даже помнили, кто мы есть на самом деле.
Нас избавили от власти нацистов. Но свободными мы еще не были.
Теперь я понимаю, что самый большой ущерб наносит несвобода, которая гнездится в нашем сознании, но ключ от этой тюрьмы в наших руках. Независимо от того, насколько велики наши страдания или насколько прочны тюремные стены, освободиться возможно от всего, что нас удерживает.
Сделать это не так просто. Но нужно.
В книге «Выбор» я рассказала, как прошла свой путь от заключения до освобождения, а затем до истинной свободы. Я была удивлена и польщена тем, что мою книгу приняли во многих странах мира. И тем более меня радовало, сколько читателей поделились со мной своими историями: с чем им пришлось столкнуться в прошлом и как они работали над собой, чтобы исцелиться от боли. Со многими я поддерживала связь, иногда с кем-то встречаясь лично, иногда переписываясь по электронной почте и в соцсетях, иногда разговаривая по видеосвязи. Какие-то из услышанных воспоминаний я включила в эту книгу. (Имена и другие личные данные изменены для сохранения конфиденциальности.)
Я уже писала в «Выборе», как мне не хочется, чтобы вы, услышав мою историю, говорили себе, что в отличие от моих страданий ваши не так «значительны». Мне хочется, чтобы вы сказали: «Если она смогла так, значит, смогу и я!» Многие просили снабдить их практическим руководством по исцелению, которое вобрало в себя и мой жизненный опыт, и мою работу с пациентами. Книга «Дар» и есть такое руководство.
В каждой главе я исследую одну из типичных тюрем нашего разума, рассматриваю связанные с ней проблемы и ее влияние на нас, иллюстрируя все это историями как из собственной жизни, так и из своей практики. В конце каждой главы приведены ключи к вашему освобождению из этой тюрьмы. Одни ключи содержат такие вопросы, которые вам сначала придется осмыслить на страницах личного дневника, обсудить с надежным другом или даже со своим психотерапевтом; другие ключи представляют собой практические шаги, которые можно предпринять сразу, чтобы прямо сейчас улучшить свою жизнь и отношения. Хотя исцеление – процесс нелинейный, я намеренно структурировала главы в такой последовательности, которая отражает траекторию моего пути к свободе. Тем не менее главы можно читать и по отдельности, и в любом порядке. Я рекомендую использовать эту книгу так, как будет удобнее и лучше для вас, поскольку вы сами выстраиваете свой путь.
Кроме того, я предлагаю рассмотреть три отправных ориентира, которые укажут вам путь к свободе.
Мы не изменимся, пока сами не будем готовы к переменам. Иногда на это толкает какое-нибудь тяжелое обстоятельство – развод, несчастный случай, болезнь, смерть, – вынуждающее нас произвести переоценку ценностей и найти другую точку опоры. Иногда душевная боль или неудовлетворенное желание настолько сильны и настойчиво заявляют о себе, что мы больше ни минуты не можем их игнорировать. Готовность к переменам никогда не появляется извне, ее нельзя ни форсировать, ни вызывать искусственно. Мы готовы, когда будем готовы, когда внутри что-то сдвинется с места и мы решим, что до этого момента делали так, но теперь начнем поступать иначе.
Перемены начинаются, когда мы избавляемся от изживших себя привычек и порываем с уже ненужными жизненными шаблонами. Если хотите осмысленно изменить свою жизнь, вы не просто отказываетесь от дисфункциональных привычек и убеждений – вы заменяете их здоровыми и конструктивными. Находите свой указатель маршрута и следуете ему. Ступая на этот путь, постарайтесь вникнуть, что вы хотели бы быть свободными не только от чего-то, но и ради чего-то – ради того, чтобы что-то совершить и кем-то стать.
И наконец, когда мы меняем свою жизнь, это не означает, что мы превращаемся в нового человека. Мы делаем это, чтобы стать по-настоящему собой – в своем роде единственными, как тот бриллиант, что невозможно ни повторить, ни заменить другим. Все, что с нами происходило до сих пор: все решения, которые мы принимали, все способы, к которым прибегали, чтобы справиться с жизнью, – все имеет значение, все идет нам на пользу. Не нужно избавляться от всего разом и начинать с нуля. Что бы мы ни совершали, все вело нас в будущее, все подводило к этому моменту.
Основной ключ к свободе – стремиться стать тем, кем мы являемся на самом деле, стать собою подлинным.
Глава 1. И что теперь? В плену собственной жертвенности
Судя по моему опыту, жертвы задаются вопросом: «Почему я?» – а выжившие спрашивают себя: «И что теперь?»
Страдание – явление универсальное. Но совсем не обязательно жить с психологией жертвы. Обычно нет никакого способа избежать притеснения от других и физического вреда, причиняемого людьми или обстоятельствами. Единственная предоставляемая нам гарантия – это то, что мы будем испытывать боль. Причем независимо от того, насколько мы добросовестны и усердны в жизни и работе. На нас будут влиять как факторы внешней среды, так и наследственные, но мы над ними или почти, или совсем невластны. Однако каждый из нас принимает решение, чувствовать ли ему себя жертвой или нет. Нас лишают какого-либо выбора, когда совершают над нами зло, но как нам реагировать на случившееся – это мы можем выбирать сами.
Многие из нас остаются в плену собственного сознания жертвы, потому что на подсознательном уровне чувствуют, что так безопаснее. Мы снова и снова спрашиваем себя почему, веря, что боль станет меньше, если найдем причину. Почему у меня рак? Почему я потерял работу? Почему мой партнер мне изменяет? Мы ищем ответы, пытаемся понять – будто существует логическое объяснение, почему все случилось так, как случилось. Но, спрашивая почему, мы погрязаем в поисках чего-то или кого-то, чтобы только найти виновных, включая даже самих себя.
Почему это случилось со мною?
А почему, собственно, не с тобою?
Возможно, я попала в Аушвиц и избежала гибели в лагерях смерти, чтобы сейчас разговаривать с вами, чтобы вся моя жизнь явилась примером, как стать не жертвой, а выжившим. Когда я задаюсь вопросом «И что теперь?» вместо «Почему это случилось со мной?», я не замыкаюсь на поиске, по какой причине беда произошла или происходит сейчас со мной, а концентрирую внимание на том, как мне распорядиться приобретенным опытом. Я не ищу ни спасителя, ни козла отпущения. Вместо этого я начинаю рассматривать возможности и варианты действий.
У моих родителей не было выбора в том, как закончится их жизнь. Однако в моем распоряжении вариантов много. Могу мучиться виной, что осталась в живых, тогда как многие миллионы, в том числе мои мать и отец, погибли. Могу, напротив, освободиться от власти прошлого, выбрав полноценную жизнь, работу и исцеление. Могу принять свою силу и освоить свою свободу.
Виктимность, или психология жертвы, приводит к трупному окоченению сознания. Ваш рассудок вязнет в прошлом, его заклинивает на боли, он застревает на утратах и дефиците: чего вы не можете сделать и чего у вас нет.
Первое средство выбраться из состояния жертвы – обратиться к тому, что совершается в вашей жизни, и осторожно это принять. Совсем не обязательно, что происходящее вам понравится. Но если перестанете воевать с собой и противодействовать себе, у вас появятся силы, чтобы отправиться дальше, а не топтаться на одном месте. Ваше воображение станет богаче, и вы сможете наконец выяснить, как ответить на вопрос: «И что теперь?» Сможете обнаружить, что вы хотите, в чем нуждаетесь именно сейчас и в какую сторону собираетесь отныне двигаться.
Каждая модель поведения отвечает тем или иным потребностям. Многие предпочитают оставаться в образе жертвы, поскольку это дает им лицензию на право ничего не предпринимать самостоятельно. Свобода имеет определенную цену. Мы призваны отвечать за собственное поведение – и брать на себя ответственность даже за те случаи, которые мы не инициировали и сами не выбирали.
Жизнь полна сюрпризов.
За несколько недель до Рождества Эмили – сорокадвухлетняя мать двоих детей, одиннадцать лет состоящая в счастливом браке, – уложила детей спать и села рядом с мужем. Она уже было собралась предложить ему посмотреть вместе фильм, когда он взглянул на нее и спокойно произнес слова, которые перевернут ее жизнь.
– Я встретил женщину… – сказал он. – Мы любим друг друга. Думаю, нам нужно с тобой расстаться.
Это абсолютно выбило Эмили из колеи. Она не представляла, как жить дальше. Но ее ждал еще один сюрприз. У нее обнаружили рак груди – довольно большую опухоль, что требовало немедленной агрессивной химиотерапии. В первые недели лечения Эмили будто парализовало. Муж на все месяцы лечения отложил разговоры о разводе, но Эмили пребывала в оцепенении.
– Моя жизнь, казалось, подошла к концу, – говорила она мне, – я думала, что умираю.
Наша беседа случилась через восемь месяцев, как был поставлен диагноз. Эмили только недавно прооперировали и сообщили еще одну неожиданную новость: у нее наступила полная ремиссия.
– Врачи совершенно этого не ожидали, – сказала она. – Произошло настоящее чудо.
Рак ушел. Но ушел и муж. Когда химиотерапия закончилась, он сказал ей, что все уже решил. Снял квартиру и хотел развода.
– Я была так напугана, – говорила мне Эмили. – Собралась умирать, а теперь нужно научиться жить.
Ее многое мучило: тревога за детей, боль предательства, беспокойство о финансовом положении, безграничное одиночество – она будто сорвалась с обрыва.
– Мне все еще трудно сказать своей жизни «да», – призналась она.
Развод воплотил в жизнь самый страшный ее кошмар: глубоко укоренившийся страх оказаться покинутой – он преследовал Эмили с четырех лет, когда у ее матери началась клиническая депрессия. Отец Эмили хранил полное молчание и просто каждый день уходил на работу, оставляя дочь один на один с больным человеком. Когда позже мать покончила с собой, Эмили окончательно утвердилась в своем понимании жизни – понимании, которое старалась гнать от себя, – что люди, которых ты любишь, исчезают.
– С тех пор как мне исполнилось пятнадцать, у меня все время с кем-то были отношения, – говорила она. – Я так и не научилась быть счастливой сама по себе, наедине с собой, так и не научилась любить себя.
Ее голос срывается на словах любить себя.
Как я часто повторяю, нам нужно дать своим детям одновременно корни и крылья. То же самое мы должны сделать для себя. Единственный, кто у вас есть навсегда, – это вы сами. Каждый из нас рождается в одиночку. Каждый из нас умирает в одиночку. Начните с того, что утром вы встанете, подойдете к зеркалу и заглянете себе в глаза. Затем скажите своему отражению: «Я тебя люблю». Скажите: «Я тебя никогда не брошу». Обнимите себя. Поцелуйте себя. Попробуйте! Делайте это как можно чаще в течение дня. Делайте это день за днем.
– Но как мне вести себя с мужем? – спросила Эмили. – Когда мы встречаемся, он выглядит уравновешенным и держит себя совершенно непринужденно. Он вполне доволен принятым решением. А я не в состоянии сдерживать свои чувства. Начинаю плакать. Не могу себя контролировать, когда вижу его.
– Сможете, если захотите, – сказала я ей. – Но вы должны сами хотеть – заставить вас это сделать не в моих силах. Такой возможности у меня просто нет. А у вас есть. Примите это решение. Вы можете хотеть кричать и плакать. Но не поддавайтесь этому желанию, если от него вам не будет лучше.
Иногда довольно лишь одной фразы: «Хорошо ли это для меня?» – чтобы найти для себя выход и перестать ощущать себя жертвой.
Хорошо ли для меня, если я буду спать с женатым мужчиной? Хорошо ли мне будет, если я съем кусок шоколадного торта? Что хорошего для меня в том, что я колочу кулаком в грудь изменяющего мне мужа? Будет ли мне хорошо, если я пойду танцевать? Хорошо ли для меня помочь другу? Меня это опустошит или придаст силы?
Еще одно средство выбраться из состояния жертвы – научиться справляться с одиночеством. Многие из нас боятся этого больше всего на свете. Но если вы полюбите себя, то жить одному перестанет для вас означать «быть одиноким».
– Полюбите себя, и это будет на пользу и вашим детям, – сказала я Эмили. – Если они видят, что вы никогда не предадите самоё себя, им будет понятно, что вы и их никогда не покинете. Вы здесь, с ними. Тогда они смогут жить своей жизнью, что намного лучше, чем если вы все время беспокоились бы о них, а они беспокоились бы о вас. Все только и делают, что беспокоятся и беспокоятся друг о друге. И детям, и самой себе вы говорите: «Я здесь. Я тебя поддерживаю». Так вы дадите и им, и себе то, чего не было у вас, – здравомыслящую мать.
Когда мы научимся любить себя, то постепенно начнут заживляться и дыры в наших сердцах – те зияющие пустоты, которые, казалось, уже ничем не заполнишь. Мир открывается нам самым неожиданным образом, и теперь мы сумеем сказать: «Вот оно что! Раньше так даже не виделось». Я поинтересовалась у Эмили, что она смогла открыть для себя за последние восемь месяцев душевного кризиса. Ее лицо просияло.
– Я обнаружила, что вокруг меня полно замечательных людей: родственники, друзья, кто-то совсем незнакомые раньше и ставшие за время химиотерапии моими друзьями. Когда врач сказал, что у меня рак, я подумала, что жизнь кончена. Но я познакомилась со столькими людьми с таким же диагнозом. Узнала, что могу бороться, что я сильная. Чтобы понять это, потребовалось сорок пять лет жизни, но какая удача, что сейчас я это знаю. Моя новая жизнь уже начинается.
Каждый из нас – даже в самых чудовищных обстоятельствах – может найти в себе силы и обрести внутреннюю свободу. Душа моя, вы здесь главная, поэтому берите все в свои руки и принимайте ответственность на себя. Хватит сидеть на кухне этакой Золушкой и ждать своего принца – непонятно какого парня, да еще с явно выраженным нездоровым влечением к женским туфелькам. Нет никаких принцев, и принцесс тоже нет. В вас самих заложены необходимые вам любовь и сила. Поэтому советую просто составить список желаний: какую жизнь хотите прожить, чего хотите добиться, какого партнера хотите иметь. Советую выглядеть сногсшибательно всякий раз, как выходите из дома. Советую выбрать группу поддержки, где люди, которые стараются преодолеть такие же трудности, заботятся друг о друге и где вы сможете отдавать себя чему-то большему, чем лишь собственным интересам. И вот тогда проявите любопытство. И что теперь? Что дальше? Чем все это обернется?
Наше сознание виртуозно находит всевозможные способы самозащиты. Соблазнительно почувствовать себя жертвой, когда случается какое-то горе; образ жертвы – это как щит, поскольку предполагается, что, пока мы чувствуем себя невиновными и ведем себя безупречно, мы сумеем избежать сильной боли. Пока Эмили идентифицировала себя как жертву, она могла перекладывать всю вину и ответственность за свое благополучие на бывшего мужа. Психология жертвы дает обманчивую отсрочку, откладывая и тем самым задерживая наш рост. Чем дольше мы задерживаемся в этом состоянии, тем труднее из него выбраться.
– Вы не жертва, – сказала я Эмили. – Жертва – это не то, кто вы есть, а то, что с вами сделали.
Мы можем быть серьезно ранены и в то же время понимать свою ответственность. Быть одновременно ответственными и безвинными. Мы можем отказаться от сознания жертвы с его вторичной выгодой ради роста, исцеления и движения вперед – всего того, что дает первичную выгоду.
Возможность продолжать жить дальше – главная причина, почему нам необходимо избавляться от психологии жертвы. Барбара как раз вступила на путь преодоления, когда обратилась ко мне через год после смерти своей матери. Для шестидесяти четырех лет выглядела она довольно молодо: у нее были гладкая кожа и светлые мелированные волосы. Но ее большие голубые глаза, полные печали, говорили о каком-то тяжелом душевном грузе.
Скорбь Барбары была сложной, поскольку отношения с матерью были нелегкими. Требовательная, любившая все контролировать, мать уделяла слишком пристальное внимание проблемам дочери, начиная с плохих отметок и заканчивая ее размолвками, таким образом она только подогревала неверие Барбары в собственные силы, и так считавшей себя неполноценной, беспомощной и неспособной чего-либо добиваться в жизни. Все это напрямую укрепляло жертвенное состояние Барбары. В некотором смысле для нее оказалось облегчением перестать ощущать критическое и довольно уродливое отношение к себе матери. Но на душе было тревожно и неприкаянно. Из-за недавней травмы спины она перестала ходить на любимую работу в местном кафе; по ночам ей было трудно уснуть, в голове роились всякие мысли. Неужели мое время вышло? В чем я была не права? Что я сделала, чтобы обо мне помнили? Каков итог моей жизни?
– Мне грустно, тревожно, у меня нет чувства уверенности, – сказала она. – Никак не обрету душевного покоя.
Я заметила, что чаще всего такое случается с женщинами средних лет, потерявшими матерей. Неразрешенные конфликты продолжают жить, а смерть родителя еще сильнее заставляет чувствовать, что завершения отношений уже никогда не будет.
– Вы освободили свою маму от прошлого? – спросила я.
Барбара покачала головой. Глаза наполнились слезами.
Слезы – это хорошо. Значит, вас буквально пронимает какая-то важная и очень личная правда. Если заданный вопрос вызывает у людей слезы, считайте, затронут обнаженный нерв. Мы с ней обе натолкнулись на что-то очень важное. Однако момент освобождения столь же уязвим, сколь и глубок. Я придвинулась ближе, наклонилась к ней – без спешки, вся внимание.
Барбара вытерла слезы, сделала глубокий вдох и прерывисто выдохнула.
– Я хочу вас кое о чем спросить, – сказала она. – Есть одно воспоминание детства, я постоянно прокручиваю его в голове.
Я попросила, чтобы она, когда будет рассказывать о том случае, описывала его с закрытыми глазами и в настоящем времени, как будто это происходит сейчас.
– Мне три года, – начала она. – Мы все на кухне. Отец завтракает. Мама нависла надо мной и моим старшим братом. Она злится. Ставит нас с братом рядом друг с другом и спрашивает, кого мы любим больше – ее или отца. Отец смотрит на все это и начинает плакать. «Не делай этого. Не надо так с детьми», – говорит он. Мне хочется сказать, что больше всех я люблю своего папу, хочется поддержать его, сесть к нему на колени, обнять. Но я не могу. Если скажу, что больше люблю его, то разозлю маму. Нарвусь на большие неприятности. Именно поэтому говорю, что маму люблю больше. А теперь…
Ее голос срывается, по щекам катятся слезы.
– Теперь жалею, что не могу забрать свои слова обратно.
– Вы отлично справились с проблемой выживания, – сказала я. – Вы были сообразительной малышкой. Сделали то, что должны были сделать, чтобы спастись в той ситуации.
– Тогда почему так больно? – спросила она. – Почему я не могу просто забыть об этом?
– Потому что та маленькая девочка не знает, что сейчас она в безопасности. Отведите меня к ней на кухню, – попросила я. – И опишите, что видите.
Барбара описала окно, выходившее на задний двор, желтые цветы на ручках дверцы шкафа; отметила, что ее глаза находились на высоте циферблата духовки.
– Поговорите с этой маленькой девочкой. Узнайте, как она себя чувствует.
– Я люблю папу. Но не могу этого сказать.
– Вы бессильны.
Снова по ее щекам потекли к подбородку слезы. Она вытерла их и закрыла лицо руками.
– Тогда вы были ребенком, – сказала я. – Сейчас вы взрослая. Подойдите к этой прелестной, ни на кого не похожей маленькой девочке. Будьте теперь ей матерью. Возьмите ее за руку и скажите: «Я заберу тебя отсюда».
Глаза Барбары все еще были закрыты. Она покачивалась из стороны в сторону.
– Держите ее руку, – продолжала я. – Пройдите с ней вверх по улице, поверните за угол. Скажите малышке: «Ты больше не застряла в том месте».
Часто еще детьми мы оказываемся в плену виктимности, и, даже когда становимся взрослыми, психология жертвы продолжает держать нас в том беспомощном состоянии, которое мы испытывали в своем детстве. Мы можем освободить себя из этой тюрьмы, если поможем живущему в нашей памяти ребенку почувствовать себя в безопасности и позволим ему воспринимать мир с независимостью зрелого человека.
Я продолжала направлять Барбару. Попросила не отпускать руку маленькой травмированной девочки. Пойти с ней на прогулку. Показать цветы в парке. Побаловать ее и окружить любовью. Купить ей мороженое в рожке или мягкого плюшевого мишку, которого она сможет крепко обнять, – дать ей то, что тогда, в далеком прошлом, она хотела бы больше всего, чтобы чувствовать себя в безопасности.
– А потом отведите ее на пляж, – сказала я. – Пните ногой песок. Попросите ее сделать так же. Объясните ей: «Я с тобой, и сейчас мы будем вместе злиться». Попинайте песок вместе с ней. Вопите, кричите. Затем приведите ее домой. Не на старую родительскую кухню, с которой все началось, а туда, где вы сейчас живете, – в то место, где вы всегда сможете быть рядом и заботиться о ней.
Барбара продолжала сидеть с закрытыми глазами, рот и щеки были уже не так напряжены. Но глубокая, почти суровая, морщина все еще залегала между бровями.
– Маленькая девочка застряла на той кухне, ее нужно было оттуда вытащить, – сказала я. – Вы спасли ее.
Она медленно кивнула, но морщина не разгладилась.
Однако работа не заканчивалась девочкой на старой кухне. Оставались другие, кого надо было спасать.
– Вы нужны вашей матери, – сказала я. – Она по-прежнему стоит там, на кухне. Откройте для нее дверь. Скажите, что пришло время вам обеим стать свободными.
Барбара представила, как она подходит сначала к отцу – он все еще молча сидит за кухонным столом, по лицу его текут слезы – целует в лоб и говорит о своей любви, которую не могла показывать, когда была ребенком. Затем подходит к матери. Кладет руку ей на плечо, смотрит в ее беспокойные глаза и кивает в сторону открытой двери, за которой с того места, где они стоят, виден клочок зеленой лужайки.
Когда Барбара открыла глаза, ее лицо и плечи будто стали немного расслабленнее.
– Спасибо, – сказала она.
Освобождая самих себя от сознания жертвы, мы таким образом освобождаем и других людей от тех ролей, на которые мы их назначали в течение своей жизни.
Несколько месяцев назад я поехала с лекциями в Европу и попросила дочь Одри сопровождать меня. Во время той поездки у меня появился шанс испытать описанный выше механизм освобождения на себе. Когда Одри была школьницей и готовилась к юношеским олимпийским соревнованиям по плаванию – а это и подъемы в пять утра, и упорные тренировки, и позеленевшие от постоянного контакта с хлоркой волосы, – обычно на соревнования по Техасу и Юго-Западу ее возил отец. Так нам с мужем удавалось совмещать и работу, и семейную жизнь с тремя детьми – мы с Белой были партнерами и делили все обязанности поровну. Но столь разумный подход имел и обратную сторону: каждый из нас что-то упускал в общении с нашими девочками и сыном. Поездка вдвоем с Одри уже не восполнит того времени, которое мы так и не провели вместе в ее детстве и юности. Однако сама идея казалась мне верным способом укрепить наши отношения. Кроме всего прочего, теперь я нуждалась в сопровождении!
Мы поехали в Нидерланды, оттуда в Швейцарию, где с большим энтузиазмом поедали пирожные «Наполеон», такие же вкусные и нежнейшие, как те, что мне украдкой приносил отец, когда вечером приходил домой из бильярдной. Мне уже не раз приходилось возвращаться в Европу после войны и эмиграции, но нынешняя поездка стала для меня особенно целительной, поскольку я оказалась там – в непосредственной близости от своего детства и своего лагерного опыта – вместе с моей прекрасной дочерью и смогла разделить с ней как молчание, так и беседу. Одри рассказала мне о своих планах освоить новую деятельность и вести занятия по преодолению горя и развитию лидерских качеств. Однажды вечером я выступала в Лозанне, в Международном институте управленческого развития – одной из самых престижных школ бизнеса, аудитория была заполнена руководителями ведущих компаний мира. Когда я закончила свою речь, вдруг пришел вопрос, сильно озадачивший меня: «Каково это – путешествовать с Одри?»
Я подыскивала подходящие слова, чтобы точнее передать, насколько особенной стала для меня эта поездка. Пришлось начать с замечания, что довольно часто средний ребенок в семье бывает обделен вниманием. Маленькая Одри росла в основном под присмотром Марианны, своей старшей сестры. Все мое время уходило на их младшего брата; я возила Джона по врачам, так как меня очень беспокоила его задержка в развитии, которую никто не мог диагностировать, и я постоянно искала подходящие методы коррекции и в самом Эль-Пасо, и даже в Балтиморе. Позже Джон окончил Техасский университет, войдя в десятку лучших выпускников; он стал признанным общественным деятелем и сегодня занимается защитой прав людей с ограниченными возможностями. Я бесконечно благодарна всем, кто давал мне возможность лечить сына и оказывать ему столь необходимую поддержку. Но я всегда чувствовала свою вину: за то, что мое внимание было поглощено особыми потребностями Джона, а это, конечно, сказывалось на детстве Одри; за то, что у Марианны и Одри была такая разница в возрасте – целых шесть лет; за то, что бремя собственной травмы я взвалила и на своих детей тоже. Трудно говорить о таких вещах публично, без подготовки, перед незнакомыми людьми, но тогда я испытала своего рода катарсис. Признание вины и просьба о прощении принесли мне явное облегчение.
На следующее утро, когда мы уже были в аэропорту, Одри решительно заявила:
– Мама, рассказ обо мне необходимо изменить. Я не считаю себя жертвой. Я просто требую, чтобы ты перестала видеть во мне жертву.
От немедленного желания начать оправдываться, чтобы защититься, я почувствовала себя очень неуютно. Мне казалось, что вчера я создала портрет дочери как человека, сумевшего выстоять, а отнюдь не как жертвы. Однако она была совершенно права. В попытке снять с себя вину я отвела Одри роль заброшенного ребенка. Да и всех нас я выставила в каких-то ролях: я стала обидчицей, Одри – жертвой, Марианна – спасительницей. (В другой, более ранней версии той же истории я назначала Джона жертвой, себя определяла как спасительницу, а Бела, на которого я в те годы очень злилась, был обидчиком.) В семьях, как и во взаимоотношениях, роль жертвы часто переходит от одного к другому и обратно. Но не бывает жертвы без преследующего лица. Когда мы остаемся жертвой или назначаем на эту роль еще кого-то, мы только усугубляем и закрепляем наносимый вред. Вспоминая о недостатке внимания с нашей, родительской, стороны к Одри в ее детские годы, я говорила о своей сосредоточенности на том, чего дочь была лишена, и таким образом как бы отказывала ей в способности противостоять, то есть воспринимать любой опыт как возможность духовного роста. Культивируя в себе комплекс вины, я сама себя загнала в эту ловушку и оказалась в ее плену.
С реальной возможностью смены восприятия себя я столкнулась впервые в Медицинском центре сухопутных войск имени Уильяма Бомонта, когда проходила там стажировку в середине 1970-х годов. Я увидела на практике, как можно преодолеть в себе состояние жертвы и занять позицию победителя. Однажды мне дали вести двух новых пациентов, оба были ветеранами вьетнамской войны, у обоих паралич нижних конечностей и одинаковые повреждения нижней части спинного мозга, оба вряд ли смогут снова ходить. У них один и тот же диагноз и одинаковые прогнозы. Первый пациент часами лежал на кровати в позе эмбриона, в ярости проклиная Бога и страну. Второй пациент предпочитал выбираться из кровати и проводил время, сидя в инвалидном кресле.
– Сейчас я все вижу иначе, – сказал он мне. – Вчера меня навещали мои дети, и, что любопытно, сидя в этой инвалидной коляске, я теперь могу вглядываться в их глаза.
Он отнюдь не был счастлив, что стал инвалидом, что обречен на эту коляску, что у него полное нарушение сексуальной функции, что едва ли ему придется бегать наперегонки со своим сыном и танцевать со своей дочерью на ее свадьбе. Но он увидел, что травма открыла перед ним новые перспективы. И пациент смог выбрать: отнестись к своему увечью как к лишению, положившему предел его физическим возможностям, либо принять это ранение как новый источник духовного роста.
Более сорока лет спустя моя старшая дочь оказалась перед похожим выбором. Весной 2018 года Марианна и ее муж Роб путешествовали по Италии. Она споткнулась на каменных ступенях, упала, ударившись головой, что привело к черепно-мозговой травме. Две недели мы не знали, выживет ли она. А если выживет, то какой она станет? Сможет ли говорить? Вспомнит ли своих детей, своих чудных внуков, Роба, сестру, брата, меня? В течение тех невыносимых дней, когда ее жизнь висела на волоске, я постоянно трогала свой браслет в виде соединяющихся друг с другом квадратиков из двух видов золота – браслет, который Бела подарил мне в день рождения Марианны. Когда в 1949 году мы бежали из Чехословакии, я тайно провезла его в подгузнике дочери. С тех пор я ношу браслет каждый день как талисман жизни и любви, возникающих даже в разрушении и смерти, как напоминание, что можно выжить вопреки всему.
Для меня нет более тяжелого чувства, чем страх, смешанный с бессилием. Страдания Марианны приводили меня в ужас, я была раздавлена мыслью, что мы можем потерять ее и что с этим ничего нельзя сделать – ничего определенного. Ни вылечить, ни предотвратить худшее. Страх возрастал, и я произносила ее венгерское имя: «Марчука, Марчука», шептала его как молитву, медленно и по слогам. Я поняла, что делаю сейчас то, что когда-то сделала в Аушвице во время исполнения танца перед Йозефом Менгеле. Ушла в себя. Силой воображения создала собственное убежище – место, охраняющее мой дух среди хаоса опасности и неизвестности.
Каким-то чудом Марианна выжила. Она не знала, что было после падения, – первые недели выпали из ее памяти. Возможно, она тоже ушла в себя. Благодаря качественной медицинской помощи, собственным внутренним ресурсам и постоянной поддержке мужа и близких – кто-то из семьи обязательно находился с нею – Марианне удалось постепенно восстановить физиологические и когнитивные функции, вспомнить имена детей. Первое время у нее наблюдалось нарушение вкуса, и еще ей было трудно глотать. Я безостановочно готовила для нее, так как хотела накормить ее всем, что она любила. Однажды Марианна попросила толченую картошку по-чешски, то есть приготовленную с квашеной капустой и домашней брынзой, – еда, которую я, когда была беременной ею, всегда хотела и больше всего ела! Увидев, как она ее попробовала и как улыбнулась, я в глубине души сразу почувствовала, что с ней все будет в порядке.
Всего за полтора года Марианна полностью восстановилась, она живет и работает так же, как и до травмы, – с прежней силой, страстью и творческой активностью.
Хотя она не могла держать под контролем весь процесс выздоровления, многие его моменты в принципе были труднообъяснимы, а какие-то вообще скорее относились к вопросам удачи, я уверена, что правильный подход, выбранный самой Марианной, тоже сыграл свою роль в ее лечении. Если ваше здоровье находится в уязвимом состоянии и практически исчерпан запас внутренних сил, особенно важно, как вы распределяете свое время. Марианна сразу взяла курс на выживание: она концентрировала внимание лишь на том, что помогает ей идти на поправку, внимательно прислушивалась к своему телу, чтобы знать, когда оно нуждается в отдыхе, испытывала благодарность за свое выздоровление и не боялась выражать ее всем тем людям, кто лечил и поддерживал ее. И сейчас, просыпаясь каждое утро, Марианна сразу начинает думать, как правильнее организовать свой день: какие дела ее ждут сегодня; когда лучше выполнить реабилитационные упражнения; над каким проектом ей хотелось бы подумать; как выбрать время для ухода за собой.
Одного правильного отношения недостаточно. Ориентируясь лишь на смену образа мыслей, вы не избавитесь от своих невзгод и не станете вдруг здоровым человеком. Однако, безусловно, на наше физическое состояние влияет то, как мы организуем свое время и как расходуем умственную энергию. Если мы сопротивляемся самим себе и помогающим нам людям, если постоянно сетуем, через что нам пришлось пройти, мы явно тратим свои силы не на то, чтобы выздороветь и развиваться дальше. На самом деле лучше признать то ужасное, что происходит, и поискать способы, как с этим удобнее уживаться.
Правильность этого утверждения становится очевидна, когда человек сталкивается во время выздоровления с рецидивами или осложнениями. Травмы головного мозга обычно имеют длительные последствия: пациенты еще долго не могут делать многие вещи так же легко и ловко, как раньше. По сегодня Марианна упорно работает над восстановлением нейронных связей головного мозга. Она быстро утомляется при ходьбе и, если долго стоит на одном месте, испытывает трудности, когда требуется подобрать нужное слово. Не считая временной амнезии после травмы – те первые несколько недель лечения, которые выпали из ее сознания, – память дочери не пострадала. Но иногда ей бывает тяжело вспомнить название страны, где она была, или овоща, который нужно купить на рынке. Пришлось подобрать и освоить новые методы, чтобы делать то, что раньше не требовало никаких усилий. Когда она готовится к выступлению, ей недостаточно просто набросать несколько основных тезисов, поскольку она уже не может полагаться на себя, что быстро выстроит в уме все нужные связи, как это было раньше, до травмы. Теперь ей нужно записывать речь целиком, не опуская ни одного слова, учитывая каждый логический переход, все семантические и лексические нюансы.
Любопытно, что какие-то вещи она делает с большей ловкостью и изобретательностью. Марианна была превосходной хозяйкой и всегда вкусно готовила; какое-то время она даже вела кулинарную колонку в одной из газет Сан-Диего. После падения ей пришлось заново постигать азы кулинарии. В процессе обучения она начала придумывать свои рецепты и менять старые способы готовки. Сейчас они с Робом живут на Манхэттене, но летние месяцы стараются проводить в Ла-Хойе, где живу я. Прошлым летом ей захотелось приготовить холодный вишневый суп, какой она делала однажды к званому обеду в Нью-Йорке. Она накупила кислой вишни, проштудировала две старые венгерские поваренные книги, но в итоге все сделала по-своему: приготовила суп сразу холодным, вместо того чтобы сначала варить его, а потом остужать, и добавила в него разные другие фрукты. Вероятно, не появись у нее после травмы привычки адаптировать окружающий мир под себя, она приготовила бы суп по старому рецепту. Марианна часто прибегает к практике переосмысления – этого от нее требует ее новая реальность – и поэтому постоянно открывает для себя что-то новое. Суп, кстати, получился вкусный!
Иногда по ее глазам я вижу, как бывает утомительно и досадно прилагать столько усилий для совершения действий, раньше дававшихся естественным образом. Но при этом Марианна твердо настроена осваивать новые возможности.
– Забавно, – сказала она мне, – но я чувствую, будто моя интеллектуальная жизнь наполняется совсем другим содержанием. По правде сказать, это довольно необычно и захватывающе!
И лицо ее сияло, как в детстве, когда она училась читать.
Такой опыт не редкость для людей, переживших подобные травмы. Невропатолог Марианны говорит, что многие его пациенты, никогда ранее не обладавшие художественными способностями, после серьезных повреждений головного мозга вдруг обнаруживают в себе умение рисовать и писать картины – и делают это на удивление хорошо. Данный феномен как-то связан с нарушением и последующей перенастройкой нейронных путей мозга, благодаря чему у выживших после травмы формируются новые привычки и умения. По этой причине люди открывают в себе неожиданные способности и даже таланты, которых у них раньше не было или о которых они не знали.
Какое прекрасное напоминание о том, что любое страшное событие, способное нарушить ход нашей жизни, стать препятствием на нашем пути, может также послужить катализатором процесса освобождения нашей личности. Такого рода события и вещи следует воспринимать как средства, которые открывают нам новые способы существования и действия, наделяют новым видением.
Вот почему я говорю, что в каждом кризисе есть своя поворотная точка. С нами случаются ужасные вещи, происходят страшные события – все это причиняет нам адскую боль. Но если мы переживем свой катастрофический опыт, нам тем самым дается шанс перестроить свою жизнь и решить, чего мы от нее хотим. Когда мы принимаем сознательное решение перестать прятаться и уходить в себя, когда начинаем открыто реагировать на случившееся с тем, чтобы двигаться дальше и открывать для себя новые возможности, тогда мы и освобождаемся из плена виктимности.
Что было тогда и что сейчас
Вспомните эпизод из детства или юности, когда вы ощутили душевную боль от чьих-то поступков или слов – серьезных или даже незначительных. Постарайтесь думать о конкретном случае, не пытайтесь воссоздать в памяти общее впечатление от тех отношений или того жизненного периода. Представьте тот момент так, будто вы его переживаете заново. Восстановите сенсорные детали, погрузитесь в свои ощущения – образы, звуки, запахи, вкусы, физическое восприятие. Затем представьте там, в прошлом, себя нынешнего. Визуализируйте, как вы, нынешний, входите в тот эпизод в прошлом, берете себя маленького за руку и уводите из того места, где вам было так больно. Уведите себя из того прошлого. Скажите себе маленькому: «Я здесь, я с тобой. Я буду заботиться о тебе».
В каждом кризисе есть своя поворотная точка
Напишите письмо причинившему вам боль человеку или опишите для себя ту ситуацию, которая вас ранила, – неважно, было ли это недавно или в далеком прошлом. Изложите конкретно, что сделал вам тот человек, или предельно четко обрисуйте, что произошло и почему та ситуация вам так не понравилась. Формулируйте все непредвзято – так, как оно было. Объясните, каким образом те действия, слова или события повлияли на вас. После этого напишите второе письмо тому же человеку или о той же ситуации, но на сей раз это будет благодарственное письмо, в котором вы выразите признательность за то, что поступок того человека помог вам лучше узнать себя, или за то, что те события способствовали вашему духовному росту. Смысл второго письма не в том, чтобы притворяться и лгать – якобы вам и дела нет до причиненного ущерба, – и не в том, чтобы заставлять себя искусственно радоваться тому, что когда-то причиняло вам боль. Напротив, признайте, что случившееся с вами – это плохое и болезненное явление в вашей жизни. Но обязательно отметьте целительное воздействие той поворотной точки, от которой началась перемена в вашем мировоззрении: когда вы перестали судить о своей жизни с точки зрения бессильной жертвы и увидели ее с точки зрения победившего и сильного человека.
Используйте освобождение во благо себе
Сделайте карту желаний – визуальное воплощение того, что вы хотите создать и чего хотите достичь в своей жизни. Вырезайте из разных журналов и старых календарей подходящие рисунки, фотографии, слова – нет никаких правил, просто выбирайте то, что вас привлекает и отвечает вашим мыслям. Прикрепляйте изображения и тексты на плотную бумагу или картон. Потом посмотрите, что из этого начнет вырисовываться, какие будут возникать связи и закономерности. Создавать коллаж, отражающий ваши мечты и цели, намного интереснее в компании близких друзей (и не забудьте запастись большим количеством вкусной еды!). Поместите карту желаний в удобное место, чтобы вы могли разглядывать ее каждый день и при случае дополнять. Пусть это нехитрое наглядное пособие станет вам ориентиром – указателем вашего дальнейшего маршрута.
Глава 2. В Аушвице антидепрессантов не было. В плену избегания
Однажды, когда мы еще ютились в нашей маленькой балтиморской квартире, пятилетняя Марианна вернулась из детского сада с пылающим лицом и заплаканными глазами. Ее не пригласили на день рождения – и сердце девочки было разбито. Я не знала, как реагировать на ее горе. Не понимала, что значит позволить ей проявить собственные чувства. В те дни я еще пребывала в состоянии полного отрицания своего прошлого. Я никогда ни с кем не говорила об Аушвице. Мои дети до определенного времени даже не догадывались, что я была одной из выживших, пока Марианна, уже будучи ученицей средней школы, не нашла дома книгу о холокосте. Она предъявила отцу фотографии живых и мертвых скелетоподобных людей и заявила, что хочет знать, какая такая ужасная катастрофа обрекла столько народа на смерть за колючей проволокой. У меня все разрывалось внутри, когда Бела рассказал ей, что ее мать тоже была узницей Аушвица, и я надолго спряталась в ванной. Я не знала, как теперь буду смотреть в глаза дочери.
В тот день, когда маленькая Марианна пришла домой в слезах, от ее печали мне стало грустно и неловко. Я молча взяла дочь за руку, отвела на кухню, дала ей шоколадный молочный коктейль и отрезала большой кусок венгерского семислойного шоколадного торта. То было моим надежным средством – заесть душевную боль чем-то сладким. Залечить свой дискомфорт едой. Еда стала моим ответом на все. (Особенно шоколад. И особенно венгерский шоколад на сливочном масле. Но только на несоленом. Никогда не добавляйте соль в масло, если готовите что-то по-венгерски!)
Мы только калечим своих детей, когда отводим от них беду и оберегаем от страданий, но я тогда этого не понимала. Мы учим их, что чувства бывают дурными, бывают пугающими. Между тем чувство не может быть ни хорошим, ни плохим. Чувство – это только чувство. Есть мои чувства, есть ваши чувства – и всё. Мы поступим разумно, если не будем даже пробовать утешать, отговаривать, просить не падать духом людей, обуреваемых сильными чувствами. Гораздо лучше, когда у человека есть возможность дать волю чувствам, а вам, вам надо всего лишь побыть рядом с ним и спокойно попросить: «Расскажи мне обо всем». И постарайтесь удержаться от желания сказать сакраментальное: «Я знаю, что ты сейчас чувствуешь». Именно это я и говорила своим детям, когда они бывали огорчены из-за того, что кто-то их поддразнивал или не брал в свою компанию. Не повторяйте моих ошибок. Поскольку это вранье. Вы не можете знать, что чувствует другой человек. Все, что случилось с ним, происходит не с вами. Если хотите проявить чуткость и понимание, не делайте вид, будто его внутренний мир представляет для вас открытую книгу. Это не ваша жизнь, а чужая – не лишайте человека его собственного опыта, не сажайте его на цепь.
Своим пациентам я часто напоминаю, что экспрессия представляет собой прямую противоположность депрессии.
При этом яркое проявление эмоций, то есть свободное самовыражение, не делает из вас больного человека. Напротив, подавленное состояние, когда все дурные мысли скапливаются внутри вас, – это настоящая болезнь.
Недавно я разговаривала с прекрасным человеком, который служит детским защитником в системе патронажного воспитания Канады. В частности, он учит ребят открыто проявлять переживания по поводу их безрадостной жизни: беззащитности, уязвимости, потери семьи, – кстати, многие из них не знали своих родителей с самого рождения. Я поинтересовалась, что привело его к такому методу работы с детьми, и он пересказал краткий разговор со своим умиравшим от рака отцом. «Как ты думаешь, откуда у тебя рак?» – спросил сын. «Потому что я так и не научился плакать», – ответил отец.
У каждого человека существует потенциальная возможность быть здоровым или стать больным – на последнее влияет множество факторов. Скорее всего, мы сами тоже наносим себе немалый вред, когда среди причин своих болезней и душевных травм ищем собственную вину. Но одно я с уверенностью могу сказать: если мы не позволяем себе внешнего проявления эмоций, если приучаем себя подавлять сильные чувства, то все, что мы держим «при себе», влияет на обмен веществ в организме – а это приводит к патологии клеток и расстройству нервной системы. В Венгрии говорят: «Не вдыхай в себя собственную злость». Привычка сдерживать свои чувства и хранить их взаперти может обернуться для человека опасными вещами.
Попытки оградить себя от собственных чувств, желание защитить других от их сильных эмоций – в конечном счете это никогда не срабатывает. Кто из нас с малых лет не приучен отказываться от своих внутренних откликов на какие-то явления, то есть, иначе говоря, отрекаться от самого себя – себя подлинного. Ребенок приходит домой и заявляет: «Ненавижу школу!» И что он слышит в ответ? «Ненависть – слишком сильное чувство», «Не произноси этого слова ненавижу», «Ну не может же быть все так плохо» – вот что обычно говорят родители. Ребенок падает и обдирает коленку, а взрослые утешают: «Все хорошо, ты в порядке!» Движимые первым желанием поддержать ребенка, дать ему собраться духом, помочь перенастроиться или оправиться от боли как телесной, так и душевной, заботливые взрослые, как правило, совершают две ошибки. Они или слишком преуменьшают значение того, что переживает ребенок, или – совсем непреднамеренно – дают ребенку понять, что одни чувства испытывать можно, а другие – недопустимо. Порою замечания взрослых скорее напоминают приказы и отличаются откровенной бестактностью: «Успокойся!», «Возьми себя в руки!», «Не обращай внимания!», «Да ты у нас плакса!»
В первую очередь дети учатся, наблюдая за нами: что мы делаем и как поступаем. Но они редко прислушиваются к нашим назиданиям. Если домашняя атмосфера, созданная взрослыми, такова, что не разрешается выражать свою злость или гнев вымещается довольно травматическим для других способом, дети в такой семье быстро усваивают: иметь сильные чувства непозволительно, а иногда эти чувства и небезопасны.
Многие привыкают лишь реагировать – реагировать, но не отзываться на происходящее. Нас чаще учили прогонять свои эмоции – подавлять, залечивать таблетками, прятаться от них.
Один из моих пациентов – врач, подсевший на сильнодействующие рецептурные препараты, – как-то раз позвонил мне рано утром: «Доктор Эгер, я вдруг понял прошлой ночью, что ведь в Аушвице не было никакого [антидепрессанта] прозака». Понадобилось некоторое время, чтобы переварить услышанное. Необходимо четко разграничивать, когда люди от тоски забрасывают в себя таблетки и когда нуждаются в приеме необходимых лекарств, потенциально способных спасти их жизни. Но врач верно подметил. Хотя сам, чтобы избавиться от переживаний, обратился к внешним подпоркам в виде наркотических средств, в которых совершенно не нуждался.
Ничто извне не попадало в Аушвиц. У нас не было ни единого средства помочь себе стать бесчувственными, притупить боль, избавиться от страданий хоть на какое-то время, забыться и стереть из памяти реальность мучений, голода и неминуемой смерти. Нам оставалось лишь стать хорошими наблюдателями: внимательно следить за каждым своим шагом и точно оценивать происходящее. Мы должны были научиться просто быть.
Но я не помню, чтобы когда-нибудь плакала в лагерях. Я была слишком занята выживанием. Чувства пришли позже. И когда они пришли, я еще долгие-долгие годы умудрялась избегать их и прятать глубоко в себе.
Невозможно исцелить то, чего не чувствуешь.
Как специалиста по посттравматическому стрессовому расстройству, имеющего долгую, постоянную практику лечения американских военных, меня пригласили работать в комиссию по делам военнопленных. Каждый раз, когда я приезжала в Вашингтон по делам комиссии, кто-нибудь обязательно да спрашивал, посетила ли я уже Мемориальный музей холокоста. У меня был опыт возвращения в Аушвиц, я стояла на той земле, где когда-то меня разлучили с отцом и матерью, – под тем небом, которое приняло моих родителей, когда их плоть стала дымом. Зачем мне ходить в музей, где мне будут рассказывать об Аушвице и других лагерях смерти что-то вроде «был там, сделал это»? Что нового мне там скажут? Приблизительно так я и думала.
Прошло шесть лет моей работы в комиссии, и все шесть лет я не стремилась переступать порог музея. Но вот однажды утром сижу я в нашем конференц-зале за столом красного дерева, мое имя выгравировано на стоящей передо мной маленькой табличке, и меня вдруг осеняет. Я осознаю, что было тогда и там и что есть сейчас и здесь. Я доктор Эгер. Я выбралась.
Пока я обходила стороной Мемориальный музей, пока убеждала себя, что не нужно мне вновь сталкиваться с прошлым, поскольку я уже преодолела его, – видимо, какая-то часть меня все еще оставалась там, в лагерях смерти. Часть меня еще не стала свободной.
Именно поэтому, собрав всю свою волю, я пошла в музей. Как я и боялась, это оказалось мучительно. Меня переполняли чувства, и я едва могла дышать, когда увидела фотографии платформы, на которую в мае 1944 года в Аушвиц прибывали поезда. Потом я подошла к вагону для скота. То была точная копия старого немецкого железнодорожного вагона, который был предназначен для перевозки домашней скотины, но в котором перевозили нас. Посетители могли забраться внутрь и оценить, насколько это место было темным и тесным; почувствовать, каково было здесь находиться, когда людей набивали так плотно, что приходилось сидеть друг на друге; вообразить, как на сотни людей могло быть одно ведро для воды и одно ведро для испражнений; представить, как мы ехали и день и ночь без остановок и единственной едой была буханка черствого хлеба, выдаваемая на восемь, а порой на десять заключенных. Перед входом в вагон я застыла, словно парализованная. За мной толпились люди, молча и с почтением ожидавшие, когда я зайду внутрь. Тянулись долгие минуты, а я не могла это сделать; мне понадобились все силы, чтобы заставить себя поднять сначала одну ногу, потом вторую и втиснуться в узкую дверь.
Внутри вагона меня охватил ужас, и на минуту показалось, что сейчас начнется рвота. Я сжалась в комок, вспоминая те последние дни, когда видела родителей живыми. Неумолимый стук колес на путях. Тогда мне было шестнадцать, я не знала, что мы едем в Аушвиц. Не знала, что скоро и мать и отец будут убиты. В дороге нужно было выдержать все лишения и неопределенность. Но почему-то те переживания, казалось, было проще переносить, чем теперь заново. На этот раз мне пришлось прочувствовать все. На этот раз я плакала. Я потеряла счет времени, сидя в темноте со своей болью, почти не замечая, как другие посетители входили, стояли рядом со мной и шли дальше. Я просидела там, наверное, час или два.
Когда я наконец вышла, то почувствовала себя иначе. Стало чуть легче. Пришло чувство опустошенности. Мои горе и страх никуда не делись. Я от всего вздрагивала: от свастики, глядевшей на меня с каждой фотографии; от застывших глаз офицера СС, стоявшего на страже. Но, вернувшись в прошлое, я позволила себе проявить чувства, от которых столько лет бежала.
Есть много веских причин, почему мы избегаем своих чувств: одни вызывают душевный дискомфорт; другие кажутся нам ошибочными, и мы думаем, что не должны их испытывать; некоторых мы боимся, поскольку они могут ранить близких нам людей. И есть чувства, пугающие нас тем, что они могут означать, – они могут рассказать о выборе, который мы сделали или который собираемся совершить.
Но пока вы избегаете своих чувств, вы отрицаете реальность. И если вы попытаетесь от чего-то отгородиться и скажете себе: «Не хочу об этом думать», я гарантирую, что вы будете думать именно об этом. Так что пригласите свое чувство войти в вашу жизнь и побудьте с ним. После чего решите, как долго вы собираетесь его удерживать. Ведь вы не просто маленькое, хрупкое существо. Нужно уметь смотреть в лицо любой реальности, чтобы наконец перестать сражаться и прятаться. Помните, что чувство – это только чувство, а не ваша сущность.
В одном сельском районе Канады шестнадцать лет назад сентябрьским утром Кэролайн только-только запустила стирку и хотела насладиться тихим днем, одиночеством и тишиной в доме, когда в дверь постучали. Из окна она увидела, что это Майкл, двоюродный брат мужа. Майкл был ее ровесником – слегка за сорок. Большая часть его жизни была связана с преступным миром: кражи, мелкое хулиганство, злоупотребление наркотиками, – и теперь он наконец был готов получить второй шанс. Недавно он съехался со своей девушкой, но продолжал чувствовать себя членом семьи Кэролайн и ее мужа – семьи, которая его приютила, поддержала в желании измениться, обеспечила работой и стабильной домашней обстановкой. Он и сейчас оставался неотъемлемой частью их жизни, полностью своим человеком, которому во всем можно доверять, любил проводить время в семейном кругу Кэролайн, кузена и трех мальчиков, часто оставаясь на ужин.
Несмотря на то что Майкл был ей дорог и она всегда заботилась о нем, на секунду Кэролайн подумала, не притвориться ли, что ее нет дома. Муж уехал, мальчики, ее пасынки, снова пошли в школу после летних каникул, и ей не хотелось, чтобы приход Майкла помешал ее планам. С одной стороны, это было ее первое утро за три месяца, которое она могла провести в блаженном одиночестве. Но с другой – это был Майкл, родственник, которого она любила, который любил ее и полагался на нее и их семью. Кэролайн открыла дверь и пригласила его зайти и выпить кофе.
– У ребят сегодня начались занятия в школе, – завела она непринужденный разговор, ставя кружки и сливки на стол.
– Я знаю.
– Том тоже на несколько дней уехал.
В этот момент он достал пистолет. Приставил к ее голове и велел лечь на пол. Она встала на колени рядом с холодильником.
– Что ты делаешь? – сказала она. – Майкл, что ты делаешь?
Она слышала, как он расстегивает ремень и молнию на джинсах.
В горле пересохло. Бешено колотилось сердце. В колледже Кэролайн проходила курс самообороны и сейчас судорожно подбирала нужные слова, которые обычно учат произносить, если кто-то нападет на вас. Обращаться к нему по имени. Обязательно вспомнить о семье. Она не переставая говорила, каким-то образом сохраняя уверенный и спокойный голос, – о родителях Майкла, детях, отдыхе с семьей, о любимых им местах для рыбалки.
– Ладно, не буду тебя насиловать, – наконец сказал он.
Его голос звучал так бесцеремонно и небрежно, как будто он говорил: «Пожалуй, я все-таки откажусь от кофе».
Но он продолжал держать пистолет у ее головы. Она не видела его лица. Он под кайфом? Что ему нужно? Похоже, он все спланировал заранее, зная, что она будет дома одна. Неужели он собирается их грабить?
– Бери все что хочешь, – сказала она. – Ты знаешь, где что лежит. Забирай, бери все.
– Ну да. Так я и сделаю.
Она почувствовала какое-то движение с его стороны, будто он собирался отойти от нее. Затем он снова замер, сильно прижав ствол к ее голове.
– Не знаю и зачем я это делаю, – сказал он.
И комнату наполнил какой-то странный звук – голова Кэролайн взорвалась от обжигающей боли, в висках сильно запульсировала кровь.
Следующее, что Кэролайн могла помнить, – как она начала приходить в себя. Она не знала, как долго лежала без сознания на кухонном полу. Ничего не видела – вокруг одна темнота. Пробовала встать, но поскольку лежала в луже крови, то скользила в ней, теряла равновесие и снова валилась на пол. Она услышала шаги на подвальной лестнице.
– Майкл?! Помоги мне!
Кэролайн позвала его рефлекторно – понятно, что молить о помощи человека, только что стрелявшего в нее, не было никакого смысла. Но все-таки он был членом семьи. Да и просить больше было некого.
– Майкл?! – снова позвала она.
Раздался новый выстрел. Вторая пуля вошла ей в затылок.
На этот раз она не теряла сознания. Но притворилась мертвой. Кэролайн лежала на полу, стараясь не дышать. Слышала, как Майкл ходит по дому. Она ждала и ждала, и ее тело лежало совершенно неподвижно. Хлопнула задняя дверь. Кэролайн продолжала лежать на полу. Возможно, он решил ее проверить, обмануть, дождаться, когда она встанет, чтобы выстрелить в нее снова. Сильнее боли, сильнее страха в ней была ярость. Как он посмел сделать с ней такое? Как он мог оставить ее лежать умирающей, чтобы дети нашли ее такой, вернувшись из школы? Будь она проклята, если позволит себе умереть, не сказав никому, кто это сотворил с ней. Она сделает все, чтобы его взяли под стражу, прежде чем он навредит кому-то еще.
В конце концов в доме воцарилась полная тишина. Она открыла глаза, но ничего не видела. Пули повредили что-то в ее мозгу или задели зрительный нерв. Кое-как она проползла через кухню и подтянулась к столу, попробовав на ощупь найти телефон. Она нашла трубку, но, когда попыталась поднять ее, та все время выскальзывала из рук. Ей все-таки удалось удержать ее, и тут Кэролайн поняла, что не сможет увидеть цифры и набрать номер. Она стала тыкать наугад, уронила телефон, подняла, попробовала еще раз. Но ничего не получалось.
Кэролайн сдалась и медленно поползла, не зная куда, не в состоянии думать, что ей делать. Время от времени она видела свет сквозь пелену слепоты и в конце концов, ориентируясь на эти проблески, смогла добраться до входной двери и выбраться наружу. Их дом стоял на очень большом участке, и вряд ли даже ближайшие соседи могли услышать ее крики. Ей придется ползти дальше за помощью. Она проползла вдоль подъездной дороги и двинулась дальше по дороге на своем участке, не переставая кричать. Кэролайн поняла, что кто-то ее заметил, когда услышала душераздирающий женский вопль – кричали, как в фильмах ужасов. Вскоре прибежали люди. Кто-то крикнул, чтобы вызвали скорую. Она различала голоса соседей, но те, похоже, не понимали, кто перед ними. Кэролайн поняла, что лицо было слишком изуродовано и разорвано, поэтому ее никто не узнавал. Она быстро заговорила, выпаливая детали: полное имя Майкла, цвет его машины, примерное время, когда он пришел к ней домой, – все, что только могла вспомнить. Возможно, другого шанса не будет.
– Позвоните родным моего мужа, – задыхаясь, сказала она. – Пусть убедятся, что мальчики в школе и с ними все в порядке. Скажите Тому и мальчикам, что я их люблю.
Позже Кэролайн узнала, что и ее родители, и родители мужа, и ее пасынки – все приходили в больницу с ней прощаться. Узнала, что ее свекор вызвал католического священника, а ее мать привела англиканского. Узнала, что католический священник провел отпевание.
Недели спустя, когда Кэролайн уже жила в доме свекрови, где восстанавливалась после операции, он навестил ее.
– Никогда не видел тех, кто вернулся, – сказал ей католический священник.
– Откуда я вернулась? – спросила она.
– Дорогая моя, вы уже практически умерли на операционном столе.
И правда, это настоящее чудо, что Кэролайн выжила.
Но те, кто пережил травму и начал новую жизнь, знают, что остаться в живых – это лишь выиграть первую битву.
Насилие оставляет длинный и страшный след. Кэролайн обратилась ко мне за помощью за пару месяцев до условно-досрочного освобождения Майкла. Прошло почти шестнадцать лет, как он стрелял в нее, но психологические раны были еще свежи.
– По телевизору нам показывают разные истории, как какой-нибудь человек, получивший травму, возвращается домой, – говорит она мне. – И люди окружают его заботой: «Мы отвезем его домой, сделаем так, чтобы он был в безопасности, чтобы жил дальше». А я, когда вижу такой сюжет, смотрю на мужа и говорю: «Если бы они могли знать…» Только из-за того, что ты выжил, только потому, что возвращаешься домой, – жизнь не становится сразу лучше, как по волшебству. Каждому, кто перенес травму, предстоит пройти еще долгий путь.
У Кэролайн – как и у меня – некоторые остаточные последствия травмы имеют физиологический характер. Когда у нее спал отек мозга, полная слепота постепенно отступила, но по-прежнему наблюдаются нарушения верхнего, нижнего и периферического зрения. Она плохо слышит. Нарушена иннервация[1] предплечий и кистей рук. Когда она нервничает, ее мозг и тело как будто не сообщаются. Иногда она не чувствует ни нижних, ни верхних конечностей и не владеет ими.
Преступление сказалось на моральном здоровье ее семьи и всего сообщества в их районе. И семья Кэролайн, и их соседи были вынуждены столкнуться с фактом, что зло совершено близким человеком, родственником, соседом, другом, – это повлекло сильнейший кризис доверия, от которого пострадали все. Долгое время младший пасынок Кэролайн, которому было восемь, когда случилось несчастье, не оставлял ее одну в комнате. Каждый раз она пыталась убедить его пойти к братьям или остальным членам семьи, но он отвечал: «Нет, я останусь с тобой. Я знаю, ты не любишь быть одна». Когда она уже могла ходить, водить и обрела некоторую независимость, ее стал опекать старший пасынок: он везде сопровождал ее, окружал заботой, следил, чтобы она не ушиблась. Средний пасынок, опасаясь, что причинит ей боль, еще долго боялся обнимать ее и даже прикасаться к ней.
Кэролайн рассказывала, что, в то время как некоторые друзья и близкие, помогая ей справляться с травмой, проявляли чрезмерную заботливость, другие, напротив, старались преуменьшить значимость случившегося.
– Людям часто становится неловко об этом узнавать, – объясняла она. – Они не хотят об этом говорить. Они думают, что если не будут упоминать о страшном, то оно быстрее забудется. Все уже в прошлом, все уже сделано, и надо жить дальше. Знаете, как они называют то, что случилось со мной? Это для них «несчастный случай». Но я не наткнулась на пистолет, и он не выстрелил сам, случайно! Люди просто избегают оперировать такими понятиями, как «преступление» и «стрельба».
Даже свекор Кэролайн и дядя Майкла – человек, видевший, в каком она была состоянии сразу после ранений; человек, взявший в свой дом на три-четыре месяца всю семью сына и опекавший невестку, когда она не могла ничего делать самостоятельно, – даже он заявил соседям и знакомым: «Она вернулась к нормальной жизни, она уже стопроцентно в норме».
– Серьезно? В норме? Ты что, издеваешься? – отреагировала Кэролайн с горькой усмешкой.
Однако свекор сам верил своим словам, и эта вера поддерживала его.
Сейчас, конечно, во многом жизнь наладилась. Мальчики стали мужчинами, женились, у них появились свои дети. Кэролайн и ее муж живут в США. Они спрятались от мести Майкла в другой стране, их защищает, как они думают, государственная граница. Действительно, шансы выследить их и свести с ними счеты за то, что Кэролайн свидетельствовала против него, у Майкла ничтожны – они почти невероятны. Но страх, ее страх, никуда не делся.
– Он был членом нашей семьи, – объясняла мне Кэролайн. – Он жил в нашем доме. Мы во всем ему доверяли. А последнее, что я от него услышала: «Не знаю и зачем я это делаю»?! Если он – член семьи – не знал, почему убивает жену своего брата, то где гарантия, что не придет кто-то другой и не захочет – просто так, без всякой причины – причинить мне боль?
По словам Кэролайн, она до сих пор живет в постоянном страхе и ожидании, что кто-то завершит начатое Майклом. Не выходит на улицу, не ухаживает за садом, так как боится, что к ней могут подойти незаметно сзади, – хотя раньше очень любила гулять и заниматься цветами. Даже в собственном доме Кэролайн всегда настороже, она не передвигается по нему без тревожной кнопки – на нее быстро жмешь, когда кто-то вламывается в твое жилье. Жизнь останавливается, если Кэролайн случайно где-то ее забывает, – она всегда должна держать эту кнопку при себе.
– Какое-то время я пыталась жить в том доме, где он в меня стрелял, – рассказывает она. – Я и мысли допустить не могла, что позволю ему отнять у меня мой дом. Я собиралась вернуться в него.
Но было слишком страшно и больно жить там, где она чуть не погибла. Они уехали далеко – в благополучное и дружелюбное место на юге США; они живут рядом с красивым озером, где по выходным катаются на лодке. И даже сейчас она живет в страхе.
– Шестнадцать лет существовать в таком состоянии – это не жизнь, – сказала она.
Она чувствовала себя пленницей прошлого и отчаянно хотела освободиться.
Пока мы беседовали, я успела разглядеть в ней человека полного любви, силы и решимости. Для себя я отметила, что выстраиваются четыре схемы поведения, удерживающие Кэролайн в прошлом, в плену ее страха.
Прежде всего она растрачивала много энергии, пытаясь изменить свои чувства, то есть убеждала себя чувствовать совсем не то, что испытывала на самом деле.
– Я везунчик, – заявила она. – Меня судьба хранит, я знаю! Я жива. Меня окружают любящие люди.
– Да! – говорю я. – Все так. Но не пытайтесь подбадривать себя искусственно, когда вам грустно. Не поможет. Вы лишь начнете обвинять себя, что вам не становится так хорошо, как должно быть. Попробуйте вместо этого другое. Примите свои чувства. Горечь. Страх. Печаль. Просто признайте свое право так чувствовать. И хватит думать о чужом мнении. Перестаньте заботиться о том, одобряет вас кто-то или нет. Люди, даже самые близкие, не проживут за вас вашу жизнь. И чувствовать за вас они тоже не могут.
Помимо того что Кэролайн подавляла в себе печаль и страх, убеждая себя, что не испытывает их, она пыталась оградить от своих переживаний и всех окружающих. Люди, которые нас любят, желают для нас лучшего. Они не хотят, чтобы мы страдали. Именно поэтому всегда есть соблазн показывать им ту версию себя, которую они хотят видеть. Но когда мы отрицаем или преуменьшаем свои чувства, они возвращаются бумерангом.
Кэролайн рассказала, что после того, как в нее стреляли, они с мужем завели собаку. И все годы у них обязательно жили собаки – одна за другой. Но когда умер их последний пес, муж сказал, что ему нужно время, прежде чем они возьмут нового щенка. Он не понимал, что для Кэролайн было необходимо присутствие собаки в доме, – это давало ей чувство уверенности и обеспечивало ее безопасность.
– Я так злилась. Но не могла ему об этом сказать. Логично было бы объяснить: «Я боюсь оставаться одна, без собаки». Но я этого не сделала. Думаю, он бы понял, но я не хотела, чтобы он знал, что у меня страх все еще так силен. Не знаю почему.
Я сказала ей, что так она оберегала его от беспокойства. От чувства вины. Но, не подпуская его к своим проблемам, она обделяла его. Отказывала ему в возможности защитить ее.
Кэролайн сказала, что так же поступала с пасынками.
– Думаю, они не догадывались, в какой я оказалась ловушке. Я старалась не показывать им этого.
– Но вы живете во лжи. В собственной семье вы не можете быть самой собой. Вы лишаете себя возможности быть свободной. И своих родных тоже. Ваша линия поведения и то, как вы боретесь со своими сложными эмоциями, стали новой проблемой.
Ограждая близких людей от своих переживаний, Кэролайн таким образом избегала нести за них ответственность.
И пока страх продолжал брать верх над ней, она наделяла Майкла и связанное с ним прошлое слишком большой властью.
– Мы с мужем были женаты всего три года, как это случилось, – рассказывала она. – Мы только-только становились семьей, его ребята уже принимали меня как свою новую мать, впереди была новая прекрасная жизнь. И Майкл все отнял.
Ее подбородок напрягся. Она сжала руки в кулаки.
– Отнял?
– Он напал на меня. Пришел ко мне в дом с пистолетом. Всадил мне в голову две пули и бросил умирать.
– Да, у него было оружие. Да, вы сделали то, что и должны были сделать, чтобы выжить. Но никто не может отнять ваш внутренний мир и вашу ответственность за себя. Зачем вы наделяете этого человека такой властью над собой?
Кэролайн стала жертвой чудовищного преступления. И жертвой ее сделали самым безжалостным и жестоким образом. Она имела полное право чувствовать что угодно по этому поводу: гнев, злость, страх, скорбь. Майкл едва не лишил ее жизни. Но произошло это шестнадцать лет назад. Даже когда его выпустили условно-досрочно, он представлял собой лишь весьма отдаленную угрозу, поскольку их разделяла государственная граница, у него не было права на выезд и в любом случае он не смог бы ее найти. И тем не менее Кэролайн, прочно укоренив его в своем сознании, тратила на мысли о нем уйму сил. Пора было избавляться от этого. Пора было проявить свой гнев и выплеснуть его вон из себя, чтобы он перестал наконец отравлять ее душу и ее жизнь.
Я попросила ее мысленно посадить Майкла на стул, связать его и начать избивать. И обязательно орать на него, выкрикивая что-то вроде «Как ты мог так со мной поступить?!». Распалить свой гнев и дать ему выход. Прокричать его.
Кэролайн сказала, что очень боится это делать.
– В своей жизни вы уже усвоили, что такое страх. Хотя, когда появились на свет, понятия о нем не имели. Не позволяйте страху захватить ваш мир. Любовь и страх не могут уживаться. Хватит! На жизнь в страхе у вас нет времени.
– Если я дам волю своей злости и начну бить его от души, то даже от стула, на котором он сидит, ничего не останется.
– Он был больным человеком. У больных людей больное сознание. И как долго вы намерены терпеть, чтобы такой человек навязывал вам условия вашей жизни? Выбор за вами.
– Не хочу больше бояться, не хочу больше испытывать такую грусть, – сказала она. – Мне одиноко. Я от всего спряталась, не завожу новых друзей, не начинаю новых дел. Чувствую себя запертой в самой себе. Лицо всегда замкнуто, с единственным выражением тревоги и вечно поджатыми губами. Все время нахожусь в напряжении. Подозреваю, что мой муж хотел бы вернуть ту счастливую женщину, на которой когда-то женился. И я сама











