Читать онлайн Мамина любовь
- Автор: Наталья Истомина
- Жанр: Общая психология, Здоровье, Прикладная литература
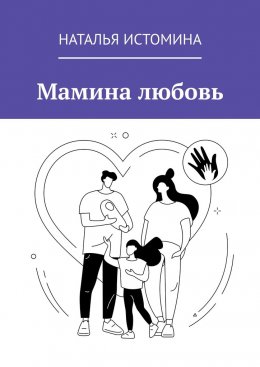
Редактор Елена Чижикова
© Наталья Истомина, 2025
ISBN 978-5-0067-9799-4
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Предисловие
Мы шли по дороге домой. Старший сын неожиданно остановился, бросился ко мне, крепко обнял и сказал:
– Спасибо, мама, за твою любовь.
Это был очень долгий день ― очередное первое сентября. Я наклонилась к ребёнку и поцеловала в упрямый вихор на макушке.
– Спасибо, моё солнышко.
Заметки о гармоничном воспитании детей я собиралась написать ещё весной, но всё руки не доходили. То времени не было, то настроения. Да и как можно рассуждать на тему, в которой у самой ухабы и кочки. Было сложно. И всё же я и мои дети вместе начали этот путь.
«Почему вместе?» ― спросите вы. Да потому, что воспитание нужно начинать с себя, как бы это странно ни звучало.
Как всё начиналось
Разговор в школе
Твои дети не просили себя рожать. Это решила ты сама. Их душам прекрасно жилось там, наверху, но тебе захотелось детей. И каков итог? Ты кричишь и понуждаешь их каждый день что-то делать. Разве для этого ты их родила?
Лучшая речь моей свекрови. За последние 5 лет я слышала её два раза.
Я люблю своих детей. Они моё продолжение со всеми навыками, победами и ошибками. Моими ошибками. Я человек по характеру взрывной, но отходчивый, добрый и светлый. И дети пошли полностью в меня. Почему же они стали внезапно маленькими чертенятами, а я превратилась в дёрганую истеричку-мать?
Самое страшное заключалась в том, что мне казалось это нормальным. Мол, потерплю до 11 класса, а дальше будет проще. И таких родителей много. Со временем дети привыкают к подобным отношениям в семье и начинают проецировать аналогичное поведение на окружающих ― в школе, на секциях и кружках. И тут начинаются настоящие проблемы.
Скажу вам правду: когда дети окончат школу, лучше не станет. Они продолжат вести себя так в колледже, институте, на работе, внутри своей собственной семьи, будут следовать своей обычной программе, даже не осознавая, что можно по-другому.
Похоже, я немного забежала вперёд.
Итак, эта история началась в конце марта. Шла долгая третья четверть, дети ходили в школу понурые, с уставшими лицами. Погода на улице стояла депрессивная, и оттого все вокруг стали дёргаными и злыми.
Однажды на одном из последних уроков мой ребёнок не выдержал. На крик учителя он ответил своим криком, в сердцах пообещав сделать ряд действий, небезопасных для него самого. После этого меня вызвали в школу.
Если честно, ребёнок выходил из себя и раньше. Не было у него хорошего контакта с учителем с самого первого класса. А на момент происшествия заканчивался второй класс.
Социальный педагог, пригласившая меня на беседу, долго слушала мой рассказ про отношения в семье, кивала головой и тоскливо смотрела на меня. От её взгляда мне было не по себе. Что-то ей очень не нравилось во всём этом. Помню, как после нашего разговора я ещё несколько дней кипела, хотя по итогу мне ничего обидного не сказали.
– Хочу передать вам благодарность за ваших детей. В костюмчиках, опрятные. У них есть всё необходимое для учёбы. И дома, я вижу, их разнообразно кормят и есть всё, что им надо. То, что вы работаете из дома, ― хорошо. Дети у вас под присмотром.
Да, вы много делаете для них. Я понимаю вас ― одна, без мужа, вам приходится работать вдвойне. Детей двое, и всё это умножается на четыре… А для себя вы когда последний раз что-то делали?
Этот вопрос меня парализовал. А правда, когда? Стоп, а зачем? Разве я не должна всецело вкладываться в детей?
– Сейчас я вижу образованную, воспитанную мать. Но уставшую и несчастную, потому что забыла про себя. Отодвинула на второй, точнее, наверное, на третий план. На первом месте дети, а так быть не должно. На первом месте должны быть вы и только вы. Как можно научить ребёнка любить себя, если вы не даёте ему такой пример?
Мой вам совет: устройте себе выходной. Примите ванну, сделайте масочку, сварите себе вкусный кофе. Может, вы сходите в театр одна, без детей. А мы с вами встретимся через полгода. Надеюсь вас увидеть не в джинсах и толстовке, а в костюмчике, с макияжем и на каблуках.
Из кабинета я вышла в полном замешательстве. Не принимая услышанное, я по привычке сердилась. Сначала на социального педагога, потом на себя. Постепенно начала приходить к мысли, что в чём-то она права. Я действительно чувствовала себя загнанной лошадью. И мне это совсем не нравилось.
Маленький старичок
Всю следующую неделю я молча переваривала сказанное социальным педагогом, а ребёнок молча косился на меня. В конце недели он решил повторить школьный концерт, на этот раз продемонстрировав его мне. Он долго кричал о чём-то своём, яростно размахивая при этом руками. В конце представления ребёнок попытался ударить меня ногой. Такое поведение было возможно с братом и недопустимо со мной.
Я по привычке накричала на ребёнка, пообещав его непременно наказать. Да вот беда, наказывать мне было его нечем. Телефон я не покупала, «Ютуб» был заблокирован, компьютер на пароле. Мы не ходили на секции или в кружки. Ни кино, ни цирка, ни театра. Только школа, дом и короткие прогулки на улице. Страшно отпускать детей в наше время даже во двор. Они ещё везде лезут, могут упасть, разбить нос, коленки, испачкать или порвать одежду. А главное: могут простыть!
Сейчас, когда я пишу эти строки, мне кажется это самой настоящей паранойей. И увы, среди моих знакомых таких родителей много.
В тот вечер я решила, что мой ребёнок болен. Вспомнила, как пару раз он вёл себя неадекватно при высокой температуре. Я поставила ему градусник. Всё в норме.
Позже я повела его к неврологу, ссылаясь на головные боли после сотрясения мозга. Потом записала к психологу.
К психологу мы ходили несколько раз. Это растянулось на 3 долгие недели. Мне было трудно. Поведение у нас скакало волнами, то в лучшую сторону, то в худшую. За это время сын успел получить травму, а затем был направлен на дневной стационар в офтальмологию.
Тем временем на улице стало совсем тепло, и мы решили временно не пользоваться городским транспортом. Каждый день выходили из дома и отправлялись в больницу пешком. Дорога была не близкая. По пути мы много разговаривали. Постепенно ребёнок начал рассказывать, что именно его тревожит, что ему интересно, о чём он хотел бы узнать. После общения сын становился спокойнее. Он лучше понимал меня, а я его. Однако этого было мало.
– У вас отличный мальчик, ― сказала мне психолог на одном из наших занятий. ― Он умный, одарённый. Может многое объяснить и рассказать, но… он как маленький старичок. Весь зажался, весь в программах и установках, как взрослый, матёрый мужик.
Он знает, что такое чувства, может их описать, но мне кажется, он их даже не чувствует. В нём скопилось море обиды. Оно из него буквально выплёскивается. Эти моменты вы как раз видите.
Мой вам совет ― отвезите ребёнка в лес. Пусть он там покричит, побегает. Разрешите ему это. Пусть кричит что хочет, пока ему не надоест. И делайте так раз в месяц.
В лес я так и не выехала. Мы просто отправились на берег реки посреди города. Там, среди диких зарослей и кустарников, дети нашли бревно и уселись на него. Пахло лесом, и было очень спокойно. Домой идти не хотелось. Наверное, мы просидели бы тут до самого вечера… Внезапно из кустов вынырнул незнакомый мужчина, и мы кинулись наутёк. Больше мы с детьми туда не ходили.
Помню, как вышла из кабинета психолога с ворохом рекомендаций. Часть из них мне показались несколько неуместными. Хотя большинство перекликались с мыслями и советами, услышанными мной ранее. Разные источники, разные люди, а мысли одинаковые. В этот момент во мне столкнулись две личности. Одна отказывалась принимать услышанное, а другая упорно наседала на факты. В этот момент я поняла, что многие из моих поступков и методов общения с детьми были неверными. За что огромное спасибо нашему психологу.
Я набрала побольше воздуха в лёгкие, немного задержала дыхание и с шумом выдохнула. Меня ждала долгая и трудная работа.
Мама, не кричи!
У меня отличные родители. Мама помогла мне получить хорошее образование. Она привила мне любовь к литературе, а после ― к искусству в целом. Мама всегда старалась оказывать помощь во всех моих делах. Иногда эта помощь приводила к неприятностям. Я настойчиво отказывалась от неё, а мама принимала это за чистую неблагодарность. И тогда в доме начинался скандал. Мама кричала, а я беспомощно хлопала глазами.
«Надо немного подождать. Покричит и успокоится», ― всякий раз думала я и молчала дальше.
Наказывать мама не умела. Да и запрещать было нечего: мне нравилось сидеть дома, телефонов тогда не было, а в приставку играла больше мама, чем я. Так мы и жили, пока я не выросла. Ушла из дома, завела свою семью и…
Вы, наверное, слышали суждение, что из детства мы прихватываем с собой модель поведения наших родителей. Лично я прихватила с собой мамин крик. Кстати, это отличный метод справиться с любой ситуацией. Был, до первого класса. С пятилетними детьми мне казалось, что нет лучше метода воспитания. Покричал – они успокоились. Работает. Только после первого класса на моих детях это перестало работать. Совсем.
Сейчас они спокойно смотрят, как я надрываюсь, поворачиваются друг к другу и тихо говорят: «Опять она завелась? Давай не будем её успокаивать? Пошли уже играть». От этой наглости я закипала ещё больше. Так и не добившись нужной реакции, я просто срывала голос, а дети облегчённо вздыхали.
Крик ничего не решит!
На своём основном месте работы я провожу обучение для желающих трудиться в большом контактном центре (далее – КЦ). Люди встречаются разные. Одни имеют за спиной огромный жизненный опыт, другие только начинают его приобретать. Каждый справляется со стрессом по-своему, удобным для себя способом. Но в организации чёткая дисциплина, и на любые конфронтации в рабочем зале строгое табу.
Перед тем как перейти к теоретической части, я знакомлю новичков с правилами нашего КЦ.
– …Проект, которому вы пришли обучаться, работает почти год. Мы очень дружные, часто помогаем друг другу, особенно когда нужно подменить кого-то на рабочее время… У нас даже специальный чат есть ― «Помоги другу».
Со своей стороны мы, руководители и ваши наставники, обещаем вам бережно, спокойно относиться к каждому из вас. Это означает, что при возникновении острых вопросов мы будем стараться находить выход без лишних эмоций. Вас мы просим также спокойно реагировать на наши просьбы. Если будет что-то непонятно, вы можете в любой момент подойти к нам и задать свой вопрос. Поверьте моему опыту: крик не решит проблему, а только сделает ситуацию сложнее.
К сожалению, работа с клиентами на горячей линии ― тот ещё стресс. Трудиться в этой среде может не каждый. Надо иметь внушительную стрессоустойчивость. И даже у тех, кто работает с клиентами постоянно, рано или поздно сдают нервы. Помню, как в 2021 году я работала на линии для клиентов с подтверждённым диагнозом Covid-19. Они находились на карантине дома, под надзором своего собственного телефона.
Программа, установленная на их смартфоне, отслеживала каждый шаг по квартире. Работала она по своему особому алгоритму и иногда отражала несколько неверную географию своего хозяина. Люди звонили на нашу линию и высказывались про очередной полученный штраф.
Клиентов было жалко. Время само по себе было для нас страшное. Часть сотрудников перешли на удалённую работу, чтобы обезопасить себя и своих родных, часть продолжали ходить в офис. А эти люди не могли выйти из собственной квартиры. Ни с собакой погулять, ни мусор вынести…
Они были недовольны всем. Мы были их отдушиной. Нам звонили и рассказывали всё, что накопилось на тот момент у них на душе. Мы их слушали, старались как-то поддержать, отвечали по заданному алгоритму, прощались. В следующем звонке всё начиналось заново.
Однажды я работала на линии с самого утра. К обеду поняла, что начинаю закипать. Мне нужен был отдых. «Ещё один звонок приму и пойду подышу воздухом», ― решила я. Но следующий звонок оказался для меня непосильным.
Женщина кричала в трубку, почти не останавливаясь. 15 минут крика. Я отключила микрофон на своей гарнитуре, опустила голову на стол и закрыла глаза.
Я слушала крик души обратившегося ко мне человека. Очень хотелось закричать в ответ. Рассказать всё, что долгое время откладывалось у меня в душе. Но я молчала. Мой крик ничего не изменит. Он ничего не решит. Только испортит послужной список, перечеркнёт мою премию, а этого я не могла допустить. Дома меня ждут дети.
Выговорившись, женщина замолчала. Я пожелала ей скорейшего выздоровления и закончила разговор.
Я люблю свою работу. Особенно за возможность закончить разговор, просто положив трубку. В реальной жизни так сделать не получится.
Почему мы кричим?
А правда, почему? Перед тем как начать эту главу, я долго бродила по глобальной сети. Меня интересовало определение термина «крик».
На многих сайтах приведено такое пояснение: «Крик является распространённой физиологической реакцией организма на стресс и выражающей дискомфорт, а также формой выражения эмоций»1.
Простыми словами, это громкий сигнал окружающим о том, что ты не в силах держать себя в руках. Прямо сейчас не самые положительные эмоции переполняют сознание, и ты, словно чайник на плите, переходишь на повышенные тона.
Видимо, многие из нас находятся сейчас в хроническом стрессе. На линии на высокие ноты переходит каждый второй. Крики слышны и в магазине, и в транспорте, и в школе. Это напрягает. Вызывает желание кричать в ответ. Но стоит ли?
У меня внезапно возник вопрос: «Откуда мы узнали про возможность кричать? Кто нам рассказал об этом способе выражать эмоции?»
На самом деле никто.
Ответ кроется в нашем раннем детстве. После рождения дети выражают свою потребность в родителях через крик. А как иначе, если малыш голоден, замёрз или просто заскучал по маме?
Это единственный для младенца способ общения. Другого он просто не знает.
Повзрослевший ребёнок продолжает кричать. Тут всё просто: я покричу, и мама прибежит. Со временем у маленького человека вырабатывается устойчивая программа поведения. Её-то и берут во взрослую жизнь подросшие дети. А почему бы и нет? Раньше ведь действовало, вдруг и сейчас сработает на окружающих? Иногда это действительно работает, особенно если хочешь обратить на себя внимание.
И вот я. Стою, кричу на ребёнка. Благодаря повышенному тону мне удалось завладеть его вниманием. Буквально на минуту, не больше. Ребёнок отвернулся от меня к брату и продолжил делать своё, словно меня в комнате даже и не было.
Кричать нельзя разговаривать
После посещения психолога я пришла к выводу, что в моём крике нет смысла. Дети всё реже на него реагировали. Я срывала голос, пока пыталась до них «достучаться», потом не могла разговаривать на работе. Хуже всего было то, что дети стали копировать моё поведение. На мои постоянные замечания они могли ответить криком. Кажется, я совсем не этого хотела.
И тогда я запретила себе кричать.
Теперь старалась говорить спокойно. Медленно повторяя свои слова снова и снова. Сначала говорила ровным тоном, потом добавила в него теплоты.
Это было тяжело, невероятно тяжело. Порой хотелось взорваться, закричать на весь дом, чтоб слышали на каждом этаже. Но… я делала вдох, считала мысленно про себя и находила в себе силы спокойно говорить дальше.
Всё-таки я люблю своих детей. Я хочу их видеть спокойными и здоровыми. И это всецело зависит от меня.











