Читать онлайн Волшебное путешествие Даши в поисках своего «Я»
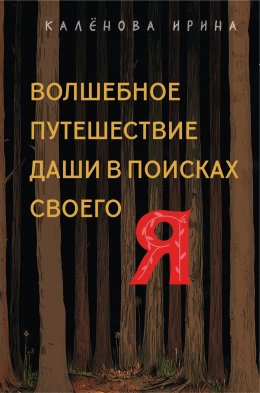
© Текст. И. К. Калёнова, 2025
© Внутреннее художественное оформление. И. К. Калёнова, 2025
© Художественное оформление форзацев. И. К. Калёнова, Д. А. Голуб, 2025
Благодарность
От всего сердца хочу выразить искреннюю благодарность Дарье Завьяловой, которая послужила прототипом героини Даши. Твои удивительные беседы, глубокие вопросы и свежие идеи стали искрой, которая зажгла моё воображение и помогла создать эту историю.
Твой уникальный взгляд на мир и стремление к самопознанию придали героине черты, которые делают её живой и близкой каждому читателю. Спасибо тебе за творчество, неравнодушие, за поддержку и мотивацию, которые ты мне подарила.
Надеюсь, эта книга принесёт радость и вдохновение так же, как наше общение вдохновило меня.
Предисловие
Когда мы берём в руки книгу, как правило, мы точно знаем, что хотим получить от её прочтения. Сейчас у вас в руках книга, эффект от прочтения которой может быть самым разным. С одной стороны, она по-своему обобщает теорию, методики и техники гештальта и психодрамы. С другой – приглашает в путешествие в волшебную страну, где с помощью сказочной метафоры можно встретиться с собой, с миром, с другими. В сказке не бывает совсем уж прямых троп, а место назначения зависит от того, кто именно идёт. Поэтому важно – как именно вы будете её читать. Увлечённо, взахлёб или спокойно, размеренно. А может быть, маленькими кусочками? И так, и так будет правильно и эффективно.
Книга, которую вы держите в руках, помогает читателю увидеть собственное разнообразие и принять себя в этом разнообразии. В ней собрано много маленьких историй, обобщающих большой опыт. Следуя за автором, читатель получает возможность примерить на себя роли и клиента, и терапевта. Когда я впервые прочитала эту книгу моей коллеги Ирины Каленовой, мне вспомнилось напутствие А. С. Пушкина к читателю «Евгения Онегина»: «Прими собранье пёстрых глав, полусмешных, полупечальных». Так и я приглашаю вас принять собрание этих пёстрых глав. И пусть вас не пугает, а только удивляет разнообразие и пестрота предложенных вам страниц.
Может быть, они вас удивят. Может быть, вызовут улыбку. Подчас могут подступить слёзы, а иногда – появиться комок в горле. В какой-то момент возникнуть может даже злость. Но они точно не оставят вас равнодушными, извините за банальности. За каждым словом в этой книге стоит творческое осмысление теории и реального опыта автора.
Здесь три главы, и фактически это три разные книги под одной обложкой. Процессы развития личности показаны не как некоторый линейный процесс, а как уникальная динамическая мозаика, состоящая из встреч с многообразным, зачастую травматическим опытом. Это книга про Встречу.
Важной особенностью является и то, что в процессе исследования гуманистических отношений между людьми поднимаются в доступной форме непростые вопросы восприятия человеком веры, истины, красоты, доброты и так далее. В этой книге вы встретите бережное и предельно честное рассмотрение этих вопросов.
Здесь не будет привычных советов и поучений. Ирина только ставит нас перед необходимостью понять: где я, кто я, с кем я – и формирует ответственное отношение к жизни. Это книга, где задаются вопросы и находятся ответы, причём каждый может найти свой ответ. Это глубокое искреннее путешествие к самому себе, в котором автор берётся быть вашим проводником.
Стилистика повествования о психологии бывает очень разной. Мы знаем захватывающий кинематографическим стиль Ирвина Ялома, лаконизм и глубину Виктора Франкла, полный философского юмора и методически отточенный язык Греты Лейтц, провокативную манеру Фрица Перлза. Эпитеты субъективны, а список можно продолжать бесконечно.
Книга, которую вы держите в руках, написана в традиции разговорного жанра, и это делает её уникальной в своём роде. Ирина выбирает стиль рассказчицы с глубоко заинтересованным, но не имеющим психологического образования читателем. Интонация такого повествования интуитивно знакома читателям: от древних эпосов до сказов.
Сам формат активного диалога с реальным человеком (спасибо Даше за её интересные вопросы) вовлекает читателя в беседу. Так инициируется внутренний диалог: насколько это у меня похоже или непохоже; а что там у меня с внутренним критиком, на какие ресурсы я могу опираться в себе. Приведенный в тексте опыт проживания травматических и кризисных ситуаций вдохновляет и намечает творческие пути-тропинки, которые читатель может выбрать для себя сам. После этой книги хочется перелистать альбом семейных фотографий, снять с полки сказочный томик, а может быть, даже сочинить стихи. В любом случае появляется импульс к творчеству.
Для профессионалов книга интересна как знакомство с направлениями творческого поиска и выбором методических средств, помогающих клиенту в разрешении его ситуации. Начинающих психологов книга знакомит с уникальным личным и профессиональным опытом. А человека, которому просто интересна психология и психотерапия в частности, эта книга сможет воодушевить или сподвигнуть на личностные изменения.
Когда Ирина рассказывает об опыте проведения Мастерской Неслучайных Сказок, мне хочется слушать её бесконечно, хотя я – как соведущая – хорошо знакома со сценарием занятий. Но автор рассказывает так, что реальность становится объёмной, живой, вкусной, хочется попробовать этот опыт. Это особый взгляд и определённая стилистка, которая, несмотря на лёгкость изложения, помогает клиенту погрузиться в глубокое исследование своего Я.
Я благодарна за эту тональность, искреннюю и не перегруженную, за разговорный жанр, который нетипичен для психологических книг. Обращаясь то к фольклорным, то к авторским сюжетам, Ирина создаёт уникальную динамическую мозаику, которая больше всего напоминает мне калейдоскоп. Мы вращаем детскую игрушку, и меняются отношения между Героем, Жертвой, Спасателем, Мастером, Сказочником, Злодеем и так далее. Герои сказок разные, а ролевой репертуар остаётся похожим, актуальным для современного человека.
Переплетая в книге красоту и глубину сказочного эпоса с историями клиентов, Ирина, с одной стороны, рассказывает о конкретных людях, живущих в 21 веке, а с другой – предлагает взглянуть на их сложные ситуации через призму, выработанную опытом многих и многих поколений.
У каждого из нас своя ткань бытия – это события, составляющие нашу жизнь. А ещё есть ткань переживаний. Случаются тяжёлые, травмирующие ситуации и эта ткань рвётся. «Распалась дней связующая нить», – говорит Шекспир, то есть целостность переживаний нарушилась. Но пока мы можем переживать события прошлого, настоящего и будущего как целое, нам доступно рассматривать этот опыт как ресурс для проживания сложных жизненных ситуаций.
Искренний рассказ автора о своей человеческой и профессиональной истории позволяет читателю получить опыт бережного проживания трудных чувств, связанных с прошлым, настоящим и будущим. В этой книге переживания соединяются, а на место разрыва предлагается Любовь.
Я благодарна судьбе за то, что у меня произошла Встреча с Ириной Каленовой. И я благодарна тебе, Ирина, за то, что ты написала эту книгу.
О. В. Кардашина
Кан. Пед. Наук. старший тренер МИГиП.
Глава 0.
Истории
Для начала хочу рассказать вам несколько разных историй про то, как дело было. С чего всё началось, и как родилась эта книжка.
История первая
Страна рушилась, а я искала свой путь
Вдобрые старые советские времена я работала в Научно-Исследовательском Институте при прокуратуре. Там серьёзные люди пытались понять причины преступности. Идеология была основана на марксистко-ленинской философии, обязательной для всех, а значит, объяснить могла всё. Хорошая мысль… жалко, неосуществимая.
Наука, которой я занималась, называлась криминология. У её истоков стоял мой отчим – Игошев Константин Еремеевич. В те времена считалось, что юрист и немного философ вполне может разобраться в причинах преступности и придумать, как её предотвращать.
Все знали, что уровень развития общества определяет уровень развития личности, а материальное определяет сознание. Рассуждали они так: если с обществом всё будет хорошо, и мы потихоньку будем идти к коммунизму, у всех будет достаток, то и преступности не будет. Разве что, как говорил К. Маркс, из ревности кто-то может кого-то убить. Хотелось верить. И мы верили. Трудно не поверить в то, что витает в воздухе, особенно, когда с детства слышишь об этом везде, даже на кухне за завтраком.
Вспоминаю, как я, 13-летний подросток, сижу на полу в родительской квартире, вокруг меня стопками сложены анкеты, которые мой отчим собрал для своей докторской. В одном углу те, что преступники из тюрем заполняли, а в другом те, что обычные люди. Всё это было совершенно необходимо для папиной докторской диссертации. Пачки огромные – по 500 анкет в каждой, а может и больше. Я помогаю их обсчитывать вручную, при помощи счёт. А вы умеете счётами пользоваться? Да вы, наверное, и не знаете, что это такое.
Смысл этой тяжёлой и скучной работы был в том, чтобы разобраться, чем содержимое пачки из правого угла отличалось от содержимого из левого. В результате мы все должны были понять, чего же ещё этим преступникам не хватает – материальных благ или воспитания, что у них общего и как выглядит «Личность преступника». Отчим, видимо, понял, потому что диссертацию защитил с блеском и книжку написал. И даже официально был объявлен одним из отцов советской криминологии.
Так вот, сижу я, такая грустная, на полу в родительской хрущёвке и думаю: «Мне так ужасно, одиноко и холодно от того, что общество, наверное, не так на меня влияет. Наверное, обществу очень надо, чтобы как хорошая девочка я от бабушки сюда, в мамину квартиру, по уральскому морозу ехала папе помогать науку делать. Деваться некуда, коммунизм строим, а в этом обществе только таких выдающихся, умных юристов любят, которые диссертации пишут».
В это время мама с полочки книжку снимает, читай доченька. Ты уже большая, зачем тебе все эти сказки читать? Пора читать Спинозу. Читаю я Спинозу, скучаю, но понимаю – придется быть «умной».
В общем, у меня, дочери профессора и кандидата наук, выбора не было: пришлось заняться криминологией, надо было соответствовать. Меня определили в НИИ.
Сижу я в определённом мне судьбой и родителями НИИ и никак не могу понять, чем занимаюсь. Что со мной не так? Все же что-то пишут, говорят, решают. С меня диссертацию требуют. Сижу со всеми этими мыслями я за столом, а на столе пачки анкет, справа те, что несовершеннолетние преступники заполняли, а слева те, что обычные подростки. Анкет много, но зато у меня теперь калькулятор есть. Выясняю, чем же они друг от друга отличаются и придумываю, что же ещё в их воспитании поправить, как и куда их вести. И что же это такое «Личность».
Думала я, думала, и возникала у меня крамольная мысль: «А что, если все гораздо сложнее?» Иначе почему далеко не все дети нищих и алкоголиков оказываются в тюрьме? И наоборот, почему иногда туда попадают вполне благополучные подростки? Но статистика упорно подтверждала основную идею, а отдельные люди никого не интересовали. Я не понимала, как заниматься индивидуальной профилактикой преступлений, если личность – это что-то среднестатистическое. Один человек – это же десятые доли процента. Иногда чувствовала себя полной дурой, но упорно это скрывала, надо было соответствовать.
Стоит отдать должное коллегам, не одна я почувствовала, что с криминологией что-то не так. Многие стали советскую психологию почитывать, а она на месте не стояла. У нас в институте даже кафедра психологии была. Но там тоже анкеты в основном обсчитывали. Не хочу обесценивать наши исследования, они тоже были нужными и важными, но на мой личный вопрос: «Почему одни люди совершают преступления, а другие нет, хотя росли они в одинаковых условиях?» – не отвечали. А точнее: «Почему люди разные?» Сейчас этот вопрос многим кажется странным, а тогда в нашем НИИ он был почти крамольным.
Потом к нам через границу всякие другие психологические мысли стали проникать. Коллеги пытались их как-то в криминологию вписывать, ну как могли.
Так я оказалась на территории психологии. В лексиконе коллег стали появляться такие слова, как «самооценка», «социальная роль», «ценностная ориентация». Я пыталась всё это осознать, собрать, и у меня даже что-то получилось. Но народ, заточенный на советскую идеологию, всё равно не понял и не принял. Мою диссертацию приняли холодно и велели многое переделать, цитаты правильные советские вставить, а уж потом о защите думать.
Потом грянула перестройка, а за ней «прекрасные» 90-е. Вместе со смертью Советского Союза наступила и смерть науки криминологии, а заодно и моей диссертации.
Рынок стал главным двигателем прогресса. Анкеты мои, те, что я для своей диссертации обсчитывала, вместе с анализом и теоретической частью мой начальник просто продал кому-то и этот кто-то успешно защитился. А я осталась без диссертации, без веры в человечество, без надежды и смысла. Всё, что мне оставалось тогда в лихие 90-е – это ухаживать за умирающей криминологией, потому что в прокуратуре хоть как-то платили, надо было выживать.
Помните, в школе учили:
- «Мой дядя самых честных правил,
- Когда не в шутку занемог,
- Он уважать себя заставил
- И лучше выдумать не мог…»
Ну и так далее, всё по Пушкину.
Вот и я сидела у ног умирающей науки все 90-е, скучала, но зато кормила себя и всю семью.
Все эти годы меня не оставляла мысль о бессмысленности того, чем я занималась. Хотелось приносить пользу людям, спасать кого-нибудь, дарить счастье, но не получалось. Было тоскливо и не только мне. Бытовое пьянство во время работы стало привычным.
К тому времени в России психология развивалась полным ходом. В одной пачке вместе с религиозной, сектантской и эзотерической литературой к нам пришла и западная психология. Народ тихо сходил с ума от количества новых идей и возможностей.
Ура, думала я, вот теперь-то я, наконец, пойму, как устроен человек. Пусть это прокуратуре не надо, зато я отвечу на мучавшие меня вопросы: как же мы устроены и почему люди, выросшие в одинаковых социальных условиях, поступают по-разному. Я начала читать всё, что попадалось под руку, но для того, чтобы разобраться в этом, катастрофически не хватало базового образования.
Наконец криминология окончательно освободила меня от своего присутствия, и прокуратура отправила меня на пенсию. Мне было 46, я была ещё вполне бодра и верила – жизнь только начинается. Наконец-то можно заняться тем, что интересно мне – психологией. Учиться и ещё раз учиться. Я пошла получать второе высшее.
История вторая
Внутри психологии
Я взялась за дело с энтузиазмом, мне было интересно всё. В этом ВСЁ и ждала засада, я столкнулась с неожиданными трудностями. На меня обрушился поток авторов, концепций, идей.
Наши преподаватели выходили и рассказывали совершенно разные теории: Фрейд, Юнг, Роджерс, Перлз, Ялом и ещё, и ещё. Каждый из преподавателей утверждал, что его любимый автор лучше других. А я, как человек, пришедший из фундаментальной науки, не могла понять, что это вообще такое. Я привыкла, что есть одна стройная, выверенная до мелочей точка зрения, а все другие неправильные. Здесь же одни говорят одно, другие другое, вроде, всё работает, всё правильно, но ничего не сопоставляется между собой.
Для Фрейда человек – это некая энергетическая, сексуально озабоченная система. Его ученик Юнг придумал архетипы. Роджерс выступал со своей Я-концепцией вместе с соратниками по феноменологическим теориям. Экзистенциалисты – все про ценность человека перед лицом абсолютных величин: Одиночества, Любви и Смерти. Берн про вечный спор внутреннего ребёнка и внутреннего взрослого. Для Перлза с его гештальтом человек состоит из потребностей, которые надо удовлетворять, но не всегда получается, а Морено – набор ролей.
Очень всё это сложно было для меня.
То ли дело когнитивный подход. Для его последователей человек – это просто хороший компьютер, перерабатывающий информацию. Они точно в искусственный интеллект верят.
Бихевиористы от собачки Павлова не так уж далеко ушли. Для них человек просто отвечает на подкрепления из окружающей среды, запоминает и реагирует соответственно.
Теорий много, и каждая из них вроде бы правильная и людям помогает. В одних учебниках предпочтение отдаётся одним, в других другим, в зависимости от моды. Одно время по популярности побеждали когнитивные направления, наверное, как самые понятные. И моей криминологии там место нашлось где-то между бихевиоризмом и когнитивными теориями.
В последнее время начали распространяться и гуманистические теории с их Я-концепцией. Модно стало помещать человека в центр мира. Но и про Фрейда с Юнгом никто не забывал. В зависимости от года издания и географической принадлежности автора, книжки по психологии меняли свой облик, глубину и содержание.
Наверное, это даже хорошо, что ни одно направление не победило. В каждом было что-то своё. Тут, правда, мне вспоминается известная притча о слепых, пытающихся понять, на что похож слон. Для того, кто ощупывал ногу, слон – это колонна, для того, кому достался хобот, это шланг, кому бок – решил, что это стена, ну и так далее. Фрейду явно достались гениталии.
Все правы, но у всех своё виденье. Для меня оказалось очень тяжело понять, что единой психологии как таковой нет, а есть много выдающихся гениальных авторов, которые построили свои схемы понимания того, как устроена личность человека. И не нашлось никого, кто бы хоть как-то соединил эти понятия в одну стройную систему и сказал, наконец, как правильно.
Самым сложным для меня было то, что каждое направление создало свою уникальную терминологию. Из-за этого, объясняя одно и то же явление, все кому не лень оперируют несовместимыми понятиями из разных направлений. И такая путаница происходила не только на страницах популярных журналов. Повсеместно люди использовали и продолжают использовать разрозненные термины к месту и не к месту.
Понадобилось немало волевых усилий, чтобы уложить всё это в одной голове. Во всяком случае, гештальт с психодрамой удалось соединить. А психодрама оказалась связана с юнгианскими образами. Пришлось заглянуть и туда. Без некоторых изобретений Фрейда вообще никуда. Ну а понять человека без Любви и Смерти в принципе невозможно. Если невозможно увидеть слона целиком, надо же было хоть как-то составить представление о том, как этот слон выглядит. С кашей в голове мне лично жить было невозможно, тем более работать и помогать людям.
Для того, чтобы начать работу, надо было ещё и инструментами овладеть, а они у всех направлений тоже разные и не совмещаются почти никак. Был только один способ сориентироваться в этом океане различий – выбирать своё направление. Выбрать можно, только погрузившись в теорию и практику, а это требовало слишком много сил и времени. Мне хотелось как можно скорее начать спасать кого-нибудь, я была в растерянности.
Сначала я попала в программу 12 шагов. Это сейчас такие группы есть в каждом районе, а тогда они только появлялись. Мне понравилось, что научиться вести группу можно быстро и без экспертных знаний. Всё давным-давно продумано за нас и прекрасно работает, причём не только для алкоголиков. Но по этой же причине вскоре мне стало скучно. Никакой самодеятельности, всё по специальной книжке.
Тогда я и встретила удивительного учителя Жанну Лурье – она просто пришла, посмотрела на меня и сказала: «Значит так, тебе в гештальт». Учиться было долго и дорого. От этого у меня аж слёзы навернулись, но другого пути к мечте я не видела. Я подумала, что это «Судьба», и согласилась. Так я и попала в Московский институт гештальта и психодрамы.
Гештальт давался мне тяжело. После такой стройной советской науки надо было серьёзно перестраивать мозги, а они сопротивлялись. Никаких тебе анкет и представлений о том, как правильно. Понятия «хорошо» и «плохо» вообще пришлось растворить в безграничной свободе выбора и ответственности за свои поступки. Что такое потребности было понятно, но когда начались всякие там механизмы сопротивления и фигуры с фоном, мозги выворачивались наизнанку. Три года обучения и параллельной психотерапии сделали своё дело, я получила диплом о втором высшем и сертификат гештальт-терапевта. Я – психолог. Работа началась.
А потом я увидела психодраму в МИГиП, сложно было пройти мимо. Это было похоже на чудо. На моих глазах разворачивался настоящий спектакль.
История третья
Встреча с психодрамой
У девушки не ладились отношения с её женихом. Уже не помню, что они там не поделили. Не поняла, откуда там взялась мама девушки и почему она так злится, но я навсегда запомнила чувство важности происходящего и то, как все потом плакали и обнимались. Со мной осталось удивительное ощущение причастности к происходящему и радости от того, как всё разрешилось. Как будто всё это было и про меня. Что это было?! Это была психодрама.
Сколько раз я видела, как люди рассказывают о психодраме! Но слова не могут передать то, что происходит на самом деле, в процессе. Я видела фильм о психодраме. Снятая на камеру сессия выглядела смешно. Какие-то люди в тренировочных костюмах плохо играют какие-то роли. Если не включаться – тоска. Совершенно непонятно, зачем это всё. И как вообще можно играть роль шкафа или двери? Почему одного человека играют несколько актеров? Описание психодраматической сессии часто выглядит как что-то ненормальное, особенно для тех, кто не понимает, зачем вообще играть. Как это работает, почему? Что там происходит?
На психодраме надо присутствовать. Участвовать в ней лично. Почувствовать. В это надо включиться. Многое, конечно, зависит от того, кто ведёт психодраму. И группа тоже важна. Но если всё совпало, то произойдёт чудо. Очень интересно и полезно будет даже для тех, кто просто смотрит. Поверьте на слово.
Психодрама покорила меня с первой встречи. И я уже не расставалась с ней никогда. Я пошла и выучилась ещё и на психодрама-терапевта. Начинала учиться и гештальту, и психодраме у Жанны Лурье, а заканчивала обучение у Нифонта Долгополова, удивительно мудрого человека, директора института, психолога международного уровня, специалиста и по гештальту, и по психодраме.
Теория психодрамы и методы работы зашли с лёгкостью. Было удивительное ощущение, что всё это я давно уже знала. Даже другие направления психологии заиграли яркими красками, как будто через психодраму мне удалось увидеть того слона, если не целиком, то хотя бы его общие очертания.
Я с большим уважением отношусь к когнитивной программе 12 шагов и нежно люблю гештальт, но психодрама для меня – почти религия.
История четвёртая
Про сказки
Я начала работать психологом, у меня были свои клиенты, но очень хотелось чего-то большего и тут произошло кое-что, что помогло мне стать именно тем психологом, которым я являюсь сейчас. То, что придало моей деятельности объём и новое измерение. То, что не оставляет меня в покое по сей день, побуждая писать и эту книгу. Начало, как и у всякого пути, простое. Моя коллега Ольга Кардашина пригласила быть ассистентом в её психотерапевтических группах.
Ольга – кризисный психолог. Её вызывают, когда в нашей стране случается какая-нибудь катастрофа. Если падает самолёт, происходит большой пожар, взрыв или террористический акт, то она приходит на помощь людям. А между авариями Ольга работает с детьми и подростками, и ещё она старший тренер МИГиП.
И как бывает – хороший путь начинается с хорошего попутчика – через некоторое время наша с Ольгой совместная работа завела нас на территорию Сказки. Нас обеих всегда привлекали образы и метафоры. И нам обеим захотелось пригласить людей пожить в Сказке.
Мы придумали свой собственный формат терапевтической работы, который назвали «Мастерская неслучайных сказок». Мы делаем двухдневки, посвящённые одному сюжету, и предлагаем участникам самим пожить в сказке. Психодрама прекрасно справляется с этой задачей и переносит современных и вполне взрослых людей в особенные условия сказочного мира, который гораздо старше и богаче нашей повседневности.
Маленькая песчинка на фоне Вечности – человек искал смыслы и закономерности своей коротенькой жизни, а что находил, вкладывал в сказки, мифы, великие произведения искусства, через образы и метафоры сплетая связь прошлого и будущего. Вот родился малыш, и мама поёт ему песенки, рассказывает сказки. Думаете, она просто развлекает его? Нет, на самом деле она приобщает ребёнка к Вечности. Через сказки и мифы, песни и прибаутки, слова и образы к нам приходит Вечность и связывает в одно полотно прошлое, настоящее и будущее, она наполняет смыслом простые действия и обыденные ситуации. Так из связи со всем человечеством рождается внутренняя вселенная одного-единственного человека.
И это то богатство, которое всегда под рукой, точнее – под черепной коробкой. Стоит лишь создать специальные условия, как сказка станет живой и осязаемой.
Сначала мы перепрочитываем сказку так, чтобы психологические проблемы героев сказок стали выпуклыми, заметными, узнаваемыми и создаём условия для встречи с этими проблемами. Мы выстраиваем ворота в Сказку, обустраиваем дорожку, посыпая песочком, и приглашаем людей – прогуляйтесь, возьмите, что вам нужно. Побывав в Сказке и выйдя из неё, человек может по-новому себя увидеть и что-то изменить в своей жизни.
Мы не стали останавливаться только на народных сюжетах, а начали брать и авторские сказки, и литературу, и фильмы.
Мы выбираем те произведения искусства, которые откликаются нам сегодня и чьи образы не могут устареть, а значит, будут важны и для участников.
Многие мысли и живые примеры, которыми я делюсь в этой книге, родились благодаря нашей Мастерской.
Когда-нибудь я напишу отдельную книжку про мастерскую.
А сейчас – время рассказать еще одну историю…
История пятая
О том, как началась эта книжка
Однажды ко мне пришла журналистка Даша, которая хотела взять маленькое интервью. Ей нужно было написать очень простую статью, про то, зачем нужен психолог, как его выбрать, действительно ли разговорами можно изменить жизнь. Улыбчивая и бодрая, как все журналистки, она задавала простые вопросы. А я ей так же просто отвечала.
А впрочем – чем пересказывать – лучше показать.
Даша: Когда пора к идти психологу?
Когда не знаешь, что делать и как жить дальше, а поговорить не с кем.
Даша: Как выбрать психолога?
Главное, чтобы человек вам понравился. Образование тоже имеет значение, кроме института, у психолога должны быть ещё практические навыки и специализация. Девочки, только что институт закончившие и не хоронившие даже рыбку, скорее всего, не поймут сложные движения вашей души, а значит, и помочь не смогут.
Даша: Если психолог не даёт советов, чем он помогает?
Час общения с нормальным человеком, который выслушает, примет, посочувствует, бывает целительным, но психолог ещё и техникам хорошо обучен, а значит, знает как разговор построить, чтобы вы сами всё поняли и выбрали, как жить дальше.
Даша: А если психолог кажется глупым и совсем меня на понимает?
Может, он и правда глупый, так бывает. Но прежде чем искать другого, подумайте, может, он, как, впрочем, и другие люди, просто не умеет читать ваши мысли. Может, он действительно очень хочет понять вас и то, что вы хотите сказать, а потому и задаёт вопросы, которые кажутся вам глупыми. Спросите его самого. Посмотрите, что он вам ответит, а уж потом принимайте решение, искать другого или всё-таки попытаться объяснить ему, а заодно и себе, что же с вами происходит.
Даша: Что можно изменить, если всё из детства?
Многое, если вы перестанете всё сваливать на «судьбу», «характер» и родителей, а возьмёте ответственность за свою сегодняшнюю жизнь на себя. А с тем, что пришло из детства и мешает в настоящем, психолог разобраться поможет.
Даша: Чем психодрама лучше других методов?
Ничем. Просто одним людям подходит одно, другим другое. Надо попробовать и послушать себя. Хотя… по скорости и глубине она превосходит другие направления. Это не всегда и не для всех хорошо. Бывает, что надо помедленнее. Эффективно бывает так – сходить на психодраматическую группу, а потом под крылышко к личному терапевту другого направления – переваривать, детали рассматривать, к новым образам себя привыкать.
Даша: Сколько раз нужно ходить к психологу?
Кому-то и 10 встреч хватит. Просто видение мира немного подкорректировать, а дальше само пойдёт. Кому-то год нужен, чтобы в своих чувствах и желаниях разобраться. А особо пораненным бывает и трёх лет мало.
Такое вот интервью вышло. Мы вежливо и с юмором поговорили, а потом выключили микрофон. А так как мы были в кофейне, и кофе был хорош, мы решили немного задержаться и пообщаться.
Вот тут-то и началось самое интересное. Оказалось, что у Даши много своих, совсем не журналистских вопросов. Слово «психодрама» заинтриговало её. Я рассказала Даше про наши сказочные мастерские и поделилась мечтой – записать всё то, что мы там делаем. Записать и издать, как книжку, пусть люди читают. А ещё я хотела бы рассказать простым и понятным всем языком о психодраме, очень хотелось объяснить словами то чудо, которое происходит на группе, вдруг получится.
Даша восприняла мою идею с энтузиазмом. Она оказалась девушкой умной, глубокой, и те вопросы, которые она задавала, не могли уложиться в простенькое интервью. Тут требовался совсем другой подход.
Дело в том, что тогда она находилась на перепутье. Из своего малоизвестного журнала она давно выросла и думала, как жить дальше. Пытаться остаться журналистом, а значит, или продолжить работу в малоизвестном журнале, или искать что-то более серьёзное. Может быть, лучше поменять профессию, пойти учиться чему-то другому, но чему? Или поступить в аспирантуру – по философии, например? А может, посвятить себя мужу и маленькой дочке? Она много думала, как сделать выбор и не ошибиться, а потому у неё возникали очень непростые вопросы.
Как устроен человек? Как он принимает решения? Как он строит отношения с другими? Как найти своё место в жизни? И главное – КТО Я?
Она надеялась получить ответы на свои непростые вопросы, не перерывая кучу «скучной» специальной литературы, потому и засыпала ими меня.
Мы подумали, что не у одной Даши возникает столько вопросов. А почему бы всё это не записать? И вопросы и ответы. Мы порадовались идее и решили встречаться регулярно. Вопросов много, ответы сложные, но нам было весело и интересно двигаться по этому пути.
Психодрама вела нас по своей дороге, с территории простенького интервью мы зашли в совсем другую местность. От вопросов о том, как работает психодрама и что откуда берётся, постепенно мы перешли на другой уровень.
Даше хотелось понять, а мне – объяснить, но не сложными научными построениями из слов, не цитированием великих авторов или точными определениями, от них становилось скучно. Я рассказывала о том, как устроена теория психодрамы и как она видит человека, весело и понятно, насколько возможно, а заодно и о своей работе и том, как теория коррелирует с реальной жизнью. Наконец, как всё это перекладывается на сказочное пространство.
О психодраме рассказывать серьёзно почти невозможно. Самым сложным для меня было сшить в одно полотно всё то, о чём хотелось рассказать. Я долго не могла найти свой Золотой ключик к повествованию. Дело в том, что псходраматисты – народ веселый, подвижный, на месте сидеть не любят, всё бы им поиграть, сказки порассказывать, построить чего-нибудь из подручных материалов, окружить себя ленточками да игрушками. Ну что, не изменять же себе. Психодрама и сказка сами подсказали мне форму и слова, а основатель психодрамы Якоб Морено стал нашим провожатым. Так началось волшебное путешествие Даши к своему Я.
Нитку нашего маршрута определяют Дашины вопросы. Беседуй я с кем-то другим, и дорога пролегла бы иначе, другие темы оказались бы раскрыты, другие вопросы заострены. Но сегодняшнее путешествие – это путешествие Даши.
И тебя, дорогой читатель, я зову прогуляться с нами и поговорить о серьёзных вещах несерьёзно, как бы играя. Если ты не любишь играть и не понимаешь, зачем нужны сказки, мифы и легенды, то и выходить смысла нет. Но ты попробуй, вдруг понравится. Скучно не будет. Нестандартный подход обещаю.
Начнём с того, что не только мы живём в мире, но и мир живёт в нас. Реальный мир упорядочен и структурирован временем и пространством, там всё материально, осязаемо и построено вполне логично. Но сейчас мы сделаем шаг и окажемся в отражении этого мира в нашей голове. Мир в нашей голове, вроде бы, – отражение реального мира, но выглядит он совсем по-другому и живёт по своим законам.
Это особенный мир. Мир образов, чувств и фантазий, которые не всегда можно передать словами, но мы легко попадаем туда во сне. Это параллельная реальность, которой вроде не существует, но все там бывали. Туда без раздумья попадают дети, стоит им взять в руки любые пару предметов и начать игру.
Даша: А как мы туда попадём?
Через сказку, как Буратино прошёл через неведомую дверь в каморке папы Карло. Или как Люси прошла в Нарнию через забитый шубами платяной шкаф. Можно нырнуть в колодец, как частенько делали герои русских сказок. Или сказать: «Сим-Сим откройся», – как Алладин.
У детей это получается само собой. А серьёзные взрослые могут попасть туда через литературу, кино, живопись. Порталом может стать любое произведение, не отличающееся реалистичностью.
Любая сказка, любое произведение искусства – это внешний мир, пропущенный через внутренний и зафиксированный для нас на вполне материальных носителях. Это отражение реальности через внутреннее зеркало авторов. Мы сейчас сделаем наоборот – попадём во внутренний мир через его отражение.
Входов во внутренний мир много, но одни и те же места могут выглядеть там по-разному, в зависимости от того, как зайти. В этом необычном измерении портал определяет пейзаж, который за ним находится. Взрослые сказки всегда страшные, грустные и очень серьёзные. Взрослые серьёзные люди любят выворачивать душу наизнанку, проживать вместе со своими героями тяжёлые, трагические жизненные ситуации, в которых много боли, разочарований и нелюбви, а потому за этим порталом пейзажи весьма мрачные.
Но я обещала Даше, что будет весело, так что мы пойдём другим путём. Через детские сказки, где сплошной оптимизм, а добро всегда побеждает зло.
Мы будем заходить с Алисой. Раз уж наша психика – это отражение, зеркало реального мира, пока назовём наш мир Зазеркалье, а там посмотрим.
«На какой я широте и долготе, – интересовалась Алиса, падая и падая в нору за белым кроликом, хотя понятия не имела, что значит широта и долгота».
Там, в параллельной реальности нашего внутреннего мира, как и в Зазеркалье, мир запросто может перевернуться вверх ногами. Там большое кажется маленьким, а маленькое большим. То, что виделось важным, превращается в мыльные пузыри, а в том, что выглядело неважным, вдруг открывается глубокий смысл.
Там на часах Белого кролика всегда время пить чай. Время, вообще, понятие относительное и может останавливаться, чтобы мы могли подробно рассмотреть несколько процессов, которые в реальности происходят одновременно, за какое-то мгновение. А может, наоборот, лететь очень быстро, чтобы мы не застряли в болоте умных рассуждений.
Да, мы смело перелетаем по времени и пространству, всегда оставаясь в одной и той же местности. Мы движемся, и на следующей странице будет уже другая эпоха и другая страна, даже глазом не успеешь моргнуть.
Здесь каждый новый вопрос рождает новое приключение. В Зазеркалье нет заранее построенного ландшафта; но вот Даша задаст вопрос, а я расскажу ей историю – и кусочек пейзажа проявится из тумана. А потом снова исчезнет. Потому что в этой стране существует только то, на что смотришь. Читатель, конечно, сможет вернуться и перечитать. Но предупреждаю: каждый раз это будет слегка новый пейзаж. Не удивляйся.
«Все страньше и страньше», – думала Алиса.
Это мир, который никто не видит, но каждый знает. Мир, в котором у каждого своя тропа, но болота, горы, провалы и вулканы – похожие.
У Зазеркалья свои законы, и я не возьмусь описать их все. А мои слова не стоит считать неоспоримой истиной. Потому что в Зазеркалье вообще нет неоспоримых истин, а законы меняются вместе с ландшафтом. Придёт Чеширский кот, улыбнётся и всё изменится. Его улыбка, даже без самого кота, придаёт серьёзным разговорам лёгкость. Она будет нам необходима, если вдруг придётся оказаться в страшном мрачном месте, – она напомнит нам, что это не опасно, это всего лишь сказка. Если в нашем путешествии что-то тебя разозлит, покажется непонятным, недосказанным, противоречивым, вспомни, Чеширский кот где-то здесь и улыбнись вместе с ним.
Там, в нашем сказочном мире, всё меняется каждый день, каждую минуту, но есть и ориентиры, о которых я расскажу языком теории психодрамы. Следуя за Дашиным интересом, я расставлю флажки. Обозначу места, где можно заплутать и потеряться. Эти места мне хорошо известны. Именно там я обычно встречаю своих клиентов.
Ну что, вперёд, в Зазеркалье.
Глава 1. Кто такой этот Я?
I. Человек через призму психодрамы
Итак, мы отправляемся в путешествие. Я не хочу, чтобы оно было скучным. Даша только начинает свой маршрут, и ей со многим придётся встретиться впервые, так что о серьёзных вещах я расскажу через понятные образы и случаи, произошедшие с моими клиентами. В историях клиентов поменяю всё, что только можно поменять, соединю разные, но похожие истории в одну так, чтобы осталось главное. А потому прошу считать, что все герои вымышлены и схожесть с реальными людьми – совпадение.
В нашем путешествии мы будем заходить на разные территории, передвигаться из страны в страну, из сказки в сказку, из теории в практику и обратно, из глубин разума к вершинам теории. А начнём, пожалуй, с проверки багажа, с которым вы вышли в путешествие. И ещё познакомимся с нашим главным проводником Якобом Морено, основателем и теоретиком моего любимого направления психологии – психодрамы.
Какую брошюру или статью о психодраме не откроешь – конечно, всё начинается с Якоба Морено. И с байки, которую он повторял неоднократно. Про то, как он, будучи пятилетним мальчишкой, играл с соседскими детьми в бога и ангелов. Маленький Якоб в образе бога взобрался на стол, а ангелы летали вокруг него. Тогда он настолько вошёл в роль, что поверил, будто может летать. Кончилось всё падением и сломанной рукой. Если задуматься, в этой истории много смыслов. Сам Морено считал это первой своей психодрамой. Детские игры естественны и органичны, в них дети репетируют роли, которые им предстоит исполнять в большой жизни. Просто кто-то играет в дочки-матери, а кто-то в бога.
В современной психодраме тоже много игры. И это некоторых шокирует. «Нет, нет», – возражают люди, – «мы уже взрослые и нам неприлично заниматься такой ерундой!» Или очень вежливым тоном говорят: «Я не умею этого делать». Иногда они даже не знают, как подступиться к игре, как это вообще возможно делать всерьёз. Не играть в игру, а быть внутри неё. Жить в ней.
Грустно, когда люди становятся слишком взрослыми для игры и творчества. Ведь настоящие творцы всегда немного дети.
Играть можно по-разному. Шекспир «играл» в театр. Его известная фраза: «Весь мир театр, а люди в нём актёры» – стала для Морено отправной точкой. Он принял её как откровение, сделал своим лозунгом и развернул в теорию. Отсюда и «театральный» словарь психодрамы: в ней есть действие, есть роли, в которые можно войти и из которых можно выйти, есть сцена, которую можно построить, есть зал со зрителями, есть директор – ведущий. И всё это может поместиться в обычной комнате, но затем вырасти – выйти за её пределы, перешагнуть стены, смешать времена и пространства. Так же эмоционально, насыщенно и сильно, как это бывает в настоящем театре. Если проводить аналогию с миром искусства, то психодрама так же отличается от «говорильных» направлений психологии, как театр от литературы. Вспышка-озарение – и размеренное погружение; зрелищность – и созерцательность. И то и другое – про глубину. Но способы погружения на неё могут быть разными.
Театр и детская игра придали психодраме лёгкую и даже весёлую форму. Но за её непринуждённой спонтанностью лежит глубокая научная теория. Я буду объяснять её простыми словами, но эрудированный читатель заметит параллели и переклички с различными философскими школами. Например, у Маркса Морено взял идею, что движение – это способ существования материи. «И не только материи вообще, – говорит Морено, – но и человека в частности». Движения во всех смыслах: и физического, и эмоционального, и психического.
Как в порядочных научных текстах делается, начнём с терминологии, которой оперирует психодрама и без которой наше путешествие не получится.
Краткий психодраматический словарь
♦ Консерв – всё, что написано или сказано до нас.
♦ Роль – способ реагировать на внешние обстоятельства, чаще всего это вид консерва, необходимый для функционирования человека в разных сферах жизни.
♦ Спонтанность и креативность – всё остальное, то, что пока не законсервировалось.
♦ Протагонист – главный герой психодрамы.
♦ Антагонист – носитель протухшего консерва, от которого хочет избавиться протагонист.
♦ Акзилари – вспомогательные роли, которые играют другие люди. Помощники протагониста или антагониста.
♦ Зеркало – способ посмотреть на себя со стороны.
♦ Дублирование – способ помочь протагонисту сформулировать свои мысли и чувства.
♦ Теле – то, чего как бы нет, но без чего не получится ни психодрама, ни отношения, ни счастливая жизнь.
♦ Разогрев – специально организованное действие, чаще двигательное, необходимое для того, чтобы образовалось «теле», чтобы проявилась тема и появился протагонист.
Вот и все термины. Они выражают то, без чего психодрама состояться не может, ну а что они значат и как работают – об этом вся наша книга. Они помогут нам с Дашей не заблудиться, путешествуя по психологическому Зазеркалью, и найти путь к своему Я. Язык психодрамы – действие. Поэтому терминов немного, но они важные. И они нужны нам, чтобы не потеряться во множестве психологических слов, взятых из разных направлений, и перемешанных в коктейль поп-психологии. Мы будем возвращаться к этим психодраматическим терминам не раз, так что запомните страничку. А нам пора в путь.
Представь себе, Даша, что у каждого человека есть свой погребок-кладовочка. В погребке этом хранятся банки с заготовками и консервами на все случаи жизни. Уверена, что все, кто хоть раз в жизни был в гостях у бабушки, видел законсервированные банки с выцветшей наклейкой на крышке, указывающей год производства. Огурчики маринованные, грибочки соленые, брусника мочёная, икра кабачковая. Все эти лакомства бабушки любят доставать из погреба, открывать и ставить на стол – гостям, для угощения и похвалы. Но иногда гости так и не приходят, а баночки копятся, и год за годом растёт слой пыли на их покатых боках. А иногда всё съедается прожорливыми внуками за сезон. У всех по-разному.
Примерно за 100 лет до того, как Морено изобрёл психодраму, один французский кондитер придумал способ сохранять продукты в банках: тушёнку, супы, фрукты. Морено как настоящий поэт нашёл вдохновение в этом бытовом промышленном процессе.
Он посмотрел на мир и сказал: «А консервы – это всё! Литература – это консерв чьих-то историй; культура – консерв морально-этических норм; наука – консерв знаний».
Всё, чем мы привыкли пользоваться и на что опираться, когда о чём-то рассуждаем или строим отношения – консервы. Это то, что кто-то давным-давно придумал, открыл, запаковал в баночку, поставил на вечное хранение и предупредил – «пользоваться можно, переделывать опасно», как на том столбе: «не влезай, убьёт», а что и почему – отдельный долгий разговор.
Вот например, когда был изобретён образ романтической любви? Ох, как давно. Средневековые рыцарские романы были уже далеко не первым источником! А как он попал к нам, в нашу жизнь? Мультик в детстве посмотрели, увидели, как принцесса ждёт принца, книжку про вечную любовь почитали, песенки послушали – и вот она, баночка с этикеткой «настоящая любовь» появилась на нашей полочке. Теперь, если что, снимаем баночку с полки и сравниваем с реальными отношениями – любовь настоящая или нет?
Всё, что когда-то придумано людьми – это консервы для общего пользования. Но тебе не нужно ВСЁ. Каждый собирает свой особенный, неповторимый погребок лично для себя.
Сколько-то банок «автоматом» установилось за самые первые годы жизни в семье. Потом школа с её уроками литературы, ВУЗ, первый трудовой коллектив. А сейчас ещё и интернет – непрерывный и мощный источник консервов. Правда, то, что быстро попадает в погребок, то быстро из него исчезает за ненадобностью. И баночка отправляется в плаванье по цифровому пространству в поисках нового хозяина. Зато те консервы, что взяты из семьи, подлежат хранению с пометкой «пожизненно». Какие-то баночки мы заготовили и поставили самостоятельно. Их мы особенно бережём и гордо называем «опыт», на своей шкуре полученный.
Даша: Поняла, консервы это: «читать книжки – хорошо», «отказывать, когда просят – плохо», «если не устал – значит, и не работал» – это уже очень про разное. А ещё же есть «мыть руки перед едой», «улыбаться соседям». Как-то всё в кучу…
А ещё «хорошие девочки слушаются старших» или «думать о благе других хорошо, а о себе плохо» и много всего другого, более сложного, многогранного и трудновыразимого. Это не считая просто вызубренного на всякий случай.
Расставлены наши баночки в определённом порядке. На ближней, самой доступной полочке стоят консервы, необходимые на каждый день. Например, все знают, что при встрече надо здороваться и улыбаться. Кофе на ночь не пьют, а на обед принято есть суп. Когда на небе тучи, бери зонтик. Это те вещи, о которых никто не задумывается. Да и зачем – они и так хорошо работают.
На полочке повыше стоят консервы, которыми мы пользуемся пореже. Среди них встречаются и сомнительные утверждения. Валяться в кровати нельзя, всегда надо что-то делать. Короткие юбки носят только проститутки. Убираться, конечно, надо раз в неделю, а ремонт – раз в 5 лет. Мама – главный человек в жизни, даже если тебе за 40. Не высовывайся, не проявляй себя, хуже будет. Молчи, за умного сойдёшь. Ну и так далее.
На самой дальней полочке стоят консервы особой ценности.
Они во многом определяют наше Я. Там хранятся представления о том, что есть добро и зло, верность и предательство, любовь и ненависть. Ценности, которые нам так необходимы. Именно на них мы опираемся, когда важно сделать принципиальный выбор.
Если набор банок удачно подобран, а робот под названием «бессознательное» работает исправно, человек чувствует себя комфортно, спокойно и даже счастливо. Зашёл в лифт – поздоровался, увидел бабушку – перевёл через дорогу; увидел нищего – дал визитку благотворительного фонда.
Возник конфликт – заглянул на полочку повыше, достал заготовленную баночку «В случае конфликта мамы и мужа всегда быть на стороне мамы». Отлично, конфликт разрешён, все счастливы, главное, мама. А муж? Ну что же: «Мужья приходят и уходят, а мама остаётся навсегда». Если хозяйка уверена в незыблемости принципов, консервы сочетаются друг с другом, она будет чувствовать себя хорошо. Человек, уверенный в своей правоте, всегда чувствует себя хорошо, тут главное не задумываться, сказано же – «вскрывать банки опасно», «не влезай, убьёт».
Мне вспоминается моя клиентка, которая каждый раз жалуется на усталость, не может она сидеть без дела, на работу бежит даже с температурой, учёбы набрала разной. Почему? – «Мама говорила: отдых – это смена деятельности. Мама всегда так жила. И бабушка так жила». Поговорка про смену деятельности это только этикетка на банке, а вот пример мамы и бабушки превращает содержимое в великую ценность и ставит баночку на почётное место.
Но всё дело в том, что так не может продолжаться вечно. Консервы имеют свойство прокисать, плесневеть, а могут и вообще взорваться, перепачкав всё вокруг. Робот-бессознательное продолжает распределять баночки в соответствии с заданной программой (это же тоже своего рода консерв), но в руки попадает уже что-то протухшее, непригодное к применению. Вот тут и начинаются сбои. Что-то в жизни идёт не так, и человек не получает то, что ему надо, потребности больше не удовлетворяются, да и вообще, становится непонятно, может быть, и потребностей таких и вовсе нет. А вместо них – другие. Вот тут и нужна помощь со стороны, иначе механизм может настолько разладиться, что и до психиатра недалеко.
В других направлениях психологии есть похожие понятия: «интроект» в гештальте, «установка» или «убеждение» в когнитивном подходе. Но они отличаются от мореновского «консерва», как сушеные яблоки от сладкого яблочного компота с корицей и лимоном. Консерв это целый компот из цветов и запахов, чувств, образов и ярких воспоминаний. Даже слово такое – не какая-то терминология, а образ, с которым можно играть. Оживлять в сцене: рассматривать, переставлять, раскрывать, а то и разбивать банки с протухшими, не нужными больше консервами.











