Читать онлайн Как лень убивает ваше будущее и ваши мечты
- Автор: Алекс Мореарти
- Жанр: Мотивация, Пьесы и драматургия, Самоучители
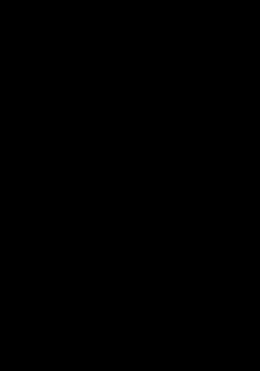
Вот он, мой путь, выжженный на пергаменте судьбы еще до того, как я научился читать. Сначала – эта серая, безликая громада, которую они зовут училищем, а я – «шарагой». Место, где из тебя выбивают последние остатки юношеских грез, где амбиции стачиваются о казенные стены, покрытые слоями пыли и безнадеги. Я пройду сквозь эти двери, как проходят сквозь строй обреченных, и получу диплом – бумажку, пахнущую затхлостью и несбывшимися надеждами. Она станет моим клеймом, первым гвоздем в крышку гроба той жизни, о которой я когда-то, кажется, в прошлой вечности, смел мечтать. Они выплюнут меня оттуда, как отработанный материал, на порог следующего этапа – еще более бессмысленного.
А потом… потом армия. Год. Целый год, вырванный с мясом из моей и без того ужаснойй жизни. Двенадцать месяцев, которые могли бы стать чем-то… чем угодно! Песней, стихом, первым неумелым аккордом на гитаре, пьянящим глотком свободы. Но нет. Это будет год, растворенный в муштре, в грязи сапог, в рутине казарменной серости. Год, когда тебя лишают имени, превращая в винтик безликого механизма. Я буду маршировать по плацу, стиснув зубы, чувствуя, как время – драгоценное, невосполнимое время! – утекает сквозь пальцы, как песок, оставляя лишь пустоту и горечь. Они называют это долгом. Я называю это кражей. Кражей года жизни у человека, у которого и так почти ничего не осталось.
И вот, дембель. Мнимое освобождение. Куда я пойду? Ответ уже написан гарью на стенах моей души. Электрик. Не инженер, не творец – просто электрик. Человек, копающийся в проводах, соединяющий чужие жизни светом, пока его собственная погружается во мрак. Руки в мазуте, запах озона и перегоревшей изоляции – вот чем будет пахнуть мое будущее. А в кармане… пятнадцать тысяч. Эта цифра будет жечь меня изнутри, как клеймо раба. Пятнадцать тысяч рублей – цена моей жизни, моей молодости, моих не спетых песен. Медяки, брошенные под ноги судьбой, чтобы я мог просто существовать, дышать этим отравленным воздухом день за днем, пока не состарюсь или не сопьюсь окончательно. Это будет не жизнь, а медленное угасание под гул трансформаторных будок.
А лицо… О, мое лицо. Зеркала лгут, но люди – никогда. Я вижу это в их глазах – смесь любопытства, брезгливости и жалости. «Самое странное лицо в мире», – как будто сам дьявол пошутил, лепя меня из остатков глины. И с таким «даром»… кого я найду? Надежда на любовь, на нежность, на понимание? Ха! Это сказки для тех, кто родился под другой звездой. Мой удел – найти отражение своей собственной неприкаянности. Какую-нибудь… да, именно такую. Запуганную, неухоженную, возможно, с потухшим взглядом и лишним весом, скрывающим такую же зияющую пустоту внутри. Ту, которую никто другой не выбрал. Ту, для которой я буду не мечтой, а единственным шансом не остаться в вечном одиночестве. Мы сойдемся не по любви – о какой любви может идти речь, когда душа мертва? – а по взаимному отчаянию. Два обломка кораблекрушения, выброшенные на один пустынный берег. И мы будем жить. Вернее, доживать. Вместе делить эту затхлую тишину квартиры, этот быт, лишенный смысла, потому что… а какой, к черту, смысл? Когда все главное уже потеряно, когда сама жизнь стала ошибкой, непоправимой, фатальной. Мы будем существовать рядом, два призрака, касаясь друг друга холодными руками, потому что даже такое тепло лучше, чем ледяной вакуум полного одиночества.
И вот тогда начнется настоящая пытка. Не внешняя – к ней я привыкну. Внутренняя. Она будет грызть меня изнутри, медленно, неумолимо, каждый божий день. Сожаление. Острое, как битое стекло под кожей. Я буду лежать ночами рядом с этой чужой, ненужной мне женщиной, смотреть в потолок и слышать их… не рожденные песни. Мелодии, которые рвались из души, но были задушены страхом, ленью, безысходностью. Стихи, которые так и остались немыми криками на задворках сознания. Все то, чем я мог бы стать, но не стал. Вся та жизнь, которую я предал, променял на жалкое существование за пятнадцать тысяч и койку рядом с чужим телом. Эта боль будет моим вечным спутником, моим палачом. Осознание того, что я сам, своими руками, убил в себе творца, убил в себе человека, убил саму возможность быть счастливым. И это будет продолжаться. День за днем. Год за годом. До самого конца. Мука бездействия, мука упущенных возможностей – вот мой истинный приговор.
И так потечет моя жизнь – мутной, стоячей водой в канаве забвения. День за днем, как удары молота по наковальне души, я буду видеть их. Катю… Румию… Их имена – как раскаленные клейма на моем сердце. Их лица – сияющие, насмешливые призраки из того мира, куда мне вход заказан навсегда. Я буду следить за ними издалека, глазами загнанного зверя, впитывая каждый их жест, каждый смешок, каждую деталь их настоящей жизни. Они будут смеяться, любить, дышать полной грудью, а я – стоять в тени, задыхаясь от пыли своего ничтожества, с моим проклятым, уродливым лицом, которое они, конечно, давно забыли, вычеркнули, как досадную опечатку на полях своей безупречной биографии. Я буду прокручивать в голове их образы, пока они не превратятся в наваждение, в соль, разъедающую свежие раны моего самолюбия. Я буду хотеть их… не как женщин – о нет, это чувство давно атрофировалось, выжжено дотла, – а как символ. Символ всего того, что у меня отнято.
И в самые черные часы, когда отчаяние будет сжимать горло ледяными пальцами, во мне будет вспыхивать она – уродливая, ядовитая мечта. Месть. О, какое сладкое, обжигающее слово! Я буду закрывать глаза и видеть это: я – не электрик с промасленными руками и жалкими пятнадцатью тысячами в кармане, нет! Я – кто-то другой. Кто-то значимый. Кто-то, кто стоит на сцене под софитами, или чье имя печатают в глянцевых журналах рядом с фотографиями тех самых «звезд», на которых они молятся. Я буду видеть их лица, всех тех, кто когда-то скользнул по мне равнодушным или брезгливым взглядом. Их вытянувшиеся физиономии, их немой вопрос: «Неужели это он? Тот самый?..» О да! Это я! Смотрите! Смотрите, кем я стал! Подавитесь своей завистью! Захлебнитесь своим шоком! Я буду купаться в этом воображаемом триумфе, упиваться их унижением, чувствуя, как по венам разливается горячий яд удовлетворенной ненависти.
Но потом… потом пелена спадет. Софиты погаснут. Журналы превратятся в пыль. И я снова окажусь здесь, в своей серой конуре, с запахом перегоревшей проводки и дешевой еды. И тогда меня накроет с новой, удесятеренной силой. Сожаление. Не просто сожаление – а всепоглощающая, черная дыра, в которую будет проваливаться остаток моей души. Оно будет душить меня осознанием того, что все это – лишь бред воспаленного мозга. Что я не стал. Не стал тем, кем они меня и представить не могли. Не стал даже тенью той мечты. Я остался здесь, на самом дне, копошащимся червем, не способным даже выползти на свет. И эта мысль будет страшнее любой физической боли – осознание собственной ничтожности, собственной капитуляции перед жизнью. Я буду снова и снова возвращаться к этому моменту – к точке невозврата, где я свернул не туда, где я предал себя, где я позволил страху и лени убить все живое во мне. И каждый раз эта пытка будет начинаться заново.
А рядом будет она. Та самая… Мое живое воплощение компромисса и отчаяния. И конечно, она будет изменять. Как иначе? Разве может кто-то хранить верность такому, как я? Разве можно желать это тело, это лицо, эту душу, покрытую трупными пятнами несбывшихся надежд? Нет. Она найдет кого-то другого – кого-то попроще, поживее, кого-то, кто не будет смотреть на нее глазами мертвеца. Это будет грязно, пошло, предсказуемо. Узнаю ли я об этом? Возможно. Будет ли мне больно? Нет. Только злость. Холодная, острая злость и бесконечная усталость. Я просто скажу ей катиться. Вышвырну ее из своей жизни, как выбрасывают мусор. Без криков, без слез. Просто – пошла вон. И снова останусь один в этой пустоте.
И тогда… Может быть. Слабый, почти неразличимый проблеск в беспросветном мраке. Может быть, подвернется кто-то еще. «Хорошая девушка». Что это значит? Я не знаю. Может быть, та, что не будет смотреть с отвращением. Та, что увидит во мне не урода, а просто… человека? Уставшего, сломленного, но человека. И, может быть, мы сможем… жить? Не существовать, а именно жить? Построить какой-то свой маленький, хрупкий мирок, отгороженный от остального враждебного пространства.
Но полюбить? Нет. Это слово для меня – пустой звук, бессмысленный набор букв. Мое сердце – выжженная пустыня, где не может прорасти ни одно чувство. Я смотрю на женщин – на всех женщин мира – и не чувствую ничего. Ни влечения, ни нежности, ни даже простого интереса. Пустота. Ледяная, звенящая пустота. Я разучился любить. Или, может, никогда и не умел? Может, я изначально был бракованным изделием, не способным на это? Так что нет, любви не будет. Я не смогу дать ей то, что давно мертво во мне самом. Я буду рядом, буду делить с ней кров и постель, но душа моя останется неприступной крепостью, покрытой льдом.
Хотя… Кто знает? Этот чертов внутренний голос, этот жалкий остаток надежды, который никак не хочет умереть… Он шепчет: «А вдруг? Вдруг именно она? Вдруг она сможет растопить этот лед? Вдруг ее тепло, ее терпение… вдруг случится чудо?» И я цепляюсь за эту мысль, как утопающий за соломинку. Может быть, она мне понравится. Не полюблю – нет, это невозможно, – но она мне понравится. Ее улыбка. Ее голос. Тепло ее руки. И мы будем жить… как живут нормальные люди? «В любви и здравии»? Звучит как издевательство. Как строка из чужой, не моей сказки. Но может быть… может быть, мы сможем хотя бы изображать это? Играть в семью, в нормальность?
И как закономерный итог этой игры – ребенок. Он появится. Не потому что мы его ждали, не потому что он плод великой любви. А потому что так положено. Так у всех. Еще один шаг по проторенной колее бессмысленности. Мы будем его растить. Менять пеленки, кормить, учить ходить… Я буду смотреть на это маленькое существо и видеть в нем… что? Продолжение себя? Или еще одну загубленную жизнь? Буду ли я чувствовать к нему хоть что-то, кроме глухого раздражения и вечной усталости? Не знаю.
И все это… вся эта карусель отчаяния, фальшивой надежды и неизбежного разочарования… свершится так быстро. Мне стукнет двадцать пять. Или двадцать шесть. Возраст, когда другие только начинают жить, строить карьеры, влюбляться по-настоящему. А моя жизнь будет уже фактически закончена. Замурована в этом болоте. Двадцать шесть лет… Господи, какая насмешка. Целая вечность впереди – вечность медленного гниения заживо.
И вот она – беременна. Ее тело, некогда просто чужое, теперь становится сосудом, инкубатором для новой жизни – и для моего окончательного погребения. Месяц за месяцем я наблюдаю, как растет ее живот, и это не вызывает во мне ни трепета, ни умиления. Это просто биологический процесс, неумолимый, как ход часов на стене камеры смертника. Каждый сантиметр ее увеличивающейся талии – это еще один виток веревки, затягивающейся на моей шее. Это зримое доказательство того, что пути назад нет, что ловушка захлопнулась.











