Читать онлайн Разбор роли: Психология для актеров, режиссеров и сценаристов
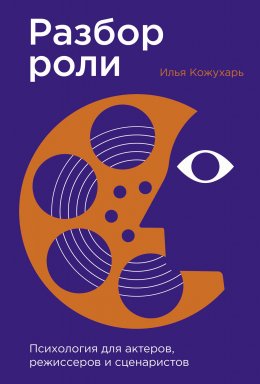
Знак информационной продукции (Федеральный закон № 436-ФЗ от 29.12.2010 г.)
Научный редактор: Павел Руднев, канд. искусствоведения
Редактор: Юлия Быстрова
Издатель: Павел Подкосов
Руководитель проекта: Александра Шувалова
Художественное оформление и макет: Юрий Буга
Корректоры: Ольга Петрова, Зоя Скобелкина
Верстка: Андрей Фоминов
В книге использованы фотографии: Sipa USA / Legion-Media; Ullstein Bild / Getty Images; United Archives / Legion-Media; Bettmann / Getty Images (3); РИА Новости / Россия сегодня; Фотоархив Российской академии наук; Legion-Media (3); Нацио- нальный архив Нидерландов, Гаага; Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского; музейная коллекция замка Скуклостер, Швеция; частная коллекция; Архив Смитсоновского института; Science Photo Library / Legion-Media; Библиотека Конгресса США; фото и видеоархив Университета Эмори; Michael Evans / New York Times Co. / Getty Images; Ron Galella Collection / Getty Images; Paul Ekman Group, LLC; личный архив А. П. Ершовой; Bill Peters / The Denver Post / Getty Images; Shutterstock (2); Национальная библиотека медицины США; Библиотека Федерального технологического института, Цюрих; Imago / Legion-Media; Музей Лувра; Barry King / WireImage / Getty Images; Jill Freedman.
Все права защищены. Данная электронная книга предназначена исключительно для частного использования в личных (некоммерческих) целях. Электронная книга, ее части, фрагменты и элементы, включая текст, изображения и иное, не подлежат копированию и любому другому использованию без разрешения правообладателя. В частности, запрещено такое использование, в результате которого электронная книга, ее часть, фрагмент или элемент станут доступными ограниченному или неопределенному кругу лиц, в том числе посредством сети интернет, независимо от того, будет предоставляться доступ за плату или безвозмездно.
Копирование, воспроизведение и иное использование электронной книги, ее частей, фрагментов и элементов, выходящее за пределы частного использования в личных (некоммерческих) целях, без согласия правообладателя является незаконным и влечет уголовную, административную и гражданскую ответственность.
© Кожухарь И., 2025
© ООО «Альпина нон-фикшн», 2025
Предисловие
Оснащенный актер
Книга Ильи Кожухаря обречена на то, чтобы ее не просто читали, но ею пользовались. В ней сочетаются инновационные подходы к разбору ролей в театре и кино (оснащенная теория) и практические советы по самостоятельной работе актера над собой и над ролью. Автор – не историк психологии, не режиссер и не искусствовед, автор – актер и оратор, педагог, обладающий профессиональными знаниями в современной психологии.
Наука актерской деятельности – система К. С. Станиславского – задумана им так, что она должна постоянно меняться и совершенствоваться. И так это и работало в России и мире за век ее использования. Систему понимали и разрабатывали все по-разному, создавали к ней массу пристроек. Кожухарь предлагает принципиально другое развитие Системы: расширение знаний о психологии. Станиславский основывает свое учение о психологическом театре на опыте дофрейдистской и околофрейдистской литературы. Если мы продолжаем считать отечественный театр психологическим, то необходимо учитывать новейшие течения в этой области. Ведь изменения в психологии фиксируют изменения в человеческой природе, свидетельствуют о более глубоком погружении в сущность человека.
Книга Ильи Кожухаря о том, как усложнять театр, как усложнять актерские задачи. Система Станиславского – она ведь об осознанности прежде всего. Каждая секунда существования на сцене должна быть осмыслена актером. Круги внимания, сверхзадача, сквозное действие, наблюдение – все эти механизмы становятся антропологической практикой, опытом изучения человека. Сыграть роль, по Станиславскому, значит полюбить людей. Сложность психологического знания не означает, что книга написана наукоемко. Напротив, Кожухарь предельно прост. Опытный лектор и актер, испытавший всё на себе, он умеет трансформировать сложное в повседневную лексику актера, говорит языком репетиции.
Владея основами системы Станиславского (а так или иначе с ней знакомы все дипломированные российские артисты), актер может проникнуть в глубины современной психологии. Станиславский помогает ее понять. Любое знание тут работает конкретно на разбор ролей. Концепция «иметь или быть» Эриха Фромма, поиск смысла существования Виктора Франкла, набор базальных тревог Карен Хорни, защитные механизмы психики по Зигмунду Фрейду, транзакции между статусами «родитель», «взрослый», «ребенок» Эрика Берна, психические расстройства по тесту MMPI – все это является поводом для систематизации актерского творчества, уточнения знаний о человеке и о персонаже. Каждый этап освоения сопровождается примерами, и, что принципиально важно, не только из классики мировой драматургии, но и из массового кинематографа. Причем психологические знания нужны артисту не отдельно друг от друга, а в комплексе, их можно и нужно использовать все вместе, поэтапно.
Попутно автор книги объясняет Систему саму, ведь этот факт известен: самим Константином Сергеевичем она объяснена не до конца. Принципиальными вопросами книги становятся ключевые вопросы для актерского творчества. Может ли поведение персонажа быть немотивированным? Может ли меняться сверхзадача? Как искать действие? Как работает механизм внимания и какова связь внимания с аффективной памятью? Как различить эмоцию, чувство, настроение и оценку? Что такое характер и что такое темперамент – что приобретается с рождения, а что нет?
Книга Ильи Кожухаря прорывная. Она синтезирует каноническое знание с новейшими психологическими разработками российских и иностранных ученых, доказывая прежде всего, что театр усложняется, становится все более нюансированным, знание о человеке расширяется. И, стало быть, актерские задачи постоянно растут, ширятся. Актер в бесконечном процессе самопознания и познания человеческой природы расширяет свой диапазон и свои приемы, становится многослойным. Законы правдоподобия требуют усложнения представлений о человеке – о том, что, собственно, и изучает институт театра.
Павел Руднев,театральный критик, кандидат искусствоведения, доцент Школы-студии МХАТ
Благодарности
Этой книги не могло бы возникнуть, если бы в течение долгих лет сквозь мою жизнь не прошли психология и театр. И я благодарен очень многим людям, которые открывали передо мной две эти сферы жизни, увлекали ими, помогали разбираться и становиться профессионалом. Но в первую очередь я хочу выразить благодарность своей маме Галине, которая заложила во мне интерес к психологии (и кучу других интересов) и убедила получить фундаментальное образование. А потом не только смирилась с моими бесконечными театральными репетициями, но и активно поддерживала меня.
Мне очень повезло обрести свой театр-дом, театральную семью, в которой я на протяжении двадцати лет занимался любимым делом с близкими по духу людьми. И я невероятно благодарен бессменным руководителям театра МОСТ Евгению Иосифовичу Славутину и Ирине Александровне Большаковой за это, за уроки мастерства, за общие ценности, за годы творческого счастья и за испытания, которые помогли мне стать собой. И конечно же, за прекрасный коллектив театра, моих друзей и коллег, с которыми я вместе рос в профессии и благодаря им узнавал, как нужно и как не нужно играть на сцене.
Хочу сказать огромное спасибо всем преподавателям факультета психологии Московского университета, у которых мне довелось учиться. Благодаря психфаку я прокачал, пожалуй, самый важный навык – умение и привычку думать. А люди, которых я нашел в МГУ, до сих пор рядом. И отдельная благодарность моему другу и однокурснику Ивану Коновалову за въедливое прочтение этой книги и поиск «психологических тараканов». Надеюсь, что ни один не убежал от его внимательного взгляда.
Курс, который стал основой этой книги, я начал читать в Высшей школе сценических искусств Константина Райкина. Я очень признателен Константину Аркадьевичу за ту открытость новому, которую он сохраняет в Школе, и за возможности это новое в стенах Школы создавать. Также хочу поблагодарить профессора Дмитрия Трубочкина за предложение сделать психологический семинар для актеров и безоговорочную поддержку и кураторство всей той активности, которую я на основании этого предложения развил. От Дмитрия Владимировича я получил так много авансов, что хватит еще надолго.
Высшая школа сценических искусств стала для меня еще и второй альма-матер, здесь я получил высшее актерское образование. И я невероятно благодарен за годы учебы всем педагогам своего курса, особенно мастеру нашего курса Сергею Шенталинскому. Сергей Витальевич помог мне выработать критерии профессионализма, на которые я не раз опирался в работе над этой книгой. И специальная благодарность моему педагогу, режиссеру и другу Якову Ломкину за все спектакли, в которых мне посчастливилось сыграть: это очень помогло мне утвердиться в профессии.
Большое спасибо Павлу Рудневу за искренний интерес к моей работе начиная с ранних этапов. Павел Андреевич не только привлекал меня как педагога к работе со своими студентами и приглашал вести публичные лекции, но любезно согласился оценить эту книгу и обеспечить ее предисловием. Для меня это невероятно ценно.
Мне очень повезло сразу же попасть с рукописью в слаженную профессиональную команду издательства «Альпина нон-фикшн». И я благодарен всем коллегам, которые приняли участие в работе над книгой. Спасибо, что стали проводниками в этот новый для меня книжный мир. Издаваться с вами было сплошным удовольствием.
Кажется, невозможно писать книгу и не делиться ею хотя бы с кем-нибудь. Мне исключительно повезло: я мог не только дать почитать книгу друзьям, но и получить в ответ ценные предложения, многие из которых пошли в дело. Спасибо за такое вдумчивое чтение я хочу сказать Марии Нефедовой, моей подруге и соавтору по сценарной профессии. Благодаря ей этот текст стал более разговорным и менее академичным. А все основные инструменты из книги мы совместно опробовали в работе над киносценариями.
Спасибо еще одному экспертному читателю и моей ближайшей подруге Лизе Патюрель, которая помогала мне наводить порядок в главах и честно говорила, что ей непонятно, там, где было непонятно. Ну и, конечно, отдельное спасибо Лизе за экспертное мнение обо всем, что связано с Гарри Поттером.
Наконец, огромная благодарность моей жене Маше, без чьей поддержки этой книги точно не было бы в том виде и качестве, в которых она существует. Бесконечно выслушивать мои рассуждения на одни и те же темы, вычитывать все тексты, а главное – заряжать меня искренней верой в мои же способности – все это очень дорогого стоит. Спасибо.
Введение
Кому будет интересна эта книга? Тем, кому небезразличен мир театра и кино. Тем, кому нравится не только следить за сюжетом фильма или спектакля, но и изучать характеры героев, проникать в их взаимоотношения, доискиваться глубинных причин их поступков. Мне очень хотелось создать сплав психологии и творчества, который увлечет самых разных людей. Поэтому в основу книги легли известные классические и современные психологические теории, которые не только пригодятся при создании и разборе персонажа, но и будут любопытны тем, кому выходить на сцену не приходится. Да и будущие профессиональные актеры, которым я читаю лекции, первым делом всё примеряют на себя, а вовсе не на персонажей. И это естественно: мы познаем мир, сопоставляя все новое со своим личным опытом. Ну а примеры из известных фильмов и пьес помогут вам увидеть различные психологические типы и проявления не только в себе, но и в хорошо знакомых героях.
Будем честны: в первую очередь при написании этой книги я думал об актерах. В ней есть ответы на «неприличные» вопросы, которые так неловко задавать, будучи в профессии. На мой взгляд, неправильных вопросов не существует. Поэтому я постарался найти такие ответы на них, которые сделают для вас процесс создания персонажа проще и увлекательнее. Мы поговорим о том, с чего начинать разбор роли, о чем не следует забывать ни при каких обстоятельствах, на чем нужно сосредоточиться во время игры. Я предложу вам шпаргалки для создания характеров и выбора сверхзадач, мы проложим путь от сверхзадачи к действию «здесь и сейчас», найдем способы играть «второй план», давать точные эмоциональные оценки и многое другое. Надеюсь, благодаря этой книге у вас всегда будет под рукой инструментарий для поиска нового, чтобы не оказываться в тупике в работе над ролью и не страдать (как не раз бывало со мной).
Эта книга не менее полезна и режиссерам. Ведь как в театре, так и в кино режиссер должен пройти вместе с актером тот же самый путь разбора роли. Более того, все линии ролей режиссеру необходимо объединить в симфонию конечного результата – фильма или спектакля. Для этого нужно очень хорошо понимать, что каждый образ дает истории в целом. А если вы пришли в режиссуру не из актерской профессии, то понимание внутренней кухни актерской игры поможет вам более тонко и чутко настраивать инструмент актерской психики в соответствии с вашим замыслом.
Уверен, много полезного откроют для себя и сценаристы. Ведь путь драматурга очень близок пути актерскому. Только там, где актер разбирает и додумывает, драматург создает с нуля. При этом законы создания образа одинаковы для всех. Только актерские сверхзадача и сквозное действие называются в сценаристике «целью» и «аркой». Суть их от этого не меняется. Пожалуй, более важное отличие состоит в том, что автор работает с текстом и визуальным образом, который в этом тексте воплощается, а актер этот образ «оживляет» уже в реальном действенном процессе. Но все это фазы одного цикла, и психологические закономерности для них едины. Будучи сценаристом, я сам активно применяю психологические знания в работе и ответственно заявляю: это очень помогает.
А теперь несколько слов о том, как эта книга появилась на свет.
Так вышло, что со студенческих лет моя жизнь оказалась очень плотно связана одновременно с психологией и театром. Дело было так: я очень хотел поступать на актера, но меня отговорили. Получи, мол, нормальную профессию. Видимо, я не был достаточно уверен в своих силах, поэтому согласился. И пошел поступать на психолога – прямиком на факультет психологии Московского университета. Но так как страстью к театру я продолжал пылать, то сразу же после поступления в университет я попал в студенческий театр МГУ (он же – театр МОСТ), где остался на долгие годы. И все-таки стал актером, параллельно выучившись на психолога.
Мне всегда казалось, что мое психологическое образование должно помогать в моей актерской профессии. Ведь психолог, как-никак, учится разбираться в людях. А именно это нужно актеру для того, чтобы сыграть роль. На деле выходило наоборот. Я слишком много думал во время игры, а зачастую и вместо игры. В итоге пришлось перестать думать, в том числе о психологии, чтобы дело пошло на лад. Но мысль о том, что психология все же может пригодиться актеру, подспудно продолжала жить во мне. И мне понадобилось получить высшее актерское образование, чтобы эта мысль трансформировалась во что-то большее.
Когда профессор Дмитрий Трубочкин предложил мне провести семинар по психологии для студентов-актеров Высшей школы сценических искусств Константина Райкина (где я к тому времени учился на актерском), я вначале почувствовал себя в тупике. О чем, давно забытом, рассказывать, чтобы это принесло какую-то пользу? Я уже года три как «завязал» с психологией, и знания покрылись легким слоем пыли. Нужно было за что-то зацепиться. Тогда я открыл «Работу актера над собой» Станиславского, прочитанную когда-то давным-давно, начал читать ее заново – и вдруг у меня «щелкнуло». Так вместо семинара родился целый курс, и я невероятно благодарен Школе Райкина за то, что этот курс удалось реализовать. Он и лег в основу книги, которую вы держите в руках. А теперь несколько слов о том, что именно у меня «щелкнуло».
Константин Сергеевич, работая над своей Системой, изучил огромное количество актуальной психологической литературы. В его архивах можно найти упоминания трудов И. М. Сеченова, И. П. Павлова, Т. Рибо, И. И. Лапшина и ряда других психологов[1]. Фундамент актерского метода, им разработанного, в первую очередь зиждется на психологическом знании. Но с момента создания Системы прошло ни много ни мало сто лет. И все это время психология активнейшим образом развивалась. Так почему бы, подумал я, не совместить систему Станиславского с актуальным психологическим знанием? И стал совмещать. И по дороге выяснил, что не был первым на этом пути.
Например, актер, режиссер и теоретик театра Петр Ершов не только внес большой вклад в разработку идей Станиславского, но и совместно с психофизиологом Павлом Симоновым провел анализ Системы с точки зрения физиологии высшей нервной деятельности[2]. На их работы я не раз буду ссылаться. Правда, сам Симонов пишет: «Мы озабочены гораздо больше тем, что физиология высшей нервной деятельности человека может взять у Станиславского, нежели стремлением оказать помощь театральной педагогике и театроведению»[3]. Мы же собираемся без стеснения брать у психологии и отдавать театру и кино.
Когда я уже несколько лет вел курс «Психология для актеров», появилась книга Татьяны Салахиевой-Талал «Психология в кино»[4], которую я настоятельно рекомендую всем, кто имеет отношение к индустрии. И совпадение ряда идей этой книги с найденными мною инструментами стало еще одним доказательством верности выбранного направления.
Попытки применения психологии для актерских нужд предпринимались и за рубежом. Книга Роберта Блюменфельда «Инструменты и техники для интерпретации персонажей» (Tools and techniques for character interpretation: a handbook of psychology for actors, directors and writers)[5], вышедшая в Соединенных Штатах в 2006 году, подробно описывает основные психоаналитические течения от Фрейда и до наших дней. Но книга эта скорее теоретического характера: в ней не хватает как раз инструментов и техник, заявленных в названии.
Я же постарался совместить теоретические знания с конкретными алгоритмами, которые помогут вам последовательно пройти основные этапы разбора роли. Книга была задумана как большая и подробная инструкция, и я надеюсь, таковой для вас и станет. Поэтому она насыщена примерами как из театральной драматургии, так и из кино. Советую вам параллельно перечитать «Чайку» Чехова[6] (Ирину Аркадину и Костю Треплева я особенно часто использую для разбора), а также освежите в памяти шекспировского «Гамлета»[7] и «Сирано де Бержерака» Эдмона Ростана[8]. Героев из кино я беру в основном самых известных, тех, что на слуху, скажу больше – попсовых. «Гарри Поттер и философский камень» и «Игра престолов» в качестве примеров будут упоминаться чаще, чем классика кинематографа. Честно говоря, больше всего я люблю приводить для примеров героев мультфильмов: у них самые яркие характеры и самые внятные цели. Глядя на них, проще всего понять, куда стремиться.
Сразу оговорюсь: когда речь идет о разборе уже созданных творческих произведений, фильмов или спектаклей, мои предположения носят исключительно умозрительный характер. Я никому не навязываю свою точку зрения и прекрасно понимаю, что авторы этих произведений пользовались своими схемами и представлениями, которые могут не совпадать с теми, которые я предлагаю в этой книге. Кроме того, искусство прекрасно тем, что оно субъективно. Поэтому два человека, посмотрев одно и то же, могут испытать совершенно разные чувства и сделать противоположные выводы. Например, на лекциях о сверхзадаче мы со студентами разбираем героев из «Игры престолов». Так вот, не было ни одного раза, чтобы мы не схлестнулись в жарком споре о цели Дейенерис и сценарных решениях последнего сезона. И это всегда прекрасно по форме, но бесцельно по содержанию, если считать, что кто-то в таком споре может быть более прав. Поэтому, если вы не согласны с моими выводами, не принимайте их близко к сердцу. Моей задачей было продемонстрировать логику разбора, вооружившись которой вы сможете создать героя таким, каким его видите только вы. Но сделаете это, основываясь на психологически достоверных конструктах.
Несколько слов о логическом устройстве этой книги. Мы начнем разбор со сверхзадачи героя, ответим на вопрос «Зачем?», без которого невозможен ни один человеческий поступок, и создадим собственную классификацию сверхзадач (глава 1). Затем мы проследим путь от сверхзадачи к действию, которое является единицей актерской игры. Для этого нам нужно будет пройти через сквозное действие, сценическую задачу и предлагаемые обстоятельства (глава 2). Следующим шагом станет погружение во второй план персонажа, мир скрытых от зрителя переживаний и травм. Поможет нам в этом знакомство с защитными механизмами психики (глава 3). Затем мы поговорим о работе внимания и восприятия героя (глава 4), которые я включаю в основной «игровой цикл», состоящий из замкнутой последовательности «действие – восприятие – оценка – пристройка – действие». Описание этого «круга», который не раз поможет нам в разборе, я взял у П. М. Ершова[9], добавив в него «восприятие». В главе 5 мы поговорим об «оценках», то есть об эмоциях: обсудим, какие бывают виды эмоциональных состояний, что заставляет персонажа эмоционально реагировать и как эти реакции не пропустить. После этого мы подробно изучим понятие «пристройка» и свяжем с ним представление об эго-состояниях Родителя, Взрослого и Ребенка, которые предлагает автор книги «Игры, в которые играют люди»[10] Эрик Берн (глава 6). В главе 7 мы познакомимся с понятиями темперамента и характера и разберем основные черты характера персонажа. Глава 8 тоже посвящена характеру, в ней мы будем учиться использовать психологические тесты для создания характера героя. После этого поговорим о «подключении» к роли и о том, почему нам необходимо неравнодушие к образу, а главное – откуда его брать (глава 9). И, наконец, в главе 10 я проведу подробный разбор одного героя, Кости Треплева из чеховской «Чайки», применяя все инструменты, описанные ранее.
Если вы собираетесь использовать материал этой книги в практических целях (неважно, играть роли, ставить спектакли или писать сценарии), то настоятельно рекомендую с самого начала совмещать теорию с практикой. Выберите одного персонажа и пройдите вместе с ним путь разбора от начала до конца. Алгоритмы в конце каждой главы помогут вам применить полученные знания, а проделанную вами работу вы можете сравнить с примером полноценного разбора героя в главе 10 – и при необходимости поправить или дополнить ее.
И последнее, о чем хотелось бы сказать перед тем, как вы приступите к чтению основного текста. В этой книге – множество схем, алгоритмов и пошаговых инструкций. Но я ни в коем случае не хочу превратить искусство в науку и создать механизм идеального разбора, работающий как часы. Все эти инструменты нужны лишь до той поры, пока они не запустят то волшебное, интуитивное и бессознательное, что мы называем процессом творчества. И в этот момент о схемах можно и нужно забывать. Но, как показывает опыт, по дороге они пригодятся – и даже не раз.
Глава 1
Сверхзадача и мотивация. Сверхзадачи «для себя» и «для другого»
Подход, который мы привыкли называть системой Станиславского, носит название «метод действенного анализа роли»[11], и, в общем-то, неслучайно. Ведь главное, что нужно знать актеру, – какие действия совершает его герой. Эти действия он воплощает на сцене или в кадре. Но у любого человеческого поступка существует причина, и определить действия мы можем только после того, как докопаемся до нее. В психологии все процессы и явления, описывающие поведение человека, соотносятся со сферой мотивации. У Станиславского первопричина всех поступков героя называется «сверхзадачей», и только после того, как она будет найдена, можно приступать к дальнейшему разбору роли. Собственно, и сценарист работает по тем же законам: только определив цель персонажа, можно отправить его в дальнейший путь через пьесу или сценарий.
По сути, сверхзадача отвечает на вопрос «Зачем?». Мы разберемся в том, что она из себя представляет с точки зрения психологии. А затем обратимся к научному опыту, чтобы создать собственную классификацию сверхзадач, которая будет работать для любых ролей и жанров.
Сверхзадача по Станиславскому
Начнем с того, что сверхзадача есть не только у персонажа. Можно выделить четыре основных типа сверхзадач[12]:
Сверхзадача автора (писателя, сценариста, драматурга) – основная идея, которую автор заложил в свое произведение и которая напрямую связана с главным конфликтом истории. Как читатели мы можем нащупать ее интуитивно. Если работа идет над известным материалом (пьесой или романом), на помощь приходят многочисленные и подробные литературные разборы того, что именно хотел сказать автор своим произведением. Это не означает, что всем разборам нужно верить, но разные точки зрения помогут вам составить свое личное впечатление. Ну а если мы работаем со сценарием, то там сверхзадача называется словосочетанием, которое сейчас у всех на слуху: «сюжетная арка». Арка истории обязательно прописывается сценаристом, часто совместно с режиссером. И если есть возможность, то лучше напрямую узнать ее у автора. Это нужно для того, чтобы выбрать персонажу сверхзадачу, которая будет работать на основные смыслы истории. Если же вы и есть сценарист, то свою авторскую сверхзадачу вы, скорее всего, привыкли обозначать словами «месседж» или «посыл». Это основной смысл вашей истории, который вы раскрываете через ключевой конфликт и изменение главного героя.
Сверхзадача режиссера – замысел, который воплощает режиссер в процессе работы над материалом. Это всегда что-то «сверх» авторского текста. Особенно это актуально для театра, где режиссерский взгляд полностью преломляет текст пьесы, иногда даже изменяя первоначальные смыслы. Но и в кино у режиссера не получится просто экранизировать сценарий, механически перенести его со страницы на пленку. Поэтому нам очень важно понимать режиссерскую сверхзадачу, чтобы направить своего персонажа по тому пути, который будет созвучен общему замыслу. Опять же, если есть возможность спросить об этом режиссера, то ею непременно нужно воспользоваться.











