Читать онлайн Жизнь, которая словно навечно
- Автор: Анастасия Рубанова
- Жанр: Остросюжетные любовные романы, Современная русская литература, Современные любовные романы
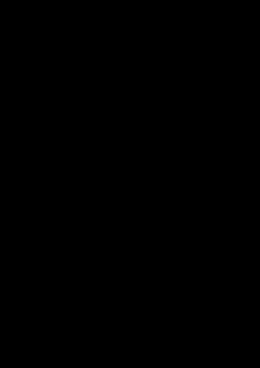
Ни одно из событий не является плодом воображения,
любые совпадения с реальными людьми не случайны.
Книга первая. Энгебург
Глава 1. Однажды в «La clé»
– Мне голубой, – после томительной примерки решилась, наконец, девушка.
– Но позвольте заметить, розовый ободок Вам идет куда больше. К тому же он добавляет нежности, – прикрываясь советом, возразила привлекательная продавщица уже не молодого, но и отнюдь не преклонного возраста.
– Мне. Голубой, – изумилась наглости навязывать свое мнение Катерина Рудковски. – К тому же, – она постаралась повторить тон, – нежность в образе мне не нужна.
– Конечно, как скажете. С вас десять рублей, – женщина оставила попытки сделать «как лучше» и уступила.
– Благодарю, – Рудковски швырнула две пятирублевые банкноты на прилавок и выдавила из себя не то оскал, не то улыбку. Оружие это девушка использовала, чтобы замести следы, оставшиеся после грубых слов и резких замечаний. Сама она прекрасно понимала: улыбка ее скорее пугает, нежели располагает. Осознавала Катерина и то, что вне зависимости от ее намерений не нашлось еще за все двадцать лет человека, который смог устоять перед лукавыми ямочками – следствием столь излюбленного ею жеста.
Рудковски поспешно удалилась из магазина. Слишком расточительно с ее стороны провести там лишние пару секунд. Девушка высоко ценила свое время и ужасно раздражалась, когда из-за обстоятельств, от нее не зависящих, хотя бы минута уходила на ничем не занятое прозябание.
Возмущала Катерину и сама неподвластность такого рода случаев. Она не терпела вещи, повлиять на какие она не могла. Рудковски и только она должна быть во главе всего, за что бы она ни бралась.
Решительным шагом девушка перешла на другую сторону дороги, прошла мимо нарядно украшенных к Новому году магазинов и направилась в открытую месяца три назад кофейню – ее открытие стало невиданным потрясением для жителей столь небольшого городка, как Энгебург.
Первое время хозяевам едва ли хватало ведер, чтобы выплескивать воду от потока желающих попробовать новое. Люди приходили сюда если не за соблазнительными десертами, цена которых была неоправданно завышена, то хотя бы за чашечкой кофе. Уж кофе в «La clé» варили отменный.
Пребывание в заведении подобного рода превращало внешний мир во что-то отдаленное и нереальное, а трапезы растягивались на часы. Такой расклад выбил бы из колеи добрую половину горожан, привыкших занимать любую минуту «стоящим делом» и не желающих подстраиваться под новые порядки. Так, спустя два месяца после открытия ряды посетителей стали редеть, и теперь в кофейне едва ли насчитывалось больше пяти человек одновременно. Да и те не засиживались дольше получаса.
Эта данность явилась первопричиной зарождения к заведению светлого, но до этой поры так и не познанного девушкой чувства любви. Впрочем, в «La clé» Катерину манила не только возможность выпить чашечку отменного чаю. Не горела девушка и перспективой более продуктивной работы вне дома, где одни лишь оттенки стен мурчали о праздной лености. Однако каждые вторники и четверги, пронесись через город хоть татаро-монгольское иго, Рудковски упрямо брала свои книги, обшитый искусственной кожей блокнот и ноутбук и отправлялась в «La clé» – на первый взгляд, для глубокого дайвинга в непростую учебу.
Неясным для самой девушки оставался вопрос: училась ли она искусству перевода – заочной специальности в вузе, на какой Рудковски тратила жизнь, или мастерству создавать загадочный образ гостьи, ничуть не увлекшейся симпатичным бариста.
Катерина славилась натурой влюбчивой. Она легко западала на внешность, что влекло за собой какой-то предательский трепет. Впрочем, уже в течение недели тонкая пелена, пробить которую можно было одной нелепой или неуместной фразой, падала с ее глаз, и Рудковски снова и снова обманывалась в ожиданиях.
Заглянуть в заведение Катерина решила не сразу. Лишь когда кричать о нем стали на каждом углу, а фотографий оттуда не осталось только у Рудковски, девушка закатила глаза, тяжело выдохнула и, схватив сумку, быстрой походкой направилась в эпицентр массового помешательства. Решение это было основано не столько на любопытстве к новому, сколько на опасении упустить что-то важное, о чем, казалось, знают все, кроме нее самой.
Едва переступив порог новомодной кофейни «La clé», девушка тотчас же поняла поголовную ей одержимость. Не будь в кафе и предмета мебели, его атмосфера обволокла бы, как непроглядный туман, всяк сюда входящего; околдовала его и принудила возвращаться снова и снова. Так случилось и с Катериной.
– Добрый день. Будьте добры, чай с земляникой. Что? Да-да, без сахара, – Рудковски частенько делала вид, что по-детски терялась и не могла вновь собраться в присутствии тех парней, на каких она западала.
– Одну минуту, пожалуйста, – низким, приятным голосом ответил бариста, имя которого – «Генри» – предательски выдавал его бейдж на нагрудном кармане.
Катерина любила усомниться во всем, что ее окружало, что говорили люди и даже что видела она сама. Колебалась девушка и сейчас: удалось ли ей проявить кокетство или звучала она, как дерзящая откровенность? Случай был нешаблонный, и причина – в самой жертве, чье сердце Катерина вознамерилась покорить еще с ее первых минут в «La clé».
Девушка понимала: будь бариста коренным энгебуржцем, она с самого детства знала бы юношу если не лично, то, по меньшей мере, через скандальные сплетни. А значит, перед Рудковски открылся короб возможностей показать себя пареньку – новоприбывшему в городишко и потому не заведшему в нем ни друзей, ни врагов – в выбранном исключительно ей самой свете.
Ненавистным ей методом проб и ошибок девушка обозначила дни, по которым приятный глазу юноша с приятным уху голосом растрачивает свой – так показалось Рудковски – артистический талант, «состоя на службе» в простой кофейне. И теперь дважды в неделю, разложив учебное снаряжение на одном из модно украшенных мини-столов, Катерина клепала досье на бариста, наблюдая за каждым его грациозным движением и оценивая каждое остроумное слово.
– Девушка? – внезапный, настойчивый, но не лишенный при этом мягкости голос рассеял рой мыслей, симфонией громыхающих в голове Катерины.
– Простите, Вы мне?
– Я говорю: «Возьмите Ваш чай», – с улыбкой, подобающей работнику заведения такого уровня, произнес Генри.
– О, конечно, благодарю, – фирменная улыбка, наклон головы, проступившие ямочки – игра Катерины была бесподобной.
– Наслаждайтесь, – молодой человек протянул кружку чая, и Рудковски поспешно заняла любимое место – угол у окна.
Попав на привычную территорию, открывающую вид на пространство кофейни, Катерина вдруг осознала: она занимается тем, что не приносит ни результата, ни удовольствия. И длится все это уже непростительно долго.
Мысль девушки лихорадочно заработала. Выстроив в голове пятиэтажные интегралы и решив «ничего не меняется, если ты ничего не меняешь», – Катерина пришла к редкому для нее заключению: нужно действовать. Больше того – действовать незамедлительно.
«Кто вообще заявил, будто первый шаг – прерогатива сильного пола?», – произнесла про себя девушка. Примерив на себя роль маятника и покачавшись между «подойти» и «остаться на месте», Катерина определилась с задачей.
Отмахнувшись, как от назойливых комаров летним вечером, ото всяких опасений, девушка вспомнила: она здесь не ради капитуляции. Если Рудковски действительно хочет привести план в исполнение, причины, по которой ей следует отступить, не имеется.
Катерина быстрым, уверенным шагом направилась к кассе. С безупречной осанкой, выдвинув подбородок вперед и кокетливо приподняв свою острую бровь, девушка приближалась к цели. Параллельно в мозгу ее шла репетиция наспех составленного диалога.
На лице у Рудковски играла улыбка. Не такая открытая, какой озаряют близкого друга при встрече, следующей за долгой разлукой, но и не нарочито застенчивая. Словом, вскрывать все карты девушке не хотелось.
– Что-то не так? – Генри только что подал мужчине лет сорока свежезаваренный кофе, и юношу озадачил факт: клиентка подошла снова. Словно у нее могла быть причина жаловаться на халатность бариста, и будто эта халатность в принципе имела место.
Недоумение парня читалось в резко нахмуренных бровях и неестественно застывшей позе. И хотя он точно знал о безупречности своей работы, на лице Генри забегали светотени тревоги.
– Все замечательно, – с той же хитрой улыбкой ответила девушка. Эффект, который Рудковски произвела вторжением в рабочий процесс юноши, немало ее порадовал.
Генри молчал. Он лишь слегка наклонил голову, как если бы ожидал ответа на невысказанный им вопрос, подталкивая девушку к обличению мыслей в словесную форму.
– Могу ли я предложить Вам совместную деятельность, чуть более привлекательную, чем та, какой Вы собирались заняться в безрадостном одиночестве? – она перемещала взгляд с иссиня-черных волос на небесно-голубого цвета глаза Генри. По непонятным Рудковски причинам она вдруг испытала волнения в отношении его симпатичной наружности.
– Прошу прощения? – на лице парня скользнула едва заметная улыбка. Он с беззлобной коварностью решил проверить, как глубока и решительна смелость героини сегодняшней пьесы.
– Не делайте вид, будто Вы глупее, чем на самом деле. Я предлагаю Вам свою компанию, чтобы исправить однообразные вечера в городе нашего типа. И, к Вашему счастью, я знаю, как здесь провести ограниченный запас времени лучшим образом, – выступление Катерины подошло к завершению, но подпрыгнувшие ее брови и склоненная набок головка умоляли бариста пойти на ход, что дал бы возможность второму акту вступить в законную силу.
– Хм, звучит интригующе. Вы правы, Ваш городок – пучина однообразия, – Генри помедлил. – Надо быть полным придурком, чтобы не принять подобное приглашение.
Как и всегда, когда она вела диалоги, Катерина силилась обнаружить в словах Генри тон намека, некий ключ к тому, что он имел в виду, но не сказал. Ответ пришел незамедлительно.
– И тем не менее вынужден Вам отказать.
Генри сказал как отрезал, и выражение Катерины настолько стремительно исказилось, что парню на миг стало даже неловко за резкость собственных слов. Что-то кричало ему приготовиться к удару, и бариста впервые узнал, какое лицо характерно убийце.
Оба молчали. Напряжение в атмосфере сделалось до того невозможным, словно в метре от них к бочке с порохом подбирался огонь, а сами герои пассивно приняли неизбежное.
Генри смотрел Катерине прямо в глаза, и помимо искр, что моментом вспыхивали, ярко пылали и гасли, уступая место другим – своим последователям, он видел, как в них нарастает отказ. Отказ понимать и принимать очевидное.
– Вы серьезно? – озадачилась девушка, когда шквал эмоций немного затих.
– Абсолютно.
Ответ юноша произнес с неуместной улыбкой, и Катерина воззвала ко всем своим силам, чтобы не закричать.
– Могу я узнать причину?
Звучал не вопрос – прозвучало твердое утверждение, приказ, исполнить который следовало незамедлительно.
– Уж не знаю, что в моем виде кричит о – как Вы сказали – безрадостном одиночестве, но будьте уверены: у меня есть компания и займемся мы с ней чем-то вполне привлекательным, – Генри отпрянул и принялся вытирать стакан. – Что бы Вы ни вложили в это слово.
Катерина с ужасом осознала: она терпит позорное поражение. Хуже того, девушка отдавала себе отчет в том, что таких поражений до сих пор с ней не случалось.
– Что ж, как знаете.
Рудковски круто развернулась, метнулась за вещами и быстро направилась в сторону выхода. Ей вдогонку ударил все тот же ласкающий ухо бас.
– Ни Вы, ни я ничего не потеряли.
Катерина остановилась, слегка повернула гудящую голову и задумалась, что могла значить фраза. Не найдя того смысла, какой пришелся бы ей по нраву, девушка закатила глаза и вновь устремилась к цели – пусть на этот раз таковой являлась обычная входная дверь.
«Пожалуйста, не потеряй равновесия», – повторяла в дороге Рудковски. Дойдя до выхода, она сорвала с крючка пальто и, не тратя минуты на сборы, захлопнула за собой дверь.
Глава 2. Новоприбывшие
Генри стоял посреди однокомнатной квартирки, снятой на неопределенный срок, и смотрел на городское освещение – таковым являлись два фонаря по разным сторонам дороги. И хотя до Нового года оставались считанные дни, на улице с лупой не отыскать было пару вальсирующих снежинок.
Мелкая стрелка часов медленно ползла к девяти – после окончания смены прошло немногим более часа. Парня особенно удручала мысль о том, что дорога между исходным и конечным пунктами города занимала от силы два десятка минут. Это удивляло Генри, жителя крупного мегаполиса, и он то и дело повторял спутнице: они «застряли в этой дыре».
Юноша опустил голову, и семилетний лабрадор Найда начала пристально изучать выражения лица хозяина. Кремовая шерсть пса особенно ярко подчеркивала ее ореховый цвет глаз. Те казались маленькими болотцами с целью заманить непрошенного гостя и добиться его навечного в них увязания.
Найда досталась Генри в подарок на его семнадцатилетие – с тех пор эти двое были неразлучны. За все мириады часов, проведенных вместе, они узнали друг о друге столько подробностей, что стоило в душе одного из них приютиться тоске или грусти, недовольству или злости, другой тотчас мог учуять (или унюхать) неладное. Поэтому молниеносный ответ Найды на его печаль Генри ничуть не смутил. Парень лишь пасмурно ухмыльнулся, потрепал собаку по голове и успокоил ее: «Все в порядке».
Причина затянувшейся апатии Генри, равно как и мотив его переезда, заключались в скандальном разводе родителей. Переживать его, находясь в эпицентре событий, юноше – обладателю жесткого нрава – совсем не хотелось. На несколько дней он погрузился в поиски выхода. Так опускается под воду акванавт, чтобы затем, по прошествии времени вынырнуть на поверхность с находкой, поднятой с самого дна.
Через пару дней Генри нашелся с идеей приобрести новое место жительства, в пару с которым шел и не привычный ему образ жизни. Променять мегаполис на маленький городишко, роскошную жизнь на рабочие будни, а дорогие развлечения на прогулки с Найдой и созерцание ни к чему не стремящихся, но все же спешащих горожан – эта мысль показалась парню занятной. Как человеку, с детства не знавшему ни материальной бедности, ни интеллектуального банкротства, ни страха перед переменами, она посеяла в душе Генри зерно азарта.
Ухватившись за преходящее наваждение, Генри быстро собрал вещи, «забыл» телефон, прихватил свою верную спутницу Найду и, никому не сказав о задуманном, отправился в путешествие. Конечная его точка сперва оставалась загадкой даже для самого путешественника.
У Генри не было четкого плана – имелась лишь цель отыскать новое пристанище, обрести покой после месяцев изматывающей нервотрепки. А когда ставишь цель, когда уверен в ее достижении в той же степени, в какой уверен в себе и своих возможностях, когда всеми фибрами души ощущаешь ее как нечто, уже достигнутое, тогда находятся средства и способы, неизбежно ведущие к пункту прибытия. Так, именно смелость и интуиция завели парня в Энгебург.
Найти квартиру ввиду отсутствия конкуренции за нее оказалось нетрудно. Гораздо сложнее было склонить хозяина к решению впустить на порог животное. Эта задачка пала на холку пронырливой Найды: блуждающий в поисках милосердия взгляд, едва уловимое, но кричащее о необходимости заполучить приют поскуливание – и нахмуренный старичок, хмыкнул, вымучил из себя подобие улыбки и передал неразлучникам ключи от скромной обители.
Въехав в потрепанную комнатушку, Генри сразу начал искать работу. Больших надежд юноша не питал – сгодится с доходом чуть выше среднего. Штудируя сайты на тему открытых вакансий, он наткнулся на объявление о недавно открытой «La clé» – кофейне, каких в его родном городе имелось более сотни. Что парня смутило и напугало – чудной резонанс в душах провинциалов. Если люди так взбудоражены простой кофейней, насколько безрадостны их жизни тут?
Отточенная харизма Генри, непривычное для хозяев кофейни стремление урвать должность – эти два фактора стали веслами, какими гребет изо всех сил, завидев сигнальный маяк, отчаявшаяся ступить на землю жертва кораблекрушения. Различив сильные стороны парня, работодатели не решились потратить времени на раздумья, и уже на следующее утро Генри учился искусству заваривания кофе.
Будучи с детства смышленым, упрямым в своих начинаниях, парень, решившись на что-то, не медлил. Он выстраивал план, как достигнуть пункта, и шаг за шагом к нему приближался.
Что удивительно, даже бесчисленные миллионы отца не испортили юношу, не отбили желание трудиться и телом и мозгом. Тем более что зависеть от них Генри не собирался. Так, отныне пять дней в неделю парень натягивал образ старательного студента и изучал им до сих пор не познанную, а потому требующую особого усердия дисциплину.
Выходные же были полностью посвящены дорогой ему Найде. Любовь к собаке Генри в первую очередь выражал, уделяя ей свое время. Безвозвратно утекающее, а потому равно частичке жизни, какую парень любезно даровал собаке.
Вряд ли кто-нибудь мог объяснить эту близость между двумя созданиями. Заключалась она в том, что до появления пса Генри всю жизнь провел в молитве – молитве встретить достойного собеседника, интеллект, с которым ему захотелось бы считаться.
В собаке же парень увидел искренность и бескорыстие, исключительный разум и чуткость, осознанность и принятие. Казалось, пес знал о своем предназначении намного больше, чем кто-либо из завышенной важности вида Homo sapiens. Оттого за семь лет, проведенных с собакой, Генри ни разу не обратился к ней с меньшей почтительностью, чем к наставнику. Потому время, отданное мудрой спутнице, походило для парня на некий дар свыше.
С первых дней Генри решил облачиться в исследователя и выведать тайны, которыми мог изобиловать Энгебург. Отправляясь в кофейню, он ставил четкую цель добраться новым маршрутом. На прогулках с Найдой полагался на пса в выборе неизвестной тропы. Возвращаясь домой, парень прислушивался к обывакам и делал попытки проникнуться их образом жизни – в конце концов, скоро последний станет частью его самого.
Однако к какими уловкам ни прибегал Генри, однообразие города вскоре ему опостылело. Не будь парень любителем созерцать, не являйся он обладателем богатого внутреннего мира, – гораздо более красочного, чем мир реальный – он неминуемо взвыл бы от скуки. Благо, в отличие от большинства своих сверстников, Генри не приходилось скучать наедине с собой. Так что какими бы монотонными не казались внешние обстоятельства, внутри у него постоянно играли пьесы из палитры разных цветов.
Единственным преткновением в попытках дружить с внешним миром для Генри являлась тотальная неспособность дружить с людьми. Вступая в беседу, парень всегда видел в собеседнике то умственную ограниченность, то вопиющую невоспитанность. Даже те редкие дебаты, что случались в его относительно устоявшемся круге, нагоняли на Генри тоску. Приученный оперировать логикой и аргументами, парень не мог терпеть лишенных связи выкриков и бестолковых угроз.
Вот почему, уезжая из места, где он провел свои двадцать четыре, юноша грезил не только о смене жизни, но и о поиске родственных душ – душ, с которыми он обсуждал бы тревожащие вопросы и питал разум и потенциал.
Впрочем, этот пункт хитроумного плана Генри передал по большей части в руки судьбы. Ведь доведись ему встретить ту самую душу, вряд ли получилось бы взять под контроль чужую жизнь, как и приковать человека к себе, размышлять и действовать за него. Злодеяние сродни этому означает убийство того, кто лишился возможности самостоятельно думать, а затем делать то, что командует собственный мозг.
Смерть, конечно, не станет реальной, физической, бесповоротной, но от этого ситуация не улучшится, как плохая погода с приходом весны. Дозволяя чужому разуму завладеть его собственным, человек превращается в нечто, лишенное смысла, пустое, бесцельно живущее на земле.
– Найда!
Генри вышвырнуло из мыслей, какие обычно его занимали в философский вечерний и девственно чистый утренний час. Триггером стал пакет с продуктами, которые пес волей случая рассыпал по всему полу.
Найду едва можно было назвать собакой взбалмошной, невоспитанной. И проказов от девочки обычно не следовало ожидать. Поступил так однако пес оттого, что, не смея тревожить уставшего друга, он все же не мог обойтись без кормежки. А потому достать из пакета корм решился собственным существом.
– Найда, девочка моя, прости. Мои мечтания когда-нибудь погубят нас обоих, – добродушно, с нежностью в голосе произнес Генри и присел погладить собаку. Найда смотрела на парня взглядом, осознающим вину, но понимающим: прощение она заслужила одним только фактом присутствия в жизни друга.
– Ох, Найда, мне иногда кажется, что в этом мире жить проще, если думаешь меньше. Отчего-то состояние вне сна зовется активным. Якобы, человек после дремы становится бодрым и бдительным. Ха, бодрым и бдительным. И это лежащий на пузе и впитывающий телевизорный мусор герой зовется активным? Или бдителен тот работник с шаблонными действиями, выученными и вымученными фразами, который день ото дня плетется в серый офис, чтобы затем повторить цикл опять?
Найда коротко рыкнула, разделяя негодование друга, и Генри с улыбкой поднялся насыпать ей корм.
– Найда-Найда, когда человек наконец осознает магию собственной черепушки, когда он поймет, что под силу ему сотворить простой мыслью и действом, тогда, вероятно, его перестанет страшить прощание со старым. Тогда его мозг наконец зашевелит детали, и он рискнет опробовать новый путь.
Глава 3. Избавление
Катерина вихрем влетела в комнату, хлопнула дверью и со злостью швырнула пальто и сумку на кровать.
– Он вынужден мне отказать, черт его подери! – случившийся более часа назад курьез все еще удерживал девушку в своем плену и виделся ей позорным провалом.
Катерина давно обрела привычку тотчас же получать желаемое. Помогал ей в этом ниспосланный природой дар с ходу нравиться окружающим, причем независимо от ее поведения и речей, который порой рубили острее сабельного клинка. И сейчас, не сумев утолить свою прихоть, девушка билась в истерике, и чтобы хоть как-то уменьшить, затолкнуть в закрома души недовольство, Рудковски решила заняться любимым делом – работой.
В перевод Катерина ныряла всякий раз, когда чувства казались ей нестерпимыми. Так и теперь она просидела в статьях до самой ночи, лишь иногда отмахиваясь от мыслей, стихийно влетавших в голову и столь же быстро ее покидавших. «Беспроигрышный трюк – загрузить свой процессор до такой степени, чтобы помещение, куда метят дурные мыслишки, забилось доверху», – гордилась спасательным якорем девушка.
Однако каким бы специалистом в дисциплине сознания ни считала себя Катерина, сколько бы битв ни одерживала она над разумом в течение дня, ночью исход войны всегда предвещали гнетущие думы. Бывало, Рудковски часами прокручивала неудавшиеся диалоги, невысказанные желания, необоснованные страхи. Порой последние, в силу многократного повторения и закрепления в памяти, казались настолько реальными, что биение сердца ее учащалось, как будто перед тем девушка пробежала марафон на пару миль.
В такие моменты Катерине хотелось куда-нибудь спрятаться, свернуться в клубочек, словно котенок. Когда же калейдоскоп ощущений в конце концов упорядочивался, девушка ненадолго падала в сон. Впрочем, последний обычно был до того чутким, что едва различимые шорохи или порывы ветра могли тотчас выдернуть Рудковски из мира грез.
За эти причуды девушка и ненавидела ночь как часть суток, но утро… Утро всегда означало попытку начать все заново. Оно походило на новую жизнь, несущую и возможности, и ресурсы, чтобы за них ухватиться. Магию утра Рудковски равняла с восторгом от Нового года: в душе в это время парили надежда и вера в лучшее.
Катерина часто сравнивала рассвет дня с юностью. Оба периода создают ощущение бесконечности времени впереди. Будто в юности (утром) часов, как песчинок в бескрайней Сахаре – их количество дает право замедлиться, не спешить.
Но еще больше в утреннем часе Катерина ценила возможность уединиться. Раньше, живя с семьей, она подрывалась с первым лучом солнца. Это давало Рудковски возможность расстаться с главными делами утром, а затем целый день божествить свою несравненность.
Ни единой душе не дозволено было в этот час посягать на границы девушки. Не единожды утро спасало ее от тревоги и смертной тоски.
Так и в этот раз поутру беспокойства Рудковски с большего поутихли. О случившемся девушка думала как о картинке из фильма, сцене, которую она видела задолго до и по отношению к какой оставалась лишь наблюдателем со стороны.
День, как всегда, обещал быть насыщенным. Тридцать первое декабря уже завтра, а значит, после утренних переводов Катерине предстояло докупить недостающие подарки родителям, сестре и подруге, если за таковую можно считать Карлу Армут, прогулки с которой у девушки случались реже, чем небо светилось от полной луны.
От родителей Рудковски съехала полтора года назад, когда перешла на второй курс заочного обучения. Рассчитывая впоследствии найти подработку, чтобы самостоятельно оплачивать съемное жилье, Катерина остановилась на том варианте, что не сильно стеснил бы родительский кошелек.
Зависимость от кого угодно, финансово или эмоционально, напоминала Катерине клетку, ключ от которой находился в кармане ее владельца. Насладиться свободой разрешалось, лишь угождая хозяину. Мириться с таким унижением свободолюбивая натура Катерины не стала бы. Помня про это, девушка и искала пусть и временный, но вариант поскромнее.
На счастье Рудковски, жизнь предоставила шанс познакомиться с Карлой. Ввиду нежелания принимать ответственность за свою жизнь, последняя все еще проживала с матерью, только и делая, что помогая женщине в школе.
Мама Карлы работала в начальных классах и часто нуждалась в спасительном подкреплении: то с присмотром за малышами, то с заполнением многочисленных бумажек-формальностей – словом, любая помощь была кстати.
Содействие матери не сильно обременяло Карлу, чье времяпрепровождение ограничивалось просмотром скандальных телесериалов. Оно же являлось единственным хобби девушки, так что подмога по школе вносила в жизнь Армут разнообразие.
Карла с матерью жили в довольно неплохой, с современным ремонтом квартире. Значительно хуже смотрелась отделка сдаваемого ими жилья. Оно досталось Карле в наследство от бабушки, и ввиду неидеального состояния цена на квартиру была соответствующая. Даже студент с подработкой мог оплачивать проживание и не бить себя по карману – это с лихвой устраивало Катерину.
Вдобавок к жилью шли все более частые встречи с Карлой. Впоследствии те превратились в подобие дружбы. Нельзя сказать, будто время с Армут рождало в душе Катерины энтузиазм. Но временами девушке страшно хотелось высказать те идеи и мнения, которые, как она сама считала, было кощунством не вынести на обсуждение публики.
– Карла, а что, если я скажу тебе, что я не верю в наличие у человека личности? – спросила ее Катерина, накручивая на палец заднюю прядку волос – одно из немалых чудачеств Рудковски.
– Что ты имеешь в виду? – с недоверием глянула Карла. Брови ее мгновенно подпрыгнули и так же мгновенно вернулись на прежнее, положенное им место.
– Дело в том… Я считаю, поведение человека определяют окружение и ситуация, в которые он попадает. В каждой конкретной обстановке мы ведем себя по-разному, а значит, в нас нет единого стержня. А значит, нет личности, нет и нас!
Катерина смотрела на Карлу с надеждой, будто только у этого человека имелась разгадка вопроса. На лице же у Армут читался насмешливый скепсис – единственное проявление чувств, выражать какое девушке, ввиду ее ограниченности, не составляло труда.
После долгой паузы Карла все-таки снизошла до ответа:
– О Боже, Катерина, тебе действительно интересно это?
Армут всегда выражала к Рудковски немного сочувствия, ведь последняя не разделяла ни любви к примитивным сериалам Карлы, ни ее интереса к вечеринкам для энгебуржцев.
Катерина досадливо покачала головой.
– И для кого я вообще распинаюсь?
– Ну что ты там бормочешь? – заныла Карла.
– Говорю, еще много дел и нам нужно спешить, – солгала, надевая пальто, Катерина.
Девушка думала о таких людях, как Карла, с грустью. Всю жизнь они встают по утрам лишь затем, чтобы плюхнуться на конвейер неосознанных действий. Их тела, потерявшие способность думать, то и дело включают заученные давно программы, пока те, в ком они установлены, позволяют жизни с ними случаться.
Это не люди, но существа, которые до того страшатся выбора и последующей ответственности, что позволяют чему-то извне, непонятным им силам творить их судьбу. Сами того не зная, они выбрали собственный путь – пассивность, неведение, прозябание. Кораблики без капитана, им не важно, куда их закинет шторм.
– Что думаешь? – спросила Карла, и резкость вопроса рассеяла мысли Рудковски. Она не сразу сообразила, что от нее требуется помощь с выбором статуэтки – подарка для матери. Не с ходу узнала девушка и место их нахождения. Она дошла до магазинчиками с мелочами на автопилоте – так глубоко погрузилась девушка в размышления.
«Думаю, для миссис Армут нет разницы, какую бесполезность ты купишь ей за ее деньги», – подумала Катерина, а вслух произнесла: – Та черная кошка с долларом между лап в самый раз.
– Хм, ты права. Мама всегда была без ума от животных.
Попрощавшись с Карлой, девушка заглянула в магазин сладостей и, вдобавок к приобретенным кукле и книге, купила своей пятилетней сестренке зефир в шоколаде. Родителям девушка еще месяц назад урвала билет на представление, о котором пара давно мечтала.
Довольная собственным выбором, Катерина медленно побрела домой, попутно смакуя мысли о празднике, отмечала какой она исключительно в кругу семьи. Уже ближе к полночи, лежа в кровати и грезя о торжестве, Рудковски заметно приободрилась. В этом же блаженстве духа она впервые за многие дни легко и быстро заснула.
Глава 4. И грянул гром
Утром 31 декабря Генри по обыкновению проснулся немногим позже восьми – в такое время парень вставал, когда к десяти его ждали на «пост». Перед работой он каждый день, хотя эта обязанность была только в радость, выгуливал Найду.
Несмотря на то, что сегодня Генри не ждали на смену, он не мог позволить себе роскошь сна до обеда: нельзя так безрассудно тратить минуты самого волшебного дня года. И пусть грандиозные планы на праздник отсутствовали, Генри с самого детства внушали: в дни, подобные этим, обязательно случается настоящая магия.
Все еще лежа в постели, Генри приподнялся на локти и посмотрел на подругу – та, подобно младенцу, невинно плавала в своих грезах, совсем не считая надобность спешки условием праздничного утра. Вид спящей Найды вызвал у парня улыбку. На ее фоне даже луч солнца, ласкающий холку собаки, померк и превратился в безрадостно тусклый блик.
Генри заваривал молотый кофе – теперь в этом деле у юноши не было равных – и намечал в голове детали грядущего дня, когда в дверь постучали. Найда тревожно поднялась, взбодрившись, словно от чашки тройного эспрессо. Сам парень, хотя и парализованный изнутри, выказывал хладнокровие.
В такие моменты казалось, у него нет не то что эмоций, но и представления о них. Впрочем, суровость безупречного лица скрывала от наблюдателей пылкие чувства. И узнать о них разрешалось лишь тем, кому Генри любезно дарил ключ к душе.
Парень медленно поставил чашку на кухонный шкафчик. Он понимал: ни один человек из ныне живущих не знал о его новом месте. С хозяином же квартиры они условились встречаться в определенный период каждого месяца, и в декабре эта встреча уже состоялась.
Сдержанно, не без опаски Генри пересек комнату и добрался к двери, потрепав по пути взволнованную Найду. Перед тем как позволить непрошенному гостю не просто войти, но увидеть маленький храм, юноша еще с минуту подумал.
Отворившись, дверь обнажила виновника хода дел – на пороге стоял отец парня. Мужчина выглядел, как всегда, безупречно: дорогой костюм, пошитый известным дизайнером по индивидуальным меркам, уложенные иссиня-черные волосы, которые, несмотря на возраст, не выказывали ни намека на седину и какие достались Генри в наследство. Наконец, Голдман всеми фибрами источал такую уверенность, что ей, пожалуй, не грех было захлебнуться.
Почти все внешние черты и повадки Генри перенял у отца. От матери ему достался только цвет глаз, но и те, за счет матовой бледности лица, приобрели у него гораздо более насыщенный оттенок.
– Ну, здравствуй, Генри, – в сравнении с басом Голдмана тон парня казался ему же до нелепого детским.
– Что тебе надо? – чуть более эмоционально, чем намеревался изначально, отреагировал юноша.
Голдман презрительно усмехнулся, что в аккомпанементе с его тембром голоса прозвучало невыносимо зловеще:
– Мда, не так я себе представлял встречу отца и сына после долгой разлуки.
Каждое слово было наполнено ядом ехидства, последние три – протянуты нараспев.
– Я не стану делать вид, будто между нами может состояться дружеская беседа. Говори, что тебе нужно, и уходи.
Если речь Голдмана походила на медленное, мучительное истязательство жертвы, фразы Генри приравнивались к быстрому, точному броску в цель.
– Ах, сразу к делу? Хорошо, вижу тебе, сын, все же хватило ума позаимствовать у меня хоть что-то толковое.
Даже выскочившая от напряжения вена не исказила совершенное лицо юноши. Он молчал, взглядом приглашая Голдмана продолжать.
– Ты, я уверен, прекрасно помнишь: суд через две недели и для дачи показаний твое присутствие там обязательно.
Лицо парня по-прежнему лишено было всяких эмоций, однако отец, как никто, понимал: Генри воззвал ко всей силе духа.
Между этими двумя никогда не царили теплые отношения, но такое, отравленное настроение по отношению к отцу объяснялось причиной развода родителей. Парень силился не вдаваться в подробности, но в газетах то и дело писали о компаньонке, с которой, отдыхая на острове Барбадос, заметили мистера Голдмана.
Худшее – в доказательство своих находок, журналисты любезно предоставляли фотографию молодой спутницы Голдмана. Снимок предательски выдавал возраст миловидной девчушки, и тот едва ли превосходил оный Генри.
На лице у брюнетки лишь слепой не смог бы заметить укоренившихся следов праздной, не обремененной заботами жизни. Ветер развивал ее густые, пышные волосы, длиной до неестественно узкой талии. Темно-каштановый оттенок кудрей вступал в цветовую гармонию со смуглой кожей.
На фотографии девушка с полным знанием дела обнажала свою белоснежную улыбку. Она смеялась, и Генри готов был поклясться, что слышит смех этот через тысячи километров. «Она так похожа на маму в молодости. Только тон волос в несколько раз темнее», – пришло парню на ум.
Он не знал или не хотел знать, каких усилий стоило маме переживание удара. Генри очень любил свою мать, и, хотя в ходе некоторых споров их взгляды на многие вещи расходились – так расходятся уставшие друг от друга соседи по квартире, надеясь никогда не встретиться вновь, – она всегда поддерживала сына в жизненном выборе и не смела судить за иное видение мира.
Генри не догадывался, но мать поняла его и в этот раз, когда он, не в силах больше видеть ее страдания и оттого терпеть муки собственных, сбежал от затхлой и опостылевшей ему атмосферы конфликта. Уже не просто семейного, но вынесенного на суд жадной до сплетен публики.
– Так вот, хочу тебе напомнить, – продолжал Голдман, – что все наследство, которое тебе грозит получить, принадлежит не Алисии, но мне. И от моего решения зависит, достанется оно тебе или нет.
Генри, кажется, начинал понимать, к чему клонит отец, и не хотел, но убеждал себя выслушать речь до последнего слова. Парень тайно надеялся: возможно, он страшно неправ, если мыслит дурное в отношении планов отца.
– Генри, ты умный парень и точно знаешь: скандал, учиненный строчилами, и без того доставил мне кучу хлопот, потрепал репутацию. Сейчас же, когда я намерен баллотироваться в мэры, утрата поддержки среди людей тем более не сыграет мне на руку, – он замолчал, то ли давая себе время передохнуть, то ли надеясь, что сын додумает окончание мысли сам. Парень упрямо не отзывался.
– Что ж, прелюдия подошла к концу, – начал терять терпение Голдман. – Генри, мне нужно, чтобы на суде ты опроверг информацию о том, будто та леди могла иметь ко мне хоть какое-то отношение, отличное от дальне-родственного. Скажем, она моя племянница, твоя троюродная сестра. Кроме того, ты подтвердишь, что она никак не влияла на развод. Если будет угодно, изобрети нелепость о несхожести наших характеров.
Я знаю, ты достаточно горд, чтобы выполнить мою просьбу. В этом случае ты обязан понять: твой отказ станет самой серьезной ошибкой. Дороги на должности в престижных компаниях, заработная плата в цифру, тянущую за собой пару-тройку нулей, и жизненный уровень, достойный сына будущего мэра города – все эти понятия перестанут для тебя существовать прежде, чем ты вообще о них узнаешь…
Не появись в груди свинцовая тяжесть, парень свалился бы от головокружения, внезапно его охватившего. В ушах у Генри шумело. Ему стоило немало сил продолжать делать вид присутствия – в разговоре и в комнате.
– Генри, в нашей жизни все имеет конец, молчание тоже. Чем занимает тебя твоя голова, что ты не можешь удостоить меня простецким ответом?
Голдман неприкрыто раздражался, и парень выдавил из себя пару звуков. Он надеялся, будто те заимеют хоть какой-то смысл в сочетании друг с другом.
– Извини, отец. Прямо сейчас твой сын занят совершением самой серьезной ошибки в жизни, – упрямым взглядом Генри бросал ему вызов.
– Что ты сказал?
Интонация Голдмана выдавала: он не ожидал такого исхода, даже зная о непреклонности сына. Опытный бизнесмен, мужчина годами оттачивал манипуляции, и провалившиеся шантажи до сих пор застигали его врасплох.
– Ты слышал, что я сказал, – твердо повторил Генри. – Всю мою жизнь ты готовил меня к подобному выверту с твоей стороны, а потому я уже отказался от тех подачек, которые ты мог швырнуть мне. Я не стану порочить ни мать, ни… кого-то еще. Я сделал выбор и готов понести за него ответственность.
С полминуты отец рассматривал сына, словно перед ним стоял заклятый враг, после чего – уже без прежней дерзости в голосе – произнес:
– Что ж, будь по-твоему.
Голдман медленно развернулся и размеренным шагом покинул квартиру. Генри остался стоять, понимая: принципы его слишком ценны, чтобы расстаться с ними без боя.
Глава 5. Коллизия
К тому времени как Катерина вошла в дом родителей, малая стрелка часов близилась к четырем. Они жили за пределами города, хотя частный сектор начинался столь скоро и резко, что казалось, будто все еще в его черте. Девушка горячо любила – как она шутливо ее называла – деревенскую жизнь и теперь, став заложницей съемной квартиры, страшно скучала по возможности выйти во двор и предаться ласканиям солнца.
Совсем близко от домика пролегали речка и лес, и, когда погода ее баловала, а в душе у Рудковски благоухал настроенческий сад; если девушка жаждала вдохновения или, напротив, хотела прогнать угнетающие хороводы мыслей, она всегда отправлялась в маленькое путешествие. Там, на природе, душа ее превращалась в весенний цветок.
– Катерина, доченька, мы так рады тебя видеть! —встретила девушку мать.
– Ну, ты глянь, кто приехал. Мелания, беги встреть сестру, – поприветствовал девушку глава семейства.
Катерина, на чьи глаза по приезде домой наворачивались слезы радости, услышала скорый топот маленьких ножек.
Мелании едва исполнилось пять, а в этом возрасте дети, вопреки библейским законам, имеют привычку сотворять себе кумиров. Таким идолом для девочки стала старшая сестра.
Ребенок искренне восхищался ее волнистыми темно-русыми волосами, которые большую часть времени Катерина собирала в прическу, шутливо ее называемую «булочкой синнабон». Восторгалась Мелания и насыщенными серо-голубыми глазами сестры – особенностью лица Катерины, по комплиментам конкурирующей только с ямочками на щечках. Те, в свою очередь, являлись детищем обворожительной улыбки Рудковски или ее неуемного смеха. И все же больше всего Меланию очаровывал маленький, чуть вздернутый кверху носик сестренки и рассыпанные, как грибы на поляне, веснушки – они становились особо заметны на лице Катерины с приходом весны.
Сама Мелани была ребенком слегка припухлым, и эта припухлость безошибочно выдавала возраст ребенка. Свой собственный вид девочка не любила. Светлого, почти белого цвета волосы и нос картошкой до смерти удручали малютку. Впрочем, Рудковски всегда с любовью успокаивала сестру, уверяя, что в юности та станет «самым красивым пионом в саду с привычными глазу розами».
– Кэти, Кэти, – с объятиями налетела на Катерину малышка. И хотя девушка никому не позволяла коверкать свое имя, прозвища, присужденные ей Меланией и матерью, заставляли что-то в душе Рудковски бешено трепетать.
– Привет-привет, моя бусинка, – девушка крепко обняла сестренку в ответ. – Смотри, что у меня для тебя есть, – Катерина достала купленные сладости, оставляя другие подарки чуть на попозже.
На лице у Мелании заиграл щенячий восторг, и действительно: с широко раскрытыми карими глазками, именно таким стал взгляд девочки.
– Кэти, спасибо, спасибо! – не унималась малышка и обхватила сестру в еще более крепких объятиях.
– Ну, все-все, хорош сюсюкаться. Будем стоять на морозе весь день?
Манера общения у отца девочек была своеобразной. В каком состоянии ни прибывал бы мужчина: счастья, восторга или, напротив, подавленности и уныния, злости и раздражения – мистер Рудковски всегда находил к чему придраться и разговаривал таким тоном, словно он отдавал приказы.
Катерина часто размышляла о том, что эту черту – как, впрочем, и большинство других – она переняла у отца. Именно в силу невероятной схожести их характеров, конфликты между Джозефом и Катериной являлись частью рутины.
Будучи упрямой в той же степени, что и отец, девушка никогда не признавала за собой поражения и не шла на уступки, даже если для этого ей приходилось выслушивать о себе до боли обидные вещи, а в худшие дни – терпеть физическое насилие.
Однако жестокие расправы часто случались в ее далеком детстве. Чуть реже Рудковски терпела подобное, будучи подростком, а еще позже Джозеф раскаялся и прекратил разрешать конфликты примитивным и зверским способом. И хотя время до сих пор не залечило всех оставшихся с тех периодов ран, в глубине души девушка знала: она сама являлась причиной многих скандалов и их последствий, что, конечно, ничуть не оправдывало брошенных слов и «военных» действий.
Сегодня в мире этих двух господствовали любовь и гармония, чье наличие – опять-таки по вине их характеров – не признавали открыто ни один, ни другая. И лишь время от времени идиллия разбавлялась решительными разногласиями. Разница была в том, что теперь конфликт завершался принятием права на иное мнение, а в головах у обоих устаканилось понимание: каждый несет ответственность за собственные ошибки и свою жизнь.
– Как дела с работой, мам?
Элеонора Рудковски работала в крохотной компании, непопулярной настолько, что, когда кризис ворвался в двери всех предприятий подобного рода, организация взялась за сокращение штата.
– Знаешь, Кэйт, – так прозвала Катерину мать, – сдается мне, после праздничных выходных меня уволят.
Катерина прониклась сочувствием, не скрывая того на лице, хотя мать не подкрепила слова траурным тоном.
– Мам, мне так жаль, – Рудковски взяла маму за руки и вместо долгих речей, выражающих соболезнования, открыто глянула ей в глаза.
С годами у девушки развилось невероятно глубокое чувство эмпатии, и всякий раз, когда Катерина кому-нибудь сопереживала, в ее глазах образовывались два озерца из слез, словно горе случалось с ней самой. Что интересно, само лицо девушки оставалось бесстрастным. Слишком боялась Рудковски того, чтобы «слабость» ее характера обнаружили.
– Ну что ты, Кэйт, – Элеонора спешила ее утешить. – У меня появится столько времени для дома, для вас!
– Да что у вас там за похоронная процессия? – ворчливо вмешался Джозеф.
– Бу-бу-бу, бу-бу-бу, – передразнила супруга женщина. – Сколько он может бурчать? – она обратилась к дочери, и та коротко усмехнулась.
– Катерина, лучше расскажи нам, не завела ли ты кавалера, – на прозвища девушки не считал нужным ссылаться только ее отец, считая их оскорблением гордого имени.
– Ну па-а-ап, – протянула Рудковски и закатила глаза – жест, выражающий отвращение от вопроса, звучавшего всякий раз при их встрече и не вызывавшего у Катерины и толики энтузиазма. – Мы тысячи тысяч раз обсуждали, что, во-первых, если я кого и заведу, так крысу или котенка. А во-вторых, в своем будущем «союзе равных» я не хочу скучать от речей про автомобили и рыбалку, коими ограничивались беседы всех моих прошлых кавалеров.
– Мда, – с сочувствием, как если бы девушка прямо сейчас, на его глазах совершала немыслимую ошибку, швырнул Рудковски. – Мать, разбирай приданое, – добавил мужчина, чтобы не заканчивать зашедший не в то русло разговор неловким стеснением.
– Кстати, мам, что у нас на ужин? Я страшно голодная. Готова позволить любым твоим изваяниям отправиться вплавь по кишечнику, – нарочито напыщенно бросила девушка и заулыбалась. Она знала: мать не особенно жаловала ее высокопарный стиль изложения.
– У нас в меню сегодня… – казалось, семейство разыгрывало театральную пьесу. Теперь уже мама надела шкуру повара и заставляла зрителя пускать слюну, – пекинская утка, запеченный картофель с беконом и сыром… – после каждого пункта Элеонора делала длинные паузы, словно те давали возможность опробовать называемые кушанья, – оливье и… – на лице женщины отпечаталось выражение леденящего ужаса.
– Мама, в чем дело? – перепугалась Рудковски.
– Я забыла горошек! – Элеонора выкрикнула это так отчаянно, будто от ингредиента зависела жизнь не салата, но ее самой.
– Мам, ты серьезно? – с облегчением, как после полного избавления от обид и разочарований из прошлого, выдохнула девушка.
– Да дело же не в горошке! – возразила миссис Рудковски, если за возражение можно было считать ее мягкий отпор. Каждая собака в городе знала: Элеонора не только не вступала в конфликты и их не провоцировала, но выступала миротворцем в спорах других. – Я снова забыла такие простые вещи!
Миссис Рудковски уже какой месяц тревожилась из-за подводящей ее памяти. То же самое в тайне от женщины делали остальные члены семьи. Забывчивость Элеоноры вызывала у них неподдельное беспокойство. Однако вслух, как и обо всем прочем, они старались не размышлять.
– Мама, ты просто устала, – попыталась утешить женщину Катерина. – Хочешь, я сбегаю и куплю твой горошек?
– Да, пожалуйста.
Девушка обняла мать и удалилась за пропитанием. Она намеренно выбрала точку подальше от дома: хотела переварить все эмоции, обуревающие ее впечатлительную натуру.
Несмотря на то, что выбор пал на удаленный, насколько это понятие было применимо к их городку, магазин, через каких-то двадцать минут девушка уже рассматривала прилавок. На нем красовались четыре вида горошка, и, простояв в замешательстве пару минут, Катерина решила бросить затею положиться на собственный вкус.
Боковым зрением Рудковски заметила, как к ней приближается консультант, по всей видимости, задумавший сыграть на опережение. Девушка повернулась к нему только туловищем, так что глаза ее оставались прикованными к витрине.
– Добрый день, Вы не могли бы подсказать, чем они отличаются? – теперь Катерина полностью развернулась и тотчас застыла в оцепенении. Перед ней стоял Генри.
Глава 6. Погубить(,) нельзя(,) спасти
– Вы? – спустя несколько секунд, которые скорее напоминали пару-тройку лет, выдавила Катерина.
– Мы, – обнажая белоснежную улыбку, ответил Генри. – Отчего Вы к этим банкам пристали, как к экспонатам в музее.
– Боже мой, как бы не порезаться о Ваши остроты? Что Вы здесь делаете? – раздраженно, будто Генри вошел не в магазин, но в ее комнату, спросила девушка. Юноша усмехнулся, улыбка по-прежнему играла на его лице.
– А я и не знал, что входить в эту святыню дозволено только любителям земляничного чая и сторонникам заниматься таинственной, но очень привлекательной деятельностью после работы, – Генри явно наслаждался этим маленьким сражением, ведь в ход пошло его любимое, испытанное ни одной битвой оружие сарказма.
– Могу я поинтересоваться, в какой момент нашего пренеприятнейшего знакомства, – Катерина скривила лицо, – я позволила Вам говорить со мной в таком тоне?
– Признаюсь, у меня нет привычки выпрашивать разрешение на свой тон, – парировал Генри. – Но если он Вам все-таки неугоден, я снизойду до того, который устроил бы Вас.
Парень разговаривал в полушуточной манере, дразня и раззадоривая Катерину. Девушка же усмотрела в словах вопиющую наглость.
– Знаете что? – рассыпа́лись, словно зерно из дырявых мешков, те немногие крупицы терпения, какие имелись в резервах Рудковски. – Вы невоспитанный грубиян. Господь или другое чудо избавили меня от необходимости знать, что послужило причиной Вашего хамства, но культивировать его всходы я Вам не позволю.
Только в этот момент Катерина вдруг осознала: она все это время крутила в руках несчастную банку горошка. Девушка злостно, с шумом и грохотом поставила ту на первоначальное место, закатила глаза и полетела на выход.
– Да полно Вам, я же шучу, – крикнул вдогонку Генри. – Эй, а Вы всегда уходите по-английски, не попрощавшись?
Катерина уже протянула было руку, чтобы толкнуть дверь, но остановилась. Вдохнув в себя целую бочку воздуха, девушка произнесла:
– Просто, уважая свою профессию, – я переводчик – считаю собственным долгом полностью погрузиться в культуру, языком которой я кичусь.
***
Рудковски спешно шагала, порой ускоряясь на бег, и все еще не могла принять факт: столкновение произошло не на картинке из фильма с какой-нибудь вымышленной Каролиной, а прямо сейчас, с ней самой – существующей Катериной.
«Черт его подери! – бушевала вся сущность девушки. – Да как он может вести себя… позволять себе… О-о-о, это просто невыносимо. – Катерина тщетно силилась подобрать нужные слова. Слишком уж далеко от берега отбросила ее штормовая волна. – Он окажет мне исключительную любезность, если впредь постарается избегать наших неназначенных встреч, – солгала девушка. – А иначе поганец узнает правду о себе на всех языках, которые мне подвластны!»
– Дьявол! – уже вслух чертыхнулась Рудковски и развела руки. – Из-за него мы теперь без горошка.
***
Генри смотрел вслед торопливо удаляющейся фигуре Катерины. Так провожает народ отплывающие корабли, чьи очертания становятся меньше и меньше до тех пор, пока не превратятся в одну только точку на горизонте, а затем и вовсе исчезнут.
«Да, с этой ранимой натурой и не пошутишь, – подумал парень и с ноткой печали вздохнул. – Жаль, я бы хотел посмеяться».
Генри повернулся – недалеко от входа его терпеливо ждала бессменная Найда.
***
– Катерина, доченька, что случилось? – обратилась к влетевшей на кухню девушке мать. Будучи в приятельских отношениях в том числе с языком жестов, Катерина и не подозревала, – слишком уж занялась другими мыслями голова – что прямо сейчас безошибочно выдает свои переживания. Все ее тело кричало о произошедшем.
Неспособность больше мириться с фонтаном прорвавшихся эмоций, дополненная попыткой матери посочувствовать, вызвали водопады слез. Редко что доводило девушку до настоящей истерики, окантованной плачем. Теперь же она рыдала навзрыд, злясь уже не на что-то конкретное, но на все, что не было ей самой. При этом свое бессилие в схватке с чувствами Катерина тоже не жаловала.
– Маленькая моя, ну что ты? – Элеонора нежно прижала дочку к себе и принялась выглаживать ее запутанные от ходьбы волосы. Девушка все еще не могла отпустить речь наружу, и лишь время от времени изо рта ее вылетали отдельные слоги. Выстройся они в логическую цепочку, получилось бы что-то вроде занятного философского «почему?».
Катерина радовалась, что отец, по-видимому, сейчас находился не дома, иначе он непременно явился бы на звук пожарной сирены и пренебрег нежеланием девушки отвечать на бестактный допрос. И все же нашлись и те, кто в силу неравнодушия просто не смог оставить истерику без внимания – на пороге кухни застыла малышка Мелания.
– Ты посмотри на это внезапное обострение любопытства, – добродушно отметила, завидев шпионку, миссис Рудковски. – Мисс, Вы не боитесь, что кто-нибудь оторвет Вам Ваш сладенький носик?
– Ну и пусть забирают, он все равно дурацкий! – Мелании до сих пор не удавалось выговаривать «р» и «ш», да и «ч» выходил каким-то размякшим. От этого даже злостные выкрики напоминали скорее акт некой комедии.
– Видишь, Кэйт, вот где действительные проблемы – нос у нее не такой. А то вздумала тут заливаться по пустякам.
Старания женщины наконец увенчались бесспорным успехом, и на лице Катерины мелькнул проблеск улыбки. Впрочем, надолго покой не задержался – в дверь позвонили.
– Мам, а мы кого-то ждем?
Катерина открыто недолюбливала налетевших гостей и их засиживания. Это безобразие, по мнению девушки, не могло уживаться с уютом привычной им атмосферы.
Элеонора пожала плечами:
– Откроете? Никак не могу оставить духовку без присмотра, – сестры глянули друг на друга, обменялись одинаково очаровательными улыбками и дружно кивнули.
Пока они приближались к причине очередной неожиданности, Мелания, как козочка, резво скакала вокруг старшей сестры. Этот задор окончательно возвратил Катерину в состояние радости.
– Прошу, – жестом швейцара девушка возложила миссию по открытию двери на сестренку. Малышка подпрыгнула – ручка висела на слишком большом расстоянии для человечка, чей рост едва составлял полноценный метр, – и дверца открылась.
Катерина почувствовала, как по груди вновь разливается неприятное, жгучее чувство, а внезапный толчок под ложечкой и затуманенная голова заставили девушку взяться за обувной шкафчик. Рудковски не знала, но предположила, что ее слова застряли примерно там же, где и ее обед.
– Вы кто? – ангельским голосом запросила Мелания.
– Здравствуйте, мисс, – гость протянул руку. – Я Генри, очень удачливый малый: старался поспеть за Вашей сестрой, а посчастливилось встретить на одну прекрасную леди больше, – Генри вежливо улыбнулся и присел на корточки, словно подчеркивая: он не превосходит малышку ни по возрасту, ни по статусу.
– Что Вам нужно от моей сестры? – Катерина вновь обрела способность облекать мысли в слова и защищающим жестом отодвинула сестру назад.
Парня такая реакция не удивила. Он усмехнулся и вытянулся в свою прежнюю гордую стойку.
– Простите меня, пожалуйста, – голос Генри звучал теперь мягче и бархатистее. – Я не хотел Вас обидеть ни в одном из наших свиданий, – Катерина хотела ему возразить, но парень продолжил: – Мне жаль, что я проявил к Вам бесцеремонную грубость, и, если позволите…
Генри запустил руку в карман куртки и вынул оттуда горошек – нить Ариадны1, спасающую этот день. По лицу Катерины читалось: вела нешуточную борьбу с усилием сдержать улыбку.
– Кэйт, кто там? – донесся с кухни вопрос озадаченной Элеоноры.
– Хороший вопрос, – ответила Катерина. Сейчас уже улыбаясь вовсю и позволяя ямочкам на щеках жить отдельной жизнью.
Миссис Рудковски выглянула в коридор:
– Добрый вечер, – время показывало почти шесть. – Элеонора, – представилась мама девочек.
– Рад знакомству, я Генри, – сообщил парень и, видя в глазах вопрос, продолжил: – Вы, вероятно, хотите спросить, почему я здесь. Ничего криминального – благотворительная акция по доставке продуктов на дом, – юноша протянул ей все ту же банку горошка, и женщина рассмеялась.
Когда смех утих, воцарилось молчание. Никто не решался что-то сказать, да и говорить, впрочем, было нечего.
– Ладно, Генри, – решилась-таки Элеонора, – большое спасибо Вам за спасение торжества. Теперь уже точно ни одна душа не ускачет голодной.
Генри молча кивнул и миссис Рудковски добавила:
– Ну, не будем Вас больше задерживать. Особенно в такой час, когда приготовления в самом разгаре, и Вас наверняка заждались.
В этот миг за дверью послышался писк, и парень тотчас же спохватился:
– Простите, я вас не представил, – он приоткрыл дверь пошире, и недоуменные лица сменились стонами умиления. – Найда – дамы, дамы – Найда.
Девушки засмеялись: им в ответ прозвучал приветственный «гав».
– Какое чудо! – восхищалась Элеонора.
– Мама, собака, собака, – звонко хлопая в ладоши и радостно прыгая, вторила ей Мелания.
Сдержанной оставалась только «Рудковски-средняя». Во-первых, взбалмошным собакам девушка предпочитала грациозных и независимых кошек. А во-вторых, она не хотела показывать юноше, что задобрить ее вот так просто.
– Та самая леди, которая меня заждалась, – прокомментировал Генри.
– А Ваши близкие?
– Я живу один, – без мольбы о сочувствии сознался парень.
– Но в такой день разве не соберутся Ваши родные в приятельской, теплой компании? – миссис Рудковски отказывалась принимать торжество в одиночестве, без людей.
– Они слишком заняты и не особо желают преодолевать расстояние ценой впустую потраченного времени, – на пару мгновений Генри задумался, а затем, словно встряхнувшись от наваждения, присовокупил: – Что ж, мне действительно пора идти, – парень жестом велел Найде встать и, кивнув всем собравшимся в знак прощания, пошел к калитке.
Он прошел уже половину пути, когда на удивление самой себе Элеонора воскликнула:
– Вы не хотите остаться?
Катерина ошарашенно посмотрела на мать – та намеренно избегала встречного взгляда.
Какое-то время парень молча оглядывал всю компанию, после чего с осветившимся лицом ответил:
– Мне будет в радость.
Снова поднявшись по лестнице к входу, Генри отстегнул поводок и вытер собаке лапы:
– Она не причинит Вам неудобств.
– Я в этом уверена, – широко улыбаясь, заверила Элеонора. – Ну, команда, нельзя терять ни минуты. За работу! – боевым голосом обозначила план мама девочек, после чего, пропуская Мелани перед собой, устремилась на кухню.
– Благодарю Вас, Элеонора, – бросил ей вдогонку парень и, уступая дорогу, игриво добавил: – Кэйт.
– Катерина, – поправила его девушка, и важно проследовала за матерью.
Глава 7. Исповедь
До первого января оставалось немногим более часа, и дамы спешили облачиться в праздничные наряды. Предварительно – так надлежит «настоящим хозяйкам» – они накрыли стол, в чем им с галантной любезностью помог Генри.
Мистер Рудковски лежал, занимая себя телевизором и лишь время от времени почесывая свой живот – продукт излишества удовольствий. Мужчины не было дома, когда в список гостей прибавился «аристократ», как он обозначил Генри в разговоре с супругой. Однако присутствию парня Джозеф отнюдь не противился: знаток человеческой души, при знакомстве с отцом девочек Генри отвесил комплимент автомобилю Рудковски. Так юноша с ходу попал в список «одобренных».
– Ну и чем ты занимаешься по жизни? – мужчина никогда не чурался позволить себе фамильярность. К счастью, проработав с людьми какое-то время и столкнувшись с достаточной бесцеремонностью, Генри ничуть не смутился.
– Я работаю бариста. Вы, верно, слышали про недавно открывшееся кафе? – выражая большие сомнения в собственном предположении, спросил парень.
– А да, слыхал. Та еще обдираловка.
Генри казалось, он понимает корни пренебрежения, вылетающего изо рта Рудковски. Слушать мужчину было невыносимо, и тем не менее парня держали в руках открытость и добродушие Элеоноры.
– Мой приятель, мистер Шмальц… – продолжал Джозеф. – Я был у него как раз тогда, когда тебя сюда занесло. Так вот, тот рассказывал, что за чашку вшивого кофе в этой «La clé», – он покривлялся, – с тебя стрясут целых четыре рубля!
Мужчина презрительно фыркнул, а Генри поправил его:
– Шесть рублей.
– Что? – Рудковски действительно не услышал реплики парня. В разговоры мужчина вступал лишь затем, чтобы выслушать себя самого.
– Я говорю, погода словно шутит над нами, – удивлялся отсутствию снега юноша. – Или это мне, человеку северных краев, в диковинку праздновать Новый год весной?
– Да что там погода. Погода, она всегда гнилая была, – Рудковски говорил так медленно и с таким трудом, что Генри даже поинтересовался, не выльется ли диалог в его истощение. – Главное, чтобы рыба в реке водилась, а то придется нам со Шмальцем даром раздавать рыболовные снасти прямо перед витриной магазина.
– У вас свой магазин? – без особого энтузиазма спросил Генри.
С каждым предложением Джозефа парень питал к мужчине все больше отвращения и искренне недоумевал, как Элеонора, эта прекрасная женщина, могла сосуществовать с его сальным телом. Задавая вопрос, Генри не то чтобы хотел услышать ответ – он лишь надеялся скоротать бесконечное время до прихода девушек.
– «Большая рыба» на Мюль-Стрит, – мужчина смерил его таким взглядом, будто незнание о его рыболовном магазине приравнивалось к неспособности сложить два плюс два. Генри в ответ сделал вид, словно новость его впечатлила.
– Заждались? – миссис Рудковски буквально вплыла в приглушенного света комнату. За ней неуверенно потоптала Мелания.
Элеонора надела платье красного цвета. Сверху его страсть подчеркивал V-образный вырез. Он же оголял золотой кулон, подаренный мужем по случаю юбилея. Рукава у наряда отсутствовали, как и нужда в них – все внимание занимал корсет, подчеркивающий удивительной стройности талию.
Меланию нарядили в костюмчик цвета спелого абрикоса. На голове у девчушки блестела игрушечная корона. По словам самой девочки, работа ее мечты – принцесса снежинок.
Однако какими красотами ни сияла комната, как ни блистали разноцветные елочные гирлянды и украшения девушек, когда в дверной проем вошла Катерина, даже всегда собранный и вникающий в происходящее Генри лишился способности говорить.
Вопреки наставлениям матери и принятым в Энгебурге устоям, Рудковски яро отстаивала право на брючный костюм, пусть и торжественность случая приравнивалась к главному празднику года. Будучи, как утверждали, предметом исключительно гардероба мужского, пиджак светло-голубых тонов отнюдь не «огрублял» вида девушки. Катерина, утопшая в его широких покроях, напротив, казалась чудовищно хрупкой и беззащитной.
Из-под пиджака осторожно выглядывал черный топик. На талии – согласно статистике Генри, еще более изящной, чем той, какой хвастала мать, – красовался кожаный ремень, что любезно удерживал тяжеленные с виду брюки. И весь этот образ удачно дополнил недавно купленный голубой ободок.
Катерина, с малых лет одеваясь со вкусом, привыкла выглядеть празднично в любой день. Она вошла в зал, и при его свете люстры распущенные локоны девушки отлили чистой бронзой.
Тишина сохранялась до тех пор, пока не стала причинять домочадцам неловкость. Тогда Генри поднялся, чуть более резко, чем намеревался, и голосом диктора отчеканил:
– Дамы, вы выглядите великолепно.
– Генри, это так мило с Вашей стороны, – расцвела от комплимента Элеонора. – Дорогой, еще секунда твоего молчания, и у меня появится новый кавалер, – она шутливо обратилась к супругу.
– Что ж, от этого ни от кого из нас не убудет, – и хотя излюбленная манера общения мистера Рудковски также была полушуточной, его злые издевки не вызывали у собеседников смеха. Больше того, они вынуждали смущаться.
Элеонора в растерянности опустила глаза и, будто вспомнив про это только сейчас, вскрикнула:
– Боже мой, осталось пару минут, что мы ждем?! – большая стрелка часов находилась двумя градусами правее одиннадцати.
Все семейство, включая Генри, принялось оккупировать стол, нарочно доставленный в залу. Мистер Рудковски занял привычное место во главе, еще раз доказывая об известном лишь ему превосходстве. Элеонора села по его левую руку, ближе к двери, что объяснялось частым метанием в кухню из-за «принеси-подай».
Ритуалы рассаживаний позабавили Генри: на торжествах, имеющих место в его мегаполисе, эти традиции не соблюдались. Потому парень пребывал сейчас в неких сомнениях – где сесть ему? В конце концов, он решил упасть за стол по принципу «где придется».
Как выяснилось пару мгновений спустя, «где пришлось» находилось прямо напротив главы семейства. Такое положение явно подразумевало под собой последующее ведение дебатов, вступать в которые с человеком, подобному Джозефу, у парня не было никакого желания.
Еще больше смущения возникло в глазах Генри, когда, услышав удары курантов, три дамы принялись что-то судорожно писать на салфетках. После чего они подожгли свои письма и вместо того, чтобы выбросить пепел сгоревших предметов, сыпанули труху прямиком в бокалы.
Позже, заметив его ошарашенный взгляд, Элеонора с радостью объяснила: записывать сокровенные желания на салфетках, а затем пить пепел, оставшийся после сгорания, – это любимая всеми традиция, аккомпанемент приходящего года.
– Довольно занятно, – заключил Генри и метафорично добавил: – Выходит, традиция все-таки поклонение пеплу2.
Катерина швырнула на юношу заинтересованный взгляд, но, заметив встречный с его стороны, тут же отвела свой, демонстрируя увлеченность картинками на экране.
Тем временем Элеонора занялась тем, что издавна нарекли ритуалом: сперва женщина должна была разложить еду на тарелки всего семейства, словно никто из них не имел ни рук, ни умения справиться со столовым прибором, – и лишь после заняться собственным блюдом.
Катерину всегда возмущало подобное отношение к женщинам и, прежде всего, к ее матери, и потому она никогда не позволяла женщине поухаживать за собой на столовых сборищах. И если беспомощность Мелани девушка могла списать на возраст малышки, проявляемую в этого рода случаях немощность отца, а вместе с ним и оную остальных неспособных мужчин, Катерина безмерно презирала.
– Дорогие, я желаю вам в этом году приобрести то, в чем вы больше всего нуждаетесь, – прежде чем приступить к трапезе произнесла Элеонора.
– Новых клиентов, – хмыкнул Рудковски.
– Конфет и игрушек, – мечтательно протянула Мелания.
– Спокойствия и послушания, – с улыбкой и толстым намеком, сквозившим во взгляде, объявила, глядя на Мелани, миссис Рудковски.
Генри с терпением и любопытством уставился на Катерину – та упивалась молчанием, но по лицу ее все же читалось: строит серьезные планы.
– Генри, а что бы Вы хотели пожелать себе в этом году? – обратилась к парню мама девочек, – Простите, если вопрос покажется Вам откровенным.
– Нисколько, – заверил женщину Генри, и девушка приготовилась проявлять безразличие к его ответу. – Впрочем, пожелание это относится скорее не к грядущему году, но ко всей моей жизни, сколько бы той ни осталось.
Парень еще больше выпрямился, так что теперь силуэт его уподобился резвой стреле, и принялся отвечать:
– Вы спрашиваете меня о том, в чем я больше всего нуждаюсь, и я отвечу с позиции человека, который всю жизнь провел в одиночестве, вызванном непониманием со стороны.
Объявив о своем одиночестве, Генри послал испытующий взгляд Катерине. Таким образом парень безропотно признавался: суждения Рудковски, какими та поделилась при первом их разговоре, справедливы и вполне оправданы.
– Я желаю, чтобы вокруг меня находились люди, глядя на которых я испытывал бы ревностную жажду день за днем становиться все лучше. Люди, не погрязшие в зловонном болоте роптаний на судьбу и мир, их окружающий. Люди, которые ставят перед собой цель и предпринимают шаги по ее достижению.
Я хочу, чтобы мой круг состоял из лиц, не павших жертвами коллективного разума, если в существовании такого нельзя сомневаться. Лиц, какие поняли бы мои взгляды и разделили мысли, пусть даже те выходят за рамки возможного – что, вообще-то, иллюзия.
Я мечтаю об окружении, в каком человек не скрывается прочь, завидев первую тучку шторма, но мобилизует свои дух и силы и ищет возможности в неприятностях.
Я хочу жить в мире, где высшая ценность для человека – он сам. В мире, где человек, провозгласивший себя хозяином своих мыслей и действий, не подпитывал паразитов, что настроились жить за его счет.
Наконец, я хочу, чтобы каждый был занят лишь собственной жизнью и не занимался спасением других. Потому что тем самым – своими же поучениями и мнимой выручкой – он отнимает у них возможность покормиться опытом, ворует у себя время и оставляет участников драмы в замкнутом порочном круге.
Пылкая, избавляющая от зашоренности речь привела к неизбежному эмоциональному опустошению, чем слегка покачнула равновесие оратора. Тогда он, стремясь найти опору и за нее ухватиться, бросил взгляд на лежащую рядом Найду. Собаку, в том числе из-за длительных уговоров трех настойчивых дам, неохотно впустил в дом мистер Рудковски.
Комнату заполонило молчание. Оно сообщало: к словам юноши не имелось ни замечаний, ни комментариев. За это Генри был, как ни странно, благодарен. Впрочем, отведя взгляд от Найды, телом и духом вернувшись к столу, парень словил на себе вопрошающий взор Катерины. Та словно ждала, пока взгляд натолкнется на встречный, и, неизбежно дождавшись, выказала вопрос:
– Вы все это время говорили про идеальное для себя окружение, – Рудковски впервые за вечер сейчас обратилась к Генри. Тщательно, будто боясь оступиться, девушка подбирала каждое слово и подводила парня к удару, – но что Вы хотите от и для себя самого?
Всегда имея наготове однозначный и, как правило, исчерпывающий ответ, Генри нисколько не растерялся. Напротив, парня обрадовал этот вопрос, заставляющий мозг шевелиться.
– От себя я хочу и требую верности своим целям и ценностям, неуклонного их преследования и решительных действий в согласовании с ними. От себя я прошу образцового мужества, достаточного для борьбы с передрягой; краткости и жестокости с теми, кто пытается тянуть меня вниз при моих потугах вырваться на передовую, – отчеканил Генри и, помолчав, добавил: – Вам знакома теория ведра с крабами?
– Видимо, ее преподают там же, где обучают искусству сарказма, – съехидничала Катерина. Мать наградила ее таким взглядом, который понизил температуру в гостиной, и девушка из уважения к ней извинилась: – Пожалуйста, продолжайте.
Катерина вымучила из себя улыбку и быстро захлопала искрящимися глазками. Про себя отмеченные вредность и злопамятность девушки позабавили юношу и он охотно ответил на ее недопросьбу:
– Согласно этой теории, помещенные в ведро крабы, к каким можно приравнять занятное количество обывателей, – до того глупые существа, что, когда один из них решает выбраться из ловушки, остальные тут же цепляются за него и тащат обратно, – поделился знанием Генри. – Мне случалось видеть таланты, которым не суждено было прогреметь ввиду чрезмерного страха перед неизвестным и излишней вере во мнения своих сородичей. В ведре им привычно, комфортно – но за его пределами нужно учитывать обстоятельства, напрягаться, рисковать. Грустное зрелище, но оно же дало мне понять, кем я стать не хочу.
– Генри, Вы так интересно рассказываете, – вступилась миссис Рудковски. – А все-таки, надо отдать должное моей забывчивости: купи я горошек да не отправь за ним Катерину, наша компания лишилась бы такого занятного гостя!
– Тебе все сахар, что другому яд, – пробурчал мистер Рудковски.
– Между прочим, пора и тебе, в конце-то концов, подсластить свою пилюлю.
– Сними-ка ты очки, Элеонора, чай, не в розовом замке живем, – не унимался мистер Рудковски. – И эти, – он кивнул на девочек, – туда же. Как мне дороги ваши пустые мечтания!
– Папа! – воскликнула Катерина. Удивительным образом только она и могла усмирить бормотание отца, не в последнюю очередь из-за их обоюдной способности вчувствоваться друг в друга.
– Ну, все-все, вы же меня знаете, – тоном, который должен был извиниться за своего хозяина, протянул Джозеф. – Ляпну, не думая, а потом все хожу да жалею.
– Катерина, – обращение Генри звучало как гром среди ясного неба, – а чего бы Вы себе пожелали?
Девушка уже принялась изобретать изощренные способы ускользнуть от ответа, а потом вдруг остановилась: «Разве заслуживают мои желания того, чтобы я их стыдилась? Не считается ли абсурдом мыслить в пределах одного дня, но не думать глобально? В конце концов, неужели станут его осуждения, если такие последуют, оплеухой для моих мечтаний?» После этого, резко отрезав, словно воздух был прозрачной тканью, она заявила: – Я хочу всемирной славы и завидного богатства.
Катерина откинулась на спинку стула, скрестила руки и вызывающе посмотрела на Генри. Парень же в очередной раз отметил себе ее детский каприз, заключенный не столько в масштабных и недостижимых мечтаниях, но в причудливых формах бунтарства, проявляемых словом и жестом Рудковски. Остальные, казалось, и не почувствовали, как звуковая волна сотрясла сейчас комнатный воздух.
– Пойду-ка я перекурю, – бросая на тарелку кость с уже пятой куриной ножки, поставил всех перед фактом мистер Рудковски. А затем, обратившись к парню, добавил: – Куришь?
– Нет. Но я составлю компанию. Хочу вывести Найду на свежий воздух.
Джозеф кивнул, поднялся из-за стола, задев его животом так, что шампанское в бокалах покинуло свои берега, и вместе с гостем направился к выходу.
Несмотря на дату, красовавшуюся на календаре, время, на которое указывали старые часы в прихожей, и температуру, равнявшуюся градусам трем, стоять на пороге было так же приятно, как окунуться в реке в полуденную жару. Мужчины молчали и, глядя на немногочисленные огни Энгебурга, думали каждый о своем: Генри размышлял о сюрпризах, караулящих его в пришедшем году, и помехах, заключенных в непривычных ему условиях новой жизни; Рудковски беспокоился за скудное количество сигарет, по неосторожности оставленных им на утро.
Они не обмолвились даже словом, а когда парень объявил об уходе, отец Катерины не стал его отговаривать или пытать о причинах. Мысли о неучтивости Джозефа не терзали.
Рудковски пожал руку Генри, бросил бессмысленное «с Новым годом!», потушил окурок и вернулся в дом. Генри же постоял на пороге еще с минуту, терзаясь о невысказанной благодарности Элеоноре, но не в силах объяснить свою неспособность вернуться в семью, с ее спорами о мирских заурядицах и юмором разрешенными конфликтами, медленно побрел домой.
Глава 8. Город множества падений
Утром десятого января Катерину поднял настойчивый телефонный звонок. Любительница пробудиться по своей воле и в то время, которое она сама сочтет нужным, девушка приходила в бешенство при любых попытках внешнего мира диктовать ей правила. Не приложив усилий к тому, чтобы подготовиться к разговору и настроить голос на доброжелательную волну, Катерина с раздражением схватила трубку и бросила грубое: «Да».
– Катерина, я устроилась на работу! – звучал на другом конце голос Карлы. Радостный, словно девушка обрела не рабочее место, но банковский чек на миллион.
– Рада за тебя, – саркастично выдала Катерина. Недовольство, вызванное прерыванием ее сна и приправленное незначительностью причины, продолжало стремительно нарастать.
– Рада за тебя?! – опешила Карла и упрекнула подругу в бездействии: – Могла бы хоть успехов мне пожелать!
– А ты могла бы воззвать к своей памяти и найти в ней тот факт, что я ненавижу грабителей моего сна! – выпалила Катерина и тотчас почувствовала укор совести: почему ей правда не взять и порадоваться за подругу? – Ладно, прости, я действительно за тебя рада. Поздравляю!
– Даже не поинтересуешься, где теперь будешь пить чай по скидке? – все не унималась Карла.
– И где же теперь счастливице Катерине отведать халявного чаю? – язвительно передразнила Рудковски.
– Ты не поверишь! В «La clé»! – только и ждала, чтобы с гордостью выкрикнуть Карла. Так довольна она была своим новым – и первым – местом работы, что забыла: место она получила не по заслугам, но через связь ее матери с одним из сотрудников.
Ответом Карле стала лишь мертвая тишина, и она, вконец устав от холодного безучастия подруги, потеряла терпение:
– Знаешь что, Катерина? – тоном, обвиняющим девушку во всех прегрешениях мира, выпалила Армут. – Хоть бы раз ты подумала, что существуют еще остальные восемь миллиардов, с их радостями и печалями, взлетами и падениями. Они не меньше тебя, нашей королевы, нуждаются в опоре и поддержке, – голос Карлы начинал срываться на плач. – Друзья познаются в беде? Что ж, тот, кто это сказал, явно не утрудил себя мыслью о том, как этот же «друг» поведет себя при твоих достижениях. Пусть даже таких мелочных – прием на работу! – закончила девушка, со злостью швырнув телефон.
Катерина лежала, опершись на спинку кровати, и боялась пошевелиться. Она не могла объяснить своей неадекватной реакции на объявление подруги, но глубины сознания, будто волны на берег, выносили ей: сюда чудным образом примешался бариста.
Девушка не признавала или, вопреки напускному бесстрашию, боялась признать: несмотря на ее бессердечность, – наличие качества с детства внушила ей мать, обосновав его отсутствием у Рудковски жалости к людям, которые, не ударив и пальцем, кричат о несправедливости к ним судьбы, – что-то в ней пробудило вдруг неизвестные чувства еще в ходе первой их с Генри баталии. Вместе с тем Катерина ошибочно полагала: право владеть душой и телом парня уже принадлежит ей.
Мысли Катерины метались, словно подневольные птицы в клетке. Нужно было срочно придумать, чем загладить некрасивое поведение в сторону Карлы; как защитить и сберечь свое «сокровище» – даром что оное, даже будучи награбленным, тебе не принадлежит; и, в конце концов, каким вывертом обратить ситуацию в свою пользу.
Прощение подруги представляло собой наименьшую из проблем, если вообще таковой являлось. Все предыдущие примирения девушек происходили путем вручения небольшого подарка, за чем следовал обмен любезностями, клятвами в верности и бесконечной преданности их дружбе. «Навсегда и днем больше», – торжественно провозглашали дамы, а после долго обнимались, роняя при этом бриллиантовые слезы.
Остальные пункты переживаний вызывали у Катерины немалые беспокойства по поводу их разрешения. Как можно уберечь вероятного спутника жизни, пусть и испытывая к нему беспричинную злость, от таких же возможных конкурентов? Стоило ли вообще терзаться волнениями при условии, что переменные уравнения воображаемые? Эти мысленные кульбиты занимали сейчас разум девушки, и она твердо решила заняться делом: нужно отвлечься от потока дум.
Порой, когда девушка замедлялась, внутренний голос мог до нее достучаться: «Не глупо ли устранять симптомы болезни вместо того, чтобы выдернуть ее корни? Не правильнее ли пережить свои мысли и чувства, а не вечно от них бежать?» К сожалению, бегство от боли – способ гораздо более легкий, проверенный временем, пусть и на длинном отрезке причиняющий тебе немало хлопот.
Так, следуя уже известному плану, девушка резво поднялась с постели, откинула в сторону нагретое телом одеяло, и подошла к окну. Здесь, совершая известный одной только ей обряд, Катерина любила следить за морщинистой речной гладью, а в ночи – за усеянным звездами полотном.
Впрочем, в этот раз Катерине было не до любований. На столе у окна покоилась сумочка – девушка грубо раскрыла ее, как непроглядные шторы, скрывающие злодеяние, и вынула ежедневник.
«10 января 12.15 – встреча с работодателем», – так выглядела заметка, сделанная Рудковски в спешке, на радостях: ведь у нее теперь будет возможность получать плату за свое хобби – художественный перевод.
До сознания Катерины постепенно дошло: новость Карлы отнюдь не являлась случайностью, если случайностям в принципе есть место в этой Вселенной. Девушки давно условились: с наступлением нового года они отбрасывают сомнения и страхи, – что терзали, скорее, Катерину – леность и прозябание – бесстыдные пороки Карлы – и примыкают к рабочему классу.
В отличие от подруги Катерина не то что бездействовала до сих пор. Чтобы избавиться от финансового попечительства ее родителей, девушка следом за сменой квартиры покинула праздность и шлепнулась в трудовые будни.
Весь второй курс Рудковски успешно подтягивала в успеваемости малышей, отстающих по достижениям в английском. Но по прошествии года девушка все же решила: ненависть к детям таки превалирует над желанием заработать копейку, и под искусным предлогом лавочка была прикрыта.
Страхи одолевали Рудковски не только из-за падения в неизвестное. Резоном являлось и то, что первая ее работа не требовала от Катерины ни умственных, ни физических напряжений. Усталость обуревала девушку лишь от длительных посиделок на стуле, и это противоречило всей ее ураганной натуре, требовавшей от Рудковски решительных действий.
Вознамерившись же устроиться по специальности, девушка встретилась с осознанием: помещение в ее голове теперь предназначено не для гнетущих мыслей и розовых мечтаний. Перевод – вещь примитивная разве что для дилетанта. Великие мэтры знают: в любом языке, отличном от тобой носимого, едва существует эквивалент для любого небрежного слова; равно как смысл одного незаметного выражения мигом меняется, стоит ему прописаться в ином контексте.
Тем не менее среди прочих принципов Катерина, когда очень хотела, внимала и следующему: она предпочитала сделать и пожалеть, если при худшем раскладе все шло не по плану, – жалеть, к слову, не приходилось – чем терзаться о неопробованном. Кроме того, не работая ранее в этой отрасли, а значит, имея все шансы на справедливый отказ, девушка все же предпочитала бросить вызов фортуне. Ведь в таком случае она, как минимум, ничего не теряла.
До встречи с работодателем оставалось не менее двух часов, однако остаться в квартире значило разрешить помещению давить на нее, а мыслям – медленно добивать. Поэтому Катерина, уделив в совокупности минут тридцать на умывание, кружку чая и элементарное облагораживание лица и тела, отправилась бродить по улочкам Энгебурга, постепенно приходящего в себя после ночной спячки.
В сравнении с температурой, которой город болел в канун Нового года и первые дни после его наступления, сейчас несвойственный зимнему периоду жар пошел на спад – в воздухе ощущались добрые градусов двадцать мороза. Едва оказавшись на улице, Катерина невольно поморщила нос и поблагодарила себя за то, что красоте она предпочла комфорт. Надев поверх черной блузы с кружевами греющий бежевый свитер, девушка довершила наряд серым зимним пальто. Теперь его бортики защищали от ветра и снега уязвимую, нежную шею.
Катерина неспешно брела по узеньким улочкам города и рассматривала постаревшие одновременно с ее взрослением постройки. Девушка наизусть знала, какая стена лишена одного-двух кирпичей, а какая от дешевизны материала прогнила. В такие моменты Рудковски всегда себя спрашивала: «Ну не глупо ли уделять столько много внимания дефектам, когда абсолютное большинство составляющих здоро́вы и прекрасно функционируют?»
Строительство новых жилых помещений давно не планировалось – нужда в них отсутствовала в силу падения численности горожан, постепенного вымирания города. Энгебург покидали по разным причинам: за невозможностью отыскать достойную работу, устав от безрадостного уклада жизни. Кто-то и вовсе приравнивал город к вакууму: по природе своей тот лишен воздух, но сохраняет жизнь паре частиц, каждая из которых в подробностях знает о быте другой.
Когда случалось чудо и на радость жителям, истосковавшимся по пересудам, им в лапы на всех порах неслась жертва, Энгебург огревало цунами сплетен. Как заключил для себя по прошествии нескольких дней пребывания Генри: «Нет ничего противоестественного в том, что приехать сюда никто не стремится. Нелегко испытать судьбу диковинного зверька, выставленного на всеобщее обозрение в клетке зоопарка. Попасть в эту клетку значило окружить себя слишком болтливыми языками и изрядно задуренными головами».
Тем не менее, проведя здесь все свои годы жизни, Рудковски любила город, и тоску на нее нагоняла единая мысль о прощании с ним. И если сейчас Катерина в какой-то степени осмелела, в семнадцать она отнюдь не славилась такой же решительностью. Именно из-за этой боязни – боязни нового – Рудковски струхнула покинуть пределы родного пристанища, а с ними и зону комфорта. Именно из-за отсутствия силы дать отпор обуявшему ее страху, девушка вняла совету родителей и решила учиться заочно – не покидая дома.
Катерина остановилась перед магазинчиком с мелочами, тем самым, – другого в городе не было – где Карла выискивала новогодний подарок для матери. Рудковски оказалась здесь не по воле случая: в то время как сама девушка видела в сувенирах исключительно пылесборку, для Карлы статуэтки всех колеров и размеров казались предметами огромной ценности. А бесчисленные фарфоровые фигурки, купленные на передвижных ярмарках, Армут и вовсе возводила в ранг святых обелисков, способных исцелять душу и тело, стоит прикоснуться к ним одним только взглядом.
«Такого у Карлы, наверное, еще нет», – подумала Катерина, раскопав в коробке с надписью «Для богатства» некое подобие Будды, сидящего на горе со златом. Девушка уплатила указанную за него цену, сомневаясь, кому все же капает это богатство, и поспешно направилась к выходу.
Не заметив, как за блужданиями пролетел целый час, – так случается с теми, кто увязает в болоте мысленных завихрений, – Рудковски теперь была вынуждена чуть ускориться. А с теми, кто волей-неволей находится в спешке, обязательно происходит какая-нибудь неприятность. Больше того, последняя часто влечет за собой вереницу подобных.
На этот раз спусковым крючком послужило столкновение с посетителем магазина. Несмотря на то, что виновницей инцидента стала сама Рудковски, взбалмошная ее натура тут же скомандовала Катерине накинуться с обвинениями. Мужчина, – товарищ по неприятности – опешив от дерзости наглой девчушки, не успел и слова сказать в ответ и остался стоять с широко раскрытыми глазами даже после того, как поганка исчезла с его поле зрения.
Люди, лишь мельком знавшие девушку, но успевшие побывать под ее горячей рукой, говорили: присутствие в их жизни Катерины напоминало внезапно налетевший ураган. Ее появление не могли предсказать, на своем пути она разрушала все, что было ей не по нраву, а после такого же скорого исчезновения только слепой не заметил бы неминуемых следов – их оставило после себя губительное происшествие. Так и прямо сейчас ураган покидал пределы умолкшего помещения, представляя угрозу для каждого, кто дерзнет встретиться с ним на пути.
Катерина пулей вылетела из магазина, почти ликвидируя его стены. К ее ужасу, в тот момент, когда дверь за ней с оглушительной громкостью бахнула, а саму девушку по инерции крутануло вслед, Рудковски почувствовала: что-то мешается у нее под ногами. На всю улицу прогремел пронзительный писк, и Катерина с широко раскрытыми глазами и неистовым криком полетела (в прямом смысле) в неизвестность.
Распростершись на тротуаре, слегка присыпанном лишь поверхностным слоем снега, Катерина мысленно зачертыхалась. В душе ее разливалась болезненная тревога: в каком виде она заявится на интервью? Вдруг, выведя девушку из глубокого транса, ей протянули руку:
– Разрешите помочь? – слова звучали скорее как утверждение. Спокойное, если не сказать убаюкивающее, и вместе с тем не подлежащее никакому обжалованию.
Катерина сделала попытку сесть и прикрыла рукой выжигающее глаз солнце – то мешало увидеть ее спасателя. Она скептически покривилась, силясь уловить хотя бы контуры его тела – затея не увенчалась успехом. Тогда девушка, кряхтя и бормоча что-то себе под нос, доверила бледную, ледяную ручку галантному незнакомцу, и тот по-рыцарски помог Рудковски подняться.
Незнакомцем прохожий, впрочем, оставался недолго. Увидев того, кто выдавал себя за спасателя, Катерина окаменела. Перед ней снова был Генри, а упала девушка, видимо, на собаку.
– Как Вы… Что Вы себе… Вот Дьявол! – Катерина тщетно силилась подобрать слова, пока те лениво отказывались спешить ей на помощь.
– Вы что-то хотите сказать? – совершенно спокойно, с лукавой улыбкой переспросил ее Генри.
– И не пытайтесь уверить меня, будто это чистой воды совпадение, – обвинила парня Рудковски и, не давая ответить, окатила вопросами: – Как долго Вы преследуете меня, и сколько эта погоня – черт возьми! – будет еще продолжаться? Зачем на предложение о встрече Вы отвечаете дерзким отказом, а затем ищете меня в моем собственном доме? Вам нравится унижать меня на людях? Что ж, отдам должное: Вы мастак своего дела! Если Вам хочется это услышать, так и быть, признаю́: позорное поражение за мной. Надеюсь, теперь Вы довольны и, в конце концов, от меня отстанете.
Девушка отряхнула полы пальто от налипших грязи и снега и развернулась, чтобы поскорее покинуть сцену постыдных событий. Генри спешно схватил ее за руку, чуть выше локтя.
Сделав это без грубости, не вложив в действо ни капли дурного посыла, парень встретил однако такой взгляд, что, будь вместо глаз у Рудковски два маленьких солнца, юноша воспламенился бы на месте. Потому Генри быстро убрал руку и поспешил – дело редкое – объясниться:
– Я бы хотел понадеяться на свою исключительную память и вспомнить каждый Ваш укор, чтобы избавить обоих нас от возможных недопонятостей, – на фоне убийственной выдержки Генри возмущение девушки казалось абсурдным. – Согласитесь, пожалуйста, выслушать. Вы ничего не теряете.
Катерина, и так без оружия, стояла теперь, как нагая, перед своими же принципами – не терпеть неприятное. Злая сама на себя, девушка закатила глаза, скрестила руки и презрительно фыркнула: «Говорите».
– Благодарю, – Генри выдохнул, будто подъемные краны сняли с него тяжкий груз, и продолжил: – Катерина, во-первых, извольте просить Вас поверить: наши встречи действительно не были спланированным покушением. У меня нет доказательств, а значит, придется довериться слову.
Во-вторых, мне неприятна сама мысль о том, что я мог прослыть человеком падшим, а Вы – излишне в себе уверенным. Я убежден: ни один из нас таковым не является. Будучи человеком порядочным, я не собирался Вас унижать, будь судьей публика или один своевольно гуляющий ветер.
Вернемся к вопросу отказа – здесь исключительно проблема личности. Я имею привычку, к несчастью, сперва оттолкнуть людей, отгородиться от них высокой каменной стеной, а после жалеть об отсутствии смелых, кто перебрался бы через ров моих слабостей. В какой-то степени, все это напоминает проверку на силу характера и готовность терпеть мои выверты. И Вы достаточно умны, чтобы это понять: здесь нет ничего, что не касается только моей капризности нрава.
Наконец, я хочу заявиться с повинной о моем нежелании от Вас отстать. Не воспримите за наглость: я не желаю Вас домогаться. Но, заметив занятного склада ум, я не хотел бы лишиться шанса с ним соприкоснуться.
Чтобы быть до конца откровенным, призна́юсь: мне чертовски обрыдло мое одиночество, этот бич оставаться без компаньона по разуму. Вы конечно же можете возразить: у меня есть пес, с которым я вправе делиться и горем, и радостью – в таком случае будете правы. Однако каким бы смышленышем ни была Найда, в силу природных лимитов она не ответит мне словом. А без наличия оного время от времени не обойтись.
В завершении моей пламенной речи я хотел бы решиться на дерзость – пригласить Вас на официальное, в этот раз запланированное рандеву. Я не тороплю Вас с ответом, а, встретив отказ, приму его с пониманием.
Как и в первый раз, когда они сидели за праздничным столом, а Генри обнажал перед судом семейства душу, слова его произвели на и без того впечатлительную Рудковски ошеломляющий эффект. Теперь ей к тому же негласно дали добро, чтобы выразить собственные переживания и не бояться быть высмеянной. Генри распахнул свою душу настежь, и тем самым вручил Катерине страховку, гарантию на отсутствие осуждений ее последующих эмоций.
Несмотря на то, что каждая клетка Катерины силилась это отвергнуть, парень опять-таки смог ее обескуражить. Причем на сей раз куда более изощренно, чем в ходе их предыдущих баталий. Готовая или, скорее, ожидающая натолкнуться на поток перебранок, Рудковски стояла сейчас пораженная непредсказуемостью юноши. Вместо отправки взаимных негодований, тот, подобно животному, признающему поражение, подставил живот, и тем самым – каков парадокс! – заделался победителем.
– Не стану скрывать, у Вас Божий дар. Вы отменно вгоняете людей в конфуз. Чего же Вы ждали: моей капитуляции? Вы надеялись, Ваши прикрытые благородством речи меня повергнут?
– Послушайте и поверьте, пожалуйста, – почти взмолил Генри. – У меня и в мысли-то не было затевать с Вами войну или публично высмеивать Вас. Если в моих словах или действиях Вы увидели нападение, это лишь Ваше их восприятие.
– Постараюсь тогда сделать вид, будто всецело Вам доверяю. Что до встречи, прямо сейчас из-за Вас я опаздываю на одну из таких.
Уклонившись от обещаний по поводу будущих встреч, замыслив вызвать у Генри терзания, Катерина шустро скользнула по холке Найды и, махнув головой в знак прощания, упорхнула в другую сторону.
Глава 9. Поворот в никуда
Несмотря на небольшую задержку и слегка неопрятный после коллизии вид, природное обаяние и умение подать себя Катерины произвели ожидаемый эффект. Они довершили россказни девушки и убедили работодателя тотчас ее нанять – всего пару минут спустя Катерина крепко сжимала в хрупких ручонках договор об устройстве на должность внештатного переводчика.
Рудковски заранее знала следующий план действий. Свою победу Катерина решила отметить. Так, довольная тем, что она сейчас провернула, девушка отправилась прямиком к известной кофейне. А чтобы догнать и прикончить второго зайца, – примирение с подругой – пригласила туда и Карлу.
Еще до того как вступить в пределы кофейни, Рудковски определяла, куда первым делом скользнет ее взгляд, в какую сторону повернется корпус, какая рука кокетливо проведет по сияющим волосам, возвращая на место предусмотрительно выпущенную из прически прядь. Если неразлучной спутницей Генри являлась Найда, компаньоном Рудковски служила дотошная визуализация. Доведенная до совершенства, способность не раз помогала девушке успокоиться, приободряла ее и добавляла веры в грядущее: все пойдет тем чередом, какой Катерина нарисовала в голове.
Совершив ритуал и повесив пальто на вешалку, Катерина продолжила терпеливо стоять у входа. Она не могла отказать себе в удовольствии понаблюдать, как искусно жонглирует чашками зерен бариста.
Несмотря на то, что в заведения повсеместно стали врываться безжизненные кофемашины, в «La clé» были преданы старой доброй кофейной турке. Именно преданность ей хозяев позволила Катерине теперь любоваться колдовством, с каким Генри орудовал над этим маленьким медным кувшинчиком.
Отдавая очередной заказ, в то мимолетное мгновение, которое выдалось между обслуживанием посетителей, парень поспешно поднял голову и заметил наиболее неожиданную, но самую желанную для него гостью. Взгляд тут же намертво приковался к ней.
Катерина сияла широкой и белоснежной улыбкой, вызванной, в том числе новым ее достижением. При виде зрелища Генри мельком подумал: вероятно, ее идеальным зубам было свыше назначено служить особенной миссии – как фонарикам, освещать мрак на улице и в душе.
Извиняясь глазами за то, что не может смотреть на нее целый день, Генри вынужденно повернулся к очередному клиенту. Девушка понимающе опустила глаза, а затем побрела к череде посетителей, желающих быстро согреться напитками после холода улицы.
Когда очередь рассосалась, а Рудковски и Генри остались стоять тет-а-тет, юноша ухватился за шанс развязать между ними беседу.
– Чему я обязан Вашим вторжением? – отвечая взаимной улыбкой, бариста скорее не спрашивал, а вновь приветствовал девушку.
– Хочу отпраздновать блистательное интервью и обмыть его чашкой любимого чая, – как и задумала, с ямочками, игрой острыми бровками промяукала Катерина.
– Не сочтите за дерзость, – осмотрительно начал Генри, – но, может быть, крепкий свежезаваренный кофе обыграет торжество более яркими красками?
Всякий раз, когда кто-то кидался в нее непрошенными советами, Катерина, как свитер, била источник током. Но сейчас, пребывая в восторженном настроении духа, Рудковски решилась не плодить конфликт и сберечь ту хрупкую стенку мира, из тончайшего льда возведенную между обоими.
– Крепкому свежезаваренному кофе я предпочитаю хорошо настоянный чай, – отчеканила девушка, вздернув вверх заточенный нос.
– Жаль. Жаль, что Вы отказываетесь от моего коронного блюда, – воззвал к манипуляции Генри, – и никогда не узнаете, какой секрет хранит он в себе.
Парень подчеркнуто тяжело выдохнул и не спеша, давая гостье возможность еще раз подумать, повернулся к склянкам со всевозможными сортами чаев. Катерина, уморенная его дудкой, закатила глаза и не грубо, но выпалила:
– Ну, хорошо, давайте Ваш свежеособенный кофе! – Генри стоял спиной и позволил себе незаметно ликующе улыбнуться. – Но упаси Вас Господь, если напиток окажется не таким изумительным, как Ваши попытки меня на него подбить, – в шутку пригрозила Рудковски и издала короткий и нервный смешок.
Юноша колдовал над напитком минуты четыре, а по окончании таинства, как бы проинструктировав, произнес:
– Наслаждайтесь.
– Сколько с меня? – тонкие пальчики девушки бегали по купюрам, выискивая подходящую.
– За счет заведения, – Катерина прервала процесс и неспешно подняла голову, на что Генри кокетливо подмигнул.
Рудковски почувствовала, как в душе разливался флакончик с эфирным маслом. Вместо «спасибо» она признательно склонила голову и, увидев под боком следующего клиента, нетерпеливо смотрящего на часы, отпустила бариста работать дальше.
Только заняв свое место в углу и опустив чашку на поверхность, Катерина наконец вышла из бездонной глубины транса и заметила: облокотившись на бортики чашки, в ней восседала палочка корицы, а рядом курсировал цветок бадьяна. Еще раз улыбнувшись, девушка прилегла на спинку стула и, коснувшись губ указательным, скрученным в форме вопроса пальцем, как всегда, задумалась о своем.
Спустя пару мгновений колокольчики над дверцей сообщили о прибытии нового гостя, и та, послушно впуская будущую работницу, отворилась. Катерина махнула подруге рукой – уголки губ ее слегка качнулись. Впрочем, заметив серьезное лицо Армут, девушка поняла: ту до сих пор душит оскорбление – час играть в дружбу еще не настал.
Смешной величавой походкой Карла подошла к столику Катерины, со скрежетом отодвинула стул и грузно упала, скрестив в недовольстве руки и в нетерпении и нервозности ноги. Ступня верхней болталась, как лист на ветру.
Считав послание подруги, Катерина тотчас нырнула в сумку за троянским конем и, не говоря ни слова, вручила подарок Карле. Та, завидев блестящего Будду, ослабила амплитуду раскачиваний и бросила силы на то, чтобы сдержать улыбку – попытка с грохотом провалилась.
– А-а-а, Катерина, – умиленная, протянула Карла. – Какая прелесть! Тебе бы в стрелковое войско: отлично бьешь прямо по слабостям противника.
Девушки засмеялись, и, когда гогот несколько поутих, Катерина нежно дотронулась к руке подруги.
– Прости меня, Карла. Я не хотела и не была вправе злиться.
– Все в порядке, – честно ответила Карла. Девушка славилась тем, что с одинаковой скоростью обижалась и прощалась с обидой. – Мои «срочные» новости вполне могли подождать твоего пробуждения.
Лицо Катерины заискрилось в сотый раз за день. Какой бы поверхностной ни казалась Карла, девушка все же ее обожала.
– Так значит, мы сейчас сидим в твоем будущем кофейном царстве? – напускала грандиозности на не особо почетную должность подруги Рудковски.
– Да-да, – согласилась, закивав, Армут. – Жаль, что в этом королевстве твоя подруга – простая Золушка. Прибирает за достопочтенными дамами и господами и подносит им закусь по случаю бала, – мечтательно объясняла Карла, и в самом деле желая плясать на балу.
– Да ладно тебе. «La clé» – замечательная кофейня, где, я уверена, с персоналом не обращаются, как с рабочим скотом. К тому же, следуя классике жанра, Золушки получают и принцев, и замки, и Бог весть что еще.
Карла исподлобья глянула на подругу, проверяя, верит та самой себе или нет.
– Спасибо, умеешь ты успокоить, – и вдруг Карла опомнилась: – Боже, какая я идиотка! Как прошло твое собеседование?
Катерина прихмыкнула. Она давно привыкла к забывчивости подруги. И хотя девушка знала: есть вещи, над которыми они не властны, эта черта являлась источником, бьющим ключом ее раздражения. Что еще больше выбешивало Катерину – само нежелание Карлы над этим работать. Впрочем, Рудковски давно перестала вносить сюда свою лепту: в случае с Армут любые советы были напрасны.
– Не переживай, я держалась отлично, – заверила Катерина. – Если только не утром, когда мне пришлось…
– Извините, что я вторгаюсь в вашу беседу, – вмешался Генри и с хитрой улыбкой уставился на Рудковски: – Я просто не слышал звона разбитых чашек и гневных проклятий по поводу кофе. Вот и решил узнать, жив ли его дегустатор.
Слова во всю мощь источали ароматы подтекста, распознать которые удалось даже непроницательной Карле. И пока Катерина силилась подавить улыбку прикусыванием губ, подруга сыпала многозначительным взглядом.
– Простите, я не представился. Генри, – протянул руку парень и, не давая Рудковски избавиться от смущения, вновь стребовал ответ: – Так как Вам наш кофе?
Катерина усилием воли собралась и сдержанно произнесла:
– Не беспокойтесь, отравления не случилось.
Карла теперь озадачили целых две вещи. Во-первых, самой ситуацией: Армут катастрофически несимпатичны были обстоятельства, в которой секреты прятали от нее. А во-вторых, только сейчас ей замеченным престранным выбором напитка: Катерина пила исключительно чай и взрывалась от предложения разделить с кем-то чашечку кофе. Тотально сбитая с толку, Карла начала с малого:
– Минутку. Катерина, напомни, пожалуйста, в какой момент своей жизни ты вдруг заделалась кофеманкой?
Катерина хитро посмотрела на Карлу, затем на Генри, а после взгляд ее снова коснулся недоуменного лица подруги. Оказавшись в тот миг на допросе с пристрастием, девушка даже слегка растерялась и начала колебаться между вариантами: ответить правду, пустить в ход сарказм или сменить щекотливую тему на более ей терпимую.
Однако как бы Рудковски ни возмущалась, когда речь ее перебивали, сегодня все это шло ей на руку. А потому, стоило Генри вступиться, она с благодарностью выдохнула.
– Дамы, с удовольствием побеседовал бы с вами еще минуту-другую, но, боюсь, за дезертирство меня не похвалят. Позволите? – обратился он к Катерине с тем, чтобы забрать пустую чашку. Вопрос был встречен кивком и улыбкой. – Рад знакомству, – парень снова повернулся в сторону Карлы, а затем пустился в чинное плавание до, хотя слово казалось ему оскорбительным, барной стойки.
С уходом Генри Катерина вдруг ощутила такую степень беспомощности, что сравнила себя с последним воином, имеющим силу и храбрость стоять на ногах перед рвом так и не захваченной крепости. Крепости, стены которой кишат острыми стрелами лучников, а их острые наконечники смотрят лишь на него – последнего выжившего.
– Значит, по ледяной стене неприступности пошли первые трещины.
Тон и взгляд Карлы казались такими жгучими, что Катерина уже не могла увильнуть от ответа, но тем не менее попыталась:
– Что? Ты о чем?
Девушка знала: перехитрить Карлу проще, чем найти на небе Большую Медведицу – единственное созвездие, которое легко поддавалось глазу Рудковски. Однако на этот раз поверхностность Карлы как будто забыла пробудиться.
– О-о-о, Катерина, не смей! Сколько лет ты прикидывалась невинной монашкой и носила апостольник недотроги? Ты можешь дурачить кого угодно, но я-то знаю: эта твоя напускная задумчивость прячет лишь заячью пугливость!
Катерина хотела обидеться, но вовремя вспомнила: на правду не обижаются. Она пообещала подруге рассказать обо всем по пути домой, и Карла, довольная таким исходом, резво поднялась.
Рудковски, растягивая драгоценное время в кофейне, принялась не спеша устранять со стола следы присутствия. После того, как в нем стало видно свое отражение, а глаза Карлы уже побаливали от их закатываний, девушки взялись за руки и побрели к вешалке – та сторожила их наряды.
Армут покинула кофейню первой, и Катерина, лишившись надзора подруги, бросила прощальный взгляд в сторону Генри. Попав в занятого делом бариста, тот не был встречен взаимностью, и Катерину кольнул факт их неизвестного будущего: они не то чтобы не договаривались о последующих встречах – «знакомцы» не обменялись даже контактами, чтобы договоренности эти стали возможными.
Глава 10. Небосвод, какой он есть после грозы
С многообещающих событий прошло две недели, и Катерина, со временем отпустив ситуацию, сейчас беспечно напевала, помогая отцу делать переучет снастей в его рыболовном магазине.
– Значит, снова на вольных хлебах? – подытожил мистер Рудковски после рассказа дочери о работе.
– Свобода. Самодостаточность. Независимость, – деловито напомнила свои мироустои девушка, расставляя по полкам товары последней партии.
– Мда, вы, молодежь, сегодня все охвачены одним недугом, – осуждающе произнес Рудковски. – Хлебом вас не корми, рветесь скорее назваться самостоятельными. Заработав копейку, утолив расходы на жрачку и спячку, вам обязательно встретиться с мозгоправом, – так Джозеф высказывался о психологах. – Какой черт дернул вас по ним шататься? Вот мы обходились без всяких ваших психологов, и посмотри: нормальными выросли.
Катерина устало выслушала эти нравоучения, и отец, кинув философское: «Что вы за поколение?», вышел на склад.
Девушка не утруждала себя в такие моменты тем, чтобы перечить отцу: ни один из них не мог склонить другого на сторону своих взглядов. Однако всякий раз, включи мистер Рудковски шарманку о потраченном поколении, что-то в душе девушки искренне возмущалось.
Сама Катерина видела в сверстниках большую надежду на будущее. То были люди, по большей части нацеленные на пожизненное обучение новому, глобальное достигаторство, на то, чтобы в отличие от предшественников искать проблемы не в окружении да неисправности мира, – симптомах болезни – но в себе, собственных неучтенных погрешностях – давно проросших глубоко внутрь корнях.
Катерина закончила свою часть еще до того, как отец вернулся со склада. Она частенько помогала Джозефу, когда Шмальц под неубедительным – так девушке виделось – предлогом не мог явиться на место их с Рудковски детища. И хотя мужчина смущался просить дочь о содействии в «не женском деле» и всегда предлагал награду за «выручательство», Катерина отказывалась брать с отца даже малую сумму.
– Разрешите доложить? – обратилась девушка к Джозефу. – Спиннинги разложены, ценники приложены, коробки уничтожены.
Катерина приняла стойку солдата, и зрелище, дополненное армейским тоном, развеселило отца. Он рассмеялся, если за смех можно было считать его зловещий рогот, и, как обычно, покрылся краской спелого помидора.
– Вольно, – едва успокоившись, вытолкал из себя Джозеф. – Домой побежишь? – нежность, когда таковая звучала в словах Рудковски, могла хорошенько огреть наблюдателя по голове: меньше всего ожидаешь заботу от почти стокилограммового амбала. И единственным человеком, к проявлениям этой теплоты приспособленным, числилась Катерина.
– Ох, если бы! – мечтательно оперлась головой на стенку девушка. – Дела-заботы…
Дела ее заключались последние две недели в выискивании донжуана, влюбляющего с первой чашечки кофе. И если второе девушка ненавидела до сих пор, по первому она мучительно тосковала.
После несуразного перформанса их трио в «La clé» Катерина и Генри не то чтобы не вступили в контакт, они ни разу даже случайным образом, как у них было принято, не пересеклась. Не появлялся парень и в самом кафе, и теперь, часами бродя по улицам Энгебурга, не верующая в Господа Катерина пошла на крайние меры – стала молиться о встречах. Свидание непременно должно состояться: они не прощались.
– Ну, не буду задерживать, – развел руками, намекая на пламенные объятья, мистер Рудковски.
Катерина печально глянула на отца, подошла к нему, поцеловала в покрытую щетиной щеку и, кивнув головой, побрела на поиски счастья.
За время ее безуспешных попыток нечаянно отыскать Генри – заявиться ради него в кафе не позволяла гордыня – Катерина придумала и развила теории исчезновения парня. Впрочем, все они в конечном итоге казались настолько глупыми, что девушка даже ругала себя за богатство воображения и бедность здравого смысла.
Тогда же Рудковски сделала вывод: Генри пугает, но одновременно манит ее азартную душу своей непостоянностью. Уходя, он всегда покидает за собой тревогу, – вдруг больше не встретятся? – появляясь, несет угрозу непредсказуемого будущего.
Так, размышления о Генри занимали теперь все свободное время и пространство девушки. Они не покидали Рудковски, ни когда она отправлялась за продуктами, ни когда вела со знакомыми ни к чему не обязывающие беседы. И тем более сильно они наседали, запрись Катерина наедине с ними в своей комнатушке.
Только время от времени девушка забывала прокручивать в голове последовательность этих дум. Она словно осторожно привязывала их к забору у входа в здание, – так оставляют с опаской новенький велосипед – а по завершении дел спешно за ними бежала – как бы чего не случилось в ее отсутствие.
Ах, если бы Катерина могла только знать, где находился в тот момент Генри! Тогда она непременно отправила ему трогательное послание, которое разорвало бы сердце юноши, и он отправил вторую его половину ответным письмом. Катерина звонила бы и поддерживала парня, она не стала бы клясть его за «беспричинное отсутствие». Наконец, она наверняка бы вошла в положение Генри и не требовала от неотложного его присутствия. Впрочем, условие не соблюдалось – она не знала.
Генри же прямо в этот момент покидал здание суда, где пять минут назад прозвучал смертный приговор браку его родителей. Первоначально отказав отцу в его просьбе – задержать падение шансов на то, чтобы тот заделался мэром – парень не забыл об условиях, поставленных Голдманом, и тех последствиях, которые Генри собственноручно навлек бы и на себя, и на мать.
Одиннадцать дней провел парень, рисуя в голове схемы и обходные пути. На утро двенадцатого – Генри, к своему глубочайшему сожалению, осознал: как бы он ни изощрился, за отцом по-прежнему оставались безбрежные преимущества в лице влиятельных связей и болевых рычагов давления.
Парня не особенно волновало собственное наследство: челобитье перед отцом виделось ему унижением гораздо более постыдным, а карой более суровой. Однако перспектива оставить без денег и крова родную мать, в чьих действиях всю жизнь читались лишь искренняя любовь и вера, живьем закапывала Генри в могилу повиновения перед деспотом.
Представляя картину трагического будущего Алисии, парень стал ненавидеть отца настолько, словно тот отнимал у них с матерью право на воздух. Но облачившись в бесстрашие перед тираном, Генри принял бесповоротное и категорическое решение: пойти у него на поводу. Поступиться честью – вот та заоблачная цена, которую парню пришлось заплатить.
Тем не менее, как бы ни раздирало сейчас его душу, Генри оправдывался: мать его теперь не узнает нужды. И это сладостное утешение снимало горечь обиды – так полотенце, промокшее под холодной водой, снимает жар у бедняги, страдающего горячкой.
Другие размышления, что проедали изнемогающий разум парня, были связаны с будущим местом жительства матери. Останься она в родном крупном городе, даже работа, которой с момента вступления в брак у Алисии не имелось, не спасла бы женщину от одиночества. Оно безжалостно пожирает тех, кто особняком влачит существование в мегаполисах. А потому, еще находясь за трибуной в суде и переводя взгляд с лица Голдмана, пропитанного злорадством, на сияющее простодушием и невинностью личико матери, Генри принял решение: он вырвет эту безгрешную святость из лап рассадника пороков.
Выслушав мамины опасения – мол, присутствие ее в жизни сына будет лишь дополнительным грузом, ограничителем его свободы – Генри убедил женщину в понимании своих действий. Вместе они решили: по приезде и освоении на новом месте Алисия станет искать симпатичную должность, а как только окрепнет и зарекомендует себя в чужом обществе, переедет в отдельную комнату.
В отличие от беспокойств относительно смены места – женщина, как и Генри, всю жизнь прожила в мегаполисе – поиск вакансий Алисию не страшил. Столько лет без работы она провела не из лености и желания сидеть на шее. Стоило женщине вступить в брак с начинающим бизнесменом, молодая и перспективная, редактор модного журнала получила наказ покинуть карьерное поприще.
– Дрянные журналы потопят в тебе остатки твоего разума, – вынес приговор единственно подлинной страсти Алисии ее жених. Объясняя прихоть своим нежеланием видеть супругу за «отупляющим» делом, он вверил в обязанность женщины подношение дров в полыхающий семейный очаг.
Так мистер Голдман обезопасил себя от утраты красотки-супруги, чьей отрадой с тех пор и до рождения сына оставалось лишь ее приданое в виде золотых волос и жемчужных зубов. Сам супруг преступил клятву верности уже спустя год после появления Генри. При этом мужчина принудил Алисию окутывать его отсутствия завесой лжи, бахрома которой по мере взросления мальчика медленно распускалась.
Поредевшая семья Голдманов вернулась в Энгебург спустя еще две недели – дома у них оставались последние нерешенные дела. Все это время и несколько месяцев после прибытия Алисия сравнивала себя с елкой, какую выкопали на окраине леса и посадили в частном дворе, и гадала: примется ли она на новом месте?
Женщина остерегалась злых языков и всегда пробуждала симпатию каждого, кто мелькал на ее пути. Она не понаслышке знала: обоснован или бездоказателен людской треп, в человеческих судьбах ему отведена не последняя роль. Так, в первые годы после замужества недалекие люди твердили: «Простушка отхватила-таки короля». Совсем же безмозглые даже не утруждали себя заключениями. Они попросту вторили первым, и с того – с загнивающих полей презрения – и кормили червей, пожирающих их изнутри.
Вернувшись, Генри первым делом отправился забрать Найду. Как ни странно, в этом маленьком городке нашлись добрые люди, соорудившие на свои средства гостиницу для животных. Разлука стала для них самой длительной, первой, а также единственной за семь лет, проведенных бок о бок. Впрочем, иного выхода парень не видел. Взять Найду с собой Генри просто не мог: среди завихрений событий, происходивших до и после суда, юноша едва вряд ли бы смог одаривать пса вниманием и окружать его необходимой заботой.
Всегда послушная, Найда не капризничала и не сопротивлялась уготовленному испытанию. Покорившись судьбе, она терпеливо ждала и верила: разлука не продлится вечно. Со слов работников приюта Генри позже узнал, что весь месяц собака была грустна и спокойна. Она не выла на железные решетки – единственную ограду, не огрызалась на сотрудников – людей, проявивших к ней доброту и любовь, не отказывалась от еды – топлива, которое давало ей силы дожить до желанного воссоединения. С виду пес пережил расстояние мирно и холодно, но Генри чувствовал: поступком он нанес Найде немалую боль.
Помимо этого переживания парня терзало жгучее чувство вины перед Катериной. По непонятным причинам Генри видел себя в глазах девушки виноватым за то исчезновение, что он совершил без записок и оправдательных слов. А потому он решил как можно скорее с ней объясниться, надеясь на понимание и моля о еще одном великодушном прощении.
Заглянув в дом, где он встретил новогоднюю ночь и впервые разглядел в Катерине сочетание внешнего изящества и внутреннего великолепия, Генри позаимствовал у Элеоноры сведения о нахождении дочери. Следуя координатам, парень застал ее за работой в «Большой рыбе», в месте, где с пропажей Генри девушка появлялась гораздо чаще. Как будто компания ее отца берегла Катерину от надуманных страхов и переживаний.
Рудковски сидела за кассовым аппаратом, подперев голову двумя руками – жестом она делала попытки сдержать поток дум, хаотично разбросанных по ее черепной коробке. За шумом собственной головы Катерина не уловила входящих шагов. Увязнув во внутреннем мире, она беспокойно вздрогнула, когда до нее донеслось: «Извините, пожалуйста».
Девушка взглянула вверх и окаменела. С хладнокровием, о чем кричало его лицо, с опьяняющим коктейлем эмоций, о чем умалчивала его душа, Генри стоял перед ней в ожидании. Парень и сам не знал, ждал ли он, пока Катерина позволит ему говорить, или же он выдерживал паузу, чтобы позволить мыслям и чувствам принять очертания.
Обстоятельства запросили у парня безропотного терпения. Обученный его искусству, Генри стоял без единого звука и жеста. Не вправе требовать или пусть даже умолять об ответе, юноша тщетно высматривал в лице Рудковски намек – добро на то, чтобы гость выдал признание.
Застывшее лицо девушки не выражало посланий. И не в состоянии прочитать ненаписанное, Генри колебался. Колебался юноша и перед входом в магазин, и перед началом исповеди. Однако отперев первую дверь, неразумно держать закрытой вторую, ступающую за предыдущей.
– Дело в том, что мне… – едва первые слова парня сотрясли воздух помещения, Катерина резко подняла руку, приказывая преступнику, явившемуся с повинной, остановиться. Генри не противился и не возражал: не в его положении было диктовать правила.
Девушка медленно поднялась из-за кассы, помогая себе, оперевшись руками на поверхность витрины. Глядя на зрелище, Генри подумал: как жестоко подвергать это хрупкое тело любого рода мучениям и вместе с тем какая сила сокрыта в этом хранилище духа! Так находят в себе способность подняться те, за кем по пятам следует страшное горе.
Не ускоряясь, Катерина столь же неспешно обогнула прилавок. Взгляд ее устремился на отдельную плитку в полу, словно на ней прописали инструкцию действий, и девушка, скользя по руководству глазами, послушно ему подчинялась.
По-видимому, предписание, как и все на свете, имело конец, дойдя до которого Рудковски лениво подняла голову вверх. И когда взгляды их наконец встретились, Генри заметил: серо-голубые радужки Катерининых глаз омываются маленькими, кристально чистыми озерцами.
Расстояние между героями составляло теперь не более тридцати сантиметров. Такой же была разница в их росте, и это вынуждало девушку при упорном нежелании отводить глаза усиленно напрягать хрупкую шею.
Генри почти мог поклясться: он ожидал расчетливо-хладнокровного удара по лицу. Парень до того проникся этими представлениями, что уже явственно ощущал их на своей коже. Но Рудковски не двигалась.
Озвучь Катерина волнения, какие в последний месяц сдавливали ей грудь, Генри услышал бы откровенно интимную оду, посвященную мукам автора. Но Катерина молчала. В безмолвии плавал и парень. Диалог, где они выказывали порывы, о каких хотелось кричать, и выслушивали страсти, каким хотелось внимать, разворачивался в их мыслях.
Окажись виноватым не Генри, Катерина бы с радостью продолжала мучить его молчанием. Этим способом девушка истязала собственных жертв. В свою очередь, будь он повинен не перед Рудковски, Генри тут же признал бы вину и не стал выискивать оправдания, как не решился бы он на подбор наиболее смазанных выражений.
Однако события разворачивались именно так, как тому поспособствовали их виновники. И Катерине пришлось с неохотой признать: ее гробовое безмолвие заставляло изнывать и душу, и тело. Генри же тщетно искал в закромах закаленного разума комбинации слов – а те только и делали, что всплывали в рандомном порядке.
В тот момент, когда сносный предел терпения боли был превзойден, Катерина отвела в сторону стеклянный взгляд, а затем отвернула от Генри и голову – словом, приготовилась мысленно попрощаться.
Как ни странно, есть такие способы уходить, которые всей своей сущностью кричат о желании остаться. Осознание это ударом молнии бахнуло в Генри, и, несмотря на возможные риски, парень понимал: он один стоит за штурвалом. Юноша, пережив за мгновение весь доступный ему спектр чувств, решился на бесповоротное.
Генри схватил Катерину за худенькую белоснежную ручку, настойчиво, но с неутраченной нежностью развернул ее корпус к себе, и спустя пару секунд рассудки обоих сообщили хозяевам: их губы накрепко сомкнуты в исцеляющем поцелуе.
При всем желании ни Рудковски, ни Генри не смогли бы сказать, сколько времени отнял у них момент забвения. Об этом кричало нытье в ступнях девушки, вынужденной стоять на носочках, и оно же в не разгибающейся теперь шее юноши – разница в росте требовала жертв. Впрочем, на беду испытуемых, эксперимент по сближению их безжалостно прервал отец, чье вмешательство, не шуми он нарочно, они верно и не заметили бы.
Возможно ли вникнуть в волнения отца, чью принцессу – пусть на сегодняшний день ей и было ни много ни мало, но двадцать – на его же глазах перехватывает другой мужчина? Под строгим взглядом Джозефа Ромео с Джульеттой застыли, не смея позариться и на малейшей микродвижение.
Вместе с тем Генри готовился защищаться и защищать свое только приобретенное солнышко при едином возникновении туч. Катерина же, несмотря на способности воображения, и представить сейчас не могла, что разыгрывалось в закаленной строгостью жизни душе отца.
– Мамочки мои, я думал второе пришествие и то случится раньше, – пара застыла: поворота событий в сторону шутки не ожидал никто. – Ну что, когда в сваты идем?
Мистер Рудковски любил пошутить, но почти за каждым его подколом скрывалась серьезная мысль.
– Папа! – оправилась от шока девушка. Отец усмехнулся.
– Ну а что? Мои клиенты – видные женихи.
Катерина с ужасом расшифровала: отец не признал в лице похитителя ее сердца того самого гостя, которого, повинуясь року судьбы, уготовил им вечер Нового года. Генри, вероятно, лелея похожую мысль, поспешил заступиться.
– Мистер Рудковски, рад встрече, – шагнул он вперед, протянув мужчине руку. Выпученные глаза Рудковски напоминали два больших диско-шара.
– Ты? – голосом, напоминающим в большей степени рев, протянул Джозеф, на что Генри смело и утвердительно кивнул.
Катерина обеспокоенно переводила взгляд то на одного, то на другого. Девушка ждала и вместе с тем боялась ожидать возможных выходок любой из сторон: отца, потому что она слишком хорошо знала причуды его характера; Генри – оттого, что не знала его совсем.
Впрочем, волнения девушки выветрились и она облегченно выдохнула, когда отец, оценивая парня взглядом, протянул ему руку в ответ.
– Что ж, чем черт не шутит, – Рудковски сделал попытку улыбнуться и впер обе руки в то место, где у нормальных людей находится талия. – Ладно, молодежь, беседуйте. У меня дел на складе… непочатый край, – почти пропел мужчина, и Катерина отметила про себя: последнюю коробку с товаром она помогла разгрузить еще час тому назад.
– Рад был увидеть, – словно желая поскорее вытащить едва вскочившую занозу, попрощался с ним Генри. Джозеф лишь скупо кивнул, подошел к выходу и, задержавшись на долю секунды в проеме, удалился на склад.
Катерина смотрела на двери и после исчезновения за ними отца. Генри, не отрываясь, следил за движениями ее лица. Он не торопил девушку, стоически дожидаясь от нее действий.
Наконец Катерина вышла из оцепенения и смущенно и робко повернулась в сторону парня, не поднимая при этом светящихся, охваченных потрясением дня глаз. Генри, боясь нарушить спокойствие, осторожно взял одной рукой потерявшую волю кисть девушки; другой – с чарующей нежностью и отнюдь не ожидаемой легкостью приподнял, аккуратно придерживая, поникшую ее голову.
Так парень объявил о решимости встретить взгляд Катерины. Искренний, обнаженный – Генри готовился принять любые его послания, даже если на чистую поверхность глаз поднялось все безобразие, охраняемое морским дном. Тем более что за наличие этого беспорядка в какой-то степени парень ответственен был сам. Впрочем, он же намеревался нести за свое преступление справедливую кару.
На радость Генри, Катерина лишь улыбнулась, снимая с нагруженных плеч их обоих тяжести ушедших дней. Отливающий светом жест словно уверил юношу в светлом будущем, и ему тотчас подумалось: предыдущие кавалеры Рудковски верно вели за эту награду – улыбку девушки – ожесточенные битвы. Добиться от Катерины такого рода подарка означало внести себя в очередь кандидатов на теплое место возле нее.
Рудковски вверила себя в его власть, и, подкормленный сытной порцией смелости, Генри ответил на милость взаимным движением губ. Еще через мгновение, будто наконец расставляя все точки над «i», он прижал Катерину к себе и обхватил девушку за обмякшие в его руках плечи.
Глава 11. В которой двое влюбленных становятся взаимовсем
Две одинокие души, каких свел неказистый перекресток судьбы, стали друг для друга взаимовсем. Заложив фундамент отношений невинным поцелуем, они выстраивали теперь стены и настилали полы усадьбы долгими прогулками и доверительными разговорами обо всем, что только выдавали их незаурядные умы.
Рудковски, обожая шелест книг, призналась: «Меня восхищают и одновременно страшат люди, которые много читают. У них ведь в головах не просто мысли – там целые миры, и никогда не знаешь, чего следует ждать».
Генри, преследуя мечту, вещал: «Я теряю доверие и уважение к людям, сетующим на отсутствие у них времени. Правда в том, что их предложениям недостает слов «на это». Им чуждо понятие приоритетов и неизвестны подлинные желания».
Влюбленные вели себя так, словно в истории их знакомства не существовало черных пятен и несуразиц. К произошедшим казусам они отнеслись, как к яркой молнии: в ней можно проследить и руку Дьявола, и Бога. Спокойствие и блаженство, которые преследуют те гром и грохот, с лихвой покроют все убитые на перебранки силы.
Стерев границы, пара не замедлила избавиться от ледяного и напыщенного «Вы» и заменить его интимным и дразнящим душу «ты». И переход этот негласно объявил: теперь секретам и молчаниям здесь не место.
Рудковски с жаром выпалила детали ее безрадужного детства, и те дополнили в голове Генри и без того малоприятный образ Джозефа. Парню стало невыносимо жаль Катерину, чьи мемуары пропечатались ударами отца. Он попытался успокоить девушку: «Пожалуйста, пробуй не цепляться прошлым. Куй будущее, действуя сейчас. Прошлое может влиять, но не должно распоряжаться, как тебе относиться к миру и через какую призму эту реальность принимать».
Парень в свою очередь поведал, как он проучаствовал в прихоти отца стать мэром мрачным безмолвием, которое последний запросил. Описывая суд, Генри не мог не рассказать о маме, так что у Катерины тотчас возникла страсть, во-первых, подсобить Алисии представиться недружелюбному народу Энгебурга; а во-вторых, желание познакомить женщину с достоинствами города, при всех пороках весьма симпатичного.
Особенностью Катерины было то, что помощь девушка осуществляла точечно, а жертв выбирала известным только Богу образом. Порой она пренебрежительно смотрела на бездомных, отказывая кинуть попрошайкам даже парочку монет. Рудковски объясняла это так: она видит в них лишь лень и безусловную покорность – они смирились с участью и не согласны ничего менять.
В другой раз Катерина встревала, навязывая выручку всем, кто о ней не просил, а значит, и не готовился ее принять. И если в первом случае Рудковски обвиняли в черствости и малодушии, в последнем ей встречалась грубость и громкая мольба отстать.
Отказ помогать тем, кто по ее мнению, не заслуживал помощи девушка объясняла нежеланием плодить паразитизм. Катерина с малых лет наблюдала в поступках матери излишнее самопожертвование и, боясь заразиться недугом, несмотря на всю свою любовь к ней, бежала от женщины как от чумы. Готовность же на избыточную, чрезмерную помощь девушка списывала на стремление всех спасти – в детстве ее саму не защитили.
Как проколоты грубостью были отцы Катерины и Генри, так пропитаны нежностью оставались их матери. Парочка напоминала собой одного поля ягоды. Взрослых, воспитанных одинаковыми обстоятельствами, за исключением масштабов города и, как следствие, богатства выбора.
С течением времени девушке удалось повстречаться с Алисией, и время от времени они, взявшись под руки, вальяжно прогуливались по улочкам Энгебурга. Катерина знакомила женщину с историей и секретами города. Вместе им было легко и спокойно, будто разницы в почти двадцать пять лет не существовало.
За разговорами женщины упоминали глобальные проблемы в виде не вовремя опустевшего пакета с чаем, перетирали косточки своим обидчикам и касались неидеальности – кто мог бы подумать! – мужчин. Порой дело принимало более серьезный оборот, и потоки речей их неслись к настоящему океану гипотетических проблем.
Бывало, женщины так долго не подпускали к себе иную компанию, что Генри легонько подтрунивал над Алисией – мол, она похищает его Катерину. Впрочем, Рудковски этим подколам совсем не противилась: ревность парня, пусть и к собственной матери, страшно ей льстила.
Больше всех от нужды во внимании изнывала отныне Карла. В лучшем случае девушки могли встретиться раз-два в месяц, да и те их свидания сводились к вопросам по состоянию квартиры и формальному: «Как дела?»
Поскольку Карла работала теперь вместе с Генри, она часто печально следила за тем, как после его окончания смены пара уходит вместе. Катерина, одурманенная влюбленностью, полностью игнорировала подругу, словно той и вовсе не существовало.
Встречая сплетенную смехом и общей страстью компанию, Карла в прямом смысле видела причины их отдаления с подругой. Вместе с тем Армут наотрез отказывалась принимать обоснованность их происхождения. Высадив в душе семечки ревности и обиды, девушка принялась взращивать целый сад злобы как к Голдманам – ворам ее счастья в лице Катерины, так и к самой Рудковски – предателю треснувшей по швам дружбы. Катерина же, хотя время от времени и допуская подобную мысль, не подозревала о настоящих масштабах раздутой трагедии. Ничто не тревожило ее сон, и ничто не ложилось бременем на ее совесть.
Семьи Голдманов и Рудковски постепенно сближались, и время от времени на долю Генри падала участь присмотра за малышкой Мелани. Женщины – Элеонора с Алисией – занимались тем, что готовили совместный ужин; Катерина, как правило, дорабатывала не законченные за неделю проекты; а единственный в семье Рудковских мужчина подбрасывал в огонь обязанностей супруги дрова в виде перепачканного рыболовного костюма.
Генри однако совсем не чурался возложенной миссии – напротив, он только рад был разбавить рутину с малышкой. Парень, сам не зная откуда, усвоил: порой от детей можно услышать обнаженную до чудовищной простоты мудрость, и, что еще важнее, они искренне верят в сказанное. Сама Мелани же усмотрела высшее счастье в возможности нежиться лишним вниманием и играть с «огромной, но доброй» собакой.
Даже Катерина, при своем равнодушии к животным, таяла под пронзительным взглядом ореховых глаз Найды. Девушка не без труда, но простила псу зимнюю выходку – хотя того едва ли стоило обвинять – и научилась понимать, чего этот чудный зверь хочет.
Когда малышка обыгрывала Генри во всех состязаниях (другой исход разорвал бы сердце парня); когда все камни у речки были пересмотрены, палки найдены и отделаны под рыцарские мечи; когда малютка, заручившись смиренным терпением Найды и строгим надзором юноши, взбиралась на крепкую спину собаки, тогда раззадоренная голодом банда на всех парах мчалась на ужин.
Еда подавалась обильно и не без почестей. Над созданием яств женщины кроптали вместе, и что Алисия, что Элеонора – обе они, доведись голодному рту похвалить их очередное творение, наотрез отказывались признавать авторство. Во-первых, работа действительно велась совместно. А во-вторых, эти дамы по жизни болели тошнотворной скромностью и просто не знали способов встретить заслуженную похвалу.
Что до Катерины, та вовсе и не имела к комплименту какого-либо отношения. Она не умела готовить, но этот факт не мешал ей подкармливать Генри щедрой порцией перебранки. Тем же занимался и мистер Рудковски.
– Сегодня Мелания сплела такой чудесный венок, что я, засмотревшись на коронацию Найды, едва не поскользнулся на – только представьте! – змее, – поделился приключениями Генри. Женщины ахнули, одна из них даже пустила крик, после чего они с минуту сидели с раскрытыми ртами.
– Да ладно тебе, – обиженный тем, что внимание выдали не ему, попытался воззвать к стыду Генри Джозеф. – Ты же не баба, чтобы бояться своих конкурентов.
Элеонора давно привыкла к этим высказываниям супруга. Лежа на диване, он, случалось, улавливал что-то немыслимо ароматное, – в готовке Элеоноре не было равных – выходил на след источаемых запахов, добирался до их источника и спрашивал у жены об их природе. Получая в ответ: «На обед колдуны», он отпускал грубиянское: «Зачем нам колдуны, когда дома уже прописались три ведьмы?» – и с раскатистым хохотом возвращался к себе на диван. Элеонора лишь грустно мотала поникшей головкой.
И все же сейчас прилив стыда перед Алисией заставил женщину покрыться таким багрянцем, каким отдает налитая соком вишня. Рудковски любил козырнуть юмором, однако шутки его, вопреки назначению, приводили веселье к его скоропостижной кончине.
Так, естественным образом чередуя белые и черные клавиши рояля, хотя преимущественно и звучал торжественный мажор, пролетели весенние месяцы – лето вальяжно шагало навстречу его почитателям. Май в Энгебурге часто непредсказуем. Вверенный сопровождать плавный переход к самому жаркому времени года, он тем не менее не чурается выдать фокус в виде внезапного снегопада. На счастье жителей, в этом году месяц оказался на редкость учтивым к законам природы.
В один из его теплых, обдуваемых ласкающим ветром дней Катерина и Генри сидели на берегу реки, увлеченные созерцанием милой душе картине. Рудковски следила за колебанием водной глади и отражением в воде неба. Генри рассматривал ее отданные во власть бездействия руки. Они походили на белоснежное полотно с четко вычерченной картой рек, и парень, поглаживая их, не сомневался: если следовать одному из предписанных веной маршрутов, неизбежно отыщешь укрытое ей сокровище.
Порой, когда все, казалось, бежало донельзя прекрасно, на Катерину находила поэтическая меланхолия и она, лежа рядом у той же реки на коленях у Генри, шепотом обнажала страх: «Не представляю, что может найтись человек, который полностью примет меня, – она запиналась, – вопреки моим попыткам оттолкнуть и отвергнуть его. Принял и – если совсем размечтаться – полюбил бы меня вопреки мне самой».
Генри бережно гладил бархатистой рукой податливые ритму волосы девушки, а опасения Рудковски вынуждали задавленную умом душу испытывать к ней сожаление.
Несмотря на завидные ряды поклонников, Катерина всю жизнь продержалась особняком, предоставленным самому себе и в самые темные времена гонимым бесплотными призраками в виде навязчивых мыслей. Она знала, что могла выбирать, и больше того – выбор ее непомерно огромен. И все же девушка, возразив ожиданиям родителей, а также примыкающего к ним клубка в виде их друзей, родственников, соседей и коллег, наотрез отказалась «брать лучшее из того, что есть». В ней горела решимость ждать до тех пор, пока судьба не предоставит ей «лучшее из того, что возможно».
Катерина доказывала: ей хорошо и так – «ни друзей, ни парней», и смеялась над теми, кому не довлеет собственная компания. Однако делала она это в первую очередь для того, чтобы умерить свои страхи. Тайно боясь умереть в одиночестве, девушка силилась не подавать о том ни малейшего вида. Даже если силы на это ей приходилось черпать из своего же бессилия.
И тем не менее в мужских, по-отцовски оберегающих (чего ей так не хватало) объятиях Генри Катерина слабела до такой степени, что становилась похожей на тающую на ладони льдинку – от нее вот-вот ничего не останется. Бережно укладывая ее на колени, парень смотрел на Рудковски, и ему хотелось кричать: «Ты заслуживаешь любви и счастья!» А чтобы яснее выразить мысль, он аккуратно целовал девушку в оголенный от волос лобик и повторял: «Ты прекрасна, и красота твоя двухстороння: она внутри, и она же снаружи».
Тогда Катерина поднимала на него преисполненный надежд взгляд, молча благодарила за непрошенную, но желаемую поддержку, а после выпрямлялась и с хитринкой в глазах и деланно надменным выражением лица вопрошала: «Думаешь, эти твои комплименты лишат меня разума?» Генри смеялся, понимая, что в вопросе Рудковски – ответ, и только еще крепче прижимал к себе ее ватное тельце.
Конец июня всегда нес для девушки праздник – ее день рождения, и семейство Рудковски привычно готовилось к поздравлению любимой дочери (в чем отец Катерины, подразумевая сказанное или нет, признался однажды по пьяни). Боясь, как бы не получилось неловко, Элеонора лишь вскользь обронила событие за беседой с Генри – разум парня отныне был озадачен подарком и без устали порождал идеи поздравления.
С тех пор как поцелуй стал началом следующей главы их жизни, Генри часто одаривал Катерину ее любимыми пирожными, что никак не сказывалось на изящной фигурке девушки, или пышным букетом пионов, чей цвет по иронии судьбы назывался пыльной розой. Однако событие, какое теперь приближалось, требовало, по мнению юноши, затрат гораздо более щедрых, причем как денежных, так и умственных. В конце концов найдясь с решением, которому надлежало растрогать сердце и взволновать душу Катерины, посоветовавшись с матерью и получив ее бурное одобрение, Генри приобрел задуманное и принялся ждать тридцатое июня больше, чем сама именинница.
В назначенный судьбой день никто не разбудил Катерину телефонным звонком – единственное время в году, когда проявление подобного рода хамства девушка допускала и даже ждала. Не тревожили именинницу ни в обед, ни после полудня, но она понимала: выпустить торжественный повод из головы совершенно немыслимо. Забыть про ее день рождения обходилось дороже самому нарушителю. Случись подобное, Катерина напоминала порох, готовый взорваться бедняге прямо в лицо, а потому случай был исключителен. И все же, прокляв нехватку терпения и предварительно заскочив за своим фаворитом – апельсиновым тортом, девушка в раздражении надвигалась к родителям.
Достигнув дома, Рудковски вдруг остановилась. Она стояла у калитки и не решалась сделать в пределы участка ни шагу: смертельное спокойствие дома вгоняло девушку в дрожь. «Неужели они забыли?» – пронеслось в голове Катерины. «Нет, это же невозможно», – не дав мысли развиться, Рудковски отбросила ее с такой силой, с какой бьет футболист, назначенный бить пенальти.
Сейчас, в более-менее взрослом возрасте, девушка часто тряслась перед неизведанным. В детстве же она боялась почти что всего: пауков, темноты, покинуть пределы улицы, сделать неправильный – если «правильное» и «неправильное» в принципе существует – шаг. Но Катерина росла, и вместе с тем росли ее требования к себе. Окружающие заставляли Рудковски умерить норов – сама она понемногу храбрела и открывалась. И поэтому, несмотря на сомнения, источаемые внутренним голосом, девушка смело – так ей казалось – отворила калитку и размашистым шагом достигла входной двери. Та была заперта.
Катерину обдало ледяным потом. Предположение о досадной забывчивости больше не виделось ей глупой выдумкой разума. Она опустила торт, словно он – ее главная тяжесть в жизни, и прошептала: «И что теперь?»
Совершенно отчаявшись, она позвонила маме, и через мгновенье знакомая песня ударила по ушам. Она доносилась со стороны заднего дворика. Звонок тотчас стих – телефон отключили. В замешательстве, Катерина бросилась на след вора, укравшего радость из этого дня.
Она шла, осторожно ступая, как если бы малейший шорох мог свести все старания на нет. Дойдя до угла, девушка снова остолбенела: предстоял еще один выбор и следующий шаг в неизвестность. О, сколько страха в себе несут эти брат и сестра! Брат – неведение, сестра – боязнь нового и перемен. Первый принуждает трястись от непредсказуемости будущего. Вторая – гнить в тесной коробке известного. Они устрашают, когда стоят порознь, а вместе становятся ночным кошмаром.
Впрочем, Рудковски уже дошагала до бесповоротной точки. Нельзя сдаваться, запрещено поворачивать вспять. Уйти сейчас означало выказать необъяснимую глупость. Убедив себя в этом, Катерина, как перед нырком, вдохнула и завернула за угол: чему быть, того не миновать.
Перед девушкой развернулось зрелище, достойное взгляда толпы. Здесь прятались все: сдерживающие смех родители, расцветающая в улыбке сестра, довольный удавшимся сюрпризом Генри, его пустившая слезу радости мать. Не без виляющей хвостом Найды и неловко себя ощущающей Карлы, гости носили праздничные колпаки. В руках их гнездились едва ли не свадебный, трехъярусный торт, отливающие солнечным светом коробки с подарками и – куда же без этого – роскошные букеты благоухающих цветов.
Катерина с восторгом смотрела на замерших родителей, Генри, Меланию, Карлу, внимала Алисии, усмехалась собаке. Она боялась: малейшая спешка в отведении взгляда выкажет ее неуважение к стараниям гостей и выставит девушку неблагодарной. Наконец, Элеонора вмешалась:
– Катерина, доченька, что ты застыла?
Рудковски и правда словно только сейчас пробудилась от крепкого сна:
– Я… Вы… – заикаясь, выдала девушка.
Партнеры по замыслу захохотали и налетели на настоящую гостью бала с объятиями. Они поочередно выкрикивали пожелания так, будто участвуя в поединке за лучшее поздравление. И в соревновании этом каждое новое слово должно оказаться более сердечным, более торжественным и изящным.
– Ох, дорогая, Генри следил за тобой с начала утра – вот как мы узнали о твоих перемещениях, – разоблачала хитроумный план миссис Рудковски. Позже, когда Катерину и Генри оставили наедине, парень признался: его молчаливое наблюдение за поникающей именинницей местами изрезало его сердце.
– Спасибо, большое спасибо, – со слезами на глазах благодарила «семью» Рудковски.
– Нам за счастье, – обронил довольный Джозеф, словно организация и задумка сюрприза лежали на нем.
Сытно отужинав на лужайке за домом, – еда была оттого вкуснее, что превыше переправ стояла приятельская компания, – организаторы торжества уговорили Рудковски открыть подарки. Девушка намеревалась сделать это попозже, будучи предоставленной самой себе, и просьба немало ее смутила.
Во-первых, в случае чего пришлось бы искусно скрывать разочарование в чьем-либо неудачном выборе. А во-вторых, человек хлеставших эмоций, Катерина всегда находила, к чему придраться. Если же что-то однако угождало душе высоких требований, она встречала подарок судьбы безмолвием, будто признание чьего-то изящества лишало великолепия ее саму.
И тем не менее, находясь под давлением манипуляторов, именинница уступила. Желающие угодить капризной принцессе снова выстроились в очередь.
Как и полагается, первыми налетели с коробкой родители. В ней девушка обнаружила сумку, у витрины с которой она невзначай тормозила во время каждой их с матерью Катерине по городу. В дополнение к аксессуару Джозеф вручил дочери букет из пятнадцати пышных роз: восемь красных, семь белых – все бережно упакованные в прозрачной пленке.
Мелания подарила любимой сестренке совместный портрет. Элеонора, не сдержавшись, выкрикнула, как она умилялась, две недели подряд заставая малышку корпящей над рисунком.
От Алисии Катерине достался миниатюрный букет, посаженный в круглую розовую коробочку. Он вмещал в себя пионовидные розы, а бутоны их, в свою очередь, – любимые конфеты девушки.
Карла приблизилась к Катерине со словами: «Я собиралась подарить тебе набор косметики, но побоялась, что твое лицо, доверяющее только помаде и туши, не примет несвойственных ему захватчиков». Девушки посмеялись, и Армут поспешно вручила Рудковски рамочный коллаж для фото и кружку с надписью «I do what I want»3. Катерина обняла подругу и наградила ее пристыженными глазками: она избегала их встреч все последние месяцы, но тосковала по ним с нескрываемой виной.
Однако истинное изумление завладело гостями, когда подарок представил Генри. Ни один взор не мог обойти стороной переливающихся на свету рубинов. Обрамленные белым золотом, три крупных камня лежали на ювелирной подставке в одной руке парня. В другой он держал двадцать один пион – по цветку на каждый прожитый год Катерины.
Нелепым казалось сравнение масштабов широко раскрытых глаз и еще больше раздвинутых ртов – все, кроме Генри и его матери, неподвижно застыли, попутно прикидывая в голове цену подарка. Как ни печально, именно ближних порой до мандража поедает болезненное любопытство.
Катерину занимали мысли иного порядка. Привыкшей получать подарки, оные подобной вычурности и богатства казались девушки недосягаемыми. Она обвиняла себя в том, что не заслужила этой роскоши, и страшилась взаимного обязательства, неизбежно следующего за «корыстной» щедростью.
Рудковски стояла, смотрела, но не смела прикоснуться к драгоценному во всех смыслах ожерелью – вдруг аксессуар рассеется, оказавшись пустым миражом? Страшно, если так случится. Еще страшнее – если он окажется реальным.
Генри терпеливо ждал, не позволяя себя торопить девушку ни словом, ни жестом. Однако даже в преисполненной спокойствия и уверенности душе порой зарождаются всякого рода тревоги, и парень с опаской взглянул на мать – Алисия едва заметно пожала плечами и ответила не особенно вдохновляюще, мол, потерпи.
– Генри, я не могу… – нарушила затянувшееся молчание Катерина. – Это очень дорогой подарок.
К потрясению от помпезности украшения примешивалось и то, что преподносила его, возможно, первая любовь в Катерининой жизни. Подари надоедливый поклонник ей настоящий дворец – девушка, фыркнув, презрительно отворачивалась; вручи ей тот самый сорванную в поле ромашку – душа Рудковски взлетала к небесам.
Только сейчас девушка оторвала взгляд от рубинового сияния и посмотрела на щедрого благодетеля отдающими синевой глазами – настоящий Байкал! Но возможно ли, находясь среди антарктических льдов, не испытывать стужи, исходящей от их нескончаемой мерзлоты? Генри, как бы спасая от холодной смерти обоих, приобнял Катерину. Неловко – мешали занятые подарками руки.
– Истинную ценность подарка определяет не тот, кто его дарит, а тот, кто принимает, – он дотронулся до ее макушки – иного не позволяла разница в росте – до того легким касанием губ, что Катерина засомневалась: не померещилось ли?
– Кому тортик? – Алисия поспешила на подмогу сыну, и шок постепенно, одного за одним, как заложников, освобождал от себя тех, кто был у него взаперти.
Генри же не позволил Рудковски покинуть его объятий: до парня доносились судорожные всхлипывания, и он решил не обнажать чувства девушки перед всеми, вгоняя ее в даже больший конфуз.
Праздник близился к завершению, и Катерина, совсем разомлев от приятных эмоций дня, подвела итог торжеству: «Всю жизнь мне казалось, будто идеального не существует. Простите, я переобуюсь. Вы убедили меня в том, что это не так». После признания девушка снова расплакалась, и ее одарили еще одной, вероятно, десертной порцией объятий.
Карла уже занималась просмотром притупляющего разум шоу, лежа у себя на диване; Мелания находилась в состоянии полусна в своей теплой кроватке; Катерина и Генри медленно покидали место блаженного пикника, когда их внезапно загадочным тоном окликнули.
– Катерина, Генри, подождите минутку! – крикнула вдруг Алисия. Рудковски был слишком пьян, чтобы помнить – Элеонора чересчур кротка, чтобы ему перечить. Алисия же излишне тревожилась за счастье сына, а потому не могла позабыть о следующем.
Совещаясь по поводу праздника и подарков, родители девушки и мать Генри разжигали нешуточные дебаты. Делали они это не потому, что своя идея стояла превыше чужой, но оттого, что каждый хотел внести в план предыдущего большей помпезности, дополнительных элементов внезапности и сделать празднество лучшим из тех, какие видывал свет. Задумки, будучи в большинстве разногласными, не могли ни дополнить друг друга – вышел бы винегрет, ни заменить: покинуть одних идеи без внимания значило оскорбить чувства их хозяев.
Проведя за обсуждениями добрые четыре часа, переговорщики сошлись на том, чтобы устроить семейный пикник, а после вручения подарков преподнести детям еще один – совместный.
– Боже правый, как мы могли забыть! – восклицала теперь Элеонора. На этот раз, впрочем, женщина не забыла. Она лишь страшилась прервать чревоугодие мужа, что повлекло бы за собой неизвестные, а оттого еще более ужасающие последствия, и потому молчала.
Подождав, пока миссис Рудковски поможет подняться туше, развалившейся подле нее, Алисия гордо произнесла:
– Дорогие, мы хотим вам кое-что сказать.
Катерина в недоумении посмотрела на Генри – тот без малейших догадок пожал плечами. Оба они принялись жадно внимать происходящему, и, на их радость, Джозеф вступился со своей партией:
– Дети, а отправляйтесь-ка вы в кругосветку, – покачиваясь, дитя пьяного угара разрушило всю торжественность поздравления.
Солнце уже садилось, но редкие его лучи по-прежнему озаряли двор. Подобно им вторая бутылка вина придала глянца краснеющей морде. Говорят, есть две разновидности напитка. Первую подают под эмблемой чарующей роскоши – она годится для созерцания дивных пейзажей, аккомпанемент ее – мысли о бесконечном. Бутыль такого вина изящна, словно худенькая фигурка молоденькой девушки. Перед первым глотком напиток держит гурмана в сладостном предвкушении – после себя покидает приятное послевкусие.
Вторая же версия походит на некрасивую сестру первой. Этим гадким винищем упиваются ради самого опьянения. Оно разлито по картонным упаковкам – точь-в-точь деревянное корыто, что насыщает скот. Истинное пойло, оно оскотинивает.
И хотя на небе наблюдался невероятной красоты закат, а собравшаяся публика годилась для бесед о прекрасном, – два условия для предания первому сорту вина – Рудковски тем не менее не преминул нажраться едой и питьем. А значит, бремя по сохранению достоинства в который раз свалилось на хрупкие – так ли они хрупки? – плечики Элеоноры и Алисии.
– Доченька, папа хотел сказать, что мы приготовили вам один общий подарок, – миссис Рудковски поспешила вступить до начала очередной вгоняющей в краску реплики мужа.
– Да, Генри, Катерина, – посодействовала Алисия, – мы долго думали, много спорили, – она с простодушной улыбкой обратилась к Элеоноре, – и решили, что путешествие станет отличным концом вашего первого совместного лета.
Катерина смотрела то на родителей, то на Генри и, судя по его лицу, не сводимому с выступающих, она могла точно сказать: парень не был в этом замешан.
– Мама, это удобно? – обратился Генри к Алисии.
– Да, мам, вы уже так много сделали! – вторила Катерина.
Алисия подошла к влюбленным – Элеонора порывалась сделать то же самое, но на ней тяжким грузом лежало мертвецки пьяное тело, от июньской жары еще более размякшее.
– Вы заслуживаете, – заверила мама Генри и обняла их обоих.
Значительно позже, когда Рудковски допил третью бутыль вина и уже разлагался в кровати, он, обращаясь к супруге, лениво спросил:
– Интересно, откуда у этих Голдманов столько денег? Чуйка подсказывает: не чисты они на руку.
Рудковски не выпускал из рук сигарету, рассыпая пепел по кровати. Элеонора, зорко следя при свете тусклой прикроватной лампы за тем, как бы чего не случилось, поспешила вмешаться.
– Да полно тебе, – и хотя женщина сама чуралась подарков дороже пары десятков рублей, она добавила: – Если бы Генри не мог себе это позволить, он бы не стал раскошеливаться. В конце концов, не украл же мальчик его?..
Мистер Рудковски лишь с недоверием поджал губы и, переварив остатки мыслей, питающих подозрения, заключил:
– Время покажет.
В это время Катерина засыпала в своей квартире с мыслями о городах, в которые ей не придется отправиться, и путешествии, о каком ей останется только мечтать.
Глава 12. Начало конца
Беззаботное лето шло к завершению, и одни небеса знали: август станет началом конца. Они, по контрасту с земными жителями, смотрят не горизонтально, замечая лишь то, что мелькает перед самым их носом, – их око взгромоздилось на самом верху, а взору доступно в одно время все и вся. Вероятно, именно небеса и являют собой сообщников судьбы и в союзе с ней вершат божественное правосудие. Случается, они сводят нас с теми, с кем на первый взгляд соприкасаться не стоило. Порой же они разведут двух людей, и те бьются о стену, пытаясь дознаться до неочевидной причины.
С каждым из нас случалось такое: мы будто нечаянно оказывались в местах, где изначально быть не собирались, или, напротив, волей судьбы избегали мест, в которые целенаправленно шли. Наспех собравшись утром, чертыхнувшись на ускользающие из рук петли пальто, мы, чтобы успеть к назначенному часу, галопом бежали на транспорт, а на пути стоял проклятый ремонт дороги. Срезая углы на тропинках, мы добирались-таки до цели, а затем узнавали: две минуты назад на тропе полюбившегося нам маршрута произошла чудовищная катастрофа, утянувшая за собой десятки жертв.
Необъяснимые обстоятельства и нежданные гости оказываются в нашей жизни по веской причине: преподать нам до сих пор не усвоенный урок. Им свойственно проливать свет на темные участки наших сущностей. К сожалению, большинство из нас на всю жизнь остаются кротами.
После того как Рудковски и Армут вновь примирились, они делали все, чтобы вернуться к их до-Генриевскому образу жизни. Подруги страдали еженедельными вылазками, болтали о чем придется или молчали об этом же. А когда две души близки, как стекольные рамы, плотно наложенные друг на друга и оттого ставшие практически одним целым, молчание о существенном ощущается много правильнее, чем треп о пустом.
Если день был жарким, девушки отправлялись к реке – та утешала дам спасительной прохладой. Прояви однако лето многогранность, при какой температура опускалась ниже десяти-пятнадцати градусов, они, заручившись пледами, наслаждались блаженным для тела горячим чаем и приятным уху треском поленьев в беседке у дома Рудковски. После получаса таких посиделок щечки подруг покрывались багрянцем, отчего их лица становились сказочно кукольными.
На лето Рудковски всегда возвращалась домой. В каменных джунглях – хотя масштаб Энгебурга приравнивал город скорее к гранитному саду – девушка видела свою погибель. Она привыкла к жизни, по стилю и духу напоминающей деревенское обывание; садам, сотворенным не рукой человека, но кистью самой природы; лесам, чьи многовековые деревья раскинулись на долгие километры и служили пристанищем для десятка живых существ. Здесь, среди лишенной вмешательств растительности Катерина чувствовала себя дома, без которого ей было так же непросто, как и моряку, какой вынужден покинуть море.
Отстранившись от того, что мило душе, спрятавшись за бетонными стенами, цветок увядал. И чтобы избежать окончательной засухи, девушка гналась за живительной влагой, оставаясь дома на время жарких периодов лета. При этом она, словно водоросли, что тянут гостя на самое дно, забирала с собой, пусть и на время, дорогих сердцу людей.
В одну из прогулок, что опьяняют голову переизбытком свежего, чистого воздуха, Карла, обсудив с Катериной насущные дела и перейдя к вопросам мирского характера, обронила:
– Кстати, что там Генри, все такой же понурый?
Катерина почувствовала себя тем бедолагой, которому в комнате, полной людей, не сообщили давно известную новость. Она осторожно, чтобы не столкнутся с потоком взаимных вопросов, спросила:
– Все такой же?
– Ну да! – само собой разумеющимся тоном бросила Карла. – Ты ведь знаешь Генри: с коллегами по несчастью, – так девушка обозначала работу, – он своей жизнью не делится. Вот я и спрашиваю у поверенного – у тебя.
Рудковски играла роль психолога и в разговоре тщательно следила за высказываниями и телодвижениями говорящих, с тем чтобы отметить их уязвимости и поставить им поверхностные диагнозы. Армут же занимала позицию коварного шпиона. Девушка принадлежала к числу людей, которые за неимением собственной жизни сгорают от завистливого любопытства к чужой. Любительница веселеньких историй, она имела в голове специальную копилку, где хранила всякие, даже пустяковые ситуации, что мало-мальски могли посмеяться над жертвой.
Карла ревниво следила за проступками других и выступала затем в качестве журналиста. При этом, как требовал долг ее службы, Армут ничуть не скупилась на мелочи и нередко приправляла историю собственным домыслом.
Получалось у девушки все настолько искусно, что казалось, детали лепили из мягкого теста. Хотя эти скачки между должностями окупались Карле лишь удовлетворением нездорового интереса к чужой судьбе, она им кормилась, не сказать дышала. И прямо сейчас Армут, как наркоман с незавидным стажем, страждала получить очередную дозу.
– Катерина, что ты молчишь? – девушку разрывало от нетерпения.
– Э-э-э… возможно, ему нужно немного времени… – Катерина продолжала делать все возможное, чтобы не выдать неосведомленность о ситуации.
– Да брось, неделя прошла. Не в его это стиле – драму разводить, – не унималась Карла.
«Ты его плохо знаешь», – рвалась возразить Рудковски, но вдруг девушку осенило: уже неделю она не получала от Генри ни наспех составленного сообщения, ни даже молниеносного звонка. Катерина теперь и сама возжелала узнать, что случилось. Впрочем, вопрос требовал аккуратности.
– Карла, а с чего именно все началось? – с Карлой столкнулось невинное личико.
– В смысле? Он не сказал тебе о письме? – Армут, казалось, опешила больше самой Катерины. Последняя солгала:
– Наверное, я не придала этому значения.
– Ну как же! – Карла лишилась всяких терпений. – Пришел рослый мужчина… Никогда не видела Генри до такой степени бледным, с камнем вместо лица, просто жуть! О чем я? Ах да, они побеседовали, что Генри совсем не понравилось, незнакомец отдал письмо и ушел. М-м-м… они так громко говорили, и до меня донеслось что-то про «уезжать», «шанс на миллион» и прочая белиберда. Но потом мне пришлось напомнить твоему парню, что он все еще здесь работает и что у меня не десять рук, чтобы справляться и с его обязанностями тоже!
Карла протараторила жалобу и с недовольной гримасой скрестила руки. Впрочем, завидев искореженное лицо подруги, девушка поумерила пыл.
– Катерина? – Армут дотронулась до ее предплечья, на что Катерина резко одернула руку, будто опомнившись ото сна. Бросив на Карлу такой страшный взгляд, что та отшатнулась, девушка медленно развернулась и быстрым шагом, почти бегом направилась то ли домой, то ли в никуда.
– Катерина, да подожди ты! – крикнула вдогонку Карла и рванула за девушкой, на что последняя жестом «сказала» ей оставаться на месте. – Дьявол! – Карла негромко выругалась и неодобрительно покачала головой: все это не сулило ничего радужного.
Забежав домой, Катерина наспех скинула обувь, не замечая при этом окружающих предметов, и поблагодарила родителей за их отсутствие. Уже в своей комнате Рудковски схватила ни в чем не повинную сумку и, достав из нее телефон, так же бесцеремонно швырнула беднягу на пол.
Девушка никогда не брала устройство с собой на прогулку: рассматриванию картинок она предпочитала созерцание живописных пейзажей, музыке в наушниках – птичьими песнопениями. Теперь она впервые об этом жалела, ведь чем дальше бежало от нее время, тем глубже в душе селилось негодование.
Гудок, второй, третий – ответа нет. Катерина силилась не разбить телефон о стену. В голове заметусился рой мыслей. Что делать? Ждать? Продолжить названивать? Написать СМС?
«Я сейчас же отправлюсь прямо к нему, и упаси его Боже, если он не расскажет мне все до последней буквы», – решила девушка и, не меняя одежд, понеслась в пункт назначения.
Случается, эмоция или их коктейль овладевают телом настолько, что становится трудно различать явь и второй, параллельный мир, где обитателями являются лишь более или менее устоявшиеся чувства. Так и Катерина неслась к Генри на всех парах, и будь ее воля, она превратилась бы в ветер и дула что есть мочи, раскрывая парус упрямого корабля.
Рудковски была полиглотом, и в списке ее познаний числился также язык ругательств. На нем Катерина и изъяснялась, отнюдь не заботясь, услышат ее или нет. Впрочем, выкрики эти ей просто мерещились – на деле орала ее душа.
Жгучая жажда расправы завладела Рудковски, подобно убийственному цунами, и теперь девушка, став его частью, поглощала все, что встречалось ей на пути. Подобная злость Катерины имела причину. В полной мере отдавшись отношениям, Рудковски считала: все, приходящее в жизни любого из них, делилось отныне на два без остатка. Как он мог не доставить ей новости о своей жизни? Как решился скрыть что-то, припрятав для себя одного, когда сама Катерина абсолютно и слепо ему доверяла?
Рудковски взлетела по лестнице дома, позвонила в звонок, но ожидание – еще пара секунд – показалось ей слишком томительным, и она дернула ручку – не заперто. Катерина с силой рванула дверь.
– Генри? – с воплем влетела девушка.
– Катерина? Здравствуй, – Алисия, с полотенцем на голове, закутанная в домашний халат и смущенная обстоятельством, закрывала дверь ванной. – Извини, дорогая, смывала с себя остатки дня, не успела добежать, – женщина улыбалась, но улыбка ее не сияла той радостью, которой встречают заклятых друзей. – Что-то случилось?
Катерина осматривала лишенную убранства комнатушку. До этого девушка находилась здесь лишь однажды: в один из морозных и снежных дней марта – в здешних краях месяц относят к зимней поре – они с Генри на пару минут забежали погреться.
Из-за ограниченных квадратных метров влюбленные предпочитали встречаться либо у девушки дома, либо на абсолютно нейтральной для них территории. Сейчас же, глядя на небогатые меблировку и отделку покоев, Катерина вдруг принялась сеять в себе сомнения: в ее голове возникал диссонанс в отношении нищенского жилья и королевского украшения – подарка Генри, который Рудковски носила по поводу и без.
– Катерина? – напомнила о своем присутствии женщина. Рудковски, казалось, уже и забыла, зачем она сюда пришла и кого в действительности хотела застать.
– Ах да, миссис Голдман, – опомнилась девушка. – Вы не подскажете, а где Генри? – Алисия, по всей видимости, ожидала именно этот вопрос, но по лицу ее пробежало едва заметное проявление не то вины, не то сожаления.
– Дорогая, я ведь просила звать меня просто Алисией, – она произнесла фразу так ласково, что Катерина почувствовала: ее окутали материнские объятия. Впрочем, она пришла сюда не за этим – Рудковски жаждала объяснений.
– Извините, – сорвалось с губ почти грубое обращение, – но все же, где сейчас Генри? – терпение Катерины не то что заканчивалось – девушка словно черпала его из тех немногих предметов мебели, какие мирно стояли вокруг.
– Катерина, давай присядем. Чаю? – Алисия еще силилась увести диалог в стоячее, а потому спокойное русло. У женщины явно имелись ответы, и то, что она молчала, злило Рудковски только больше.
– Миссис Гол… Алисия, – постаралась умерить пыл девушка, – я пришла сюда не за чаем. Что-то произошло, и продолжает происходить. Я хочу разобраться, в чем дело, – угрожающий тон переплывал в мольбу, а под конец и вовсе сменился плачем. Катерине казалось, она теряет драгоценные минуты, которые могли повлиять на исход чего-то важного в ее судьбе и которые безвозвратно сейчас ускользали.
В этом скрывалась вся сущность Рудковски. Неопределенность сводила ее с ума, промедление убивало. Подобно остальным обывателям Энгебурга, девушка находилась в перманентной гонке за временем, где главным призом являлись сэкономленные минуты. Серые и безрадостные, ведь урывать их приходилось из того настоящего, какое зовут жизнью.
Катерина не признавала и не хотела признавать: спешка ее истязает. И уж тем более она отказывалась видеть и принимать то, что еще больше ее изводят собственные к себе требования.
Рудковски стояла перед Алисией, глядя на нее детскими глазами, и слезы водопадом лились из потерявших надежду глаз. Как она ни пыталась, девушка не могла перечить времени, как не в силах была она разузнать подробности тайны.
Миссис Голдман приблизилась к Катерине и, поколебавшись, будто прося дозволения, взяла ее за руки.
– Пойдем, – ласково произнесла женщина и усадила Рудковски на старый диван. На нем, крепко обняв трясущееся тело, словно боясь, как бы то не выскочило само из себя, Алисия дала возможность ей вволю выплакаться. Она не прерывала девушку и не торопила: терпение, в отличие от семейства Рудковски, у Голдманов текло в крови.
Когда минут через двадцать, нарушая царящее в комнате кладбищенское молчание, дверь отворилась, женщины вздрогнули. Генри, джентльмен, пропустил Найду вперед, а затем вошел сам.
Он не сразу заметил присутствующих, но, сделав это, почувствовал: молния поразила его изнутри. На мозолящем глаз ярко-алом диване лежала Рудковски, вместо пледа укрытая утешениями его матери.
Генри разом испытал ужас – события принимали дурной оборот; облегчение – он полагал, что мать выдала его тайну, а значит, ему не придется отныне пить отравляющий яд безмолвия; вину – парень не имел права затягивать с тайной; и, наконец, чуждую ему жалость – Катерина меньше всех заслужила страдания, которые он преподнес ей еще один раз.
Завидев Генри, Алисия послала ему взгляд, означающий: «Я тебе говорила». Впрочем, тот являлся не раздраженным укором, но горестным сожалением. Рудковски же, хоть и не сразу, но степенно поднялась, расправила плечи, стряхнув с себя изнуряющие переживания, и, не поднимая глаз и не произнося слов, отправилась к выходу. Сил узнавать что-либо не осталось.
Путь однако был прегражден. В тесных помещениях невозможно не натолкнуться на что-то знакомое, а потому, случись вам оказаться в одном из них, следует тотчас его покинуть. В противном случае не ровен час замкнуться на известном и потерять запал к приключениям.
Преграда же Катерины являлась одновременно и ее горечью, и отрадой, проклятьем и благословением – эти чувства вздымались в девушке от вида торчащей из мусорки их фотографии.
В груди ощущалось такое давление, что один только вдох или выдох мог привести к ожидаемому, но не желаемому взрыву. И хотя каждый из присутствующих уже давно выполз из детских пеленок, все они притворялись сейчас беззаботными ребятишками: мол, их не волнуют проблемы взрослых и совсем необязательно принимать жизненно важные решения.
– Я вас оставлю, – вмешалась в молчание Алисия. Катерина и Генри одернулись от резкого звука человеческого голоса. – Полагаю, вам есть что обсудить.
Миссис Голдман опять-таки, прикоснувшись к руке пораженного сына, многозначительно на него посмотрела. Генри послушно кивнул, и Катерина впервые возжелала, чтобы часы пошли вспять. Она даже шатнулась в сторону Алисии, мысленно умоляя ту остаться, словно ее присутствие ставило время на паузу.
Миссис Голдман позвала Найду, и пес, поскуливая, побрел за ней. Когда дверь закрылась, Генри понял: девушке все еще ничего не известно. Он не знал, несет этот факт ему радость или, напротив, нагоняет на него скорбь. Радость списывалась на то, что парню не придется преступать свои принципы, и ответственность за безмолвие понесет он один. Скорбь Генри объяснял себе тем, что он вынужден растоптать Катеринино сердце.
Через какое-то время – вечность прошла или миг – мать Генри присела, чтобы погладить чересчур уж печальную Найду. Они гуляли во дворе, недалеко от входа в подъезд, и их обеих вдруг огорошил чудовищный удар двери.
Алисия, повинуясь рефлексу, посмотрела в сторону грохота – то выбегала заплаканная Рудковски.
– Катерина? – рванулась к ней миссис Голдман, и будь она ближе, девушка оттолкнула бы женщину в сторону. Катерина совсем не соображала, что есть вымысел, что – реальность, героиня она кем-то выдуманной игры или собственно писанной жизни.
Алисия, не желая подбрасывать сухие поленья в пылающее кострище, и находясь не в силах угнаться за резвым сапсаном, видела выход только в одном. Она решительно поднялась по пролетам и, не стучась, открыла двери. Генри сидел все на том же диване, взор его устремился в пустую точку. Лицо застыло, лишенное всяких эмоций, – при этом он заживо плавился изнутри.
– Генри, что ты сказал? – Алисия и сама уже не стыдилась слез. Ее душа рвалась из-за обоих.
Генри молчал, а в голове пульсировал незатейливый диалог:
– Я принял решение и понесу за него ответственность. А теперь, Катерина, пожалуйста, уходи.
– А если я никогда больше не вернусь?
– Сделай одолжение.
Глава 13. Вперед в прошлое
Катерина бежала и не ведала, как далека ее дорога. Ее тело вибрировало, а душа кричала о жизненном переломе. Несколько минут назад девушка была готова оббрехать Генри во всех людских прегрешениях, однако голос простаивал в пробке, где без шансов на движение застряли еще легкий завтрак и сытный обед. Теперь же Рудковски хотела вопить, чтобы вопль этот сотрясал и пролетающие мимо окна, и оборачивающихся на нее людей – словом, все, чего беспрепятственно касалось лютое негодование девушки.
Катерина бежала так долго, что злость, досаду и ненависть, которые побудили ее нестись быстрее ветра, сменила ноющая усталость. Девушка снизила скорость, но продолжала шагать, как если бы полная остановка движения привела и к оной сердца. Затруднял ход и непривычный Рудковски воздух. Она задыхалась – ей чудилось, будто тот наполнен кислотными испарениями.
Катерина на автопилоте добралась до калитки дома. Единственной ее отрадой стало осознание: родители вернутся поздно ночью. Они пируют в гостях у Шмальца, а значит, к великому облегчению девушки, не будут озабочены ни ее внешним видом, ни внутренним состоянием. Единственным делом Рудковски-старших сейчас было поглощение жирных яств, пьянящих напитков и низменных пересудов.
Девушка также с грустью подумала о малышке Мелании. Сестренка вынуждена в силу юности лет безропотно подчиняться воле родителей, что в этот момент означало покорное ожидание конца пирушки.
К стыду Катерины, мысли эти, словно отвлечение внимания на чужое горе могло снизить остроту собственного, принесли ей какое-то мимолетное усмирение. Трясущимися руками Рудковски открыла замок двери, вошла, не разбирая дороги, поднялась в свою комнатушку – святыня местилась на втором этаже – и, истощенная, бросилась в распростертые руки кровати.
Случаются в жизни такие потрясения, что заставляют пересмотреть значимые события от начала до конца, как видеофильм, картины которого ты знаешь наизусть, но всякий раз надеешься уловить что-то тобой незамеченное. Вся бесконечная ночь прошла для Катерины в раздумьях. Со звездами пробуждаются и дремавшие чувства, а уж те, какие совсем не успели затихнуть, и вовсе планируют в душах торжественный бал.
Девушка корила себя за то, что, поступившись высеченными годами правилами, наскоро сблизилась с тем, на кого указало ее путеводное сердце. Влюбленные быстро сошлись и так же быстро разлетелись. Рудковски с прискорбием, но понимала: чем выше взлетаешь, тем выше скорость при обратном падении. Чем сильнее натянута тетива, тем дальше отпущена будет стрела.
Она поспешила вверить себя незнакомцу, а спешка несет гибель даже для мартовских цветочков. Малютки страждут распуститься при первых намеках весны на тепло, забывая: холод все еще здесь. Он просто спрятался за углом, взяв хитроумную передышку.
Оптимально в жизни лишь чередование скорости: не слишком быстрая, как у гепарда, и не столь медленная, чтобы напомнить собой черепаху. На беду, Катерина забыла про святость баланса, за что расплачивалась теперь ее душа.
И без того короткую летнюю ночь ускорила бешеная прокрутка мыслей – что дальше? На заре девушка не могла больше бездействовать, лежа в кровати. Да и чрезмерным напором давили стены. Рудковски вскочила, забыв о грации своих движений, и с удивлением обнаружила: она не утрудилась прежде и тем, чтобы просто раздеться – экономила остатки сил. «Тем лучше, незачем попусту терять время». События последних суток сделали девушку безучастной к житейской рутине.
Она тихо спустилась по лестнице, стараясь не потревожить сон пирующих полуночников. Услышав храп Джозефа, Катерина замедлилась. Ее всегда занимал вопрос, не мешает ли сновидениям отца его шумный мотор.
Рудковски не знала, в котором часу родители вернулись из гостей. Она не слышала шагов – так громко звучали мысли. Однако сейчас Катерину не сильно тревожили пространственно-временные перемещения отца и матери. У девушки было о чем подумать, и богохульством казалось расточать мозг по таким мелочам.
Дойдя до комнаты Мелани, Катерина снова остановилась. Она задержалась – хотела насладиться невинным личиком девочки, обремененным одним только путешествием по бесхитростным снам. Как сладостна жизнь в столь юном возрасте!
Катерина тихо закрыла дверь детской, а после с этой же осторожность притворила входную. Воздух повеял любимым ее ароматом – запахом после дождя. Погруженная ночью в переживания, Рудковски не слышала даже его.
Девушка шла, внимая деревьям, птицам, дороге больше обычного. Она ощущала: грядут перемены, а потому вдыхала любимые места так, словно хотела насытиться ими перед самой смертью. Конечно же Катерина не мыслила тем, чтобы накладывать на себя руки. Во-первых, Рудковски слишком дорого себя ценила – ей не был чужд эгоизм, который порой вырывался из пределов здорового; а во-вторых, это «решение» проблемы виделось девушке средством, годящимся исключительно для слабаков. А уж к последним она себя относить не желала.
Предавшись всесилью природы, Рудковски почувствовала себя чуть-чуть лучше. К ней вернулась магия чувствовать и осязать, и девушка в какой раз поблагодарила лесные ландшафты за их чудотворное, возрождающее к жизни лекарство.
Семью Катерина застала неспешно завтракающей. Она смотрела на них со светлой грустью, запах маминых блинчиков навевал воспоминания из детства.
– Доченька, завтракать будешь? – Элеонора приняла позу, чтобы подсуетиться с порцией для дочурки.
– Нет, спасибо, – на удивление себе, Катерина смогла скривить губы в нечто, издали напоминающее улыбку. Еда девушку по-прежнему не привлекала, и закрывая незаданный вопрос матери, она дополнила: – Мой организм еще не проснулся.
Мистер Рудковски тем временем уплетал щедрую порцию жирных блинов, злясь, что от него стремглав убегает сметана. Какое расточительство! Пустая трата калорий!
Мелания же ковыряла малюсенький блинчик, который мама облагородила клубничным вареньем. Элеонора аккуратно расположила на нем две ягодки, нарисовав «личику» глазки, а затем, словно художник, – на вид небрежным, в действительности точно измеренным взмахом кисти – добавила ему сладенький ротик из клубничной юшки.
Опустив глаза, Катерина бесшумно отодвинула стул и подсела к семье. В движениях читалось желание остаться незамеченной. С минуту девушка молча смотрела на поглощенных процессом едоков, между делом отнекиваясь от попыток матери склонить ее к завтраку.
– Мам, а почему мы перестали общаться с Агатой?
Внезапный вопрос взбаламутил ту осевшую на дно размеренность, с какой родители девушки предавались кушанью. Ил поднялся с самых темных глубин, и мистер Рудковски от неожиданности подавился. Элеонора же, научившаяся приспосабливать чувства под окружающих, тем не менее не умела скрывать их, случись потрясение. Эта реакция смутила девушку, но отступать Катерина не думала и не желала.
– Так что? – напомнила о вопросе Рудковски. В ответ последовали рычание отца и нечленораздельные звуки матери.
– А кто такая Агата? – все трое резко повернулись к проявившему справедливое любопытство ребенку.
Агата Бристоль – так звали мать Элеоноры. Катерине исполнился двадцать один год, однако на момент, когда внучка сидела на коленях у бабушки в последний раз, возраст ее равнялся теперешнему Мелании. Младшая дочь Рудковски не то чтобы не застала присутствия Агаты в жизни семьи, девочка не подозревала о самом существовании. Обсуждение миссис Бристоль принадлежало в семье к числу многочисленных табу, обозначенных Джозефом. И женщины – Элеонора и Катерина – свято блюли установленный им порядок.
Причина разобщения кланов заключалась в следующем. Элеонора Рудковски, урожденная Бристоль, являлась дочерью крупных торговцев, сколотивших за несколько лет приличное состояние. После смерти отца – его сразил беспутный образ жизни, который он мог без ужимок себе позволить и который наградил его заболеванием нескольких органов сразу, – Агате пришлось серьезно потрудиться, чтобы покрыть долги, остановить утечку скопленного богатства и приумножить состояние, оставленное покойным мужем, более чем в три раза. Познавшая изнурительный труд и бедность, женщина не желала сходной судьбы для единственной дочери. А потому, когда девушка объявила ей о помолвке с Джозефом – сыном бедных, бесперспективных рыбаков, возмущению миссис Бристоль не было предела.
Во-первых, замужеством дочь уклонилась от достойного образования, обучившись впоследствии азам финансовой грамотности в каком-то Богом забытом колледже. А во-вторых, как считала госпожа Бристоль, обручаясь с «необразованным, невежественным деревенщиной», девушка обрекала на бедность своих тогда еще не рожденных детей.
Элеонора однако пошла матери наперекор. На удивление, в первые годы Агата и Джозеф учились сосуществовать. Тем более что через год дочь подарила миссис Бристоль милейшую внучку – Катерину. В жизни девочки, как, впрочем, и в оной ее окружающих, Агата хотела активно участвовать. На беду, именно это решение и послужило границей раздела двух государств – Бристоль и Рудковски.
И все же Джозеф не слыл простым обывакой. В молодые годы парень слыл крепостью, решимостью в устремлениях и из кожи вон лез, чтобы доказать миссис Бристоль серьезность своих намерений. Муж месяцами работал в три смены, чтобы скопить хоть на одно из тех платьев, какие пылились – выходить было некуда и не на что – в гардеробе Элеоноры. Отец, не раздумывая, хватался за подвернувшиеся подработки, чтобы подарить дочери вожделенные ею игрушки. Зять, он не пропускал ни единого праздника миссис Бристоль, заявляясь к ней с потом заработанными подарками, и внимал ее наставлениям, как ни упрямствовало тому его сердце.
Глядя на все эти «жалкие» попытки утвердиться в глазах дочери и ее самой, миссис Бристоль лишь ухмылялась. Так, нарочно или случайно, она закаляла характер парниши: упрямый, негибкий, ненавистный до поучений.
Агата тыкала Джозефа в его неудачи носом, как котенка. Привыкший к критике, он покорно сносил язвительные насмешки миссис Бристоль. Возможно, именно назло ей Рудковски и сколотил какое-никакое состояние: в богатстве семья не купалась, но и нужда обходила их стороной.
Однако когда обыденным осенним днем парень поделился с Агатой планами на открытие собственного магазина, – он хотел, наконец, получить одобрение – Джозефа встретил порыв настолько враждебного хохота, что он спокойно признал: «Больше я перед Вами стелиться не стану».
Он терпел мать супруги с ее выходками так долго, насколько позволяли его силы. Именно тогда, еще в молодости мужчина необратимо истратил весь запас божественного дара – терпения. Теперь же он понимал: на чаше весов несоизмеримые грузы – лишенная роскоши, но спокойная жизнь семьи или сказочные изыски, какие коварная ведьма лишила душевного упокоения.
Рудковски, как ни горько было ему сообщать Элеоноре, принял решение, посягающее на титул правильного. Супруга не особенно удивилась исходу событий: слишком долго шел к нему их караван. Женщина скорее переживала за дочь.
С любимой внучкой Агата вела себе совсем не так строго, как с «дорогим» зятем. Вернее, к малютке Катерине строгости миссис Бристоль не проявляла вообще. Как и полагает истиной бабушке, Агата холила и лелеяла внучку. Женщина баловала ее, разрешала капризничать и задаривала подарками, какие мистер Рудковски позволить себе не мог. Этим Бристоль не только радовала неугодливую малышку, приучая ее требовать и получать свое, но и досаждала бедняге Джозефу – тот надрывал спину, лишь бы купить дочери куклу.
И хотя Катерине было всего пять – возраст, в котором дети запоминают совсем немного, девочка сохранила о бабушке теплые воспоминания. Она обожала Агату, хотя уже и не помнила, за что именно. Так случается – расставшись с человеком, потеряв его из поля зрения, а затем и из собственной жизни, люди склонны предписывать ему всевозможные совершенства. В действительности же они кроят в голове его безупречный образ, недостижимый в реальности идеал.
Когда родители сообщили о переезде, новость вызвала у малышки бурю эмоций, от чего взрослые отмахнулись. Что несмышленые дети знают и на что они могут влиять? Не потрудились отец и мать и поведать причину такого решения, мол, девочка подрастет и поймет.
Миссис Бристоль уговаривала детей остаться, настаивала на изменении своего характера, угрожала лишить Элеонору наследства, умоляла не делать опрометчивых шагов. Все тщетно. Не растрачиваясь на слова, Рудковски сурово бросал: «Мы уезжаем». Решения, объявленные подобным тоном, обжалованию не подлежат.
Так семья Рудковски переехала из процветающего Геттинберга в загнивающий Энгебург. Не то чтобы город совсем ни на что не годился – напротив, Энгебург представлял собой маленькое симпатичное место. «Украшением» же ему служило скупое число горожан с уродливыми душами.
Энгебург был пригоден для обитания, но немыслим для проживания. В нем судачили обо всем: о событиях, ближних и незнакомых. Но особенно тщательно перемывали косточки тех, у кого получалось в этой Вселенной чего-то добиться. «Будьте уверены, наворовали! Повезло, подфартило, зараза-удача», – шипели завистливые языки. Словом, жителям Энгебурга непросто давалось признание чужих успехов. Но еще сложнее давалось решиться на собственные.
Когда до горожан долетали новости о научных открытиях, возникшем движении или прочих вещах, непривычных для их ушей, они лишь посмеивались над причудливым «мракобесием», не утруждая себя даже тем, чтобы вникнуть в его существо.
Пожилые жители города довольствовались тем, что, завидев промахи современности, тыкали в них обстоятельным: «В наше время было лучше». Старики недовольно качали седыми головами, забывая про все положительное, что до сих пор удалось открыть.
Молодежь Энгебурга подчас выглядела старше зрелых сожителей. Она наивно считала, будто «бойцовский» макияж и сражающая одежда заменят оружие умственных трудов. К их великому разочарованию, наружная красота, если в них полагалось наличие оной, стремительно меркнет при отсутствии внутреннего сияния. Так исчезает блеск сверкающего аксессуара, когда не избавляешь его от слоя пыли.
Первые недели здесь Катерина и Элеонора никак не могли смириться с удручающими особенностями нового ареала. Девочка стойко хранила молчание, но много и горько плакала; на лице ее матери отпечаталось безразличие к жизни. Глава же семейства, напротив, впервые в жизни дышал спокойно. Если раньше грузом Рудковски являлись издевки Агаты, то сейчас им стали мысли по открытию магазина.
Поначалу дамы Рудковски серьезно считали: им не свыкнуться с переменами. Но человек от рождения владеет свойством свыкаться со всем: и с хорошим, и с огорчающим. Так, по прошествии нескольких месяцев они, повинуясь закону природы, продолжили жить прежней жизнью. Исключением стало только отсутствие яркого персонажа – Агаты Бристоль.
Мистер Рудковски и вовсе не думал о прошлом. Зачем расточать и без того скудные запасы времени на то, что ты не в силах менять? Волей случая он познакомился с мистером Шмальцем, мужчиной сходных амбиций, с которым они породили совместное детище – «Большую рыбу».
Оглядываясь на свой путь, дополняя его событиями последних дней, Катерина не сомневалась по поводу будущего. Девушка не могла больше оставаться счастливой здесь, в городе нестерпимой боли. Энгебург, как дементор, высасывал из Рудковски остатки живого, и, если она и хотела бродить по грешной земле чуть подольше, пришла пора покинуть город, увидеть мир через окно, лишенное грязных и узких ставен.
В доме Рудковских, на маленькой, но уютной кухоньке по-прежнему правила тишина. В комнате светлых тонов заседали люди с темными помыслами. Никто не решался всковыривать раны прошлого, ведь никто за все годы так и не сдюжил их залечить.
Лицо Джозефа тем не менее выражало бурю страстей. Столкнувшись с упорной немилостью судьбы, кровь его выработала антитела к прекрасному. Единственные ощущения, которыми мистер Рудковски довольствовался поныне, являлись злоба и ненависть, лишь изредка и по особому случаю прогоняемые теплой любовью к семье.
Элеонора же вволю распереживалась. Выражение у нее было до того перепуганное, что случайно зашедший в комнату мог подумать о наступлении конца света. Катерина привыкла видеть лицо матери таким беспомощным, и однако, глядя на него, девушка прокрутила в голове даже самое невообразимое. Она знала – возможно все. Теперь к тому же Рудковски подозревала: больше пятнадцати лет назад родители сочли ее детский возраст причиной для последующего беспамятства и ради собственного покоя уверились: для их ребенка лишение останется незамеченным.
– Хорошо, это все не важно, – обидевшись на молчание, длиной в шестнадцать лет, отрезала Катерина и встала из-за стола. – Важно то, что я собираюсь с ней повидаться.
Рот Элеоноры полетел навстречу тарелке. Глаза Джозефа налились кровью, и, находись рядом зеркало, оно разбилось бы под давлением его взгляда.
– Ты никуда не поедешь, – Джозеф не орал, но голос имел в себе столько веса, что Катерина невольно вздрогнула.
– О не-е-ет, – Рудковски повернулась прямо к отцу, демонстрируя: она не станет ему подчиняться. – Я поеду, и одному Богу известно, сколько я там проторчу!
– А как же Генри? – взмолила Элеонора. Мать не ведала о причинах опрометчивых (или обдуманных) шагов дочери, но в этот момент ее беспокоил сухой факт, и женщина собиралась предпринять все ей подвластное, чтобы тот не свершился.
– Кто? – наигранным тоном спросила девушка. Настрой ее выдавала дрожь в голосе. – Ах Генри. Ты знаешь, мам, от однообразия уже всю грудь свело.
Катерина скривила губы в уродливой улыбке, откланиваясь таким образом перед ошарашенной семьей. Она поставила точку над дебатами, напрасно сотрясающими воздух. Она приняла решение, и она непреклонна.
Рудковски едва не взрывался от бешенства. В этот раз мужчина не мог козырнуть даже своими деньгами, сообщив дочери, что лишит ее скудного подаяния, которое он отвешивал ежемесячно. Джозеф понимал: у миссис Бристоль имелось его состояние, помноженное на десять, на сто, а то и на тысячу раз.
Когда Катерина вышла из комнаты, мужчина грузно подошел к раковине, наполнил стакан водой и опустошил его до того жадно, словно он надеялся потушить пылающий внутри него пожар. К слову, привычку запивать чай стаканом воды имела и девушка. В отличие от манеры стоять, для экономии сил балансируя на одной ноге, во время мытья посуды – особенность, какую Катерина впитала с молоком матери, причуду комбинировать жидкости она нехотя переняла у отца.
Элеонора выглядела по-детски растерянной и готовилась к любой выходке супруга, лишь бы прогнать пугающее затишье – такое обычно стоит перед свирепой бурей. По виду Рудковски того не предположишь, но мужчина действительно напряженно думал. Он злился на всех: на судьбу, в которую он не верил; на Агату, какую он не выносил; на самого себя, беспомощного и побежденного. Однажды Джозеф вырвал из цепких когтей миссис Бристоль невесту – теперь он вынужден был отплатить любимой дочерью. Существует ли карма? Насколько неограничен срок ее действия?
– Мама, ты нарисуешь мне домик? Я хочу рисовать, – забывшись, прощебетала Мелания.
Как мало нужно детям, чтобы отвлечь свой взор с неприятного и как много требуют взрослые, чтобы приятное распознать.
Глава 14. Где рушится старое, там начинается новое
Катерина упаковывала вещи и судорожно перебирала в закромах памяти то, про что нельзя было позабыть. Она уезжала то ли на неделю, то ли навсегда, и поэтому держать в голове надлежало немало.
До отъезда осталось примерно два дня, и девушка их ненавидела. Во-первых, потому что воздух Энгебурга отныне казался Катерине удушающим газом, а нахождение в нем становилось похожим на пытку; а во-вторых, за двумя этими днями следовал третий, и Рудковски невыносимой казалась одна только мысль о прощании с домом.
Покидание Энгебурга виделось и простым, и тяжелым одновременно. Простым оттого, ведь ничто здесь больше ее не держало. Возможно, те редкие люди – бесценные самородки в зловонной грязи – и виделись девушки якорями. Но на Катерину и без того давил груз собственных мыслей – в излишнем балласте девушка не нуждалась.
Тяжесть же возникала при размышлении о родителях и сестренке. С отцом Катерина чувствовала себя, как в бронированной машине, с матерью – словно под лебединым крылом. Времяпрепровождение с Меланией возвращало девушку в годы собственного беззаботного детства, и таким образом продлевало его на неопределенный срок.
Катерина не могла напоследок не повидаться с Карлой. Будучи не лучшим конкурентом в борьбе за здравомыслие, Армут однако частенько являлась для девушки веселящей компанией. Прощание же ненавистным казалось обеим, и дабы чуть-чуть успокоить друг друга, дамы пообещали: они будут регулярно списываться. Для остроты ощущений средством общения избрали почту.
С Алисией Голдман, хотя женщина стала Рудковски подругой, контактами девушка не обменялась. Она не оставила ни сообщения об отъезде, ни намека на то, что когда-то еще объявится, – себе дороже иметь что-то общее с этим семейством.
Мать и отец Катерины, отложив все дела, совместным порывом подсуетили прощальный пикник. На сей раз даже мистер Рудковски не дерзнул «пригубить рюмку-другую». Вероятно, момент был действительно стоящим, и мужчина хотел запомнить его доподлинно. А, возможно, бунтовала уставшая печень. В любом случае пить Джозеф не собирался и тем самым сделал семейству подарок в виде прекрасного вечера.
Под конец прощального дня Рудковски решились на велопрогулку. Еле-еле крутя педали нелюбимого вида транспорта, Катерина старалась «сфотографировать» в памяти приятные глазу виды – те по прошествии времени обесценились и стали восприниматься как должное.
Большую часть пути проехали молча. Любое слово воспринималось сейчас нарушителем их спокойствия, вором интимного момента вместе.
Наутро, в совсем ранний час они тем же составом отправились провести дочь на вокзал. Взяли даже Меланию, но не потому, что малышка боялась остаться дома одной, – ребенок слезно молил провести дорогую сестренку. И не глядя на то, что обычно девочка пробуждалась не ранее десяти, сегодня она солдатиком караулила у двери Катерины уже в начале седьмого.
Будильник еще не звенел, но под пристальным взглядом Мелании девушка пробудилась. И подобно тому, как любопытный нос раздвигает жалюзи, чтобы подглядывать за жуликоватым соседом, Рудковски маленькой щелочкой приоткрыла глаза.
– Мелания? – на лице Катерины впервые за последние сутки играла невымученная улыбка.
– Прости, – перепугалась малышка. – Я не хотела тебя разбудить.
– Беги сюда, глупышка.
Катерина приподняла нагретое теплом тела одеяло и похлопала по смятой постели, подзывая растерянного ребенка к себе. Мелания подбежала к кровати, но глазки ее, извиняясь, сверлили пол.
– Ну что ты, Мелани, – Рудковски взяла сестренку за подбородок и приподняла милейшее личико так, что взоры их теперь была уставлены друг на друга. – Ты не помешала.
Уверившись в невиновности, малышка охотно залезла под одеяла, и Катерина принялась мучить ее щекотаниями.
За завтраком мать и отец сухо перечисляли предметы одежды, бумаги и прочую ерунду, которую Катерина никак не имела права забыть. При каждом новом названии уставшая от проверок Рудковски лишь монотонно тянула: «Взяла-а-а».
Загрузив чемоданы, семейство уселось в их старенькую, но все же достойного состояния машину и отправилось на вокзал. Поездка по их пустынному городу отняла минут пятнадцать – слишком мало для наслаждения местечком контрастных воспоминаний. Слишком много однако, чтобы успеть погрузиться в печальные думы.
Когда Рудковски в конце концов пришвартовались к вокзалу, поезд уже занимал положенное ему место. Он, вероятно, стал первым за жизнь Катерины, кого она прокляла за пунктуальность. О, как горьки, как безжалостны эти минуты прощаний! Они ставят людей перед чудовищным выбором: скорее убежать, выкрикнув сухо «до скорого», – так люди прячутся от ноющей боли утраты; или целиком утонуть в прощальных объятиях да целованиях, с разбегу прыгнув в кипящий котел.
Катерина, как словленный в клетку зверек, металась то ближе к семье – источнику опоры и уверенности в завтрашнем дне, то к поезду – угрюмому вестнику разлуки. Элеонора, не скрывая чувств, плакала. И даже Джозеф, закаленный суровостью жизни, почувствовал: на глаза у него надвигаются волны. Мелания молчала – в детском возрасте личико яснее слов выдает страдания сердца. Катерина сердилась: семья делала их разлуку еще более невыносимой.
До поезда оставалось минуты три, но оставаться в гнетущей атмосфере стало почти физически невозможно. Рудковски прервала «похоронную процессию», и отец любезно помог ей поднять сумки с платформы.
Катерина в последний раз помахала семейству, сглотнула застрявший у горла комок и спешно отправилась на поиски своего места. Заручившись помощью рядом сидящих, девушка разместила торбы на верхних полках, а те, что стараниями матери не вместились, недовольно расставила под ногами. «Ну вот, страдай теперь всю дорогу!» По привычке глаза ее закатились.
Поезд тронулся. Энгебург впервые остался у девушки позади. Забавным образом, почувствовав под собой движение вагона, Катерина тотчас избавилась от скорбных чувств разом. Ее перестал даже сдавливать страх – девушка преисполнилась верой и предвкушением.
Под монотонный, лениво бегущий на фоне грохот колес Рудковски прекрасно мечталось, и она мысленно строила планы на новую жизнь. Катерина больше не видела себя растоптанной, сейчас девушка знала: она закончила лишь с одним, не особо удачливым томиком книги. Впереди ее ждали другие тома и важнейшие дни.
Книга вторая. Геттинберг
Глава 1. С корабля на бал
Поезд с Катериной прибыл в Геттинберг в начале пятого. Девушка провела в пути восемь часов, смертельно устала и страшно проголодалась. Сообщниками истязающей ее поездки являлись немилосердная жара и скопы мыслей о Генри – вместе они не позволили Катерине расслабиться ни на миг.
Рудковски знала: даже самые непривлекательные вещи чертовски манят, стоит им оказаться менее доступными. Что уж и говорить о таком злосчастном феномене, как влюбленность, или, ссылаясь на выданный девушкой каламбур, «люболь»?
Катерина не могла предсказать, насколько скоро ослабнет тяга к возлюбленному, но отчаянно страждала утихомирить мысли, гудящие паровозом. Рудковски пошла с ними на компромисс и договорилась: прошлое было образовательной платформой с бесплатными уроками на тему «как делать не надо». На что, черт возьми, она надеялась, если конца не имеют одни лишь небесные пространства?
Борьба за спокойствие велась в голове девушки на протяжении всей поездки, а потому, когда движение поезда прекратилось, Катерина свободно выдохнула: «Наконец-то».
Рудковски отлично знала о способностях ее незаурядного ума, который, кроме того, имел пару – нечеловеческое обаяние. Потому найти человека, какой помог бы ей спустить багаж, не составило для Катерины труда, – и вот она на перроне, в практически незнакомом, если не считать первые пять лет жизни, городе и в полной растерянности в отношении будущего.
Чужие пространства всегда пугают, но Катерина из тех, кто давно уже свыкся с житейскими метаморфозами. Девушка собралась с духом и, надменно задрав подбородок к небу, гордо распрямив плечи, – стойка подчеркивала выступающие ключицы и грацию шеи – принялась дожидаться Агаты.
Катерина вряд ли могла отреставрировать в голове внешность бабушки. Даже те единичные искры облика, что сохранились в памяти, девушка вспоминала с сомнением – не приснилось ли ей? Сейчас, по подсчетам Рудковски, Агате перевалило за шестьдесят, и наверняка гордые черты женщины износились усердной работой прошедших лет.
Потому, когда перед Рудковски предстала роскошная женщина, – на вид не более лет сорока – Катерина едва не лишилась рассудка. То была стройная, элегантная дама, источающая аромат безграничной в себе уверенности. Серебристые волосы – окрестить шевелюру седой значило поглумиться – миссис Бристоль собрала в локоны-волны, лежавшие выше плеч. Безупречно подкрученные, они выглядели так прекрасно, что Катерина невольно дотронулась до потрепанного путешествием «синнабона».
Женщину дополняло жемчужного цвета платье. Оно покрывало руки Агаты, но обнажало прелесть тоненькой талии. «Вот, что она оставила мне и маме в наследство», – отметила про себя Катерина. На запястьях у «Афродиты» висели тяжелые золотые браслеты, а на руках восседало кольцо с завидным бриллиантом. Шею богини обнимало колье из голубых камешков – те подчеркивали мраморность кожи. На лице ослепительным светом искрилась улыбка.
В детстве Рудковски думала, что бабушка Агата родилась сразу старой – такова участь бабушек, ничего не попишешь. Сейчас Катерина дополнила свою теорию: «Она, может, и родилась сразу старой, но с каждым годом упорно стремилась к младенчеству».
– Бенджи, любезный, передо мной действительно моя внучка или ты снова станешь уверять меня в моей слепоте? – снимая солнцезащитные очки, обратилась к шоферу Агата. Голос бабушки заставил что-то в груди Катерины стесниться. Он был низок, груб и слегка отдавал хрипотцой, и девушка невольно вспомнила: в доме бабушки ей всегда пахло сигаретным дымом.
– Так точно, миссис Бристоль, – рапортовал молодой человек с каштановыми волосами и приятной наружностью, – на этот раз Вы совершенно правы.
– Негодник! – она слегка толкнула его в плечо, и парень ответил улыбкой. – Уверяет меня в том, будто мое зрение обводит меня вокруг пальца, – обратилась женщина к Катерине. – В отличие от моих сверстниц очки седлают мой нос лишь при чтении документов. Нужно быть стопроцентно уверенным: тебя не подставят приписки, сделанные мизерным шрифтом.
Не зная, как себя повести, Рудковски неловко хихикнула.
– Ох, моя дорогая, как я скучала, – налетела с объятиями миссис Бристоль.
– Я тоже, бабушка, – выдавила Катерина. Немного неискренне, ведь еще несколько суток назад она и не думала о судьбе женщины.
– Минутку, – слово выстрелило из уст Агаты стремительно резко. Катерина, невольно вздрогнув, отпрянула. – Детка, давай договоримся: ты зовешь меня только Агатой, а не то клеймо «старушки» потом не отдерешь даже совместными усилиями. Я и бабушка – ну какая нелепость!
Женщина засмеялась, и Рудковски подумала: многие женщины по прошествии лет старательно избегают титулов перед их именами, как будто отсутствие оных крадет у них пару десятков лет. Катерина бросила беглый взгляд на спутника миссис Бристоль – тот лишь беспомощно развел руками: «Не удивляйся, а привыкай».
– О, прошу прощения, – Агата шагнула назад. – Мой бессменный помощник, Бенджамин Уильямс.
– Рада знакомству, – чинно ответила девушка. Бенджамин бодро кивнул, его озорная улыбка не требовала объяснений.
Завидев машину бабушки, Рудковски не то чтобы удивилась, – ее предупредили того не делать – но все же с плохо скрываемым любопытством втаращилась прямо в нее. Сверкающий «Poллc-poйc» цвета мокрого асфальта не мог не оставить зрителя равнодушным. В свою очередь, лицо Агаты сверкнуло лукавой улыбкой: от женщины не ускользнул полный благоговения взгляд Катерины.
Чемоданы грузили молча. Только изредка девушка напоминала о хрупкости очередной торбы. Пока Бенджи силился поместить в авто все котомки, играя с ними в знакомый тетрис, Агата смерила наряд внучки полным презрения взглядом. Пускай девушка и находилась в дороге, но помятые брюки и бесформенная майка сводили миссис Бристоль с ума.
У Катерины на этот счет имелось иное мнение. В свет девушка выходила одетой с иголочки, но, будучи пленницей обстановки, подобное убранство не предполагающей, Рудковски всегда выбирала комфорт и удобство, даже если для этого приходилось жертвовать неотразимостью.
«Какое богохульство над собственной красотой!» – миссис Бристоль не чуждо было стремление к болезненным идеалам. Она не допускала пятен ни на одежде, ни на репутации. Одна мысль о подобном пренебрежении к внешнему виду вынудила женщину неодобрительно замотать головой. Заметив движение, Катерина неловко потупила взгляд, и Агата, снижая градус давления, заулыбалась.
Закончив с багажом, бермудский треугольник из изящества в лице миссис Бристоль, усталости в роли Рудковски и жизнерадостности в образе Бенджи, разместился среди просторов роскошного автомобиля. Лишь сейчас Катерину, опирающуюся на мягкую спинку «Poллc-poйcа», стало постепенно покидать чувство изнеможения. Она почувствовала себя как в кровати и впервые, позволив усталости отойти в сторонку, обратила внимание на оживленность вокзала.
Перрон кишел снующими взад и вперед пассажирами, на лицах их отпечаталась беззаботность и наслаждение вперемешку. Люди пахли беспечностью, они веяли жизнью. Даже провожающих не заботила тоска разлуки. Казалось, они легко принимают капризы судьбы и, покорно ей доверяясь, безо всяких страданий делают нужный им шаг.
Сам вокзал освещался причудливым светом, и Катерина готова была поклясться: дело крылось не только в летнем свечении. Здание озаряла всеобщая атмосфера кайфа от жизни. Горожане никуда не спешили – они уже всюду успели. Жители не огорчались прощаниям – в жизни нет места новому, До тех пор, пока в ней еще теплится старое.
– Детка, ты не станешь возражать, если я закурю? – прервала мечтания девушки миссис Бристоль.
Бенджамин хмыкнул: «Хозяйка спрашивает разрешения – где это видано?» Но, заметив в зеркале выражение ее лица, обошелся покорным молчанием. Катерина в свою очередь решительно покачала головой, таким образом одобряя действие той, кому оно вовсе не требовалось.
Девушка не отдавала себе отчета в том, что с ней происходит. В Энгебурге она всегда ощущала в себе уверенность, и именно окружающие, а не сама Рудковски, начинали робеть рядом с ее твердостью и решительностью. Нахождение же поблизости с женщиной – воплощением неоспоримого превосходства, заставляло кровь мерзнуть даже в жилах такой ледяной глыбы, как Катерина.
В отличие от ровесниц, миссис Бристоль, что тотчас бросалось в глаза, не ушла ни в кулинарный, ни в садоводный запой. Агата умела готовить и делала это отменно. Но вместе с тем Бристоль считала: жизнь полна стольким количеством занятных дел! Грешно разбрасывать время на наводящую тоску готовку.
Что касается сада, почти целую вечность тот находился в золотых руках мистера Боуи. Старик лет семидесяти, он тем не менее пребывал в не поврежденном годами здравии и ни на день не прощался с приподнятым расположением духа. Уход за растениями мистер Боуи считал своей высшей миссией. Старичок по-детски радовался, когда под его эгидой на свет появлялся новый цветок, и искренне горевал, когда засуха поражала его деревца.
Сад вдыхал в него радость к жизни, и, становясь в этом рае беспечным юнцом, мистер Боуи порхал по его просторам, словно он только-только покинул кокон и отдыхать ему было не от чего.
Имелась в дотошно отобранном штате Агаты и домработница. Сам факт наличия этой должности немало шокировал Катерину. При всей осведомленности девушка знала: рабство давно отменили. Профессию же прислуги она видела не иначе как должность, обвязанную рабскими путами. Впрочем, сама Грэйс Тейлор души не чаяла в своих заботах, и особенно горячо девица любила пристанище, куда по воле случая – без него не обходится бытие – забросила ее судьба.
Однажды жизнь Тейлор поровну разделилась на «до» и «после миссис Бристоль». В периоде «до» девушке приходилось отдраивать пол в дешевой пивнушке, за что ей кидали в день пару рублей. Скудного заработка едва хватало на оплату такой же нищенской комнатки и Богом посланного обеда. Оказавшись же под крылом «милосердной» Агаты, – та заприметила бедолагу с опущенными на жизнь руками, но горящими от нее глазами – Грэйс обрела не просто уютный кров и «достойное» жалование, но и чувство собственной значимости. За спасение собственной жизни Тейлор была в посмертном долгу перед женщиной, и отчасти поэтому в ходе рабочих часов служанка не знала покоя и добросовестно выполняла задания, подходя к ним с тщательностью ювелира.
Миссис Бристоль отбирала прислугу исключительно по признаку их любви к своему делу. Подмечая качество в жертве, Агата цепко хваталась за нее руками, не желая затем отпускать эти лакомые кусочки. Для них женщина не скупилась на щедрый оклад, ежегодно оплачиваемые отпуска и всевозможные премии, в довершении предоставляя работникам жилье.
И только финансами миссис Бристоль полностью занималась сама, даже близко не подпуская к счетам постороннюю душу. Доходы ей приносила сеть магазинов с элитной одеждой – расходы же уходили на выгулы этого гардероба. Кроме того, женщина держала акции нескольких крупных фирм и располагала парой кофеен как в Геттинберге, так и за его пределами.
– Катерина, не расскажешь ли ты о сестренке? – неторопливо выпуская очередную затяжку, спросила Агата. – Кроха, верно, уже подросла, – женщине по известным причинам не довелось застать ни появления малютки на свет, ни очаровательного ее взросления.
Катерина не без досады прервалась от созерцания городских пейзажей.
– Вы знаете, – эта женщина, этот идол величия, был для Рудковски совсем чужим, и потому обращаться к нему Катерина могла лишь почтительным «Вы», – при всей моей нелюбви к детям, Мелания – очень милый ребенок с задатком художника, скульптора и композитора разом. Творческая натура досталась малышке по праву рождения. Сестренка рисует прелестные картины, лепит затейливые фигурки и каждый день напевает придуманные ей симфонии.
Задумчивость Катерины сменилась переживанием воспоминаний, и лицо девушки вновь осветилось игривой улыбкой.
– Ты чертовски права, дорогая. Дети – очаровательные создания, но только до тех пор, пока находятся на достаточном расстоянии.
Катерина глянула на миссис Бристоль в смущении: голос женщины прозвучал в каком-то роде искусственно. «Уж не убеждает ли себя Агата, лишенная радости видеть взросление внучки, в своей неприязни к детям?»
– Что нового у Элеоноры? Все хорошо у твоей матери? – прочистив горло не то от последствий курения, не то от подходящего к нему кома, продолжила спрашивать Бристоль.
– Мама недавно лишилась работы. Теперь весь досуг ее заключается в том, чтобы облагораживать дом, заботиться об отце и воспитывать малышку Мелани, – Катерина прервалась. – Я думаю, мама вполне себе счастлива, – тон ее говорил об обратном.
С момента разлуки Агата и Элеонора не то что не видели одна другую, они в том числе не обменивались и звонками. Даже для обсуждения переезда Рудковски родители связывались с секретарем миссис Бристоль – женщина располагала и такой помощью.
Катерина, вдруг вдохновившись воспоминанием о семье, бездумно продолжила о них рассказывать.
– Зато дела папы наконец идут в гору. Ха, он, конечно, может утверждать, что прекрасно со всем справляется сам, но я-то знаю: ему ой как нужна моя помощь.
Катерина буквально сияла – память всегда играет на чувствах, оставляя доступными лучшие образы. Агата же радость не разделила. Одно лишь упоминание о Джозефе заставило тело Бристоль трястись в конвульсиях ненависти.
– Признаться, думала, твой отец по-прежнему днями лежит на диване, а ночью невзначай проверяет, плотно ли он закрыл бутылки дешевого алкоголя, – Агата никак не могла простить парню кражу Элеоноры. А потому, насколько хватало фантазии, она хлестала беднягу за все человеческие упущения.
Мистер Рудковски однако не был ни шалопаем, ни пьяницей. А лентяем мужчина казался оттого, что телевизор, рыбалка да выпивка – те немногие способы снять напряжение, о которых он знал. К тому же открытие магазина – этот мало-мальский успех вскружил Джозефу голову. Довольный собой и своими стараниями, он упал на диван и тем самым прикончил стремление двигаться дальше.
Разверстая рана Агаты заныла с прежней силой. Катерина же, подозревая, что наступила на мину, не могла избавиться от хаоса мыслей. Многоликие предположения циркулировали теперь в мозгу девушки, и она решила вскоре доведаться о причинах дерзких слов миссис Бристоль. Но не сейчас, когда женщины едва знали друг друга, и уж точно не прямо, но окольным путем.
Чтобы притупить заостренный угол беседы, Бенджамин, наблюдавший за девушкой в зеркало, неоднозначно спросил:
– Катерина, как Вам наш городок?
В этот момент «Poллc-poйc» лениво катился по одной из тех вымощенных камнем улочек, что одновременно вселяли спокойствие, обнажая размеренность горожан, и наряду с ним означали полную занятость. Хотя близился вечер, людей насчитывалось не особенно много. Будний день сообщал: свидания назначали одной лишь работе. А те несчастные, кого эта рулетка обошла стороной, неспешно прогуливались, страдая от подостывших к концу дня солнечных ванн. Их озаренные светлым помыслом лица носили печать наслаждения жизнью, и Катерина невольно прочувствовалась тем же самым в ответ.
– Весьма симпатичен, – совершенно правдиво ответила она Бенджи.
Девушку потрясало все: люди, здания, улочки. Казалось, она наконец-то нырнула в свою стихию. От города буквально пахло той почвой, что дает рост самым капризным, но невероятно прелестным растениям. А его жители, то окружение, в которое Катерина вот-вот окунется, являли собой благоприятное для цветка удобрение.
Энгебург, как та черная дыра, впускал в себя любых желающих, хотя их и пересчитывали на одном только выдохе. Выпускал же, что объяснялось постоянной нехваткой талантов, считанных единиц. Город, словно паук, расставлял сети, заманивал невинных жертв искусно сплетенной уловкой, а после цепко удерживал обездоленных в своих путах.
Энгебург не знал о таких вещах, как поощрение и поддержка – понятиях, какими движимы дарования. Он хотел получать выгоду и высасывал силы и радость до тех пор, пока новоприбывшие не теряли желание бороться. Город уже хорошенько забыл: за готовкой собственного обеда, крохи с кухонных шкафчиков падают даже снующим по норам мышам. Так подпитка талантов в конечном итоге приводит к выгоде для того, кто питает. Не видя же в этих причинах и следствиях логики, городишко лишал пищи мышей и, что естественно, самого себя.
В Геттинберг же, священную усыпальницу дарований, напротив, не было входа всяк желающему. Городок проводил ювелирный отбор поселенцев, и когда новичку доводилось примкнуть к старожилам, он проходил непростую проверку на обладание стойкости и стремления к жизни.
Главным требованием испытания являлось наличие страсти расти, находиться в движении, доверяться полету мысли, а после следовать проложенному ей маршруту. Для каждого, кто по какой-то причине об этих способностях забывал, жизнь в Геттинберге с его течением в океанский простор достижений становилась невыносимой. И впоследствии человек сам, затопленный энергией города, страдал желанием поскорее отсюда убраться.
В Энгебурге все, независимо от вложения в дело, получали по удивительно схожей награде. И наемный работник, восемь часов отсидевший на стуле, и его резвый брат, приносящий концерну огромный доход, зарабатывали почти идентичные суммы. Обстоятельство воспринималось как данность. Равенство означало равный оклад. И при этом едва ли кому было дело до того, что разница вклада походила на оную между бабочкой и цветком.
Оттого в городе так сложилось: мастер по дереву не стремился состряпать изделие лучше, прочнее, чем его сосед. Оттого инженер не хватался чинить неполадки вышедшей из работы машины или усовершенствовать ее ход. Горожане не порывались воспарить над своей головой, ведь какой в этом толк, если разный прыжок все равно означает схожий итог?
Геттинберг же воздавал по заслугам. Он выступал не за равенство, но справедливость. Город страждал битвы соперников, гонки за качеством, процветания каждого и, как следствие, себя самого целиком. Геттинберг поощрял преуспевающих и держал в хвосте тех, кто добровольно отпрянул от борьбы. В гонке за лучшей жизнью первые, совершенно на то не надеясь, приносили выгоду целому городу. Вторым мало что оставалось: поспевать или дать задний ход.
Стоило в Энгебурге очередному безумцу избрать отличный от общего путь вперед, в него летело столько насмешек, что тот испуганно пятился в свою нору. Когда же о нем забывали, а на тропе появлялась новая жертва, мишень менялась – и так по кругу. Насмешки и те, кто издеваются, подобны комарам: отмахнется один – они летят к другому. Таким образом Энгебург, зная о том или не зная, поддерживал баланс посредственности.
В Геттинберге же нестандартность мышления и особенность твоих взглядов на мир воспринимались почти за высшую в тебе ценность. Того, кто делился своими идеями, награждали вниманием и почитали. Словом, где была плодородная почва, там селился рассадник идей.
Энгебург занимался тем, что использовал и умерщвлял созидание. Геттинберг восхищался творением людей и вдохновлял горожан на создание нового. В Энгебурге выкрикивали пустяки, но молчали о важном. В Геттинберге пустой треп едва ли встречался, замещали его конструктивные обсуждения.
Такие параллели проходили между двумя мирами – городами почти физически ощутимых контрастов. Сравнение до того различных сущностей, может, и несправедливо: все уникально само по себе, – однако при этом полезно для понимания – читатель увидел, какая страница в жизни Рудковски перевернулась, а какая лежала под носом, напрашиваясь, чтобы ее поскорей прочитали.
– Да, город просто чудесный, – загадочно присовокупила к своему ответу Рудковски.
Справа от девушки находился архитектурный ансамбль городской ратуши – по левую сторону гуляли пьяные юностью, молодые парни и девушки. Август – время для лютой зависти взрослых. Дети, школьники и студенты – все они имеют честь наслаждаться заслуженным летним отдыхом, пока их родители, дяди и тети страдают в удушливых офисах.
Катерина смотрела на молодежь, к которой она надеялась принадлежать еще несколько счастливых лет, и, отзеркаливая их улыбки, сама растекалась в подобной. На расстоянии девушка вряд ли могла прочесть выражения лиц молодых людей, но вместе с тем Рудковски не сомневалась: она видит их мысли.
Минут через двадцать подъехали к дому Бристоль. И только здесь Катерина резко вдруг вспомнила про сильный голод и ощутила нытье затекших ступней и локтя.
Особняк находился, естественно, в частном секторе, но от соседских построек держался несколько отстраненно. Выйдя из автомобиля, Рудковски едва ли не вскрикнула: перед ней стоял не простой дом – дворец! Перед ним красовалась лужайка всяких ландшафтных изысков, а позади на гектар распростерся ухоженный сад.
Заметив благоговейное восхищение девушки, миссис Бристоль приобрела такое довольное выражение лица, словно она сама заложила здесь каждый кирпичик и в одиночку взрастила каждый куст.
– Экскурсия будет чуть позже. Сейчас тебе нужно поесть, отдохнуть, – позаботилась о Рудковски Агата.
Катерина, истощенная, даже не собиралась перечить. Она взяла несколько сумок у Бенджи, и женщины потихоньку направились к дому.
– Дорогая, тебе правда хотелось тащить с собой столько хлама? – одной рукой миссис Бристоль приобняла Рудковски, другой – заправила ей за ушко выбившуюся прядку волос. – Завтра же обновим тебе гардероб.
– О, ну что Вы, не стоит, – попробовала возразить Катерина. – Я не хочу создавать для Вас лишних проблем.
– Детка, неужели, сбегая от прежней жизни, ты и впрямь собиралась везти на себе ее пережитки? – женщина усмехнулась. – Не выкинув старое, ты не даешь войти в нее новому.
– Но я… – повинуясь вздорной привычке протестовать, начала девушка.
– Тсс, дорогая, никаких возражений, – миссис Бристоль жестом и словом приказала внучке молчать, и последняя, злясь на свою здесь беспомощность, молчаливо продолжила путь.
Внутренности дома соответствовали внешнему его облику. Вытянутый холл, будто масштаба длины было недостаточно, имел к тому же огромные потолки. Через весь вестибюль, гладко выглаженный, простирался красный ковер. «Наконец-то и мне доведется пройти по красной дорожке», – не без довольной ухмылки отметила Катерина.
Ковер упирался в белоснежную статую греческого бога. Девушка не особенно в них разбиралась, а потому всего-то и сделала, что повесила на изваяние ярлык «очаровательно». На фоне темного дерева комнатных стен божок напоминал Катерине пудру на пригоревшем сырнике, и ее невольно кольнуло воспоминание о доме и маме – ту в готовке любимого блюда девушки не превзойти.
Беломраморная статуя служила границей между двумя коваными лестницами, какие полуовалом бежали ко второму этажу. Перед первой ступенью с обеих сторон стояли антикварные вазы. Ручки ваз были выполнены не иначе из золота, а внутри их, не стыдя благородство металла, горделиво стояли бордовые бархатистые розы.
Внезапно в одной из классических арок, которые располагались по обеим сторонам холла и вели одна к кабинету миссис Бристоль, другая – в большую столовую, возникла мисс Тейлор.
– Миссис Бристоль?! А я и не слышала, как Вы вернулись. Я готовила ужин, – Грэйс неуклюжим движением поправляла растрепанную прическу. От лица ее веяло таким испугом, что Катерине захотелось даже ее приобнять.
– Все в порядке, дорогая, – деланно томным голосом отозвалась женщина. – Мы только вернулись и страстно желаем чего-то отведать. Верно, Катерина?
Рудковски, руки которой устали от клади, – поставить ее на сверкающий чистотой пол девушка и не думала – одобрительно покивала. Катерина и впрямь проглотила бы целый стол разом.
– Мисс Рудковски, простите мою задуренную голову, – Тейлор приблизилась к девушке – та опешила от подобного обращения. Служанка вела себя так, словно Агата была королевой, а Катерина – почтенной гостьей из уважаемых кругов. – Мое имя Грэйс Тейлор, но Вы можете звать меня просто Грэйс. Я помогаю миссис Бристоль по дому и кухне.
– Тогда и Вы называйте меня Катериной. Рада встрече, – Катерина приветливо улыбнулась и попыталась подать служанке руку. Впрочем, жесту всперечила стокилограммовая сумка, что, повинуясь закону всемирного тяготения, неумолимо отбросила хрупкую ручку назад.
Миссис Бристоль многозначительно глянула на багаж, затем на перепуганную чем-то горничную, и последняя, истолковав безмолвный приказ, обратилась к Рудковски:
– Позвольте я помогу?
– Нет, что Вы, не стоит.
Держать вещи стало уже физически больно, но обременять эту тощую мисс Тейлор девушка не хотела. На счастье обеих, в дверях показался запыханный Бенджи.
– Мисс, Вы к нам, я вижу, навечно? – то ли спрашивал, то ли утверждал, пыхтя под увесистой грудой поклажи, помощник.
– Навсегда и днем больше, – немного резче, чем намеревалась, съязвила Рудковски.
Внутренняя усталость, раздражители извне – все это вынудило девушку попрощаться с желанием быть вежливой. Что до небрежно брошенных шуток, этих назойливых оводов Катерина не переносила.
На дерзость Рудковски Бенджамин с удивлением поднял брови, однако, совсем не желая открыто перечить, подошел к ней, с ехидной улыбкой и «разрешите?» взял сумки и принялся по двум-трем спроваживать их наверх.
– Бенджи отнесет чемоданы в твою комнату, дорогая, – заверила девушку миссис Бристоль. Катерина чуть подрасслабилась, решив не обдумывать пока тот факт, что ей уже выделили комнату.
Через бесконечные десять минут четверо домочадцев – не пришел лишь садовник – сели за стол, чтобы полакомиться долгожданным ужином (или, в случае Катерины, обедом). За мистером Боуи сегодня значился выходной, и, хотя старичок и жил здесь в отдельном домике, выходные он проводил, гуляя по улочкам Геттинберга.
Длина стола равнялась едва ли не оной комнаты, но, словно натянутые отношения между голодными не являлись достаточным расстоянием, те расселись по противоположным сторонам гиганта. Позже к ним подоспела Грэйс: главной обязанностью служанки было не поглощение пищи, но ее своевременная подача.
Блюд на столе стояло великое множество, и Катерине сделалось как-то неловко: ее приезд в такой мере стеснил людей! Однако смелое предположение девушки о важности своей персоны являлось не более чем заблуждением. На деле подобное число яств грудилось на столе всякий раз, когда миссис Бристоль желала откушать.
Многообразие блюд объяснялось следующим. Капризная душа Агаты отказывалась есть, что дадут, и могла десятки минут выбирать лишь одно или, в редких случаях, два наиболее ей приглянувшихся блюда. Впрочем, избирательность хороша до тех пор, пока та не стала капризом. Тогда совладать с чертой очень сложно, а сосуществовать – невозможно.
И хотя тешиться ароматами и видом пищи можно было часами, Катерина до того проголодалась, что наспех умяла ближайшее к ней блюдо – запеченную индейку с овощами. С такой скоростью горящее пламя пожирает бумагу. Девушку не заботило, как она выглядит со стороны, а за нависшее над столом молчание она даже почувствовала благодарность: не пришлось отвлекаться от стоящего занятия.
В то время как внучка уже закончила блюдо и сейчас энергично терла салфеткой лицо, – спешка есть враг аккуратности – миссис Бристоль по-прежнему пребывала в раздумьях о том, чему со стола отдать предпочтение. Наконец, она сделала выбор на странном салате, и мисс Тейлор подала хозяйке порцию, строго ей обозначенную. Затем служанка, вернувшись на место, принялась исподлобья следить за впечатлением Агаты.
Сперва все шло на изумление гладко. Миссис Бристоль запустила серебряную вилку в рот и, прикрыв глаза, издала блаженный стон – верный признак того, что блюдо пришлось по нраву. Но вдруг лицо женщины исказила уродливая гримаса. По спине Грэйс пробежал холодок, в голове разыгралась симфония взбудораженных мыслей.
Раскаменев, опустив прибор на тарелку и тяжко сглотнув, миссис Бристоль голосом дознавателя уточнила:
– Дорогая, ты добавила в салат яйца?
Женщина смотрела на Грэйс так пристально, как следит за играющим у воды ребенком мать – краска с лица мисс Тейлор стремительно исчезала. От неприкрытого натиска горничная помертвела. «А на закуску она оставила осинку-Грэйс», – подумала Катерина. Осинкой она нарекла Тейлор оттого, что, во-первых, последняя отличалась болезненной худобой, а во-вторых, она тряслась от любого слова Агаты, будто листья осины.
Водителю миссис Бристоль давала капризничать в разы больше, чем своей горничной. Вернее, мисс Тейлор и вовсе не дозволялось выказывать недовольства. Если Бенджамин мог огрызаться, пусть и в шутливой манере, стоило Грэйс напортачить с обедом или пропустить полосу пыли, как женщина тотчас окатывала ее возмущением. Что занятно – ни одного замечания Агата не делала криком, хотя прислуга молила об этом: куда легче вытерпеть окончательный приговор, чем терзаться догадками о корнях упрека.
Мисс Тейлор ко всему прочему смертельно боялась разгневать хозяйку, ведь девушка стольким была ей по жизни обязана. Не появись в ее жизни Агата, одному Богу известно, где ошивалась бы сейчас Грэйс.
– Боже мой, миссис Бристоль! Я, наверное, закрутилась. Мне так хотелось скорей приготовиться к приезду гостьи, – Грэйс непрерывно сыпала оправданиями, голос ее дрожал.
– Довольно, не мямли. И впредь будь повнимательнее, – снизошла, грузно выдохнув, Агата и через время, уже смягчившись, присовокупила: – Пожалуйста.
– Конечно, конечно! – словно ей только даровали не просто прощение, но саму жизнь, Грэйс воспрянула духом. – Желаете что-то еще?
– Благодарю, на сегодня мы сыты, – женщина вопросительно посмотрела на внучку и, получив в ответ одобрительный, скромный кивок, вышла из-за стола. – Дорогая, пойдем. Я провожу тебя в твою спальню.
Боясь перенять участь Грэйс, Катерина спешно проследовала за Агатой. Ее спальня, как и оная миссис Бристоль, а также еще несколько комнат, на осмотр которых у девушки не имелось ни сил, ни желания, приходилась на второй этаж.
«Вот и царское ложе», – Катерина смущенно, прилагая недюжинные усилия, улыбалась в ответ на речи Агаты. Девушка слушала красноречия и не слышала их: она страждала поскорее упасть и вдохнуть в себя сладостный сон. И хотя перед гостьей стояла кровать королевской роскоши, – с красным бархатным покрывалом, балдахином из золотисто-бежевого штофа – в том состоянии полусна, в котором сейчас пребывала Рудковски, она согласилась бы на постель из обычного стога сена.
Еще позже, оставшись одной, но еще не успев потонуть в таинственной глубине сна, Катерина на миг вдруг дерзнула подумать о будущем – то одновременно страшило и волновало, влекло ее и будоражило. Только где же набраться сил, чтобы ужиться с выходками миссис Бристоль? Как заставить себя уважать чужие правила?
Что ж, Рудковски сама обозначила для себя этот путь, и пройтись по нему стоит хотя бы для разнообразия. К тому же девушку в невероятный восторг привел факт: за всеми причудами миссис Бристоль и изюминками Геттинберга она совершенно забыла подумать о Генри.
Все это осталось теперь в Катеринином прошлом. Сейчас, покорившись выходкам настоящего, необходимо уверовать в будущее – искусного лоцмана человеческих жизней. И хотя то обнимал беспросветный туман, а Рудковски плыла по нему на ощупь, девушка знала: она непременно окажется в нужном ей месте в нужное время.
С такими надеждами Катерина вырвалась из хитросплетений лукавого дня.
Глава 2. Новая жизнь полна неожиданностей
Катерина проснулась по наитию рано. Ее переполняло чувство того, что происходящее накануне было лишь сказочным сновидением, наполненным призраками иллюзий. Боясь спугнуть затянувшийся сон, Рудковски не открывала глаз, но ладонями провела по постели. «Что ж, по крайней мере ложе реально». На всякий случай она больно прикусила губу, и, убедившись, позволила наконец глазам открыться.
Представ перед опьяненной усталостью девушки накануне, комнатушка не произвела на нее вау-эффекта. Сегодня же, распластавшись в ногах с головой отдохнувшей гостьи, покои стократно восполнили упущение.
Взгляд Катерины перебегал с обрамленных в золотые рамки картин на белые шкафчики, сделанных в стиле барокко; с чуть более грязного цвета, но такой же отделки кресел на очаровательный туалетный столик, стоящий по правую руку от девушки. Поковырявшись в памяти, Рудковски вытащила из нее убранство холла, с его греческим богом и вазами, и тихонько хмыкнула: «Меня, кажется, закружило в водовороте культур и столетий».
В отличие от первого этажа, покои второго были возведены из светлого, почти белого дерева. Благодаря контрасту создавалось ощущение, словно дворец аккуратно, будто тот – кусок шаткого торта, разделили на рай и ад. Причем ад, как и полагается, пролеживал на низах. Он представлял собой дом для прислуги и вмещал в себя комнаты бытовой направленности. Рай же служил в основном приютом для покоев миссис Бристоль, а также гостей, остававшихся у нее крайне редко.
Катерина прервала пассивное созерцание обстановки. День предвещал такое число интриг, тайн и загадок, что небрежное отношение к ограниченным его минутам казалось ей высшим грехом. Не то чтобы девушка являла собой воплощение набожности. Напротив, она не терпела настойчивых поучений матери об исключительной силе религии и при случае непременно язвила. Мол, та, видно, хочет пробраться в рай без собеседования. Рудковски не уставала повторять: «Есть рабы, скованные цепями, а есть те, чьи кандалы – одна из религий».
В то же время, как ни иронично, существовали и перекрестки, на которых мировидения Катерины сталкивались с оными библии. И та, и другая, хотя и в различных проявлениях, презирали леность и праздность. Библия утверждала: лень приводит к духовной, а после и физической смерти. Девушка вторила ей, свысока глядя на тех, кто позволял себе хоть минуту безделья.
Впрочем, так случалось в первую очередь оттого, что Рудковски не могла позволить эту же вольность себе. Многие годы назад она воспылала целью каторжного труда. Причем и того, который приносит деньги, – физического, и другого, духовного – какой сокрыт в воспитании себя. И теперь, строго следуя клятве, необдуманной, несущей губительные последствия в виде отстраненности от настоящей жизни, девушка слепо плыла по определенному ей же существованию.
Для того чтобы у нее хватало сил на дневные подвиги, Катерина всегда начинала день с завтрака. Неплотного, состоящего зачастую из чая и булочки, но питающего тем не менее ее худое тело. «Лишь насытившись, утолив базовую потребность, можно взяться за стремление к возвышенному», – повторяла частенько девушка.
Привыкшая к простеньким, посредственным утренним яствам, Рудковски впервые готовилась к ним с предвкушением необычного. Пища, подаваемая в стенах этой роскоши, никак не могла быть обыденной.
Катерина шустро впрыгнула в любимый наряд – черный топ и молочные брюки. Предметы одежды с грохотом провалили попытку соединиться друг с другом и кокетливо оголяли теперь ее талию. Подобным образом девушка одевалась, если к тому располагала торжественная приподнятость духа или когда намечался любой выход в свет. Первое условие выполнилось из-за пробуждения в очаровательных покоях – шанс для второго не замедлил бы подвернуться, столкнись Рудковски с авантюристкой Агатой.
Почти вприпрыжку спускаясь по лестнице, Катерина надумала себе и ароматы, и очертания. «Вероятно, на завтрак подали пирог. Вишневый, нет яблочный. И, наверное, эта Грэйс уже сбегала за горячим, хрустящим багетом. К нему подадут несколько видов джема – Агате ведь не угодишь, они будут стараться. Боже, если я сейчас не поем, я удавлюсь своей же слюной». Такими переживаниями сопровождался короткий путь Катерины.
Дойдя до арки – проводницы в мир кушаний, девушка остановилась, словно желая помучить себя еще больше и разогреть аппетит до полного его кипения. Она закрыла глаза, сделала глубокие вдох-выдох и с улыбкой на лице и трепетом на сердце шагнула в комнату чревоугодий.
Благоговейный восторг Катерины сменился на неприкрытое разочарование, когда вместо стола, заполненного, как накануне, всевозможными яствами, она застала за ним лишь вальяжно курящую миссис Бристоль. Девушка искренне верила, что предстанет к завтраку раньше всех – под взглядом бабушки она могла только невольно дергаться, не говоря уже о поглощении пищи. Но если Рудковски и баловалась привычкой подняться рано, Агата, казалось, пробуждалась, едва забрезжит заря. Причем в отличие от немощных стариков, которые просыпаются до рассвета, потому что на пару с ними устаревают и их биологические часы, ранний подъем миссис Бристоль был многолетней привычкой.
Стоя промеж навевающего мысли об одиночестве стола, на противоположном краю какого ютилась такая же одинокая женщина, и длиною почти во всю стену окон, что пропускали первые лучи солнца, девушка ощущала себя горной ланью – хищник загнал ее в смертоносную долину. Ущелье, еще недавно питавшееся властью ночи, медленно избавлялось от робости перед тайнами темноты и мрака. Оно наполнялось утренним светом, который обнаруживает картину во всей ее полноте, а значит, рассеивает страх перед до сих пор неизвестным.
Катерина смотрела на миссис Бристоль, не лишенную грациозности движений даже в таком простом действии, как курение, и слепла от ее сияния. Казалось, свечение проступает не от окон, а от самой женщины. Помимо сигарет рядом с миссис Бристоль стояли той же изящности бутыль вина, искрящегося при отовсюду льющемся свете, и бокал – гостиница для того же напитка.
– Доброе утро! Простите, я помешала. Я не знала, что Вы так рано встаете, – Катерина сочла невежливым вторжение в бабушкину зону недозволенного, а потому решила приукрасить нахальство старой как мир вежливостью.
На лице миссис Бристоль проступила загадочная улыбка, но смотрела женщина не на внучку, а куда-то в стену. И Катерина, повинуясь инстинктам, мельком проверила, нет ли там чего волнующего.
– Чем раньше я проснусь, тем дольше проживу, – выдав конструкт из нелепости и мудрости одновременно, миссис Бристоль еще сильней заулыбалось и жестом пригласила Рудковски за стол. Девушка и не думала ей перечить.
– Ну что, Катерина, готова ли ты сегодня попробовать новое?
Женщина взгромоздила оба локтя на поверхность стола, одной рукой раскачивая наполовину выкуренную сигарету, а кистью второй подпирая локоть первой. Рудковски присела рядом, и, словно этот промежуток не являлся достаточной близостью, Агата к тому же наклонилась в сторону девушки.
– Пускай новое ко мне готовится, – слегка самоуверенно произнесла Катерина. – Я только позавтракаю, и моя энергия его задавит.
Миссис Бристоль захохотала. Рудковски подумала, что причиной тому послужила уверенность девушки в своей персоне. Она ошиблась.
– Дорогая, пищу не следует поглощать авансом. Завтрак необходимо заработать физическим трудом.
Катерина смущенно поершилась.
– Мы не будем завтракать? Извините, но не рано ли в этом случае для вина? – недовольство Рудковски переходило в злость и протеста. Миссис Бристоль, напротив, не поменялась в лице. Она по-прежнему, как та роза в саду, цвела и пахла.
– Ну, детка, не говори ерунды, – тон ее звучал так, будто девушка просчиталась в чем-то банальном, а Агату, ее наставницу, колыхнуло волной досады. – Завтракать мы, естественно, будем. Только не здесь и не сейчас. Даже прислуга начинает работу значительно позже: я не требую от нее утренней готовки. А наряды – те лучше садятся, если мерить их на пустой желудок, – миссис Бристоль остановилась, словно вспоминая, на что она еще не дала ответа, и вдруг, точно прозрев, опомнилась: – Что до вина, каждый пьет напиток в свое время, – женщина бросила на Рудковски многозначительный взгляд.
Ситуация Катерину немало злила. Впрочем, что она могла сделать и какие решения принимать, находясь в чужом монастыре с окончательно утвержденным уставом?
В начале десятого женщины уже шагали, взяв друг друга под руки, по медленно оживающим улочкам Геттинберга. До городской черты ранние пташки доехали с мистером Уильямсом – дальше Агата настояла на пешей прогулке. «Ежедневная ходьба не даст твоим костям зачахнуть и рассыпаться, колыхни их порывистый ветерок». Катерине такая раскачка была в радость: прогулки окрыляли Рудковски, наполняли силой, энергией, возбуждали ее и без того игривое воображение.
Перед выездом миссис Бристоль, сама облаченная в новый великолепный наряд, добилась от внучки, чтобы и та «вырядилась во что-то приличное». Рудковски послушно натянула простенькое (для Агаты), но удобное (для самой девушки) платьице – не имей оно инкрустации жемчугом, платье вполне бы сошло за домашний халат.
Хотя Катерина привыкла всегда одеваться с иголочки, в платьях для этой миссии девушка не нуждалась. Ношение традиционно женских одежд не являлось привычкой Рудковски, так что теперь она чувствовала себя вдвойне неловко: во-первых, платье сковывало ее энергичные жесты; а во-вторых, Катерина не уставала сравнивать себя с бабушкой, чьи наряды выглядели куда солидней и сидели на женщине гораздо более «ловко». Тем не менее, деваться ей было некуда, и девушка изо всех сил пыжилась, скрывая дискомфорт.
– Это здание ратуши, а это – первый открывшийся здесь театр, – указывая на строения, с гордостью представляла сокровища города миссис Бристоль.
Катерину искренне восхищала живость построек. В Энгебурге здания красили в основном в траурные тона. Стоило яркому, красочному домишке встрять между ними – и его тут же, будто умышленно, уродовали рекламными вывесками, дешевыми и кричащими.
В архитектуре же Геттинберга читалась гармония. Каждое здание было в той же степени компактно и прелестно, как и все они в совокупности. Рудковски исчерпывающе описала сооружения следующим образом: «На них хотелось смотреть, смотреть неотрывно». Не без светлой тоски отметила Катерина и то, что Карла обязательно заставила бы подругу сделать для нее миллион фотографий, чтобы после на зависть публики запостить их в свой аккаунт.
– Катерина, детка, прости мне мою грубость, но я так и не поинтересовалась целью твоего приезда. Что заставило тебя бежать из Энгебурга?
Катерина ждала подобный вопрос, а потому заранее тщательно продумала ответ на него. И все же, услышав его, Рудковски замялась, открыла рот, порываясь что-то сказать, а после, точно обуздывая саму себя, вернула его в обратное положение. Лишь спустя время она неясно ответила:
– Хотела сменить обстановку.
Смышленый сержант распознал бы причину на раз. Агата, к несчастью внучки, являлась заслуженным здесь генералом.
– Ах вот как, – миссис Бристоль не стала торопить девушку с покаяниями и наседать на нее с обвинением в голословности.
– Да, я переросла то окружение, в котором когда-то чувствовала себя комфортно. Я не утверждаю, что все эти люди остались на месте. Они тоже росли, но в другом направлении.
В общих чертах Катерина не лгала: девушке правда наскучило старое общество. Однако резон этот числился в списке второстепенных. На деле Рудковски бегством спасалась от Генри, боясь, что от встречи с ним ее сердце разорвет на кусочки.
– Ну вот, дорогая, мы и пришли. Геттинберг только с виду такой необъятный. На деле же, если ты точно знаешь, куда идешь, и до детали прокладываешь маршрут, ты непременно достигнешь намеченной цели.
Женщины оказались перед стеклянной витриной, где на них свысока посматривали три волшебных платья. Одно из них, бальное, при желании могло стать свадебным. Должное оголять чью-то не лишенную изящества спинку, оно ювелирными вставками и жемчужным бисером так ярко отражало солнечные лучи, что казалось, платье уподобилось водной глади, на которую ниспадал луч полуденного светила. И лишь его цвет был не лазурно-морской и не иссиня-океанский, но скорее походил на жар детских щечек, разрумянившихся от мороза.
Его соседи смотрелись чуть поскромнее, но аккуратность не умаляла их шика. Напротив, за отсутствием лишних брошей да рюшей платьица выглядели вполне статусно. Белое не имело бретелей и рукавов, если не считать за оные два больших белоснежных «фонарика», начинающихся от груди. Доведись платью повстречать «ту самую» свою хозяйку – оно облегало ее стан, подчеркивая все достоинства женщины: от грациозных ног до полуобнаженной груди.
Не уступающий ему собрат цвета свежего гранатового сока придавал облаченной в него даме твердости и спокойствия. Разлетаясь от талии, он закрывал тонкие ножки женщины, превратившейся в девочку, до самых щиколоток. Впрочем, стоило непоседливому ветерку пронестись мимо наряда, как платьишко тут же летело вслед за обидчиком. Противясь, хозяйка силилась вернуть подол на место и удерживала его худощавыми ручками – те обрамлялись столь же летящими рукавами.
На этих «скромняг» и пал не без содейства Агаты выбор Рудковски. Решив, что свадьба – торжество абсолютно с ней несовместимое, девушка не преминула однако купить наряды, в которых ей было не стыдно разгуливать рядом с бабушкой. А заверившись комплиментами женщин из ателье, Катерина рассталась со страхом выглядеть в непривычных одеждах нелепо.
Приободренная видом себя в несвойственных, но таких приятных глазу нарядах, девушка звонко защебетала, обращаясь то к «прелестной» работнице с именем Сьюзан, то к довольной красотой внучки Агате:
– Боже, какой замечательный магазинчик! Его хозяева, я уверена, не жалеют ни сил, ни денег.
– Хорошее качество радует больше низкого ценника, – хитро усмехнулась Бристоль и, перешептавшись с работницей, сообщила: – Торжествуй, Катерина, идем на завтрак. А перед ним полюбуемся красотами городского парка, – Агата поднялась с кресла. – Благодарю Вас, – обратилась она к работнице и направилась к выходу.
– Погодите, мы не оплатили покупку, – воскликнула, обеспокоенная не то рассеянностью Агаты, не то предполагаемой ценой платьев, Рудковски.
– Дорогая, здесь все было оплачено еще до того, как материалы сюда привезли. Что до платьев, я скажу Бенджи, чтобы он за ними заехал, – миссис Бристоль таинственно подмигнула Сьюзан. Та широко улыбнулась в ответ.
– Носите на здоровье, – она дала напутствие девушке, а после спросила Агату: – Новые выкройки ждать в воскресенье?
– Да, Сьюзан. У них, как всегда, заминки с транспортировкой. Честное слово, еще одна такая задержка – и я нанесу этим бездарям личный визит.
Рудковски опешила. Сцену в ателье нажали на паузу. В мозг девушки, словно вредной искрой из камина, брызнула дикая мысль. Катерина бросила пытливый взгляд на Сьюзан, а затем выжидающе посмотрела на бабушку. Агата, не давая ответ на безмолвный вопрос, лишь кратко кивнула – значение вычлени сам.
Покидая загадочный магазинчик, Рудковски украдкой скользнула по вывеске – та гласила: «BrigAtta», явным образом намекая на скаламбуренное имя Агаты Бристоль. Катерине вдруг вспомнился совет Бенджи: «Не удивляйся, а привыкай», и она решила оставить бабушку без вопросов, каких накопилось уже на подробное интервью.
Домом парку, как это ни странно, служил самый центр города, и женщины находились сейчас на полпути к его зеленому жителю. Катерину поражала та аккуратность, с которой создатель подошел к Геттинбергу. Даже если не заострять внимание на незаконной красоты улочках, засаженных цветами и напрочь лишенных мусора, город легко возбуждал поэтическое воображение у всяк сюда приходящего.
В нем не стояло уродств в виде заброшенных строек, каким так и не посчастливилось стать возведенным зданием. Не наблюдалось здесь и облупившихся стен, давно отживших свой век. Напротив, городок искрился свежевыкрашенными домишками. Они обращали на себя взгляд мечтателя и безобидно жались друг другу, превращая прохожего в наблюдателя за рождением влюбленности.
В отличие от городов, чьи улицы змеились и, путаясь между собой, заставляли гостей блукать, улочки Геттинберга разбегались в стороны под линейным углом. Их проложили столь хитрым образом, что, стоя в начале одной из дорожек, внимательный пешеход мог заметить конечное здание, громоздившееся на другой. Словом, чтобы заблудиться среди прямых, строгих линий, требовалось постараться.
– А вот и парк, – миссис Бристоль окинула сквер рукой. – В летнюю жару он не иначе оазис в геттинбергской пустыне.
Парк и вправду бурлил жгучей страстью к жизни. И хотя час был довольно ранний, солнце уже припекало вылетевших с первым лучом его странниц. Вступив же в чертоги зеленых растений, которые хороводами окружали гостей, посетители окунались в такую прохладу, что даже невольно ежились, будто на улице стоял ноябрь.
Схема Геттинберга не имела изгибов – повиновался закону прямых линий и парк. От самого его начала струились параллельные тропы пушистых аллей. По сторонам дорожек росли высокие туи, а кое-где в них затесались липы и клены, насчитывающие не одну сотню лет. В середине парка, укрытое от пешеходов кустарниками, раскинулось неглубокое озеро. Его водных просторов с лихвой хватало, чтобы уместить в себе и осторожных уточек, и грациозных, уверенных в себе лебедей.
– Да, детка, – Катерина все еще не могла свыкнуться с тем, что Агата влетает в ее пространство для мысли небесным громом, – сегодня возвращается мистер Боуи. Ты помнишь, как в детстве он часто катал тебя на телеге, нагруженной сеном? О, это зрелище не оставляло равнодушным ни одного наблюдателя, – женщина заимела такой вид глубокой мечтательности, словно душа ее откатилась на многие годы назад.
– Правда? – в искреннем удивлении вскинула брови Рудковски. – Жаль, что я так мало помню о детстве…
– К сожалению, мы и впрямь очень редко помним первые годы. Позволь мне побыть твоим проводником в отдаленный мир детства.
Агата не спрашивала, она утверждала, и Катерина покорно кивнула.
– Мистер Боуи души в тебе не чаял. Он работал в моем саду еще до женитьбы Элеоноры и Джозефа. Мой муж умер и того раньше, а справиться с садом таких масштабов мне самой, работающей от зари до зари, было не под силу. Вот я и наняла мистера Боуи, тогда зрелых лет мужичка, который перебивался скудными заработками, но не жалел ни копейки на цветущие на его окне азалии – цветки особенной прихотливости. Случись неопытному цветочнику на градус отклониться от должного за ними ухода, как цветки тотчас гибнут. У мистера Боуи же эти капризные баловни благоухали.
Трепетность к своему делу – вот качество, какое меня дурачит и какое становится точкой в моем решении. Я предложила ему работу, подсластив должность жалованьем – о таком, будь уверена, мужичку и слышать не доводилось. Любимое занятие, поданное под соусом щедрого оклада, есть блюдо, отщипнуть кусок которого не преминет даже пресыщенный. Что говорить об изголодавшемся?
Мистер Боуи трудился на двести процентов. Мужичок просыпался раньше меня, а когда он ложился, мы так и не поняли. Сад находился в кладбищенском запустении, но мистер Боуи, будто волшебник, сумел вдохнуть в него жизнь. Садовник обнаружил покинутые руины и возвел на них в каком-то роде дворец.
За долгие годы мужчина стал подлинным членом семьи, и тебя он воспринял как родную внучку. Подравнивая траву в своей сокровищнице, он грузил ее груды на маленькую тележку и увозил в специальное, им отведенное место. Мистер Боуи утверждал: растительность, перегнивая, превращается в удобрение, и оно творит настоящее чудо с его цветками. Поверх этой травицы он усаживал и тебя. Ты так щебетала и смеялась настолько заливистым смехом, что живущие в саду птички видели в тебе конкурента.
Пышная зелень приводила в восторг Катеринины глазки, рассказы про детство – навостренные ушки. Рудковски казалось, она одновременно читает книгу, подслащенную пламенным красноречием, и слушает к ней профессионально записанную звуковую дорожку.
Катерину искренне огорчала утрата собственных воспоминаний, но вместе с тем приятно тешила и возможность их возвратить. Так, предаваясь знакомой ей светлой грусти, Рудковски плыла среди трав и деревьев, не вспоминая ни о недавних своих заботах, ни о терзавшем ее с утра голоде.
Но миссис Бристоль не думала ее обманывать – кафе поприветствовало дам, едва те покинули городской сквер.
– Нам сюда, – легонько поддернув девушку за руку, Агата направила ее в сторону заведения.
Перед входом девушка задержалась. Ее внимание привлек не лишенный уюта экстерьер кофейни: подвесные кашпо с пурпурными фуксиями; коврик, гласящий: «Make yourself at home!»4; миниатюрный фонарик – все это располагало к дружественной посиделке и разговорам, катающимся по душам.
От уютно оформленных декораций в груди Катерины разлилось приятное масло. В животе промелькнул волнующий трепет. Рудковски уже собиралась ступить в манящие к себе владения, но вдруг ощутила себя грубиянкой. Разве дозволено позаряться на чужую территорию, не спросив даже имя хозяина? Девушка смерила вывеску взглядом, и едва не нырнула в обморок – на дощечке парило известное ей «La clé».
Катерина явно почувствовала, как глотка сжалась в попытке не выпустить на волю крик. Разум девушки отказался вручить ее достойное объяснение происходящего. Рудковски никак не могла ошибиться. Ее ослепило, но девушка не ослепла – на табличке золотистым по светло-древесному было высечено «La clé».
– Дорогая, у тебя все хорошо?
Как случается всякий раз, когда жизнь швыряет в тебя потрясение, Катерина и думать забыла про ход и бег времени. Миссис Бристоль же, встрять на входе, не преминула напомнить девушке о своем присутствии.
– Да-да, я просто… – заикаясь, попыталась прийти в себя девушка. – Извините, иду.
Она еще раз мельком окинула вывеску – та, раскачиваясь от порывистого ветра, издавала писк. В этом звуке Рудковски считала насмешку над собственным сумасшествием, но, решив, что повадки ее, как минимум, странны, перехватила дверь и скорее зашла в помещение.
Девушка не могла не отметить: эта «La clé» выглядела представительнее, чем ее сестра из Энгебурга. «Если допустить, что кофейни принадлежат все же одной сети, не является ли геттинбергская главной?»
– Как тебе, Катерина? – вопрос, казавшийся женщине риторическим, прозвучал тем не менее с намеком на восторженный ответ.
– М-м… довольно мило, – насильно выдавила из себя Рудковски.
Не то чтобы миссис Бристоль осталась довольна скромной репликой Катерины, но омрачение первого дня ее внучки на «родине» не входило в планы.
Следуя наставлениям коврика, который покоился у двери, женщина вела себя точно как дома. Она поприветствовала всех, кто им с Катериной встретился, и победоносной походкой направилась к столику у окна. Сцена разворачивалась так, словно посетители собрались здесь на праздничный бал и ожидали не что иное, как снисхождение к ним его хозяйки. На мгновение девушка даже забыла о том, что печалило ее разум, но, усевшись в уютное, мягкое кресло, она снова предалась глубоким раздумьям.
– Миссис Бристоль, мы Вас не заметили, – подоспела к столику рыжеволосая официантка.
Она убрала табличку «Reserved»5 и вручила «гостьям» меню. Надпись на нем отвлекла Катерину от сервиса и вогнала в сравнения – в энгебургском «La clé» клиенты обслуживали себя сами.
– Как у вас дела, Маргарет? – добродушно спросила Агата. Катерина смотрела на девушку исподлобья.
– Все замечательно, миссис Бристоль! – восторженно начала официантка. – Правда, вчера один из посетителей заявил, что ему продали каменный круассан… – она запнулась, но, заметив, как поползла вверх бровь миссис Бристоль, спешно добавила: – Но мы разрешили конфликт и остались без жалоб, – закончив, Маргарет затрясла головой, будто без жеста слова ее не имели веса.
По ответу работницы Катерина смекнула: спрашивая о делах, бабушка обращалась не к самой девушке, но ко всему персоналу. Волнение Рудковски стало стремительно перерастать во всепоглощающий страх. Девушка не могла объяснить мотив чувства, но нутро ее словно шептало: «Агата командует пусть и не целым Геттинбергом, но значительной его частью».
Еще бо̜́льшие беспокойства пробудил в Катерине список вопросов:
1) правда ли миссис Бристоль – хозяйка «La clé»?
2) существует ли нить между двумя кофейнями, или название – это чистой воды совпадение?
3) если связь все же имеется, зачем женщине вдруг понадобилось открывать «благородное» заведение в недостойном его Энгебурге?
Эти вопросы кружили вокруг Рудковски назойливыми комарами, и девушке не удавалось от них отмахнуться.
– Могу я принять ваш заказ? – Маргарет с осторожностью обратилась к Агате и Катерине.
– Да, дорогая, – отозвалась миссис Бристоль. – Будь так добра, принеси нам, пожалуйста, по миндальному круассану. Для проверки на черствость и хорошего настроения моей компаньонки, – Агата таинственно подмигнула внучке. – На «второе» мне латте, а девушке…
– Чай, – обрубила заказ Катерина.
– Заказ принят. Ждите, пожалуйста, – отчиталась Маргарет и удалилась.
Агата смотрела на внучку, то опускающую взгляд, то устремляющую его же на причудливую деталь интерьера, и умилялась. В детстве девчушка страдала застенчивостью, проявляюшей себя исключительно в незнакомых компаниях. Тогда Катерина терялась, лепечущий рот ее закрывался, а сама девочка пряталась за юбку бабушки. Когда же девочка постепенно знакомилась с обстановкой, язычок ее вмиг развязывался и слова, насколько позволял малышке возраст, лились сплошным бессвязным потоком.
Сейчас Катерина сидела угрюмой как тень, и миссис Бристоль ужасно расстраивал факт, что они теряют возможность забавной беседы.
– Дорогая, нельзя держать переживания в себе. Они прорастают в тебе, как больной зуб, который долго томится, а потом, незалеченный, причиняет тебе нестерпимую боль, – Катерина подняла на миссис Бристоль глаза, и та продолжила: – Возьмем в пример ненависть. Когда мы терпеть не можем оппонентов, о, какой силой, какой властью над нашей терпилой-душой мы их наделяем! Мы не спим, не едим – они захватили наш ум без остатка. Сколько удовольствия наши враги испытали бы, доведись им узнать, как мы мучимся. Причем даже без выходок с их стороны – от одного факта их наличия.
А мы что? Отравляемся собственной злобой, она пожирает нас изнутри. Чувству вручают жилплощадь в телах, и оно распространяет по нашим клеточкам ядовитые вещества; стучит в дверцы наивных органов, а когда те, обманувшись, впускают его, разжигает в них неизлечимую хворь.
Это смерть, Катерина, смерть медленная и мучительная. Все от гордыни, высокомерия, будто это другие не могут справиться в одиночестве, но вот ты обязательно сможешь сама. Такой подвиг не стоит затраченных жертв. Затоптав чувства, ты от них не избавилась – отодвинула на задний план. Они неизбежно себя проявят, хотя ты и силишься удержать резвых лошадок в тугой узде. Так что будь аккуратна, дорогая, и помни: делиться душевными муками совершенно законно. Если не знаешь с кем, начни с меня.
Миссис Бристоль ужасно хотелось облегчить ношу Рудковски. Она порывалась вывести внучку на разговор. К несчастью Агаты, ответить девушке не удалось. К собеседницам подоспела официантка, и на этот раз на руках ее красовался деревянный поднос.
– Благодарю, – отвесила женщина, откликаясь на поданные ей круассаны с напитками. От Катерины до Маргарет долетело нечеткое, сухо-вежливое «спасибо».
– Катерина, поверь мне, видавшей виды: таких вкусных напитков тебе не подадут больше нигде. Однажды испив чашечку чаю-кофе в «La clé», ты навсегда забудешь дорогу к невзрачным «кафешкам».
Девушка начинала уже привыкать к словотворчеству бабушки. Миссис Бристоль имела талант нарисовать словами почти живую картинку. Она брала за основу стихийную массу слов и лепила из хаоса их общий образ, так что на выходе обязательно получались причудливые словоформы.
Как лингвиста, Катерину не могли не влюблять эти пышные речи и – что являлось следствием – их прародительница. При каждой новой словесной лавине Агаты девушка наполнялась безмерным восторгом. Рудковски впивалась в звуки так, словно за долгие годы она истосковалась по красноречию, а слова бабушки были его последним присутствием на земле.
Отпустив Маргарет, миссис Бристоль сделала сочный укус, и хруст потерявшего первозданный вид круассана напомнил девушке треск лесных веточек. Она всегда силилась их обойти, но всегда неизбежно на них наступала.
– Именно такие завтраки и хотят, чтобы их заслужили, – лицо женщины запылало удовлетворением, с уст сорвался блаженный стон.
Агата отхлебнула от латте, испускающего тонкую струйку пара, и жестом пригласила девушку присоединиться. Не то чтобы Катерина ждала это приглашение, но прежде чем наконец приступить к еде, она все же хотела расправиться с неуемными мыслями.
Приняв решение начать с малого, Рудковски взялась за чай, и миссис Бристоль уставила на нее пристальный взор. Первый глоток заставил девушку озадаченно нахмурить брови.
– Этот чай… он… – Катерина прервалась, чтобы вдохнуть пары напитка – упущение, немыслимое для той, кто делал это каждый раз перед тем, как притронуться к яствам, – такой сладкий.
– Здесь в напиток по умолчанию добавляют фирменный натуральный сироп. В зависимости от времени года меняется и его состав, – гордо поделилась секретами кофейни миссис Бристоль, но заметив скептическое лицо девушки, уточнила: – Тебе не нравится?
– Нет-нет, на вкус довольно неплохо, – спохватилась Рудковски. – Просто я предпочла бы напиток без добавок. Я люблю чувствовать оригинальные вкусы.
Не будучи поставленной в известность об изюминке здешнего «La clé», первоначально Катерина не могла и не пыталась возражать. Теперь однако девушка чувствовала себя оскорбленной: как такое возможно, что в вопросе забыли учесть ее мнение?
– Ну, дорогая, ты же не диктуешь солнцу, с какой силой ему светить. Так и здесь, попробуй оценить не ту пьесу, которую ты ожидала увидеть, а ту, что тебе предложили.
Катерина недоверчиво, но не без любопытства посмотрела на бабушку, а затем уже с иной настроенностью прикоснулась к чашке губами.
– Это тропа, ведущая к породе хронически недовольных людей! – присовокупила резко Агата, словно нечто поистине стоящее неожиданно всплыло вдруг в памяти. От этой внезапности девушка едва не пролила на себя горячий чай. – Летом они стонут оттого, что солнце чересчур обжигает их змеиную кожу, осень проливает на них слишком много дождей, зима метет в окна холодный снег, а весной они снова что-то придумывают. Ей-богу, злость на то, над чем мы не имеем контроля, напоминает крик на чайник, который вскипел до положенной ему температуры, – бессмыслица!
Катерине не требовались старания, чтобы заметить в бабушке страсть поучать других жизни. И хотя девушка не выносила нравоучений, время от времени греша указаниями на чужие несовершенства сама, сейчас она просто молчала. Силы и без того черпались из запасных их резервов и уходили на нечто отличное от пререканий. Тем более вещи Агата говорила «вполне себе дельные», с какими Рудковски была в большей степени солидарна.
На счастье обеих и на беду той тучи молчания, которой не дали затянуть все небо целиком, к столику подоспела услужливая – иные возле Агаты, по-видимому, не задерживались – Маргарет.
– Миссис Бристоль, мисс… – на бегу выкрикнула официантка, но тут же осознала, что привычка – и почти обязанность – уделять в присутствии Агаты основную порцию внимания именно ей помешала Маргарет поинтересоваться именем «застенчивой» спутницы женщины.
– Рудковски, – довершила за девушку миссис Бристоль. Катерина почти безразлично глянула на виноватое лицо Маргарет, и губы обеих слегка качнулись в улыбке.
– Прошу меня простить, – извинилась официантка и не без опаски спросила Агату: – Миссис Бристоль, мне неудобно вмешиваться… Я только хотела у Вас уточнить: помните ли Вы о моей просьбе?
– Дорогая, – делового тона Агаты было достаточно, чтобы расставить все и всех по местам, – к моему великому сожалению, я помню обо всем, что так или иначе касается меня и моих… – она запнулась, мельком глянула на Катерину, словно убеждаясь в ее присутствии, и аккуратно добавила: – дел. Так что до времени тобой выклянченного отпуска не забивай, пожалуйста, голову чем-то, помимо рабочих обязанностей и планов на путешествия.
После исчерпывающего ответа Агата с таким снисхождением посмотрела на Маргарет, как если бы женщина собственнолично организовывала ей предстоящий отдых: нашла жилье, определила маршруты и вдобавок проспонсировала поездку из пункта А в пункт Б. И тем не менее официантка расплылась в улыбке и принялась осыпать «покровительницу» благодарностью. Миссис Бристоль же, будто работница к тому времени испарилась, продолжила разговаривать с Катериной:
– Ну а что же твоя привереда-душа скажет насчет наш… здешних круассанов? – оговорки Агаты, догадки Рудковски – все это напоминало игру, участники которой знают разгадку, но не произносят ту вслух, продлевая игорный антураж.
Катерина, любитель оценивать полноту вкусовых качеств в одиночестве, почувствовала: на ее плечи свалилась обязанность сиюминутно попробовать «бабушкин» стол. Немного неловко, смущаясь под устремленными на нее взглядами, она осторожно притронулась к круассану ртом, так редко сегодня себя открывающим.
– Боже, как вкусно! – через мгновение искренне заключила девушка.
– А ты думала, – у Агаты, по-видимому, не имелось сомнений касательно здешних, яств. И все же после слов внучки тело миссис Бристоль расслабилось еще сильней. – Булочек «настоящее» не найти даже в самой Франции.
Маргарет, растопленная теплыми новостями о скором отпуске, без намека на злобу хихикнула, и Агата одарила ее столь обескураженным взглядом, что бедняжка попятилась.
– Простите, – официантка сейчас предпочла бы спуститься в саму преисподнюю, чем оставаться под тяжким взором миссис Бристоль. – Я просто подумала, в мире, верно, не найдется бо́льших француженок, чем Вы и Ваша… – Маргарет снова замялась; о статусе Катерины она могла только строить догадки, – гостья, – решив, что такой вариант сойдет за наиболее безопасный, на нем работница и остановилась. – Я хочу сказать, при ваших стройных фигурках есть булочки без последствий – не иначе, как колдовство.
В обычное время что женщина, что ее внучка невероятно бы возмутились, доведись кому обсудить их формы или характеры. Но сейчас, услащенные комплиментом, дамы не возражали против оценки. Впрочем, скоро Агата пустилась в рассуждения.
– Ах, люди склонны думать, будто за красивым подтянутым телом стоит либо магия, либо же непосильный труд. Глупцы! – при слове она так резко выдвинулась вперед и до того гулко ударила по столу, что вместе со стеклом задрожали и перепуганные девушки. – Человек напрочь отказывается верить в безоговорочное «все гениальное просто» и веками чурается простого баланса: меры в еде и присутствия в каждом дне простой прогулки.
Оставь из двух ведер корма одно. Освободи себя от убивающих тренировок. Голодать, гробить здоровье под штангой – какой благодарности ты ждешь в ответ?
Выбрать простое там, где оно правда облегчит жизнь? Черта с два! Жизнь тяжка, забудьте про легкость. Они в лепешку разобьются, лишь бы взвалить на себя очередной булыжник страданий. Через тернии к звездам, ха. Нас учат: родились – придется добыть свое кровью и потом. Оно, возможно, и верно, но если речь идет о достижении чего-то, не относящемуся к тебе и твоему телу. Да и то – семь раз подумай, а лучше восемь.
Борьба с собственным духом, разумом, телом, борьба с самим собой – это оксюмороны6, образы, существование которых аномально. Ты борешься с собой и думаешь, что двигаешься к совершенству? Ты ошибся, дружок, – ты себя губишь. Ты сделал тело врагом для себя, и отношения ваши приводят только к страданиям. В конце концов один вовсе погибнет – наличие одного значит невозможность присутствия другого. Так ты надеешься стать лучшей версией себя?
Твое тело, разум и дух – единственные, если использовать грубейшее в своей наготе слово, вещи, которые ты проносишь с собой от рождения и до самой смерти. Они питают тебя, защищают, направляют, одергивают. И единственное, что эта троица просит взамен, – безусловной любви к себе, трепетного внимания.
Единожды не получив от тебя взаимности за свои тяжбы, она махнет на неблагодарность рукой. Прояви бескультурье второй раз – задумается. Но если ты чинишь хамство изо дня в день, если ты ежечасно, ежеминутно уводишь себя в могилу – мои поздравления: ты ступил на дорогу в ад.
Маргарет, как это всегда случается с теми, кто вздумает пошутить с миссис Бристоль или, упаси боже, выказать при ней мнение, крупно пожалела о преступной неосмотрительности. Катерина же, перепуганная пылкой речью, старательно делала вид, что к беседе она не причастна, и лишь с сожалением поглядывала на официантку, лишенную дар речи.
Агата и сама, войдя во вкус и порядком разгорячившись от собственных нравоучений, перестала различать, говорит ли она о стройности или о чем-то, выходящем далеко за ее пределы. Очевидно было одно: женщина вконец выдохлась и попутно «выдохла» своих жертв.
– Что ж, нам, пожалуй, пора, – скомандовала миссис Бристоль. И не глядя на то, что завтрак остался почти нетронутым, такой исход осчастливил всех трех персонажей.
Бенджамин доложил хозяйке о своем местонахождении, и Агата назначила ей новый маршрут. Она не взяла Катерину, как прежде, под руку, справедливо полагая, что и без того сполна напугала неподготовленную к ее красноречию девушку.
Водитель остановился в нескольких кварталах от «La clé»: во-первых, он прекрасно знал о любви миссис Бристоль к пешим прогулкам, а во-вторых, к тому часу – время стремглав приближалось к обеду – в центре города не протолкнуться.
Путешественницы шагали до места в атмосфере довольно тягостной. Причем в тягость давалось не само молчание, взятое ими для уменьшения накала, но те мысли, которые каждая дама вела за собой.
Катерина размышляла обо всех слугах бабушки – молодых девушках, из каких Агата растила армию, сотканную по ее вкусу. Сама миссис Бристоль помимо гаданий о том, не излишни ли были речи, думала о причинах внучкиной замкнутости. Женщина грязла в сомнениях и задавалась вопросом: «Расколется ли кремень, обнажив родной душе раны?»
Остаток дня дамы старательно избегали присутствия друг при друге. Они встретились лишь за обедом и ужином, проклиная при этом желудки за потребность время от времени требовать пищу. Не особенно выручало и умение Бенджи молниеносно разряжать, как ни абсурдно сочетание этих слов, обстановку.
Кто была эта женщина, ранее представлявшая собой бабушку Катерины? И кто эта девушка, прежде щебечущая внучка Агаты Бристоль?
Так, упиваясь переживаниями и уповая на завтрашний день, словно он представлял собой ясное после грозы небо, стирал предшествующие казусы и даровал художникам чистый лист для написания новых картин, Рудковски и Бристоль донесли оставшиеся часы поодиночке. Когда же пришло время отклониться ко сну, они послушно отправились в спальные комнаты, предварительно обменявшись натянутым «доброй ночи».
Глава 3. На рассвете дня и расцвете юности
За ночь, как это обычно случается, эмоции Катерины заметно повыветрились, а те, что остались, заимели другую направленность. Так потрясения от новой жизни сменились на интерес к ней, а волнения по поводу собственных догадок умерила установка «пусть все идет своим чередом».
В том-то и заключается суть не познанной человеком ночи: ее проклятье в том, что порой она добивает страдающих, а прелесть таится в умении исцелять обессиленных.
Катерина обладала бесценным даром учиться на ошибках, а потому сегодня поднялась значительно раньше, чем за день до этого. Помня о спокойной ясности, которая разливается в воздухе в утренний час, девушка аккуратными шагами спустилась во двор, а затем, обогнув просторы Бристольского дворца, очутилась в оживающем садике.
Сад и впрямь являл собой божественное творение, а затаенное в нем обладало чудотворной, возрождающей к жизни силой. Очарованная, Катерина страшилась нарушить его покой, еще не тронутый приходящим утром. Стоя на самом краю тропинки, что ужиком тянулась по всему насаждению, девушка с восторгом смотрела на то, как беззаботно радовались первым лучам солнышка молодые листочки и как трусливо прятались за полузакрытыми бутонами горделивые розы.
Впрочем, все это было лишь вершиной айсберга. Катерине же не терпелось войти в подводный простор. Преисполненная благоговейным трепетом, девушка осторожно шагала в глубину сада. Вернее сказать, Рудковски не шла, но парила. Поведение Катерины напоминало ловкость и грацию кошки: сперва она тихо кралась по ступеням дворца, норовя не поднять на уши спящих его обитателей; теперь силилась не спугнуть волшебную атмосферу сада.
Скользя под аркой из нависшего можжевельника, девушка постепенно проникала в густеющую чащу, которую вековые деревья бережно укрывали от чужого глаза и в которой мысль Рудковски могла работать, не опасаясь вторжения.
Что касается истинной должности Катерины, для более «плавного обживания» здесь девушка вырвала месячный отпуск, а учеба – она переходила на четвертый (и последний) курс – еще не началась. Так у Рудковски появилась возможность по капле освоиться на новом месте, не отвлекаясь на посторонние заботы и не терзаясь о чем-то, потенциально упущенном.
Девушка безмерно благодарила себя за принятое ею решение передохнуть от рабочих дел, хотя выбор ей дался совсем непросто. Катерина не умела отдыхать и, выдайся у нее хотя бы минута безделья, принималась сурово корить себя в лености. Потому девушка и имела привычку переносить часть дел на выходные – таким образом она бежала от отдыха.
Не любила Рудковски минуты «простоя» и оттого, что они давали волю ее мыслеблудству. В эти моменты девушка рыла глубоко в себя, но даже там есть предел, перейти за который опасно. Мысли и суждения, какие находятся по ту сторону от границы, превращаются в якоря и утягивают любопытных на самое дно человеческой сути.
Труд Катерины не был физическим. Но ошибочно полагать, что только видимая работа имеет ценность, а остальное зовется праздностью. Порой воистину рабская деятельность остается незаметной для глаза, но приводит к чудеснейшим результатам, будь то становление личности или рождение живописного шедевра.
Справедливости ради, Рудковски не всегда слыла добросовестной работягой – ощутимую часть жизни Катерина провела в прокрастинационном запое. Однако чем старше девушка становилась, тем чаще замечала: жизнь несется вперед, а она бестолково топчется на одном месте.
Решив, что «это не дело», Рудковски тотчас расписала свой день поминутно («планирование – ключ к успеху») и в этот миг пала заложницей собственного плана. Катерина стала одержима дисциплиной, словно последняя являла собой панацею от всех болячек, а при любом отклонении от собою прописанных правил переживала минуты неописуемой тревоги.
Для девушки не существовало большей опасности, чем прерванный труд или нарушенный распорядок. «Дисциплина – это завидная привычка. Но у нее есть противная сторона – ее утрата. Не удели рутине день, не сделай шаг вперед – и ты откатишься на несколько оных назад».
Приводило строгое следование правилам и к потере жизненных кусочков в виде встреч и посиделок с близкими. Поистине значимо умение видеть вещи, не занесенные в записную книжку. Рудковски об этом совсем, к сожалению, не думала, но продолжала (все меньше) радоваться новой галочке в списке дел.
Если нарушения все же случались, то лишь оттого, что были четко вписаны в распорядок – нарушение правил, заранее и сознательно установленное Катериной. Таким образом, даже случайности имели в жизни девушки свое место и вносили в нее, хоть и странный, но образцовый порядок.
В свободные от занятий минуты девушка начинала безостановочно отрывать свои несчастные волосинки, покусывать ноготки или, что самое страшное, мысленно осуждать других людей. Это делалось не столько от вздорных привычек и склочного характера, сколько для того, чтобы избавиться от клейма бездельницы. Когда дела не наваливались, Катерина наваливала их себе сама.
Иной раз казалось, будто девушка сходит с ума от усталости, какую она ощущала в конце забитого делами дня. Сумасшествие это объяснялось тем, что под вечер не удостоенные за день вниманием мысли водили в голове хороводы. И если одну за одной думы удавалось выдворить и вздохнуть, слетись они вместе, мало что поддавалось контролю. В таком случае Катерина без сил падала на постель и неподвижно лежала. От неспособности переварить винегрет девушка позволяла мыслям просто носиться.
Лень для Рудковски равнялась смерти, а беспрестанный труд, даже изнуряющий, – дорогой к духовному росту. Так, зная отношение Катерины к работе и отдыху, можно представить, каких усилий стоил ей этот дарованный себе отпускной.
На удивление девушки, от выкроенной передышки планеты не повернулись вспять. И теперь, обласканная дуновениями легкого ветра, который вместе с приятной утренней прохладой навевал чувство довольствия жизнью, Рудковски жадно внимала шептанию раскидистых крон.
Счастливая от осознания, что она, не считая законных обитателей сада, бродит по нему в совершенном одиночестве, Катерина принялась тихонько напевать. Пребывая в блаженстве, она сияла, пела, порхала, перебегала от кустика к кустику, чтобы поближе разглядеть всю его прелесть – одним словом, Рудковски цвела. Так случается: погрузившись в цветущее окружение, начинаешь и сам проникаться увиденным жизнеобразом.
Катерина вырисовывала очередной вираж, как вдруг, оборвав фигуру на полпути, камнем застыла. В шагах десяти от нее, под тенью яблоневого дерева вальяжно расположился старик. Изумительно нежный, его взгляд внимательно наблюдал за пируэтами девушки. Лицо старичка показалось Рудковски донельзя знакомым, хотя и едва узнаваемым.
Катерина нервно сглотнула: девушка негодовала, когда ее застигали врасплох. Тем более Рудковски не переносила надзор в те минуты, в какие она позволяла себе роскошь отдаться власти эмоций.
– Я… Вы… – Катерина, как рыбка, открывала рот, но не могла вымолвить ничего толкового.
– Доброе утро, Катерина, – хриплым, доброжелательным голосом поприветствовал девушку старичок. Удивленная тем, что он знает ее по имени, Рудковски ответила:
– Здравствуйте… – она повысила тон, приглашая мужчину назваться.
– Мистер Боуи, – представился, хотя выражение «напомнил о себе» сгодилось бы ничуть не хуже, садовник. Он выплыл из тени, и теперь на славном лице стала заметна озорная улыбка. Глаза мужичка лихорадочно заблестели.
– Мистер Боуи?! – почти вскричала Рудковски, и за одно лишь мгновение отношение ее переросло из недоверительно оценивающего до трепетно полюбовного.
Девушка, движимая неким природным инстинктом, рванулась вперед, но, сделав пару шагов, резко остановилась. Туман импульсивных эмоций рассеялся и передал бразды правления силе разума. Катерина спросила себя: «Не глупо ли бросаться с объятиями на того, кто мгновение назад был таинственным незнакомцем?» В конце концов, даже если детство девушки и окрашено их взаимной друг к другу симпатией, за шестнадцать лет эти двое могли так измениться, что сейчас воистину приходились один одному никем.
Будто прочитав сомнения Катерины, Мистер Боуи, с той же детской, доброй улыбкой, какая толкала людей авансом ему симпатизировать, произнес:
– Понимаю. Незачем жаловать старика любезностями, когда он не в силах предложить тебе поездку на телеге, устланной пахучим сеном, – а после коротко рассмеялся.
В душе Катерины вдруг всколыхнулось необъяснимое. Воспоминания, словно комета, мелькнули перед ее глазами, заставляя девушку в один глоток опробовать сладкий кусочек из прошлого. Она вспомнила все: теплые летние вечера, запах свежескошенной травы; то, как умело справлялся с вилами на первый взгляд закостенелый, в действительности же, будто назло своему почтенному возрасту, юркий мистер Боуи. Словом, Рудковски прочувствовала то, что давным-давно у нее украла ее избирательная память.
Глаза девушки наводнили слезы, низ живота ее взбудоражился, а конечности превратились в тряпичные мешки с ватой. Катерина потеряла над собой всякую волю и, добровольно вручив себя власти некоей высшей силы, подчинилась желанию отдаться объятиям старичка.
Мистер Боуи и сам не утаивал взбаламученных чувств. Как у человека и без того богатого на сантименты, в старости, что в зависимости от наполнения жизни омрачает или освещает прожитые моменты, переживания его во сто крат обострились.
Они сплелись в самозабвенных объятиях, которые перекинули мост через пропасть, длиною в шестнадцать упущенных лет. Воплощения двух человеческих вех: юности и старости, они не противоречили друг другу и не выглядели так, словно их союз чужд или неестественен. Напротив, это была долгожданная встреча силой разлученных душ. Здесь присутствовала, без сомнений, таинственная интимность, но упаси Господь полагать, что тут же имелось место и пошлой вульгарности.
Не роняя громких слов, какие даже в изощренных комбинациях не выражали чувств, лежавших на сердце, они доверили покаяние душам. Рудковски и Боуи стояли, не расцепляя объятий, до тех пор, пока не передали друг другу все сокровенные послания.
Сколько прошло минут, сказать невозможно. Герои, каких захлестнули эмоции, ответа не знали. Что до посторонних свидетелей – непорочное таинство таковых не имело.
Когда свершение ритуала подошло к естественному концу и участники пьесы вывернулись из объятий, Катерина отметила: стоптался ли мистер Боуи, подросла ли она сама, однако сейчас девушка была на полголовы выше того, кто в детстве казался ей богатырем-великаном.
– «Мистер Боуи, как я рада Вас видеть», – хотелось кричать Катерине, но в том заключалась ее погибель: она стеснялась признаться в любви напрямую. Помимо этого к горлу девушки подступил предательский слезный комок и загородил пристыженным словам ее выход наружу.
– А ты все то же солнце, что в детстве, – не страдал, в отличие от «солнца», скупостью на эмоции старичок. – Правда, тогда ты напоминала светило на рассвете, а теперь шагаешь к зениту, постепенно знакомя людей со своей мощью.
Мистер Боуи боготворил дитя. Он так привязался к девчушке, что, лелея недоступный образ долгие шестнадцать лет, представлял ее той же маленькой Кэти – прозвище, данное старичком шаловливой малышке и по неведомым обстоятельствам перенятое ее младшей сестрой. Агата же, подобно Джозефу и самой Катерине, считала богохульством называть девочку не иначе как полным именем и страшно негодовала, когда слышала эти «обрубки».
Пребывая в разлуке с Кэти, старичок частенько вспоминал те трогательные моменты, какими были окрашены первые пять лет девчушки. Расстояние играет с близкими злую шутку: прощаясь с теми, кто дорог нашему сердцу, мы стократ усиливаем его симпатичные черты, а о плохих, изглаживая или вовсе сбрасывая их за борт, на совесть заботится память. Так, Катерина сохранилась для мистера Боуи образом ангела, что прямо сейчас изливал на округу искрящийся свет.
– Мистер Боуи, как Вы? Как Ваши дела? Как сложилась жизнь?– вышла из оцепенения девушка и тут же принялась сыпать вопросами, не давая при этом времени на ответ. – А Ваш сад, Боже правый, он просто чудесен!
– Ну, солнце, не все сразу, – засмеялся опять старичок. – Не возлагай слишком больших надежд на мою седовласую память.
Мистер Боуи и правда с годами стал забываться. Впрочем, все, что относилось к Рудковски, старик помнил с такой точностью, что казалось, он вел рукописные хроники и запечатлел в них события, милые сердцу.
– Что до сада, – продолжал мистер Боуи, – в нем вся моя жизнь. Не устану повторять: «Воистину твое должно вдыхать в тебя жизнь, а не забирать ее у тебя». Погляди-ка, – он рукой указал на садовую дорожку, – не так давно я проложил в нем дощатые ступеньки.
Тропа действительно была выстлана деревянными дощечками, которые, располагаясь примерно в метре друг от друга, вели крученую дорожку мимо кустов рододендрона.
– Это похоже на сказку, до чего волшебно! – пришла в неподдельный восторг Катерина. Мистер Боуи же загорелся по той причине, что радовалось его любимое дитя.
– А ты что так рано прилетела сюда, птичка? – поинтересовался садовник.
– Вышла прогуляться и подышать утренней свежестью, – девушка снова взглянула на тропу, а через мгновение с грустным смешком добавила: – Забавно, раньше я могла проклинать себя за бессмысленное прохлаждение. Верно, на меня опьяняюще действует атмосфера Вашего города, – лицо Катерины исказило заметное напряжение – вымученная улыбка.
– Время, потраченное на удовольствие, никогда не бывает потрачено зря, – мистер Боуи и девушка от неожиданности подпрыгнули: из-за аккуратно стриженной изгороди показалась Агата. – Извините, что нарушила ваше совещание, уж больно взбудоражило меня отсутствие внучки.
Из уст миссис Бристоль нельзя было услышать ничего более пустого, чем «извините». Она бросала слово лишь затем, чтобы заполнить тошную паузу.
– Не стоило Вам беспокоится, миссис Бристоль. Я отыскал Вашу пропажу, – старичок по-прежнему искрился, и казалось, ничто не может потушить в нем эту искру.
– И что бы мы без Вас делали, мистер Боуи?
В отличие от черно-белого тона садовника, какой всегда доподлинно выдавал его чувства, будь то печаль или радость, шаловливые интонации Агаты скрывали за собой радугу подтекстов. Женщина словно вызвалась нести миссию, целью которой являлось сокрытие фактов, а средством служил набор увилистых красноречий.
Когда между Бристоль и прямодушными людьми вроде мистера Боуи завязывался диалог, он походил на словесную дуэль смертоносной сабли и карманного ножика. И пока собеседник напрасно пытался создать что-то посредственное, не покрытое блестящим слоем свежего лака, Агата, пошарив по закромам, ваяла конструкции в несколько этажей.
Являясь наполовину глумливыми, замечания оставляли за собой и другую часть – правдивую. Так, обращаясь сейчас к старичку, миссис Бристоль действительно не лгала, хотя и выражала признательность способом – как часто о нем говорили – «своеобычным».
– Детка, хорошо ли ты спала? – ссылаясь, по-видимому, на ранний подъем Катерины, поинтересовалась у нее женщина.
– Мне снились чудные сны! Я кружила, обласканная новым нарядом и взорами тех, кого они пленили, – Рудковски отматывала пленку ночи и вдруг, опомнившись, спохватилась: – А Вы? Я Вас не разбудила?
Не позволяя посторонним нарушать сон, Катерина с трепетом относилась и к дремоте ближних. Она жила по вселенскому закону: «Как ты – так тебе», а потому, взывая к оглушающей тишине во время собственной дремы, девушка строго блюла ее же, когда спали соседи.
– Детка, слух у меня на редкость отменный, но таков же и сон.
Рудковски с облегчением выдохнула. Она успела заметить и прочно усвоила: миссис Бристоль, точно как и ее саму, выводит малейшая неосторожность соседей по планете, а любая неудовлетворенность женщины являла повод для вспышки на солнце.
– А вы что же, связали нити оборвавшихся лет? – фраза миссис Бристоль означала житейское: «Как прошла встреча?» – и представляла собой намек на желание знать о происходящем. О том, что не должно случаться без ее ведома, но тем не менее произошло до вмешательства.
– Миссис Бристоль, я прошелся глянуть, как поживают детишки, – так старичок обращался к растениям, – но волей случая, который мудро ворочает судьбы людей, наткнулся на фарфоровую куколку.
Слово «фарфоровый» мистер Боуи искусно подобрал по отношению к белоснежной, не облюбованной загаром коже Катерины. То была отнюдь не тусклая безжизненность, но безупречная однотонность – следствие надлежащего ухода, а вернее, полного его отсутствия.
Косметика практически не касалась лица Рудковски. Девушка гордо чеканила: «Иметь красивое лицо, рожденное косметикой, все равно что гордиться скоростью машины, несущейся с горы». И лишь в зависимости от того, накатывала на нее ярость или смущение, случалось ли свидание с солнцем, лицо Катерины покрывалось пунцовым румянцем или очаровательными веснушками.
Порой краски брызгали на ее личико одновременно. В таких случаях оно немедленно превращало взрослую девушку в шаловливую девочку лет десяти.
Иные же сравнивали «хорошенькую мордашку» с совершенностью журнальных картинок. Тогда Катерина, хотя и обласканная лестью, приходила в суровое негодование. Девушка и сама обладала этой печальной способностью – умением сравнивать. Однако пересуды о себе, будь то замечания в сторону ее внешности или характера, видела не иначе как злостным нарушением ее личных границ, а в сказанном неизбежно усматривала сторонние помыслы.
На счастье сейчас комплименту во всей его чистоте, искренне выраженному и поданному под сладким соусом «кукольности», не повезло посеять в душе Катерины привычного зерна враждебности. Напротив, сказанная тем тоном, каким мистер Боуи ее произнес, похвала имела все основания для принятия ее за чистую монету.
Пока окрыленный садовник был занят детальными оправданиями, – иных миссис Бристоль не допускала – Катерина продолжала хранить молчание. Неуверенная в том, что сказанное ею воспримут однозначно, девушка предпочла оформить страховку безмолвием.
Мистер Боуи же ощущал себя так, словно жизнь его напоминала цветную мозаику, и, лишившись когда-то одного пазла и, как следствие, целостности, она навсегда утратила великолепие. А потеряв красоту, или точнее – краски, перестала интересовать и старичка, что однажды являл собой жаркое пламя, и тех, кто окружал постепенно угасающую свечу.
Впрочем, на его великое счастье, прогуливаясь обыденным утром по собственно выделанному саду, несчастный обнаружил в нем, будто жемчужную раковину средь неприметных ракушек, давно утраченную драгоценность.
Как это случается при обретении истинно желаемого, сперва мистера Боуи застигла стадия непринятия. «То самое? Передо мной? Не может быть, я в это не верю, мои глаза меня подводят!» – такая борьба шла между строгим разумом и развязными эмоциями садовника.
Когда старичку, ветхому снаружи, но крепкому внутри, удалось оседлать гребень отторгающей волны, он допустил наличие сомнений. «А может все-таки?.. Что, если?.. Безумная схожесть – совпадениям здесь не место!»
Мистер Боуи повиновался слепому движению инстинктов и приблизился к диковинке. Он продолжал держаться от нее на почтенном расстоянии и скрывался в не цепляющем глаз местечке – тени, отбрасываемой яблоневым деревом. Этот укрытый от сторонних уголок, как столик Катерины в энгебургском кафе, позволял рассматривать происходящее, но не допускал обнаружения наблюдателей.
Там мистер Боуи и простоял, ведя отчаянную борьбу с хаосом подлинных чувств и любуясь сказочным танцем Катерины до тех пор, пока зоркий глаз девушки не коснулся его самого. Прожженного молнией, старика сковало ватное онемение. А потому, как тот утопающий, которому бросают шлюпку, он оказался всецело благодарен девушке за первые, хотя и невнятные слова.
– Мистер Боуи, да вы просто цветете! – подытожила рассказ старичка Миссис Бристоль. – Подумать только, еще вчера Вы пребывали в неизлечимой меланхолии, а сегодня словно нашлись с лекарством.
– Миссис Бристоль, если бы Вы знали, как рада моя поседевшая душа этому утреннему столкновению, – садовник молодел на глазах. – Случается, произошедшее утром задает настрой всему дню? Клянусь, то, что случилось со мной сегодня, определит направленность минимум всей моей жизни!
Агата раскатисто захохотала, старичок угодливо присоединился. Даже Катерина, осторожная в своих эмоциях, последовала всеобщему помешательству.
– Дорогой мистер Боуи, слышать Ваши речи – сплошное удовольствие, – успокоившись, заключила женщина.
– Миссис Бристоль, Вы всегда ко мне так очаровательны, – в голосе старичка читалось то простодушие, с каким отвечает на ироничные реплики взрослых ни в чем не повинный ребенок. Вдруг он спохватился: – Ох, я бы и рад подольше постоять с вами, прелестные розочки. Но сейчас во мне нуждаются мои собственные.
Мистер Боуи чинно откланялся и шагом спешным настолько, насколько позволял его возраст, ушел по делам.
– Позволишь составить тебе компанию? – ласково обратилась к девушке миссис Бристоль.
Катерина решила, что от согласия от нее не убудет ничего, кроме одиночества, произвела на свет озорную улыбку, одобрительно покивала и со словами: «Да, с радостью» протянула бабушке руку, под которую та должна была ее взять. Так двое лениво поплыли по саду, закономерно ведя диалоги с темою «ни о чем».
Один из них завел женщин к волнующей их обеих природе – единственно подлинной королеве планеты. И в этом кусочке разговора дамы, что случалось впоследствии редко, совпали в гармонии мнений. Катерина настойчиво утверждала: природа заражает ее безмятежным спокойствием. Агата соглашалась и уверяла ту, кто в этом давно уверился, что природа есть также источник энергии и идей.
– Знаешь, Катерина, – осторожно, чтобы вновь не сойти за поучающего диктатора, начала миссис Бристоль, – есть люди, вконец заблудшие в своих убеждениях. Приходя с изнурительных работ, они принимаются бешено щелкать пультом от телевизора или безотрывно таращатся в экраны наногаджетов.
Они предаются просмотру глупых картинок, поданных им в готовом, пережеванном виде обглоданной кости, и не тревожатся тем, чтобы лишний раз воззвать к усилиям собственного разума. Они пребывают в погоне за резвым выбросом дофамина, не обременяя мозг скучными книжными премудростями.
Я люблю все явления природы без исключения: и людей, и зверей. Но этот рассадник тупоумия… По мне, существует три способа настоящего отдыха: уединение, природа и, как ни странно, физическая активность. Соедини это в одиночную прогулку по лесу, и ты получишь заряд энергии, сравнимый с той, что высвобождает ядерный выброс. Здесь заканчивается усталость и черпаются силы для новых свершений, – заключила Агата, тоном голоса намекая на конец тирады.
Речь женщины в этот раз не нагнала на безоблачное поутру сознание Рудковски тучи негодований. Девушка в действительности не терпела читки моралей, однако сейчас в миссис Бристоль, коснувшейся зарубцованных ран Катерины, последняя углядела бездонный кладезь жизненных афоризмов.
Наступило молчание. То, что позволяет изобретательному уму дать волю мысли; то, что в награду за соблюдение его же расстилает простор умственным кульбитам. И вдруг, словно вынырнув из океанской толщи воды, будто пронзая воздух клинковым лезвием, Катерина, с привычкой усматривать недостатки во всем, отвесила:
– Но на свете нет ничего совершенного. Природа, при всей моей любви к ней, сама полна грубых дефектов.
Агата с удивлением посмотрела на внучку, отнюдь не желая распахивать поле решительных возражений, но выжидая, что последует за этим резким, смелым заявлением девушки. Катерина, прочтя во взгляде просьбу, согласилась продолжить:
– Я хочу сказать, природа чудовищно опростоволосилась, когда продолжила создавать нас такими, как и миллионы лет назад. Жизнь диктует нам «не лениться», но с кого нам брать пример, если сама созидательница этим грешит?
⠀Она оставила нам аппендикс, что удостоил маму шалостью своих капризов прямо в день ее юбилея. Она продолжает одаривать нас зубами мудрости, а те безжалостно прорезаются, лишая нас сна и спокойствия. А копчик – ну что за глупость?! За каждым из нас уже тянется хвост необдуманных действий, разве нуждаемся мы во втором?
Катерина с такой серьезностью рассуждала о естественных вещах, что Агату это даже рассмешило. Но, хотя и поддавшись позорной слабости инстинкта, женщина тотчас взяла себя в руки.
– Дорогая, я восхищена идеями, которые тобой владеют, – свободной рукой миссис Бристоль легонько коснулась плеча Катерины, что девушка скорее додумала, чем ощутила: до того нежным казалось прикосновение. – Но не стоит воспринимать жизнь слишком сложно. Было время, я тоже порывалась все понять, изучить, исследовать, найти ему объяснение или же опровергнуть. Говорят, невежество порождает страх. Страх нового, страх ошибок, и, в конце концов, страх самой жизни. Однако существо наше полно тайн, и узнать все скопом, увы, не получится.
Поиск себя – уникальное путешествие, на котором ты совершишь мириады ошибок, а за ними грянет и просветление. В этом специя нашей жизни: ошибки есть индикаторы личностной зоны роста. Я и вовсе не отношусь к своим просчетам как к таковым. Для меня это пустое слово, лишенное смысла.
Хуже сделать невозможно – это неоспоримая аксиома. Все, что ты делаешь, ведет тебя к новым уровням, сеет истину и раздувает искру уверенности. Услышь внутреннее бурчание собственного сердца, избавь себя от зашоренности и брони недоверия, якобы защищающей тебя от внешнего мира, подпиши разрешение на свидание с судьбой!
Но, Катерина, я умоляю тебя: не забывай подпитывать разум. Ум, добровольно лишенный подкормки, так же страшен, как желудок, сознательно лишенный пищи. Разум – это живой организм, столь же отчаянно нуждающийся в богатом на минералы питании. И единственная эффективная для него диета – отказ от истощающих мыслей, избавление от нависших туч обид и претензий к людям и миру.
Таков был умственный взор, которым Агата окинула сейчас просторы сада, а вместе с ними и оные души девушки. Причем сверлящая пронзительность этого мудрого, добрых намерений взгляда заставила девушку ненадолго уйти в себя, и лишь затем она снова вернула Рудковски к реальности.
– Агата, а что Вы любите делать больше всего?
Катерина смутно, но припоминала, как в детстве они с бабушкой играли в прятки, и девочка «надежно» пряталась за лысыми кустиками низких туй; как Агата, подключая довольную тому Элеонору, сооружала из махровой простыни импровизированный гамак и раскачивала внучку под ее восторженные хохоты; как вечерами женщина учила Катерину, в зависимости от того, возбужденный или смиренный дух преобладал в душе малютки, раскладывать несложные карточные гадания или вышивать крестиком.
Воспоминания тянулись прямиком из Катерининого детства, далекого настолько, что, казалось, события случились в прошлой жизни. В иные мгновения девушка вовсе предполагала: они – иллюзия, порождение глупого мозга.
– Я люблю погружаться в творческие процессы, – окутавшись выжидательной паузой, выдала миссис Бристоль. – Я преклоняюсь перед творчеством во всех его проявлениях: кино, в котором эмоцию порождает не только громкая музыка; литература, где суть написанного не ограничена рамками знакомых букв; музыка, что не взывает к желанию тотчас от нее отстраниться; картины, чьи тона ласкают взгляд и наделяют мозг шансом узреть в них что-то тайное.
Женщина прервалась, но Катерина и не думала забрасывать ее вопросами. Девушка хорошенько усвоила: когда мысль достигнет конечной остановки, Агата сама об этом сообщит. И не ошиблась – спустя минуту миссис Бристоль продолжила:
– Ты знаешь, Катерина, в наше время общество стало радушно впускать в себя страшную болезнь, и имя ей – слепота. Люди, лишившись дара видеть явь, дорисовывают ее в сознании, получая на выходе все из ничего.
Одни смотрят на бестолковые, хаотично разбросанные мазки, уверяясь и уверяя других: перед ними – шедевр мировой живописи. Другие безропотно им вторят. Третьи включают жалкие мелодии и, возбуждаясь от ритмичных громыханий, шепчут: родился следующий Бах. Четвертые, будто слово – фактор высшей оценки, восклицают: «Качает».
В массовом сознании циркулирует огромное число стереотипов, и один из них в следующем: все, чего касается рука человека, – искусство. О, будь все так приземисто просто, каждый мог бы назваться творцом, слепив фигуристый пельмень. Красота в глазах смотрящего? Что ж, в этом случае я предпочту слепоту. Правда, отличную от той, какую выбрали вскормленные посредственностью бедолаги.
Помимо произведений высоких искусств, творчеством я называю такую на первый взгляд нетворческую деятельность, как работа. О да, на деле любая работа включает в себя творческий процесс, где созидателю выпадает магический шанс задействовать свои таланты. Когда же работа перестает быть творчеством, когда она становится лишь автоматизированным набором действий, – труду конец. А наряду с ним завершается и развитие человеческого ума, уступая дорогу страшному лесному зверю – деградации.
Катерина провела с бабушкой, если считать время вместе, не больше двух суток, но даже за столь короткий промежуток времени успела сделать вывод: будучи окруженной разноцветным набором людских душ, миссис Бристоль все еще тосковала по ушам, достойным вслушиваться в эти речи. И теперь, встретив, а точнее, вернув себе родную кровь, женщина с жаром наверстывала упущенное.
Рудковски не возражала такому ходу событий. Она любила слушать вещи, оцениваемые ей как «умные», и делала это до тех пор, пока они не превращались в навязывание. Агата же справедливо учла свою напористость и, как подобает смекалистым людям, способным тотчас извлечь из ошибки урок, поубавила страсть в оглашении мнений.
В общем и целом обеих персон удовлетворяло, приободряло и пробуждало от некоего рода спячки присутствие друг друга. Так похожие друг на друга, женщины предвкушали: грядут и сложности, и приключения – две неотъемлемые составляющие яркой жизни. И только от самих дам, их выборов и решений, готовности к компромиссам зависит их судьба.
С этими предвкушениями, что воображение искусно ваяло на полотнах сознания, женщины медленно обогнули клумбу рододендронов и вышли из сада. Умиротворенные, напитанные утренней свободой мысли, они закончили прогулку следующим диалогом:
– Да, Катерина, прости мне мою несдержанность. Я бываю чудовищно неосторожна.
– Не беспокойтесь. Уж я понимаю.
Глава 4. Отсутствие завтрака восполняет присутствие новостей
Завтрак, если не считать за него поглощение свежих газет, в доме Агаты по обыкновению не подавали. И все же женщина предложила Рудковски разделить с ней бокал шампанского.
Пресыщенная пьяными за годы своего существования, Катерина не то что не одобряла вздорную привычку, но и люто презирала тех, кто слепо ей повиновался. Однако Агата разительно отличалась от пьяниц, доныне встречаемых девушкой. Во-первых, она пила лишь напитки стоимостью – судя по инкрустированным бриллиантами бутылкам – всего обеденного меню «La clé», приумноженного на пятьдесят. А во-вторых, женщина никогда не приступала к алкоголю ради нехитрого самозабвения. Планом Агаты являлось скорее усмирение мыслей, всегда взбудораженных у нее с самого утра, и, добиваясь даже легкого их отпущения, миссис Бристоль тут же закупоривала бутыль обратно.
Тем не менее, какова бы ни была цель, Катерина наотрез отказывалась понимать и принимать выбор средств, «нужных» для ее достижения. Но и начищать в уже отстроенной Туле привезенный самовар девушка не намеревалась. А потому она пошла на компромисс, достигнутый прениями с самой собой, и разделила с бабушкой не питье, но комнату и время.
– Катерина, ты помнишь, вчера в ателье я упомянула о проблемах с транспортировкой? – спросила чуть озабоченная миссис Бристоль. Катерина кивнула. – Хочешь сделать хорошо – сделай все сам. Не всегда, но работает, – женщина нервно поднимала и опускала тонкую ножку бокала. – Сегодня придется поехать и разобраться с заминкой. Тебя подвезти?
Агата, казалось, впервые перевела взгляд с проблем на внучку. Помимо этого, женщина перестала скрывать свое положение и принялась размышлять о «владениях». Она заранее знала: Катерина до всего дойдет сама, а потому, авансом наделив внучку догадливостью, говорила с девушкой как с человеком сведущим.
– Да, конечно, – ухватилась за возможность Рудковски. – Буду рада продолжить знакомство с городом, – поспешное ее признание объяснялось подлинностью намерений и предвкушением, доверху переполнявшим девушку.
– Боюсь, дорогая, тебе предстоит обойтись собственными силами, – с некоторым сожалением объявила миссис Бристоль. – Я подвезу тебя к черте города и объясню маршрут, – Агата сделала такую паузу, какая подчеркивала чуть ли не главную миссию в ее жизни, – но сегодняшний день не принадлежит к числу тех, когда я могу позволить себе праздные скитания.
Катерина, казалось, не сильно расстроилась заявлению. Точнее, она совсем ему не расстроилась. Порой новое гораздо приятнее узнавать, пребывая в одиночестве. Так приспешник познаний не расточает ресурсы на постороннюю болтовню и мысли о комфорте спутника. Он всецело отдан «впитке» знаний.
– Если желаешь, я могу приставить к тебе Бенджамина, – грубое, слово тем не менее предельно точно выражало намерение миссис Бристоль.
– О, нет-нет, – запротестовала Рудковски и, немного смягчившись, добавила: – Благодарю, но я все-таки «обойдусь своими силами».
Агата отнеслась к выбору внучки с большим уважением. Принятие чужого решения – черта, наличием коей в самой себе она безмерно гордилась. Выбор есть шажок, который каждый из нас совершает до тысячи раз в день. Лишить ближнего этого ценного дара, какой в зависимости от своей успешности освещает или омрачает судьбу человека, – преступление. И наказание за него, что по чудовищной несправедливости присуждается именно жертве, не что иное, как упущение.
Упущение ценного опыта, не познанного за вверением судьбы в руки «более знающего»; упущение возможности расшевелить закостенелый мозг, что не пустился в погоню за поиском пути решений; и, в конце концов, упущение собственной жизни – добровольная передача уникальной жизненной карты в руки невежественного картографа.
На эту же философию опиралась и Катерина. Знакомиться с новым, узнавать его особенности девушка предпочитала сама. Она ничего не принимала на слепую веру – напротив, Рудковски должна была самостоятельно найти доказательства, до всего дойти ею избранной тропой. Иначе девушке казалось, будто ее обокрали в опыте, и тот, уже пережеванный кем-то, утратил смысл и лишился права зваться приобретенным.
Примерно к полудню сверкающий, словно ночь щедро поделилась с ним запасами светил, «Роллс-ройс» подъехал к площади Геттинберга. Бенджи, повинуясь тремя вещам: зовущему долгу службы, строгому правилу этикета и негласному закону любезности, – помог дамам покинуть автомобиль. Поблагодарив юношу, Агата принялась схематично расписывать Катерине пространства Геттинберга, а девушка с видом полного вовлечения в процесс охотно слушала.
В действительности Катерина прекрасно знала: ни карты, ни даже старожилы не введут тебя в такой курс дела, в какой возможно погрузиться, оказавшись с городом один на один. Истинное знакомство с его тайнами и подоплеками начинается в тот момент, когда тебя, как собачонку, швырнут в открытые просторы океана: захочешь жить – поплывешь.
Выслушав краткий экскурс по Геттинбергу и нанизав на штыри памяти, словно бумажные листочки на иглу, несколько громких названий-ориентиров, Рудковски пустилась в одиночное плавание. И прежде всего, ее весьма интересовали сами улочки. До этого девушка видела их мельком: из машины, во время забега по магазинам, на пути к парку или кафе. Теперь же она имела прикоснуться к ним изнутри и вне спешки.
Взор Катерины не упускал ничего. Ему приятны были жилые постройки, с их высокими, пропускающими идеальное количество света окнами, декоративными кашпо, усеянными яркой радугой всевозможных цветов, и мягкими уличными креслами, украшающими приветливые балкончики. Занимали воображение и здания, целью которых являлась оказание услуг – несомненно, высочайшего уровня – и принесение достойной прибыли жителям и самому Геттинбергу.
Что до жителей города, на их лицах отсутствовала печать вынужденности, страданий и, как следствие, ненависти ко всему живому. Напротив, жителей озаряли улыбки довольствия и, что характерно только переполненным изнутри сосудам, желания делиться изобилием с другими, будь то богатство духовное или материальное.
От созерцания такого рода картин у Катерины произошло загадочное пробуждение чувств. Девушке в прямом смысле виделось: жизнь ее начинается лишь сейчас. В Энгебурге она привыкла нестись даже по симпатичным улицам: вид оных всегда покрывала грязь тухлых мыслей его жителей. Лица горожан, и те выглядели в нем столь угрюмо, что при столкновении с ними в госте разгоралась одна только страсть – страсть поскорее избавиться от их компании.
Теперь же, находясь в солнечном Геттинберге, Катерина, словно та пава, неспешно и важно плыла по его светлым улочкам. Она улыбалась каждому встречному и всякий раз встречала взаимность.
Случись в жизни Энгебурга счастье – на лицах жителей вскипала мрачная радость: они не умели подлинно проявлять это великолепное чувство. Произойди в Геттинберге бедствие – и горожане стоически претерпевали все последующие тяготы, что, воспринятые как возможность стать лучше, сильнее, закаляли человеческих дух и позволяли жителям выйти двукратными победителями: над собой и над роком.
Сила людей Геттинберга черпалась из источника, где порочные недостатки, омываясь волнами упорства, обтачивались до неоспоримых преимуществ. Любая слабость отдельно взятого человека своевольно или вынужденно оборачивалась гордым его достоинством.
Так, скупость жмота, насмерть воюющего за каждую упавшую копейку, делалась бережливостью в отношении неразумных затрат. Мот, что привык расточаться по мелочам, становился покровителем всех нуждающихся. Задиристый петух превращался в храброго и разборчивого в своих «жертвах» льва. Человек двойственных мнений, возлагая на чашу весов две контрастные стороны одного целого, мог умело черпать пригодное и отделываться от ненужного.
Все это не просто читалось во взглядах людей, тренированных тяжким по весу опытом и влачащих легкое с виду существование. От жителей пахло уверенностью, силой, верностью себе и своим принципам, стоической решимостью обойти просторы жизни, не срезая острых углов и не огибая воздвигнутые ею горы. Внешние легкость и поверхностное отношение к жизни являлись не чем иным, как результатом беспощадных усилий в работе над собой. А непринужденность в ведении ежедневной рутины – годами собранности, концентрации и дисциплины.
Даже просто поглядывая на эти живые стержни нравственности и морали, легонько касаясь их бытового уклада, Катерине хотелось вбежать в них, вцарапать себя в таинственный, незнакомый ей мир. Но поскольку осуществление этого не представлялось возможным, девушка просто решила губкой и, находясь среди палисадника идеалов, жадно впитывать в себя его устои.
Согретая лучами сотен прохожих, какие встретились ей на пути к геттинбергской площади, – место, справедливо отобранное Агатой как «то, что точно нужно увидеть» – Катерина шагала в естественной приподнятости духа. Эта благонастроенность, стоило девушке уловить очередную улыбку, заставляла ее инстинктивно здороваться.
Рудковски двигалась, довольная всем и каждым, и вдохновенность ее лишь усиливалась. Катерина словно копила ее, шаг за шагом встречая целительную подпитку. Еще с десяток минут – и перед девушкой открылось зрелище высокой стелы, что, указуя в некую точку выси, пронизывала небеса. Казалось, это меч бравого солдата, который вознамерился насадить на острие большое голубое покрывало. То был памятник воинам, какие во времена геттинбергской юности – периода частых бунтов и дерзновений – храбро отбили город у неблагожелателей.
Монумент стоял в центре площади и своим появлением на горизонте подсказывал: Катерина на верном пути. Не то чтобы сбиться в городе прямых улиц – простая задачка, но все же, завидев долгожданный маяк, девушка зашагала к нему с еще большей уверенностью.
Рудковски уже проходила мимо высоких железных ворот, ведущих в один из жилых двориков Геттинберга, как вдруг подул такой сильный ветер, что тяжелые ворота, не выдержав напора, настежь растворились. Бумажка, кричащая о премьере спектакля, – ее вручили Катерине несколько кварталов назад – вылетела из рук девушки и понеслась, поддаваясь безжалостным порывам вихря.
«Дьявол! Я ведь ее не прочла», – расстроенная происшествием, Катерина сменила фокус с божественного на дьявольское. Настроение ее вмиг улетучилось.
Страждущая тотального контроля над всем, девушка пыталась обуздать даже свои эмоции. Она всегда стремилась укрыться, сбежать от «непригодных» ей чувств. К счастью или к сожалению, никто не способен делить под линейку эмоции, как тесто торта или основу для пиццы, на «хорошие» и «плохие». Все они – индикаторы, указующие на наши затоптанные пожелания или тревоги.
Так, зависть сообщает нам о том, в чем мы нуждаемся. Она обнажает новые зоны роста, в какие неплохо бы устремиться для получения желаемого. Злость, особенно та, которую разжигают поступки ближних, олицетворяет пороки, проклинаемые нами в себе. Стыд и вина есть следствия наших оплошностей. Допуская всякие промахи, мы так боимся отведать изгнание из стада, что продолжаем кругом таскать с собой стыд и вину. Этим самым мы напоминаем себе о совершенных грехах, чтобы, упаси Боже, не повторить их опять.
Вместе с тем не существует чувства, слывущего бестолковым. Неразумной может стать лишь реакция на него. Говорят, наиболее верным решением является принятие эмоций, их проживание и разработка дальнейших действий. На деле же, избегая пути воспитания личности, большинство людей предпочитают не брать ответственности и ничего не решать.
Таким образом, вместо проб избороздить мировой океан трусливый мореход всю жизнь барахтается в надувном бассейне. Сами того не разумея, эти люди тоже делают выбор. Однако при этом они не проходят тернистую дорогу развития – они только топчутся на земле, выжженной многолетним мангалом лени.
Катерина принадлежала к числу людей, которые ответственность за жизнь почти всецело возлагали на себя. Исключением являлись те случаи, когда внезапно грянувшие катастрофы оборачивались чересчур болезненным опытом. Тогда девушка рьяно кидалась на поиски виноватых, тех, с кем можно было разделить горчинку своей неудачи.
Что же касается эмоций, здесь Рудковски обманывалась. Она воспринимала «мерзавок» как проявление слабости и чудовищно злилась на неспособность контроля за собственными порывами. Но подавляя то «нехорошее», что зиждилось в ее теле, Катерина давала отпор самому ребенку природы, а значит, вступала в битву с естественным. В этот миг то лишь усиливало злость, перчило ненависть и раскорчевывало зависть девушки.
Потому сейчас, разъяренная от единого дуновения ветра, Рудковски пала жертвой резкой смены настроения. Боевой, восторженный настрой сменило лютое чувство негодования. Застигнутая врасплох, Катерина бетонной массой стояла у тех самых железных ворот – бдительных стражей Геттинберга. Чтобы хоть как-нибудь успокоиться, она сказала себе: «Надеюсь, за этим последует компенсация чем-то приятным» и, довольная изобретением разума, двинулась дальше. В тот момент Рудковски только еще предстояло узнать, насколько права она оказалась.
Ветер пролетел мимо девушки единым порывом-молнией, как если бы он представлял собой отставшего от полка всадника и, потеряв дружину из виду, силился вновь с ней поравняться. Теперь же, когда вихрь утих, контраст холодящей прохлады встретила ударная волна жары.
«Черт возьми, почему так жарко? Неужели пришла пора гореть за свои грехи?» – чертыхнулась мысленно Катерина. Она ощутила, как что-то неумолимо сдавливает ее шею, перекрывая законный доступ свежего воздуха.
Утром, перебирая наряды, девушка рассудила следующим образом: недавно купленные наряды слишком официозны. Поэтому выбор Рудковски пал на старенькое платьице с бантом на шее. Именно это украшение и сыграло с ней злую шутку.
Не желая пасть столь нелепой смертью, Катерина спешно освободила себя от оков узурпатора, легким движением кисти развязывая аксессуар. Девушка тотчас почувствовала прилив жизненной силы, упуская при этом таинственный взор, неотступно за ней наблюдающий.
Взгляд дознавателя принадлежал неизвестному юноше, на вид ровеснику Катерины. Измученный духотой собственной квартиры, парень хозяйничал на просторах балкона, время от времени прерываясь на отдых. В одну из таких пауз внимание его приковала уже проигранная сцена.
Наблюдая за «статичной динамикой» города, – так парень называл движение одно и того же – юноша прикипел к виду содержимого пьесы. Теперь он не различал ни объектов, ни действий, будто события плыли монотонным, запущенным чьей-то рукой видеорядом.
Стоит ли говорить, в какой восторг привело юношу появление на экране новой актрисы? Героиня, в движениях которой угадывалась очевидная непринадлежность к городу, причудливо, почти вприпрыжку шагала по вылизанной улочке. Самой своей сущностью она оскорбляла спокойную идеальность Геттинберга.
Кульминацией драмы стал эпизод, разыгравшийся по воле природных капризов. С замиранием сердца, с колебанием фибр души парень наблюдал за стихийными действиями. Он смотрел, как затейливо пляшет мимика девушки, в чье спокойствие дерзко ворвался нетесаный ветер; наблюдал, как ручонки ее неуклюже ловят бумажку, взлетевшую ввысь – та парила над незнакомкой, дразнила ее, заставляя подпрыгивать выше и выше. Наконец, уголки его губ приподняла улыбка, когда юноша вдруг заметил, как прохожая «умилительно» злится на собственное бессилие.
Однако ничто не могло обыграть эпизод, где, собрав волю в кулак, а затем разомкнув его, незнакомка, играючи, развязала бантик наряда. И вместе с ним совершенно нежданно-негаданно развязалось и дремлющее сердце парня.
Глава 5. Потери, промахи и потрясения
Потеряв всякую свободу воли, слепо впадая в безумие инстинктов, юноша усмотрел одно лишь послание. Казалось, нечто свыше командовало теперь его жизнью. Он отодвинул дела и заботы, сомнения и коробки, небрежно раскиданные им по балкону, и стремглав полетел, как то сделал минуту назад ветрюган, вдогонку девушке.
Всего полминуты потребовалось парню, чтобы преодолеть расстояние в четыре этажа и обогнуть, что в обычные дни не воспринималось им как препятствие и даже презрительно им игнорировалось, несвоевременный угол дома: вечность для свершения чуда – мгновение для упущения желаемого.
Когда он оказался напротив места недавнего происшествия, то есть, на противоположной от него стороне улицы, незнакомки там уже не наблюдалось. Юноша впал в отчаяние.
Он бешено смотрел по сторонам, жадно хватая любые намеки на ее присутствие. Он метался влево и вправо, как тот полуночник, который часами не может уснуть. Он совершал круговые обороты, будто движение могло обратить ход времени вспять. Безрезультатно. Прохожая испарилась. Словно ветер, что так бессовестно надругался над ее покоем, уволок красоту в свое царство.
Юноше ничего не осталось, кроме тупого вглядывания в безжалостные врата. Окидывая взором этих жестоких чудовищ, он вспоминал то злобное шипение, что всякий раз змеилось на всю округу при их открытии. Вратами пользовались нечасто, а потому, оправдывая леность ненадобностью, никто не утруждал себя смазыванием их петель. И вот, отмщая за безответственное к ним отношение, за беспросветную свою покинутость, врата приговорили парня к тому же бремени.
Всевластность случая свела два одиноких сердца – она же их и развела. Юноша почти взревел от беспомощности, а Катерина была уже далеко за пределами его видимости. Как мантру повторяя себе: «Все хорошо, ну подумаешь, ветер», она собралась с духом и гордо продолжила свой маршрут.
Девушка почти достигла площади, но вдруг внимание ее привлек забавный случай. От небольшого сквера площадь отделяла лишь узкая полоса мощеной дороги, по которой, время от времени уступая пешеходам, шныряли юркие машины. Они, как пройдохи, задорно вились среди гуляющих людей и, невзирая на массовость горожан, искусно двигали габаритами.
Катерина остановилась прямиком перед началом сквера, будто не решаясь пересечь дорогу с этим престранным движением. Машины и люди и правда перемещались так, словно каждый из них являл собой шестеренку цельного механизма – девушка же ощущала себя ненужной, лишней, неуместной деталью.
В нерешительности оглядываясь по сторонам, Катерина заприметила интересную, непривычную ее глазу картину. По каменистой и, очевидно, главной тропинке скверика лишенный всяких забот сновал малыш (или малышка – девушка не разбиралась в делах, касающихся детей). Что удивило и даже смутило Рудковски – это явное отсутствие где-то поблизости его матери. Чуждая до беспокойства о детях, с большим трудом их сносящая, Катерина однако задумалась: «Законно ли оставлять малыша одного? Вокруг столько опасностей».
Рудковски привыкла к бешеным мамашам Энгебурга, что, озабоченные роком своих головастиков, не дозволяют неумехам ступить и шагу. Сейчас же отсутствие наседки близ малолетнего чада столкнуло девушку с противоречием. Через минуту однако она отряхнулась: «Боже мой, о чем я думаю? Мой разум, наверное, слишком свободен, раз допускает беспечное мотовство мыслей».
Так, решив, что дело никак не относится к ее персоне и уж тем более не стоит умственных затрат, Катерина закатила глаза самой себе и круто повернулась, теперь уже с твердым намерением оказаться на противоположной стороне дороги. Именно в этот момент и произошло непредвиденное. Как говорят, если и ждать, то лишь самого неожиданного.
Игрушка малыша – скользкий мячик – выпала у ребенка из рук и стремглав понеслась к дороге. Только при таком положении дел становилось понятно: сквер расположен относительно площади на возвышении. Условие, что сообща со злым роком вершило злодейство. Казалось, ускоряя движение мяча, оно также убыстряло и бегство часа.
Малыш, как те орланы, которые вихрем бросаются на добычу, бездумно ринулся за мячом. Шажки были мелкие, походка – скорой, целенаправленной. Все свидетельствовало об одном: он не остановится. Отбросив помехи, взор видит лишь цель, и та, словно влекущая в море сирена, манит беднягу к себе.
Вся эта драма держалась приличия. Больше того, со стороны она могла даже растрогать пассивного наблюдателя: ребенок сам, без помощи взрослых, возвращает свое – что здесь дурного? Однако жизнь превратилась бы в простоту, заунывную скуку, уложись события по прямой, беспрепятственной линии. Когда дорожка близка к абсолютной глади, когда ничто не встревает помехой на пустом шоссе, маршрут принимает вид отшлифованной доски. И именно здесь, как правило, проявляется причуда рока.
Мастак обнаруживает, что на дощечке, с таким упорством им отделанной, вдруг вылезает заноза. И вот творец, познавший триумф, хвалящий собственную скрупулезность, довольный плодом титанических трудов, с небес летит на землю. Одно препятствие – одна разрушенная жизнь.
Катерина, до чьего уха донесся стук упавшего мяча, невольно ответила на звук прикованным вниманием. Впрочем, ответив на ситуацию отстраненностью, – она лишь безучастный зритель событий – девушка так же бесстрашно продолжила путь. «Какое мне дело до чужой судьбы? Мне хватает вопросов к своей».
Пытаясь уловить чередования людского и машинного потоков, Рудковски просчитывала время, за которое ей надлежало перейти тропу. Девушка, как учили книжки, глянула по сторонам: налево – спокойно, направо – она остолбенела.
По направлению к Катерине, а значит, и к мчащемуся ребенку неслось авто. Королева визуализации, богиня из царства воображений, Рудковски молниеносно представила в голове ход событий с летальным исходом.
Покинув цепь онемения, девушка опрометью ринулась к малышу. Она схватила его – так порывается к птенцу мать, чтобы не дать дитенку безвозвратно сгинуть. С мальчиком на руках и леденящим ужасом в душе Катерина смотрела перед собой, наугад прорезая воздух.
Авто затормозило. Визг от колес вернул Рудковски в реальность. Водитель окинул девушку таким взглядом, словно психом в сложившейся ситуации являлась именно она. Лишившись способности говорить, Катерина жадно хватала потоки воздуха. Она будто стала рыбешкой, что, выбросившись на сушу, отчаянно открывает и закрывает рот.
Мужчина-водитель же неодобрительно покачал головой. После чего в недоумении, как если бы это Рудковски, не он, чуть не совершила убийство, завел машину и спокойно повел ее дальше. Видимо, поспешил по делам.
Катерина перевела взгляд на ребенка. Малыш не совсем с пониманием смотрел в ответ. Он явно выглядел слегка смущенным, но при этом отнюдь не испытывал страха.
Заледенелые жилы девушки обратились в кипящие трубы. В ней пробуждались те дремавшие ненависть и осуждение, что она годами запихивала по разным углам бедного организма. И теперь, невысказанные стольким людям, они вскружили в убийственном смерче и устремились лишь к ней – матери малыша.
По ее виду, женщину ситуация словно не коснулась. Она шагала к Рудковски уверенно, подгоняя тело движением рук. В то же время мать не бежала и не создавала эффект перепуганной клуши. Именно это ее безразличие вконец доконало девушку.
Катерина держала свою пылкую натуру в уезде уже несколько дней, что являлось ее абсолютным рекордом. И сейчас, не будь обстоятельства до того жестоки, она бы обрадовалась предлогу для вспышки. Впрочем, слишком уж напряглось скопившееся в девушке электричество, так что Рудковски не выдержала и еще издали начала:
– Вы в своем уме?! Как Вы решились оставить ребенка без присмотра? Вы видели, какой кошмар чуть не случился?
О рамках приличия Катерина, всегда державшаяся с незнакомцами по-английски холодно, даже не вспомнила. А если и вспомнила, то верно подумала: «Мать-кукушка их не достойна». Женщина же, не нарушая спокойствия, хотя и оторопев в душе, улыбнулась:
– Но ведь он не случился.
Рудковски насупилась. Ей казалось, что мать малыша страдает от слабоумия и вообще не способна осознавать ни слова, ни события. Вид Катерины остался таким же угрюмым: она стояла нахмурившись, лицо исказилось страшной гримасой. Внутри полыхала война.
Война развязалась в силу противоречий. С одной стороны, девушка понимала: она не имеет права подвергнуть суду действия матери. Ближнего не судят как минимум оттого, что не имеют шанса оказаться на его месте, а значит, пожить его жизнью, столкнуться с особенностью обстоятельств. С другой – Рудковски не в силах была пройти мимо подобного преступления. Не сказать об опасностях безучастного поведения означало подвергнуть ребенка дальнейшим угрозам.
Не то чтобы Катерину сильно тревожило будущее безразличного ей малыша, однако вместе с тем ей подвернулась возможность сыпануть поучениями. А уж хватать возможности да поучать – занятия, чьим предназначением являлась подпитка капризной сущности девушки.
За тяжестью борьбы, которая шла внутри нее, Рудковски напрочь забыла о мальчике – тот оставался у нее на руках. Не начни малыш беспокойно ерзать Катерина, возможно, простояла бы с ним целую вечность.
– Да что Вы за мать? Неужели вам наплевать на ребенка? – уже с меньшей жестокостью, но все с той же резкостью буркнула девушка и спустила мальчонку.
– Ну что вы, напротив – я обеспокоена его развитием.
Женщина отвечала едва ли не с нежностью, что не могло не бесить Катерину, лишенную всякой сдержанности. Брови девушки воспарили до самых небес. Собеседница пояснила:
– Забота о ребенке включает для меня в том числе цель сделать его самодостаточным. Я не хочу заниматься ростом безвольного и бездумного существа, которому чуждо принятие своих решений. Я не желаю видеть, как мое чадо, будучи в детстве лишенным болезненных шишек, набивает их в зрелости. Вам понятна моя философия?
Катерину затмила туча отчаяния. Она впервые столкнулась с подобным подходом к воспитанию и, как это часто случается, решительно отказалась принимать новое, столь разнящееся со старым, привычным. Девушка косвенно признавала присутствие смысла в словах этой женщины, однако насильно гнала мысль о его допущении.
Рудковски молчала, а потому, не дождавшись ответа, безмолвие нарушила мама ребенка:
– Генри! Идем, малыш, – женщина помахала мальчику, рукой указуя следовать за ней, и малыш тут же с объятиями ринулся к маме.
Катерину ошпарило кипятком. «Генри?! Это какая-то шутка? Насмешка судьбы? Причуда рока?» Как будто мало встречалось ей совпадений, наличие очередного вскружило ей голову. Рудковски решила, что ей прямо в эту секунду нужны «тенек и посидеть» – иначе беды не миновать.
На прощание девушка, желая понизить градус собственного накала, язвительно кинула злостное: «О, ну конечно, не стоит сыпать в меня благодарностью!» Женщина, присевшая, чтобы поправить ребенку костюмчик, степенно распрямилась и изрекла:
– За лишение опыта встречи с судьбой?
Катерина, потеряв всякие силы для изумлений, вскинула руки и пустила волну непонятного ропота. После чего она отвернулась от матери и, сопровождая походку туманными восклицаниями, взяла курс на центральную площадь.
Девушку не заботили больше пролетающие мимо машины, которые, словно майские жуки, шумно перемещались взад и вперед. Рудковски желала лишь поскорее удрать от места трагедии, и ей совершенно было неважно куда. Можно сказать, что к площади Катерина направилась, повинуясь закону последовательности: изначально отметив место конечным пунктом, девушка неизменно следовала за стрелкой компаса.
Приближаясь к воинственной стеле, какая теперь показалась ей пальцем, поучающим прохожан, Рудковски вела с собой следующий монолог (случай, типичный для отстраненных натур, вобравших в привычку беседы с собой):
«Да что, черт возьми, с ними всеми творится в этом проклятом Геттинберге?! – злясь на жителей, ни в чем не повинных, но не имеющим счастья уйти от ее суда, Катерина обдавала злостью и сам городок, еще мгновение назад непомерно его восхваляя. – Улыбки не покидают их лиц, в глазах у них – отблеск безумства. Что скрывает их упоение жизнью? В чем причины повального самозабвения и что побуждает людей покоряться этому зову?
Ну уж нет, ни за что не поверю в искренность их намерений. Только дурак может радоваться совершенно любым обстоятельствам. Слепота вредна, беспамятство губит, даже если речь идет о бьющем ключе наслаждения.
Хорошо, пусть так будет. Я согласна: глупо вязнуть в болоте нытья. Но зачем искать позитив в ситуациях, мне претящих? Я лучше избавлюсь от всех чувств разом, чем буду транслировать то, чего я и вовсе не чувствую!»
Закончив фразу, Рудковски взмахнула до боли сжатым кулаком. Жесты – знаки препинания, написанные в воздухе, и тот, какой столь убедительно изобразила сейчас Катерина, означал восклицание.
«А что насчет абсолютного вверения собственной жизни в небрежные руки судьбы? Сегодня ты не выходишь на улицу, полагая, что сломанный каблук – это знак сторониться внешних опасностей, а завтра пускаешь под колеса малыша, ведь «на все воля Божья»? Уж не возведено ли здесь, в Геттинберге, доверие року в ранг закона?»
Так Катерина, пленница собственных чувств, внезапно ее захлестнувших, швыряла предположениями и догадками. Девушке невдомек было, что уже с минут пять она обращает немые вопросы к терпеливой, покорной стеле. Впрочем, едва заметив возникшую «собеседницу», Катерина тотчас стала оправдываться. Будто памятник мог и слышать, и слушать, а после распустить доверенные ему секреты по округе.
«Да-да, не спорю, я и сама порой доверяюсь велениям сердца, знакам судьбы. Но надо же знать и меру!»
Катерина обращалась не то к себе, не то к монументу. Адресат обладал не особенной важностью, поскольку бессовестной лгуньей Рудковски боялась прослыть перед всеми. Наконец, истощив повод для философствований, она вплыла в напускное спокойствие и, покончив с войной красноречий, попыталась утихомирить разгул мысли:
«Я всего лишь хочу сказать, что крайность не может сулить ничего хорошего, даже если по природе своей она задумана нести добро. Я могу обратиться к вселенской подсказке, но не переложить в ее руки ответственность моей целой жизни».
Девушке показалось, что на время, отведенное ею же для борьбы с собственными эмоциями, дыхание ее останавливалось и только сейчас она смогла произвести шумный выдох.
Катерина стояла на месте, являвшим собой ее конечную цель, и вместе с тем с досадой признавала: эта цель давно была ею утрачена, а место и вовсе не представляло собой никакой больше ценности. Оно уступило долю внимания, справедливо отведенного девушкой на него, Катерининым мыслям. Те унесли ее далеко за пределы Геттинберга.
Ко всему прочему широкое полотно неба внезапно заволокли тучи. Впрочем, насчет их внезапности Рудковски немало уже сомневалась. Все-таки ей пришлось сейчас выпадать из реальности, а потому девушка могла не заметить тревожных сигналов о грядущей буре.
Не желая попасться в мокрые лапы злодейства природы, не особенно веря в то, что спасение придет извне, Катерина решила спрятаться под ближайшим навесом, откуда, связавшись с шофером Агаты, она могла тут же отправиться в уютный, сухой и спокойный дом.
Глава 6. Клубок развязывается
Грэйс встретила прибывших у порога, сопровождая пару сожалениями о случившейся неприятности и упрямо – насколько слово было применимо к Тейлор – настаивая на горячих напитках. Бенджи услужливо проводил продрогшую Катерину до самой двери, неся зонт так, что сам рыцарь промок почти до нитки. Его вид встретил полный сочувствия взгляд служанки, который затем очень бегло скользнул по мурашкам, покрывшим голые руки Рудковски.
– Скорее проходите на кухню, я принесу вам пледы и заварю что-нибудь погорячее.
Катерине почудилось, будто в голосе трусихи Грэйс прозвучал суровый приказ. Словно исчезновение Агаты равнялось появлению в служанке уверенности.
Пока скованными от холода движениями Рудковски и Бенджи рассаживались за кухонным столом, мисс Тейлор успела сбегать за теплыми пледами и сухой одеждой для парня. Она специально отправила путешественников не в столовую, но в каморку: ее небольшие размеры позволяли удерживать больше тепла и при этом оставались милы и комфортны.
– Катерина, простите, я не посмела притронуться к Вашему гардеробу, – Грэйс виновато оправдывала доставку одежды для одного только Бенджамина. – Но если хотите, я принесу все необходимое.
– Нет-нет, благодарю, – избавила работницу от забот Рудковски. – Моя одежда в такой же степени в порядке, в какой наряд мистера Уильямса – нет.
Бенджамин деланно рассмеялся, заявляя о неудачной колкости Катерины. Обе девушки устремили взгляды в его сторону.
– Мисс Рудковски, – отвечая на незаданный вопрос, начал Бенджи, – хотите меня оскорбить – используйте этот плевок: мистер Уильямс, – парень уродливо исковеркал назначенный ему «титул».
– Вы правда считаете, мое воображение столь скупо на выдумки? За что Вы так недооцениваете мои способности? – трудно было сказать, что ощущалось весомее: возмущенный взгляд Катерины или такой же суровый тон.
– Побойтесь Бога, я ни разу не сомневаюсь в Ваших талантах. Но избавьте меня, пожалуйста, от этих королевских замашек, – Бенджамин не грубил. Напротив, он добродушно, широко открытой душой простачка уставился на взъерошенную Рудковски.











