Читать онлайн Дети Божии
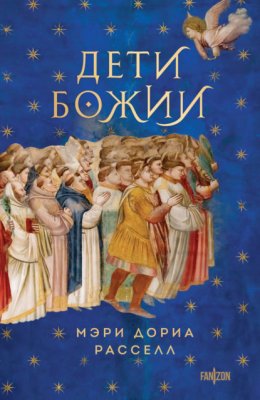
Mary Doria Russell
CHILDREN OF GOD
Copyright © 1998 by Mary Doria Russell
This translation published by arrangement with Villard Books, an imprint of Random House, a division of Penguin Random House LLC
Fanzon Publishers An imprint of Eksmo Publishing House
Перевод Юрия Соколова
© Ю. Соколов, перевод на русский язык, 2024
© Издание на русском языке, оформление. «Издательство «Эксмо», 2024
Прелюдия
Взмокнув, подавляя очередной приступ дурноты, падре Эмилио Сандос сидел на краю постели, пряча лицо в том, что осталось от его ладоней.
Многие моменты жизни давались ему сложнее, чем он ожидал. Например, он не сумел сойти с ума. Или умереть. «Как я еще способен жить», – удивлялся он – не столько из философских соображений, сколько из глубочайшего негодования, вызванного состоянием собственного организма и исключительной цепью неудач, поддерживавших в нем жизнь, хотя на самом деле он желал одного – смерти.
– Что-то должно уйти из моего тела, – шептал он по ночам в тихой келье, – или рассудок, или душа…
Поднявшись на ноги, он заходил по своей каморке, засунув искалеченные руки под мышки, чтобы на ходу не ушибить пальцы. Не имея более сил терпеть эту тьму, не имея возможности изгнать из памяти кошмарные воспоминания, он тронул локтем выключатель и наконец-то увидел перед собой предметы реальные: кровать, скомканные и пропитанные потом простыни; деревянное кресло; небольшой простой комод с ящиками. Пять шагов, поворот, пять шагов в обратную сторону. Почти такая же, как его каморка на Ракхате…
В дверь постучали, он услышал голос брата Эдварда Бера, спальня которого находилась за стенкой, и он всегда слышал полуночные прогулки Сандоса.
– С тобой все в порядке, патер? – негромко спросил Эдвард.
«Это со мной-то? – Сандосу хотелось заорать. – Иисусе! Я в ужасе… я калека… все те, кого я любил, погибли…»
Однако Эдвард Бер, стоявший в коридоре у двери Сандоса, услышал другое:
– Со мной все в порядке, Эд. Успокоиться не могу. Все в порядке.
Брат Эдвард вздохнул, не испытывая удивления. Уже почти год, днем и ночью, он исполнял обязанности сиделки при Эмилио Сандосе. Он ходил за его изувеченным телом, молился за него, не веря своим глазам, и со страхом наблюдал за тем, как подопечный мучительно продвигался от полной беспомощности к элементарному владению собственным телом. И посему, топая вперевалку по коридору в сторону кельи Сандоса, он заранее знал, что услышит только обычный успокоительный ответ на бесполезный вопрос.
– Прошлое покинет тебя не сразу. – Брат Эдвард предупредил Сандоса еще несколько дней назад, сразу же после кошмарного признания. – Ты не сможешь быстро изжить из себя все, что было.
И Эмилио согласился с ним.
Возвратившись в свою постель, Эдвард взбил подушку и скользнул под покрывало, прислушиваясь к шагам за стенкой. Одно дело – знать правду, подумал он… а вот жить, зная ее, – дело совсем другое.
Отец-генерал Общества Иисуса, обитавший в комнате, расположенной в точности под каморкой Сандоса, также слышал внезапный сдавленный крик, оповещавший о прибытии инкуба, властвовавшего над ночами Эмилио. В отличие от брата Эдварда, Винченцо Джулиани более не вставал по ночам для того, чтобы предложить Сандосу не приветствовавшуюся им помощь, однако память его сохранила те возбуждение и ужас, ту безмолвную мольбу за власть над самим собой.
Месяц за месяцем, председательствуя над предпринятым Обществом расследованием причин неудачи первой посланной иезуитами миссии на Ракхат, Винченцо Джулиани сохранял уверенность в том, что, если вынудить Эмилио Сандоса рассказать о том, что именно и как произошло с людьми на чужой планете, вопрос так или иначе сам собой разрешится и Эмилио обретет хотя бы какое-то душевное спокойствие. Отец-генерал, как администратор и как священник, полагал, что Обществу Иисуса и самому Сандосу необходимо обратиться к фактам. И посему, методами прямыми и косвенными, средствами добрыми и жестокими, лично и с помощью братии, он привел Эмилио Сандоса к тому мгновению, когда произнесенная истина могла освободить его.
Сандос сопротивлялся на всех этапах этого пути: ни один священник, какова ни была бы нужда, не готов покуситься на чужую веру. Однако Винченцо Джулиани питал искреннюю уверенность в том, что способен найти ошибку и исправить ее, понять и простить неудачу, услышать признание в грехе и отпустить его.
Не был готов он лишь к одному: к полной невиновности Сандоса.
– Знаете, что я думал перед тем, как меня поимели в первый раз? Что я в руках Бога, – сказал Эмилио в тот золотой августовский день, когда сопротивление его разлетелось вдребезги. – Я любил Бога и верил в Его любовь. Правда, забавно… Я отбросил всяческую защиту. Между мной и происходящим не было ничего, кроме любви Бога. И меня изнасиловали. Я был наг перед Богом, и меня изнасиловали.
«Что же такое сгнило в нас, людях, что мы с готовностью верим всему плохому, что слышим от других? – думал Джулиани в ту ночь. – Что заставляет нас с такой жадностью впитывать хулу?»
«Прорехи собственного идеализма, – подозревал он. – Мы разочаровываемся в себе и ищем по сторонам других неудачников для того лишь, чтобы убедиться в том, что не одни».
Эмилио Сандос не был безгрешен; он сам признавал, что виновен во многих грехах, и все же…
– Если Бог вел меня шаг за шагом по дороге любви к Нему и если признать, что все красоты и восторги были подлинными и реальными, тогда и все прочее происходило по воле Бога, и это, господа, весьма прискорбно, – сказал тогда им Сандос. – Но если я всего лишь обманувшаяся обезьяна, слишком серьезно воспринявшая сборник старинных сказок, тогда я сам навлек все эти горести на себя и своих спутников. Проблема с атеизмом в данной ситуации заключается в том, что мне некого презирать в этой ситуации, кроме себя самого. Однако если я приму сторону тех, кто считает, что Бог зол, то могу утешиться праведной ненавистью к Нему.
«Если Сандос был сбит с толку, – думал Винченцо Джулиани под звук не прекращавшейся наверху ходьбы, – то что есть я? A если нет, что есть Бог?»
Глава 1
Неаполь
Сентябрь 2060 года
Селестина Джулиани узнала, что значит слово «клевета», на крещении своего кузена. Именно это слово запомнилось ей на празднике, ну и мужчина, который плакал.
В церкви было хорошо, пение ей нравилось, но младенца самым нечестным образом нарядили в платьице самой Селестины, и это было несправедливо. Никто не спросил у нее разрешения, хотя ей самой не разрешалось брать вещи без спроса.
Мама объяснила ей, что всех младенцев семьи Джулиани крестят в этом платьице, и указала на каемку, на которой уже было вышито имя Селестины.
– Вот, смотри, дорогая! Вот твое имя, вот имя твоего папы, вот имя тети Кармеллы, а вот имена твоих кузенов – Роберто, Анамарии, Стефано. Теперь настала очередь нового младенца.
Селестина находилась не в том настроении, чтобы ее можно было уговорить. «Этот младенец похож на дедушку в платье невесты», – рассердилась она.
Соскучившись во время обряда, Селестина начала махать руками, кивать головой, смотреть, как будет выглядеть ее платье, если юбку закрутить с одной стороны на другую, время от времени поглядывая на человека с машинками на руках, одиноко стоявшего в уголке.
– Он тоже священник, как и Дон Винченцо, он – американский кузен дедушки Джулиани, – объяснила ей утром мамма, перед тем как они отправились в церковь. – Он болел очень долго, пальцы плохо слушаются его, и эти машинки помогают им двигаться. Только не надо глазеть на него, carissima[1].
И Селестина не глазела. Только часто поглядывала.
Мужчина не слишком интересовался младенцем, как все остальные, и, когда она однажды посмотрела в его сторону, заметил ее взгляд. Машинки на его руках были очень страшными, но человек – нет. Большинство взрослых улыбались – одними лицами, но глаза их говорили: иди, девочка, подальше, играть. Непонятный человек тоже улыбался, но не лицом, а глазами.
Младенец надрывался и надрывался, a потом Селестина почувствовала запашок.
– Мамма! – вскричала девочка в ужасе. – Этот младенец обкакался…
– Тише, cara! – громко прошептала ее мать, и все взрослые рассмеялись, даже Дон Винченцо, так же как и человек с машинками, облаченный в длинное черное одеяние и поливавший младенца водой.
Наконец обряд закончился, и все вышли из темной церкви на яркий солнечный свет.
– Но, мамма, младенец действительно обкакался! – настаивала на своем Селестина, пока они спускались по лестнице и ждали, чтобы шофер подал машину. – Прямо в моем платье! Теперь оно будет грязным!
– Селестина, – укорила ее мать, – с тобой тоже случались подобные вещи! К тому же на младенце подгузник, как и тогда на тебе.
Селестина в недоумении открыла рот. Все взрослые вокруг хохотали, кроме человека с машинками, остановившегося возле нее и присевшего, отражая на лице ее недоумение и возмущение.
– Это клевета! – воскликнула она, повторяя подсказанные им на ухо слова.
– Чудовищная напраслина! – полным негодования тоном подтвердил он, вновь вставая, и пусть Селестина не поняла ни одного слова, то все же ощутила, что он на ее стороне, единственный среди хохочущих взрослых.
После этого все они отправились к тете Кармелле. Селестина съела пирожное, попросила, чтобы дядя Паоло покачал ее на качелях, и выпила газировки, что было вообще уже роскошью, потому что газировка не укрепляет кости и ей разрешали пить ее только на семейных праздниках. Потом подумала, не стоит ли поиграть с кузинами, однако все они были старше и Анамария всегда хотела быть мамой, так что Селестине всегда доставалась роль младенца, а это было скучно. Так что она попробовала потанцевать на кухне, пока бабуля не похвалила ее, а мамма не посоветовала девочке навестить морских свинок.
Когда она начала капризничать, мамма отвела ее в заднюю спальню и посидела с ней, что-то напевая. Селестина почти уснула, когда ее мать достала платок и сморкнулась.
– А почему не приехал папа? – спросила она.
– Он занят делами, cara, – объяснила дочери Джина Джулиани. – Спи.
Разбудили ее звуки прощания: кузены и кузины, дяди и тети, бабушки и дедушки и друзья расходились, обмениваясь друг с другом и родителями малыша ciaos и buonafortunas[2]. Селестина встала, сходила на горшок, что напомнило ей о клевете, и направилась в сторону лоджии, надеясь на то, что ей разрешат взять несколько воздушных шариков домой. Новокрещеный младенец Стефано старательно голосил.
– Понимаю, понимаю тебя, – говорила ему тетя Кармелла. – Трудно не попрощаться со всеми родными после такого замечательного дня, но праздник заканчивается.
Понимая неотложность ситуации, дядя Паоло просто с улыбкой взял Стефано на руки.
И посреди всего шума и суеты никто из взрослых не заметил, что Селестина стоит в дверях. Ее мать помогала тете Кармелле убирать посуду. Ее дед и бабушка во дворе прощались с гостями. Внимание всех прочих было обращено на Стефано, заливавшегося плачем и мужественно сопротивлявшегося чужой воле, но полностью бессильного в руках отца, извинившегося за поднятый шум. Одна только Селестина заметила, что выражение лица дона Винченцо переменилось. Это произошло, когда она посмотрела на мужчину с машинками на руках и заметила, что он плачет.
Селестина видела, как плачет мать, но она не знала, что мужчины тоже плачут. Это испугало девочку, во‑первых, потому что она еще не видела ничего подобного, а еще потому что она проголодалась и, в‑третьих, потому что ей нравился этот человек, ставший на ее сторону, а кроме того, потому что даже плакал он не так, как остальные, – с открытыми глазами и спокойным лицом, и только слезы текли по коже.
Хлопнули дверцы автомобиля, Селестина услышала, как захрустел гравий под колесами, и в этот момент ее мать отвернулась от стола. Улыбка на лице Джины померкла, когда она проследила за направлением взгляда дочери. Посмотрев в сторону двоих священников, Джина что-то негромко сказала своей золовке. Кивнув ей, Кармелла на пути в кухню подошла к дону Винченцо со стопкой тарелок.
– В спальню в конце коридора, наверное? – предложила она. – Вас там никто не потревожит.
Селестина отступила в сторону, позволяя пройти дону Винченцо, взявшему за руку плачущего человека и поведшего его к двери лоджии и в сторону комнаты Кармеллы.
– Значит, так оно и было? – Селестина услышала голос дона Винченцо, проходившего мимо нее. – Они развлекались, а вы страдали?
Селестина последовала за ними, вышитые носочки шелестели при каждом ее шаге, и заглянула в оставшуюся приоткрытой щелку. Мужчина с машинками сидел в кресле в углу.
Дон Винченцо стоял неподалеку и, ни слова не говоря, смотрел в окно – в сторону вольера Сесе. А вот это нехорошо, подумала Селестина. Значит, дон Винченцо – нехороший! Ей было неприятно, и она заплакала, но никто не обратил внимания, потому что они сказали, что она глупенькая.
Мужчина заметил ее сразу же, как только она вошла в комнату, и вытер лицо рукавом.
– Что случилось? – проговорила она, подходя ближе. – Почему ты плачешь?
Дон Винченцо начал что-то говорить, но мужчина качнул головой:
– Ничего не случилось, cara. Просто… просто я вспомнил… вспомнил, как некоторые люди очень плохо обошлись со мной.
– А что случилось?
– Они… сделали мне больно… Но это произошло очень давно, – успокоил он девочку, уже смотревшую на него круглыми от страха глазами: неужели такие плохие люди находятся сейчас в доме, – когда ты была совсем маленькой, но иногда я вспоминаю это.
– А тебя потом поцеловали?
– Mi scuzi[3]. — Мужчина заморгал, услышав эти слова, и дон Винченцо на мгновение напрягся.
– Чтобы у тебя больше ничего не болело? – пояснила она.
Человек с машинками на руках улыбнулся и посмотрел на девочку очень ласковыми глазами.
– Нет, cara. Никто не поцеловал меня, чтобы у меня ничего больше не болело.
– Я могу тебя поцеловать.
– Это было бы очень хорошо, – ответил он самым серьезным тоном. – Думаю, что твой поцелуй поможет мне.
Потянувшись, она поцеловала его в щеку. Роберто, кузен Селестины, которому уже исполнилось девять, говорил, что целоваться глупо, но Селестина знала лучше.
– Это новое платье, – сказала она мужчине. – Я пролила на него какао.
– Оно все равно хорошенькое. И ты тоже.
– У Сесе малыши. Хочешь посмотреть на них?
Мужчина посмотрел на дона Винченцо, который пояснил:
– Cece – это морская свинка, и рожать малышей – их основное занятие.
– Ах так. Хочу.
Он встал, и она протянула руку к его руке, чтобы повести наружу, но вовремя вспомнила про машинки.
– А что случилось с твоими руками? – спросила она, потянув мужчину за рукав.
– Такой вот несчастный случай, cara. Но не волнуйся. С тобой ничего похожего случиться не может.
– А тебе больно? – Винченцо Джулиани услышал голос девочки, вместе с Эмилио Сандосом направлявшейся по коридору в сторону двери на задний двор.
– Иногда больно, – бесхитростно ответил Сандос. – Но не сегодня.
Голоса их исчезли за захлопнувшейся дверью.
Винченцо Джулиани подошел к окну, прислушиваясь к вечерней песне цикад, и проводил взглядом Селестину, увлекавшую Эмилио к вольеру с морскими свинками. Наконец, блеснув попкой в кружевных трусиках, ребенок перегнулся в вольер и выудил оттуда маленькую свинку для Эмилио, сидевшего улыбаясь на земле… Черные с серебром волосы ниспадали на высокие скулы индейца таино, восхищавшегося крохотным животным, которое Селестина выгрузила на его колени.
Четырем священникам пришлось восемь месяцев безжалостно давить на Эмилио Сандоса, чтобы добиться от него признания, которое Селестина получила через две минуты. Возможно, сухо отметил про себя отец-генерал, подчас для такой работы более всего подходит четырехлетняя девочка.
И он пожалел о том, что Эдвард Бер не задержался для того, чтобы лично увидеть эту сценку.
Брат Эдвард в данный момент находился в отведенной ему комнате неаполитанского приюта, принадлежавшего ордену иезуитов, примерно в четырех километрах от отца-генерала, и еще удивлялся тому, что отец-генерал выбрал крещение для первого выхода Эмилио Сандоса из затвора.
– Вы шутите! – утром воскликнул Эдвард. – Крещение? Отец-генерал, в чем в чем, а в крещении Эмилио Сандос нуждается теперь в самую последнюю очередь!
– Семейное мероприятие, Эд. Никакой шумихи, никакого давления, – заявил Винченцо Джулиани. – Присутствие на службе и пирушке пойдет ему на пользу! Он уже достаточно окреп…
– Физически да, – согласился Эдвард. – Однако эмоционально он еще далек от любой степени готовности. Ему нужно время! – настаивал Эдвард. – Время гневу. Время слезам! Отец-генерал, нельзя так торопить…
– Благодарю вас, Эдвард, подайте завтра автомобиль к дому в десять часов утра, – ответил отец-генерал с кроткой улыбкой. И все было исполнено.
Высадив обоих священников возле церкви, брат Эдвард вернулся в иезуитский приют, где и провел остаток дня, погрузившись в волнение. И к трем часам дня он уже убедил себя в том, что лучше все-таки выехать пораньше, чтобы забрать обоих с праздника. Надо только учесть время на проверки службы безопасности, сказал он себе. Вне зависимости от того, насколько известен обществу был водитель, ни один автомобиль не подъезжал к владениям Джулиани без того, чтобы его несколько раз внимательно проверили крепкие, склонные к подозрительности мужчины и громадные задумчивые псы, натренированные на поиск взрывчатки и злоумышленников. Поэтому Эдвард отвел на путешествие сорок пять минут, хотя в других обстоятельствах на дорогу хватило бы десяти, и при этом неоднократно был остановлен, опрошен и проверен на всех перекрестках шедшей вдоль берега дороги. Ушедшее на это время нельзя было назвать бесполезно потраченным, отметил он, когда перед воротами резиденции шасси автомобиля и его документы проверили в четвертый раз. Например, он узнал от нескольких псов, в каких областях своего тела человек его комплекции может теоретически спрятать оружие.
При любых возможных сомнениях в благонадежности неаполитанских родственников отца-генерала было приятно осознавать, что предпринятые ими предосторожности идут на пользу Сандосу, и Эдварду наконец позволили въехать на подъездную дорожку, шедшую к самому большому во всем имении зданию, лоджия которого была украшена воздушными шариками и цветами. Эмилио нигде не было видно, но уже вскоре отец-генерал отделился от небольшой группы вместе с молодой светловолосой женщиной. Джулиани помахал рукой Беру, а потом обратился к кому-то из находившихся в доме.
Эмилио появился несколько мгновений спустя, надменный и утомленный, являя собой смуглый сплав индейской стойкости и испанской гордости. Рядом с ним находилась маленькая девочка в помятом праздничном платьице.
– Так я и знал! – с гневом буркнул себе под нос Эдвард. – Это уже слишком!
Укрепив свои силы таким глубоким вздохом, какой может позволить себе астматик, брат Эдвард извлек свое объемистое тело из автомобиля и обошел его, открывая двери для отца-генерала и Сандоса, в то время как Джулиани прощался с хозяйкой дома и гостями. Маленькая девочка что-то сказала ему, и Эдвард застонал, когда Эмилио нагнулся, чтобы в ответ обнять ее. Невзирая на это, а может быть, благодаря взаимной нежности прощания, брат Эдвард даже на йоту не был удивлен негромким окончанием разговора, который происходил между обоими священниками, вдвоем подходившими к автомобилю.
– …Если ты, сукин сын, попробуешь еще раз учинить надо мной подобный фокус…
– Черт побери, Эд, не виси надо мной, – отрезал Сандос, забираясь на заднее сиденье. – Я сам способен захлопнуть дверь.
– Да, отче, виноват, отче, – ответил Эдвард, пятясь, на самом деле с неким удовлетворением. Приятно быть правым, подумал он.
– Иисусе, Винс! Дети и младенцы! – проворчал Сандос, когда они выезжали из имения Джулиани. – И ты решил, что это будет полезно мне?
– Это было тебе полезно, – настоятельно произнес отец-генерал. – Эмилио, ты отлично держался до самого конца…
– Мало мне было кошмаров? Зачем же добавлять к ним воспоминания?
– Ты говорил, что хочешь жить самостоятельно, – терпеливо промолвил отец-генерал. – С тобой будут происходить подобные встречи. Тебе нужно научиться вести себя…
– С какого хрена ты решил, что можешь указывать мне? Если такое дерьмо начнет происходить всякий раз, когда я бодрствую…
Эдвард, кривясь по поводу используемого лексикона, посмотрел в зеркало заднего вида, когда голос Эмилио надломился. «Поплачь, поплачь, – подумал он. – Слезы лучше головной боли». Однако разъяренный Сандос умолк и, не намереваясь плакать, уставился в окно на ландшафт снаружи.
– В настоящее время в мире проживает примерно шесть миллиардов молодых людей в возрасте до пятнадцати лет, – мирным тоном произнес отец-генерал. – От встречи с одним из них уклониться будет сложно. Если только ты не живешь в охраняемом поместье, как Кармелла…
– Quod erat demonstrandum[4], — с горечью в голосе промолвил Сандос.
– …Тогда, быть может, ты решишь остаться у нас. В качестве лингвиста хотя бы.
– Ты – коварный, тупой и старый сукин сын. – Сандос жестко и коротко усмехнулся. – И ты подсунул мне этого ребенка.
– Ну, обыкновенные тупые сукины дети отцами-генералами Общества Иисуса не становятся, – полным кротости голосом возразил Винс Джулиани и продолжил с непроницаемым выражением на лице: – А вот выдающиеся тупостью сукины дети становятся известными лингвистами. И их имеют туземцы на других планетах.
– Ты завидуешь. И когда тебя натягивали в последний раз?
Понимая отчаянный блеф Эмилио, брат Эдвард свернул налево, на береговую дорогу, удивляясь отношениям, сложившимся между двумя этими людьми.
С одной стороны – рожденный для богатства и привилегий Винченцо Джулиани, уважаемый во всем мире историк и политик, сохранивший телесные силы и здравый ум в свои семьдесят девять лет. И с другой стороны – Эмилио Сандос, побочный сын какой-то там пуэрториканки, затеявшей интрижку, пока муж ее сидел в тюрьме за перевозку того же самого вещества, которое обогатило более раннее поколение La Famiglia Джулиани. Они познакомились более шестидесяти лет назад во время обучения в иезуитской академии. И вот, Сандосу теперь всего сорок шесть лет с какой-нибудь там разницей туда или сюда. Одной из многих причудливых сторон ситуации, в которой находился Эмилио, являлся тот факт, что тридцать четыре года из этих сорока шести лет он летел на околосветовой скорости в космосе, направляясь к звезде Альфа Центавра и в обратную сторону. Для Сандоса прошло всего шесть лет после того, как он оставил Землю, – трудных, конечно, лет, но таких немногочисленных по сравнению с теми, которые выпали на долю Винса Джулиани, теперь на десятки лет старше Эмилио и превосходящего на несколько уровней в иерархии ордена.
– Эмилио, сейчас я прошу тебя только об одном: поработать с нами, – говорил Джулиани.
– Ладно, ладно! – воскликнул слишком уставший для спора Эмилио. Что, по мнению скептически настроенного брата Эдварда, являлось желанным результатом всей сегодняшней бурной деятельности. – Но на моих условиях, черт побери.
– А именно?
– Полностью интегрированный звукоанализатор, соединенный с процессором. С голосовым управлением. – Посмотрев в зеркало, Эдвард заметил, что Джулиани кивнул. – И личный кабинет, – продолжил Эмилио. – Я больше не способен пользоваться клавиатурой, и я не могу работать, когда меня могут слышать другие.
– Что еще? – продолжил Джулиани.
– Сбросить в мою систему все перехваченные после 2019 года фрагменты ракхатских песен… все, что подслушали за это время радиотелескопы, так? Загрузить все, что радировал на Землю экипаж «Стеллы Марис» с Ракхата.
Снова согласие.
– Помощника. Носителя языка дене[5] или мадьярского. Или эускары – баскского, так? Непринужденно владеющего латынью, английским или испанским. Мне все равно, каким языком.
– Что еще?
– Я хочу жить в одиночестве. Поставьте мне кровать под навесом рядом с мусорными баками. В гараже. Мне все равно где. Я не рвусь отсюда, Винс. Мне нужно всего лишь место, где я могу побыть один. Где нет никаких детей и младенцев.
– Что еще?
– Публикацию. Всего… всего того, что мы послали на Землю.
– Только не лингвистики, – ответил Джулиани. – Социологии, биологии, да. Но лингвистики – нет.
– Тогда какой всему смысл? – воскликнул Эмилио. – Какого тогда черта ради буду я делать эту работу?
Отец-генерал не смотрел на него. Рассматривая архипелаг Кампано, он видел лодки каморры, рыболовные конечно, патрулировавшие Неаполитанский залив, благодарный им за защиту от медиахищников, готовых пойти на любые средства ради того, чтобы с пристрастием расспросить маленького, тощего, невзрачного человечка, находившегося рядом с ним, – священника, блудника и детоубийцу, Эмилио Сандоса.
– Насколько мне известно, ты работаешь ad majorem Dei gloriam[6], — непринужденно проговорил Джулиани. – И если прибавление Господней славы больше не увлекает тебя, можешь считать, что будешь работать в уплату за кров и стол, предоставленные тебе Обществом Иисуса, вкупе с круглосуточной безопасностью, звукоанализаторами и помощью в исследованиях. Труды инженеров, создавших твои протезы, тоже обошлись нам недешево, Эмилио. Мы заплатили больше миллиона по счетам врачей и госпиталей. Таких денег у нас больше нет. С практической точки зрения Общество Иисуса является банкротом. Я старался оградить тебя от подобных тревог, но после вашего отлета положение дел изменилось к худшему.
– Так почему же ты еще не выставил меня пинком под такую дорогостоящую задницу? Я же с самого начала сказал тебе, Винс, – ничего хорошего от меня ждать не приходится…
– Ерунда, – отрезал Джулиани, на какой-то миг соприкоснувшись взглядом с Эдвардом Бером в зеркале заднего вида. – Ты представляешь собой актив, который я намереваюсь капитализировать.
– O, чудесно. И что же ты хочешь купить на меня?
– Проезд на Ракхат на коммерческом судне для четверых священников, обученных по программам Сандоса и Мендес, являющимся эксклюзивной собственностью Общества Иисуса.
Винченцо Джулиани посмотрел на Сандоса, зажмурившего глаза от яркого света.
– Ты можешь оставить нас в любое время, Эмилио. Но пока ты пребываешь с нами, живешь за наш счет, под нашей защитой…
– Общество обладает монополией на два ракхатских языка. Ты хочешь, чтобы я обучал переводчиков?
– Которых мы предоставим бизнесу, академическим или дипломатическим кругам, до тех пор пока будет сохраняться монополия. Это поможет нам возместить расходы за первоначальный полет на Ракхат и позволит продолжить работы, начатые вашим экипажем, requiescant in pace[7]. Пожалуйста, остановитесь, брат Эдвард.
Эдвард Бер остановил автомобиль, полез в бардачок за шприцем и проверил дозировку, прежде чем выбраться из машины. К этому времени Джулиани уже склонялся на краю мостовой над Сандосом, которого неудержимо рвало на грубые придорожные травы. Эдвард приставил шприц к шее Сандоса.
– Еще минуточку, отец мой.
Невдалеке находилась пара вооруженных членов каморры. Один из них сделал шаг в сторону автомобиля, но, заметив это, отец-генерал отрицательно качнул головой, и человек возвратился на пост. Эмилио еще раз вывернуло наизнанку, прежде чем он сел на пятки, растрепанный и несчастный, закрыв глаза, так как мигрень искажала его зрение.
– А как звали эту девочку, Винс?
– Селестина.
– Я не вернусь. – Он уже засыпал. Инъекция транквилизатора всегда вырубала его. Причины не знал никто; очевидно, физиологическое состояние его организма еще не пришло в норму.
– Боже, – пробормотал он, – не… надо больше так поступать со мной. Дети… младенцы. Не делай этого снова…
Брат Эдвард посмотрел в глаза отцу-генералу.
– Это была молитва, – уверенным тоном произнес он через несколько минут.
– Да, – согласился Винченцо Джулиани. Он поманил к автомобилю обоих каморристов и отступил в сторону, когда один из них, разобравшись с конечностями, поднял легкое и обмякшее тело Сандоса и отнес обратно в машину.
– Да, – признал он, – увы, это так.
Брат Эдвард позвонил привратнику, чтобы известить его о ситуации.
И когда по круглой подъездной дороге он подъехал к передней двери практичного и внушительного каменного здания, не казавшегося чрезмерно строгим лишь благодаря окружавшим его пышным садам, их уже ожидали носилки.
– Слишком рано, – проговорил брат Эдвард, пока они с отцом-генералом наблюдали за тем, как Эмилио уносят в постель. – Он еще не готов для таких ситуаций. Вы слишком торопите его.
– Я тороплю, он отбрыкивается. – Джулиани поднес ладони к голове, приглаживая волосы, десятилетия назад покинувшие его макушку. – Мне не хватает времени, Эд. Я буду удерживать их столько, сколько смогу, но я хочу, чтобы на этом корабле были наши люди. – Уронив руки, он посмотрел на запад, на горы. – Мы никаким другим образом не сможем позволить себе новую миссию.
Поджав губы, Эдвард покачал головой, легкие его чуть посвистывали на каждом вдохе. Астма всегда разыгрывалась в конце лета.
– Нехорошее решение, отец-генерал.
На какое-то время Джулиани как будто бы забыл о том, что находится не в одиночестве. А затем, сохраняя внешнее спокойствие, посмотрел на невысокого толстячка, пыхтевшего рядом с ним в пятнистой тени древней оливы.
– Благодарю вас, брат Эдвард, – произнес отец-генерал сухо и четко, – за высказанное мнение.
Поставленный на место Эдвард Бер проводил Джулиани взглядом и только потом забрался в автомобиль, чтобы отвести его в гараж, где подключил машину к зарядке и, вопреки привычке, забыл запереть, хотя всякий сумевший пройти мимо охранник из каморры интересовался бы Эмилио Сандосом, а не автомобилем, настолько древним, что его приходилось подзаряжать каждую ночь.
Пока Эдвард, задрав голову, смотрел вверх на окно спальни, которое только что задернули занавеской, потягиваясь и мурлыча, явился один из местных котов. И хотя Эдвард всегда восхищался красотой кошек, он привык видеть в них источник всякого рода заразы.
– Брысь, – сказал он животному, которое тем не менее продолжило тереться о ноги Эдварда, считаясь с его тревогами не более, чем только что отец-генерал.
Через несколько минут после этого Винченцо Джулиани вошел в свой кабинет, затворил дверь с тихим, отмеренным щелчком и, невзирая на это, не столько сел в кресло, сколько рухнул в него. Упершись локтями в широкую, безупречно отполированную блестящую поверхность каштановой крышки стола, он прикрыл лицо ладонями и зажмурился, чтобы не видеть собственное отражение. «Торговать с Ракхатом неизбежно придется, – сказал он себе. – Карло намеревается торговать, поможем мы ему или нет. Однако таким образом мы можем оказать смягчающее влияние…»
Подняв голову, он протянул руку к своему ноутбуку; открыв его, Джулиани нашел письмо, которое безуспешно пытался закончить все предыдущие три дня.
Оно начиналось с обращения «Ваше святейшество…», однако отец-генерал писал не одному Папе. Этому письму предстояло войти в историю, стать частью первого контакта человечества с инопланетными разумными существами.
«Благодарю вас, – писал он, – за любезно проявленный интерес к состоянию и здоровью Эмилио Сандоса. За год, прошедший после его возвращения на Землю с Ракхата в сентябре 2059 года, отец Сандос вылечился от цинги и анемии, однако до сих пор находится в состоянии хрупком и эмоционально нестойком. Как вам известно из сообщений медиа в прошлом году, составленных на основании утечки информации от персонала римского госпиталя «Салватор Мунди», мускулатура пальцев обеих кистей его была иссечена на Ракхате, удвоив длину его пальцев и сделав их бесполезными. Сандос до сих пор не совсем понимает, почему его преднамеренно подвергли такому увечью, которое явно не рассматривалось как пытка, хотя, по сути дела, именно пытку и представляло. Он полагает, что процедура эта отмечала его зависимость или принадлежность некоему ракхатцу по имени Супаари ВаГайжур, о коем ниже. Отцу Сандосу были предоставлены биоактивные экзопротезы; он с большим усердием трудился, осваивая их, чтобы достичь ограниченной сноровки, и в настоящее время способен почти полностью обслуживать себя…»
Пора отнимать его от Эда Бера, решил отец-генерал и отметил в памяти: откомандировать брата Эдварда. Возможно, в новый лагерь беженцев в Гамбии. Можно также воспользоваться опытом Эда в уходе за жертвами групповых изнасилований. Выпрямившись и стряхнув рассеянность, он вернулся к письму.
«По мнению старших священников миссии, – продолжался текст, – Эмилио Сандос обеспечил существенную часть успеха на начальной стадии первого контакта. Его чрезвычайное мастерство и огромные лингвистические познания помогли всем остальным участникам экипажа «Стеллы Марис» в их исследованиях, a его личное обаяние позволило им подружиться со многими ВаРакхати. Более того, очевидная красота его духовного состояния на первых годах экспедиции воскресила веру в душе по меньшей мере одного из мирян – участников полета и обогатила стойкость в вере собратьев священников.
Тем не менее отец Сандос стал объектом ядовитого публичного осуждения за предполагаемое обществом поведение на Ракхате. Как вам известно, через три года следом за нашим кораблем был отправлен «Магеллан», корабль, принадлежащий Консорциуму Контакт и преследовавший в первую очередь коммерческие интересы. Скандал хорошо продается; сенсационные обвинения против наших людей (и особенно против отца Сандоса) должны были послужить экономической выгоде Консорциума, так как пышущие злобой отчеты их экипажа были отправлены от Ракхата на потеху всего земного человечества. На самом деле экипаж «Магеллана», высаживаясь на Ракхат, находился в полном неведении о планете и ее обитателях, и есть все основания предполагать, что Супаари ВаГайжур ввел их в заблуждение относительно многих фактов. Последовавшее и оставшееся необъясненным исчезновение членов экспедиции «Магеллана» отчасти предполагает, что и они пали жертвой какой-нибудь фатальной ошибки, не совершить которую на чужой планете невозможно.
Таким образом, из восемнадцати людей, высадившихся на Ракхат в составе двух отдельных экспедиций, выжил только Эмилио Сандос. Отец Сандос в меру своих возможностей сотрудничал с нами в течение месяцев интенсивного расследования, часто ценой огромных личных неудобств. Я отправляю Вашему Святейшеству весь комплекс научных материалов миссии и сопутствующих документов, а также словесные протоколы слушаний; ниже на ваше рассмотрение представлен краткий перечень наиболее выдающихся пунктов, обнаруженных в результате только что завершенных слушаний.
Первое: на Ракхате обитает не один, а два вида разумных существ.
Экипаж «Стеллы Марис» впервые вступил в контакт с населением деревни Кашан, которое приняло его за торговую делегацию из «дальних» краев. Жители деревни называли себя руна, что означает просто «люди». Руна представляют собой крупных двуногих вегетарианцев, наделенных стабилизирующим движения хвостом, – нечто вроде кенгуру; еще у них стоячие и подвижные уши и удивительно прекрасные глаза с двойными радужками. Пребывая в кротости духа, они чрезвычайно общительны и склонны к общественному образу жизни.
Ладони их снабжены двумя большими пальцами, и поэтому они весьма искусны в рукоделиях и ремеслах, хотя некоторые из участников миссии ордена подозревали, что руна как вид несколько ограничены в интеллектуальном плане. Их материальная культура явным образом не соответствовала тем мощным радиопередачам, которые были приняты земными радиотелескопами в 2019 году. Более того, оказалось, что музыка тревожит и пугает руна, что выглядело для нас аномальным, поскольку именно переданные по радио хоралы поведали нам о самом существовании Ракхата. Но сами руна проявили достаточно высокий уровень мышления, и потому в миссии возобладало мнение, гласившее, что деревня Кашан представляет собой отсталый уголок на краю сложной цивилизации. Однако из-за того, что в Кашане можно было узнать чрезвычайно многое, нашей группой было принято решение побыть в ней еще какое-то время.
К огромному удивлению наших людей, Певцы Ракхата на самом деле оказались представителями второго вида обитавших на планете разумных существ. Жана’ата удивительным, хотя и поверхностным, образом схожи с руна. Они плотоядны, имеют хватательные ступни и трехпалые когтистые руки, похожие на медвежьи лапы. В первые два года пребывания на Ракхате знакомство нашей миссии с жана’ата ограничивалось единственным представителем этой расы, Супаари ВаГайжуром, торговцем из города Гайжур, исполнявшим роль посредника в торговле с некоторым количеством изолированных деревень руна, находящихся на юге Инброкара, государства, занимающего центральную треть самого крупного континента Ракхата.
Члены миссии Общества Иисуса укрепились в доверии к Супаари, считая того разумным существом доброй воли. Во всяком случае, вмешательство и помощь Супаари улучшили их взаимоотношения с селянами-руна, и Сандос объясняет большую часть своего понимания цивилизации Ракхата терпеливым сотрудничеством с Супаари, последующее предательство которого в отношении Сандоса остается одной из больших загадок всей миссии.
Второе: руна производят инструменты; жана’ата размножают их.
Руна являются руками жана’ата: они искусные ремесленники, домашняя прислуга и работники. Однако различия в статусе между жана’ата и руна являются не просто классовыми, как первоначально предполагали наши люди. По сути своей руна являются одомашненными животными – жана’ата размножают их так же, как мы собак.
Руна не размножаются до тех пор, пока организм их не достигнет определенного уровня упитанности, после чего развивается нечто вроде эструса. Этот биологический факт лег в основу экономики общества ракхати. Руна «зарабатывают» право иметь детей, вступая в экономические отношения с жана’ата. Когда корпоративный счет деревни достигает намеченного уровня, жана’ата поставляют селянам дополнительные калории, позволяющие им размножаться, не нанося ущерба окружающей среде за счет перенаселения.
Основными ценностями общества жана’ата являются управление и стабильность, и, придерживаясь их, жана’ата также ограничивают собственное размножение, поддерживая численность собственного вида примерно на уровне четырех процентов всей численности популяции руна.
Церемониальная жизнь в существенной степени подчинена строгим законам наследования, и только первые двое детей любой имеющей право на размножение пары жана’ата в свой черед получают право вступать в брак и размножаться. Если рожденные в последующую очередь взрослые ВаРакхати отказываются от кастрации, им разрешается вступать в половые отношения с наложницами-руна, поскольку межвидовые сношения безопасны с точки зрения неконтролируемого размножения. Третьерожденные жана’ата чаще всего занимаются торговлей, науками и, очевидным образом, проституцией. В этой связи следует отметить, что упомянутый Супаари ВаГайжур как раз и являлся третьерожденным ребенком в собственной семье.
Более того, еще более шокирующим является тот факт, что жана’ата разводят руна не только из-за их разумности и способности обучаться, но и на мясо. За незнание этого мы заплатили собственными жизнями, Ваше Святейшество».
На этом месте Джулиани остановился предыдущей ночью, прислушиваясь к шагам Сандоса над головой. Пять шагов, пауза; пять шагов, остановка. Что ж, пока Эмилио ходит, можно не сомневаться в том, что жизнь его еще не причтена к перечню погибших на Ракхате… Вздохнув, Джулиани возвратился к прерванному занятию.
«Третье: жана’ата не содержат руна в загонах.
Когда дети взрослых руна сами достигают репродуктивного возраста, родители добровольно отдаются в руки патрулей жана’ата, периодически собирающих таковых вместе с не отвечающими стандарту детьми, после чего их всех убивают на мясо.
Вашему святейшеству следует понять, что наши люди полностью не представляли себе взаимоотношения между жана’ата и руна, став невольными свидетелями прибытия занимающегося отбраковкой патруля, который начал убивать младенцев ВаКашани. Оказавшись в такой сложной ситуации, которая лучше всего объяснена в показаниях Сандоса, экипаж «Стеллы Марис» воспринял действия патруля как неспровоцированное нападение на руна деревни Кашан. Вдохновленные примером Софии Мендес, жители деревни оказали сопротивление властям, многие из них погибли, защищая невинных детей. Впоследствии Супаари ВаГайжур назвал этот акт беззаветной отваги поводом для восстания среди руна, a еще позднее Консорциум Контакт квалифицировал его как опрометчивое и прискорбное вмешательство в дела Ракхати. Следует, однако, признать, что среди руна, последовавших порыву Софии Мендес и поднявшихся на защиту своих детей, многие погибли в результате собственного неповиновения».
Отец-генерал откинулся на спинку кресла. A теперь, подумал он, идет самое худшее.
«После побоища в Кашане, – начал новый абзац Джулиани, – из всего экипажа «Стеллы Марис» остались в живых только Эмилио Сандос и отец Марк Робишо, попавшие в плен к патрулю жана’ата, который в течение нескольких недель гнал их форсированным маршем по окрестным селениям, где им пришлось стать свидетелями смерти многих руна. Каждое утро им предлагали еду, и Сандос какое-то время не понимал, что ест мясо младенцев руна; а когда догадался об этом – голод заставлял его есть эту плоть. Что до сих пор остается для него в собственных глазах источником позора и горя.
Когда Супаари ВаГайжур узнал, что они находятся в распоряжении патруля, он определил место нахождения обоих священников и, очевидно, подкупил командира патрульного отряда, став, таким образом, их владельцем. Сандосу, уже в резиденции Супаари, было предложено вместе с Робишо пройти обряд хаста’акала. Он посчитал, что им предлагается гостеприимство, и согласился. К его ужасу, этот обряд подразумевал полное уничтожение его ладоней; в результате отец Робишо скончался от потери крови. Примерно через восемь месяцев Супаари ВаГайжур продал Сандоса аристократу-жана’ата по имени Хлавин Китхери. Ваше Святейшество не может даже представить себе всю жестокость того обращения, которому подвергался Сандос в руках Китхери».
Поежившись, отец-генерал резко встал и отвернулся от написанного им.
– Что есть шлюха, – спросил его однажды Эмилио, – как не человек, чье тело погублено ради чьего-то удовольствия? Я – Божия шлюха, и я погублен.
Какое-то время Джулиани, ничего не замечая, бродил по своему кабинету – пять шагов, поворот; пять шагов, поворот – пока наконец не заметил, что неосознанно повторяет ритм бессонных ночей, шагов, которые он столько раз слышал над потолком своей кельи. «Заканчивай это письмо», – приказал он себе и снова взялся за дело.
«По прошествии нескольких месяцев, когда «Магеллан» вышел на орбиту вокруг Ракхата, экипаж Консорциума Контакт, посетил безлюдную «Стеллу Марис» и получил доступ к отчетам первых двух лет нашей миссии. От всего экипажа миссии ордена не осталось и следа, нетрудно было предположить, что все члены его погибли. Экипаж «Магеллана» высадился возле деревни Кашан, где их встретили неприкрытой враждой и страхом в отличие от радушного приема, оказанного команде «Стеллы Mарис». Юная самочка руна по имени Аскама сказала им по-английски, что Эмилио Сандос жив и обитает вместе с Супаари ВаГайжуром в городе Гайжур. Надеясь получить какие-то наставления от Сандоса, экипаж «Магеллана» отправился в город под руководством Аскамы, явно симпатизировавшей Сандосу.
Когда они оказались в Гайжуре, Супаари сообщил людям с «Магеллана», что Сандос и в самом деле состоял в его доме в качестве челядина до самых недавних времен, но теперь по собственному желанию обитает в каком-то другом месте. Супаари также поведал им о гибели многих руна из-за вмешательства иноземцев в местные дела. Невзирая на это, Супаари помогал экипажу «Магеллана» и готов был заключать с ними сделки, хотя и уклончиво отвечал на вопросы, касавшиеся местонахождения Сандоса.
Несколько недель спустя Аскама сама нашла Сандоса и отвела к нему руководителей экспедиции «Магеллана». Его обнаружили в серале Хлавина Китхери, нагим, в украшенном самоцветами оплечье и надушенных ароматами лентах и с кровавыми свидетельствами совершенной содомии. По собственному признанию, к этому времени Сандос дошел до состояния убийственного отчаяния. Надеясь на то, что его признают слишком опасным и оставят в покое или казнят, он в тот день принес обет Иеффая[8]: то есть приготовился убить того, кто первым зайдет в его клетушку.
Он не мог даже представить, что его жертвой окажется Аскама, девочка-руна, которую он едва ли не воспитывал и любил всем сердцем. Когда Сандос увидел перед собой труп этого ребенка, а за нею представителей Консорциума, он расхохотался. Думаю, что именно этот смех и убедил их в его моральном падении, кроме того, они располагали недавним свидетельством Супаари ВаГайжура, уверявшего их в том, что Сандос стал торговать собой по собственному желанию. Теперь я считаю, что смех этот стал знаком прорвавшейся истерики и отчаяния, однако они только что стали свидетелями убийства, и в сложившихся обстоятельствах представители экипажа «Магеллана» предпочли поверить в худшее».
«Как и я сам», – подумал Винченцо Джулиани, вновь вставая и отходя от письменного стола.
Задним умом эта мысль казалась абсурдной – мысль о том, что горстка представителей рода людского сумеет с первого раза сделать все без ошибок. Даже ближайшие друзья могут не понимать друг друга, напомнил он себе. Первый контакт по определению происходит в состоянии полнейшего взаимонепонимания, когда обеим совершающим его сторонам ничего не известно об экологии, биологии, языках, культуре и экономике другой стороны. На Ракхате результат такого непонимания оказался катастрофическим.
«Ты не мог этого знать, – подумал Винченцо Джулиани, прислушиваясь к собственным шагам, но вспоминая шаги Эмилио. – И ты не виноват».
«Расскажи это мертвым», – ответил бы Эмилио.
Глава 2
Труча Сай, Ракхат
2042 год по земному времяисчислению
София Мендес с самого начала полета понимала, что члены иезуитской миссии на Ракхат окажутся самым уязвимым видом живых существ на этой планете.
«Стелла Марис» стартовала с экипажем из восьми человек. Алан Пейс скончался через несколько недель после посадки на планету, после чего их осталось семеро. Д. У. Ярброу, глава иезуитской миссии, заболел еще через несколько месяцев и так и не выздоровел, хотя с момента заболевания прожил восемнадцать месяцев в постоянно ухудшающемся состоянии здоровья. Понятным образом врач Энн Эдвардс, не имея исследовательской лаборатории и коллег, так и не сумела определить причину болезни, хотя рекомендации ее, вне сомнения, продлили жизнь Д. У. Впоследствии и сама Энн погибла вместе с Д. У., и смерть их стала тяжелейшим ударом для четверых выживших.
Иезуитской миссии неоднократно приходилось сплачивать ряды перед лицом несчастий. Когда простая ошибка в вычислениях после серьезной аварии привела к тому, что экипаж оказался запертым на Ракхате, они приспособились к ситуации, создав огород, способный снабжать людей пищей, торговля экзотическими товарами позволила им войти в местную экономическую систему. Жители деревни Кашан приняли их в свое общество, многие из местных жителей стали относиться к ним как к родственникам.
Случались и веселые совместные праздники, самым ярким из которых стала свадьба самой Софии с Джимми Куинном и объявление о том, что они ждут ребенка, состоявшееся как раз перед тем, как все разлетелось вдребезги.
Как и многие еврейские дети, София Мендес была воспитана на примерах из прошлого – библейской памяти о египетских рабовладельцах, вавилонянах, ассирийцах, римлянах, инквизиторах, казаках с нагайками, эсэсовцах с автоматами; она уничтожала в своей душе эти детские бессильные страхи, представляя себя борцом с этими захватчиками. И потому, когда патруль жана’ата явился в Кашан, сжег разбитый иноземцами огород, потребовал, чтобы руна ВаКашани принесли своих младенцев, и начал убивать детей, София Мендес отреагировала без промедления.
– Нас много. Их мало, – обратилась она к ВаКашани и прижала младенца руна к собственной груди, отяжелевшей в беременности.
– Мы, люди, – сказала она, связывая собственную судьбу с руна, – на стороне untermenschen Ракхата.
Ее жест на короткий момент пробудил сопротивление; ее падение под тяжелым размахом руки жана’ата сопротивление прекратило. Затем, полагая, что победы они все равно не добьются, руна-отцы полегли на землю, прикрывая своими телами детей, а руна-матери пожертвовали собой, принимая на себя гнев жана’ата, чтобы спасти остальных. Когда побоище завершилось, на земле остались десятки окровавленных тел, большую часть которых победители немедленно разделали.
Когда патруль оставил деревню, пережитый ужас и кратковременный боевой восторг сделали невозможным прежний консенсус. Деревня Кашан распалась на мелкие части, нарушая общую стратегию выживания руна: держаться вместе; кружком, чтобы защитить как можно большее количество своих; действовать сообща. Теперь же находящиеся на пороге паники руна искали тех, кто разделял похожие чувства, немедленно образуя малые по количеству, но менее уязвимые группы. Потерявшие родственников повязывали на руки и шеи волнистые надушенные ленты, не имея сил на другую реакцию. Большая часть даже испытывала уверенность в том, что теперь-то уж жизнь наладится, так как из всех иноземцев в живых осталась одна София, а из незаконных младенцев уцелели немногие. Общий порыв требовал сдать Софию правительству жана’ата в качестве доказательства того, что Кашан вернулся на стезю закона.
– Отдать одного, спасти многих! – кричали они.
– Однако Фиа не сделала нам ничего плохого! Смерть принесли джанада! – возразила девушка по имени Джалао. Едва причисленная к взрослым, она не пользовалась никаким авторитетом, однако посреди общей сумятицы столь многие нуждались в указании, что ее послушали.
– Предупредите столько соседних деревень, сколько сумеете. Расскажите им о том, что произошло в Кашане, – после побоища наставляла Джалао гонцов. – Идут патрули джанадa, только говорите им то, что сказала Фиа: «Нас много. Их мало».
Канчай ВаКашан находился в таком же смятении, как и все остальные, однако София спасла его дочь Пуску, и он был благодарен Мендес. Поэтому, когда горстка мужчин, чьи младенцы уцелели в побоище, решила дождаться красного света и искать укрытие под пологом южного леса, он взял с собой и Софию.
O путешествии в убежище София запомнила только тоненький плач младенцев-руна и ровную, плавную поступь Канчая, день за днем уносившего ее на собственной спине; и то, как звуки саванны сменялись лесными звуками. Лицо ее сначала болело так, что она не могла даже открыть рот, и он измельчал для нее пищу, смешивал с дождевой водой и кое-как проталкивал в глотку сквозь сжатые зубы. Она старалась проглотить все, что могла. «Это нужно ребенку, – думала она. – Ребенку нужно».
Побледневшая от потери крови, отупевшая от боли, она концентрировала все свое внимание на собственном ребенке, единственном родном существе, оставшемся с ней после того, как погибли все остальные, кого она осмелилась полюбить. София фокусировала всю силу своей жизни в самом центре своего организма, где, несмотря на все, жил ребенок, и каждое легкое движение плода приносило ей страх, а каждый сильный толчок – надежду.
В самом начале она забывалась тяжелым сном, да и после много спала, согретая светом трех солнц, пробивавшимся сквозь полог листвы. Бодрствуя, она лежала, вслушиваясь в ритмичный скрежет длинных и прочных листьев, напоминавших самурайские мечи, – гнувшихся и шуршащих в руках руна, устраивавших на прогалине изящные платформы и кровли для сна. Где-то совсем рядом журчал ручеек, перепрыгивая с гладкого камня на камень. А над головой гулко стонали стволы валиа, сгибающиеся под ветром. И отовсюду доносились мягкие, снижающиеся гласные руанжи, воркование отцов-руна над детьми, которым было отказано в праве жить.
Окрепнув, она спросила о том, где находится.
Ей ответили – в Труча Сай. Что значит – «забудь нас».
– Руна приходят в Труча Сай, когда джанада проливают слишком много крови, – пояснил Канчай самыми простыми словами, словно обращаясь к ребенку. – Проходит время, и они забывают. И мы-и-ты будем ждать этого в лесу.
Она увидела в этих словах нечто большее, чем объяснение: Канчай намеренно выбрал слова.
– Здесь существуют две формы первого лица во множественном числе, – объяснял когда-то Эмилио Сандос остальным членам экипажа «Стеллы Марис». – Одна исключает лицо, к которому обращаются, так? То есть это мы-но-не-ты. Другая включает его. Если рунао использует мы инклюзивное, это важно и можно не сомневаться в его дружбе.
Беженцы-руна из всех южных провинций Инброкара присоединялись к ВаКашани в Труча Сай. И каждый из них нес младенца, и каждый младенец был рожден парой, питавшейся более калорийной пищей, выращенной на огородах иноземцев, – парой, нарушившей правила жана’ата, вступившей в союз без разрешения жана’ата, обошедшей руководство жана’ата с беспечной, бездумной и непреднамеренной легкостью. Поселение Труча Сай постепенно наполнялось руна, на спинах которых оставались длинные тройные зажившие и полузажившие рубцы, розовые восковые следы, прорезавшие плотные темно-желтые шкуры.
– Сипаж, Канчай. Наверное, тебе было больно нести сюда эту, – однажды проговорила София, посмотрев на его шрамы и вспомнив путешествие по лесу. – Кто-то благодарит тебя.
Рунаo опустил уши.
– Сипаж, Фиа! Чей-то ребенок живет благодаря тебе.
«А это важно, – думала она рассеянно, снова лежа, снова вслушиваясь в лесную симфонию голосов, писка, жужжаний и капель моросящего дождя, стекавших с листьев. – В Талмуде сказано, что спасенная вовремя жизнь может спасти весь мир. Как знать, – думала она. – Как знать?»
Итак, спустя месяц после побоища, в котором погибла половина руна, живших в деревне Кашан, София Мендес пребывала в уверенности, что она осталась единственной представительницей человечества, последней из всей иезуитской миссии на планете Ракхат. Приняв вызванную потерей крови летаргию за спокойствие, она полагала, что ей повезло в том, что она не ощущает горя. Жизненный опыт, уверяла она себя, подсказывает, что слезами горю не поможешь.
Счастье не обременяло собой ее жизнь. И всякий раз, когда заканчивался короткий период относительного благополучия, София Мендес не укоряла судьбу, но считала такой поворот возвращением к нормальной жизни. Поэтому в первые недели после побоища она просто считала, что ей повезло хотя бы в том, что оказалась среди тех, кто не рыдал и не оплакивал мертвых.
– Дождь падает на всех; молния ударяет в некоторых, – рассуждал ее друг Канчай. – То, чего не можешь изменить, лучше забыть, – советовал он, без бессердечности, но с некоторой долей практического смирения, присущей селянам руна Ракхати, которую София разделяла с ними.
«Бог создал мир и сказал, что это хорошо, – говаривал отец Софии всякий раз, когда она прибегала жаловаться ему на какую-нибудь несправедливость во время своего короткого детства. – Мир не справедливый. Не счастливый. Не совершенный, София. Просто хороший».
Хороший… но для кого? Часто пыталась она понять, сперва с юной дерзостью, а потом с усталостью четырнадцатилетней девушки, трудившейся на панели Стамбула во время бессмысленной гражданской войны.
Она почти никогда не плакала. Слезы никогда не приносили Софии Мендес ничего, кроме головной боли. Еще когда она только научилась говорить, ее родители считали слезы тактическим приемом трусов и слабаков и воспитывали ее в сефардской традиции четкого рассуждения; она должна была добиться своего не всхлипами, но обоснованием своей позиции, настолько логично и убедительно, насколько умела в рамках достигнутой стадии развития своей нервной системы.
Когда, едва достигнув зрелости, будучи уже закаленной в какой-то мере реальностями войны на улицах города, София стояла над изуродованным минометным снарядом трупом своей матери, она была слишком потрясена свежей утратой, чтобы плакать. Не оплакивала она и отца, который однажды и навсегда просто не вернулся домой, не назначив точного времени для перехода от беспокойства к слезам. Она не выражала также и симпатии к слезам осиротевших товарок, других молодых шлюх. София сдерживала себя и не позволяла себе портить слезами собственную внешность, превращать лицо в опухшую, покрытую красными пятнами маску и потому питалась более регулярно, чем все остальные, и располагала достаточной силой для того, чтобы вогнать нож меж ребер клиенту, попытавшемуся обмануть или убить ее. Она торговала собственным телом, a потом, когда представилась возможность, своим умом, но уже за более высокую плату. Она выжила и живой выбралась из Стамбула, сохранив чувство собственного достоинства, потому что не поддавалась эмоциям.
Она не плакала бы вообще, если бы на седьмом месяце беременности ее не посетил кошмар: ей приснилось, что ребенок ее родился и что из глаз его течет кровь. Ощутив на сердце жуткую тяжесть, она в ужасе проснулась и, ощутив себя беременной, сперва заплакала от облегчения: ведь неродившийся младенец не мог бы плакать кровью. Однако плотина рухнула, и ее наконец затопил океанский поток печали.
Утопая в море утраты, она обхватила руками свой тугой круглый живот и плакала – плакала… не зная слов, не зная логики, не зная ума, который мог бы подсказать, что именно от этого – от этого ужаса, от этой боли – пыталась спастись всю свою жизнь, и не без причины.
При всем отсутствии привычки к слезам – плакать теперь было ужасно… Слезы залили одну половину ее лица, и от этого ощущения горе превратилось в истерику. Встревоженный ее рыданиями, Канчай спросил:
– Сипаж, Фиа, тебе приснились те, кто ушел от нас?
Однако она не смогла ни ответить, ни кивнуть в знак согласия, так что Канчай и его кузен Тинбар стали раскачиваться и дружно посмотрели на небо: не собирается ли дождь, когда кое-кто впал в фиерно. Пришли и другие руна, стали расспрашивать ее о погибших, дарить ленты на руки, а она плакала.
В конце концов спасла ее собственная усталость, а не чужие хлопоты.
«Это было в последний раз, – поклялась она себе, засыпая, наконец выплакав все эмоции. – Я не позволю этому повториться. Любовь – это долг, – подумала она. – И когда тебе присылают счет, ты оплакиваешь его горем».
И ребенок взбрыкнул в знак протеста.
София проснулась в объятьях Канчая, хвост Тинбара укрывал ее ноги. Вспотевшая, ощущая, как с одной стороны опухло ее лицо, она выпуталась из их объятий, неловко встала и побрела со своим большим животом, держа в руках темный чанинчай, совсем недавно сделанный из широкой и плоской скорлупы лесного пигара. Постояв недолго, она осторожно нагнулась и зачерпнула воды из ручья. Став на колени, она стала черпать ладонями прохладную чистую воду, омывая ею лицо.
А затем снова наполнила чашу и дала воде возможность успокоиться, прежде чем посмотреть в нее как в зеркало.
«Я не руна!» – подумала она, удивившись этому факту. Подобная странная потеря себя случалась с ней и прежде; через несколько дней после начала первой заморской командировки. Работая по контракту ИИ в Киото, глядя в зеркало ванной комнаты, она удивлялась тому, что не является японкой, как остальные женщины вокруг нее. И теперь здесь, на Ракхате, собственное человеческое лицо казалось ей голым; собственные взлохмаченные волосы – странными; уши – слишком маленькими и неуместными; глаза с одной радужкой – слишком простыми, а взгляд их – пугающе прямолинейным. И только после того, как она осознала все это, дошло и остальное: косой тройной шрам, протянувшийся от лба до челюсти, и пустая впадина, яма на месте…
– Чья-то голова болит, – сообщила она Канчаю, последовавшему за ней к ручью и теперь присевшему рядом с ней.
– Как у Миило, – ответил Канчай, знакомый с приступами мигрени у Эмилио Сандоса и потому считавший головную боль нормальной реакцией иноземцев на горе. Сев на собственный мускулистый, сужающийся к концу хвост, он проговорил: – Сипаж, Фиа, иди и садись.
И она протянула руку, чтобы опереться на него и не упасть, выходя из воды.
Он начал расчесывать ее волосы, разбирая по отдельности прядку за прядкой, распутывая узелки внимательными руками рунао. Она предалась этому занятию, прислушиваясь к тому, как затихает лес в полуденную жару.
Чтобы занять руки, как это всегда делала маленькая Аскама, сидя на коленях у Эмилио, София взяла концы трех лент, обвязанных вокруг ее руки, и начала переплетать их. Аскама часто вплетала ленты в волосы Энн Эдвардс и Софии, однако раньше руна никогда не предлагали иноземцам носить их.
– Должно быть потому, что мы одеты, – думала Энн, но это была всего лишь догадка.
– Сипаж, Канчай, кто-то хочет узнать про ленты, – сказала София, глядя на него снизу вверх и повернув голову так, чтобы он видел ее слева. На этом глазу у нее была легкая близорукость. «Как жаль, – подумала она, – что лишивший ее глаза жана’ата не был правшой… тогда у нее остался бы полностью здоровый глаз».
– Эту ленту мы дали тебе за Дии, а эту – за Хэ’эн, – сказал ей Канчай, по одной перебирая ленты. Дыхание его пахло вереском: на этой неделе они питались в основном зеленью нжотао. – Эти – за Джоджи и Джими. Эти – за Миило и Марка.
От этих имен у нее перехватило горло, однако со слезами было покончено. Тут София вспомнила, что Аскама пыталась повязать две ленты на руку Эмилио после гибели Д. У. и Энн, но тому было тогда совсем плохо.
– Значит, их носят не для красоты, – спросила София, – но как напоминание о тех, кто ушел?
Дохнув на нее травяным перегаром, Канчай по-доброму усмехнулся:
– Не для того, чтобы помнить! Для того, чтобы их одурачить. Если духи возвращаются, они следуют по запаху в те места, где жили прежде. Сипаж, Фиа, если ушедшие снова приснятся тебе, расскажи кому-то, – предупредил он ее, ибо Канчай ВаКашан был предусмотрительным рунао. После чего добавил: – Иногда ленты – просто красивое украшение. Джанада и считают их всего лишь украшением. Иногда это действительно так. – Еще раз хохотнув, он поведал Софии: – Джанада похожи на духов. Их можно одурачить.
Энн стала бы расспрашивать его о том, почему это духи возвращаются, и о том, как и когда они это делают; Эмилио и остальные священники пришли бы в восторг от связи запаха с духами и общением с незримым миром. София взяла ленты в руку, гладя пальцам атласную поверхность. Лента Энн была серебристо-белой. Может быть, как ее волосы?
Но нет – Джордж также был совсем седым, однако лента его оказалась ярко-красной.
Лента Эмилио была зеленой, и София подумала, что, кажется, знает причину. Лента ее мужа, Джимми, обладала чистым и светящимся голубым цветом; вспомнив его глаза, она поднесла ленту к лицу, чтобы вдохнуть ее запах. Пахло сеном, травяным и колким. Дыхание ее перехватило, и она опустила ленту. «Нет, – решила она. – Он ушел. А я больше не буду плакать».
– Почему же, Канчай? – потребовала она ответа, посчитав проявление гнева предпочтительнее проявлению боли. – Но почему патруль джанада сжег огороды и убил младенцев?
– Кто-то думает, что огороды – это неправильно. Люди должны ходить за своей пищей. Неправильно растить пищу у дома. Джанада лучше нас знают, когда нам надо рождать детей. Кто-то думает, что люди запутались и родили детей не вовремя.
Возражать было грубостью, но Софии было жарко, она устала и была раздражена манерой, в которой он разговаривал с ней, потому лишь, что она была ростом с восьмилетнего ребенка руна.
– Сипаж, Канчай, но что дает жана’ата право решать, кто и когда может иметь детей?
– Закон, – ответил он с таким видом, будто слово это было ответом на ее вопрос. А затем, оживившись, сказал ей: – Иногда в женщину может попасть неправильный ребенок. Такой ребенок, например, которому положено стать кранил. В прежние времена люди относили таких малышей к реке и звали кранилов: «Вот ваш ребенок, по ошибке родившийся у нас». Потом они опускали ребенка под воду, где жили кранилы. Это было трудно.
Он надолго умолк, обратив все свое внимание на какой-то узелок в ее волосах, по волоску распутывая его.
– Теперь же, когда к нам по ошибке приходит неправильный ребенок, это трудное дело исполняют джанада. И когда они говорят: вот хороший ребенок, тогда мы знаем, что с ним все будет отлично. Мать может снова пускаться в путешествия. И сердце отца будет спокойно.
– Сипаж, Канчай, а что вы говорите своим детям? О том, что надо отдавать себя на съедение жана’ата?
Ладони его остановились на мгновение, он ласково привлек ее голову к груди и заговорил, словно начиная колыбельную:
– Мы говорим им так: в старые времена люди были одни и больше никого не было. Мы путешествовали во все стороны, куда только хотели, и не знали никаких опасностей, но нам было одиноко. Когда пришли джанада, мы обрадовались им и спросили: «Вы не голодны?»
Они ответили: «Умираем от голода!» Поэтому мы предложили им пищу – ведь путника, как тебе известно, всегда надлежит накормить. Но джанада не умели есть правильно и не могли есть ту пищу, которую мы им предлагали. Поэтому люди стали говорить и говорить, обсуждая, что нам все-таки делать – ведь нехорошо, когда гости голодны. Пока мы говорили, джанада начали есть наших детей. Тогда старшие сказали: они путешественники, они гости – мы должны кормить их, но установим правила. «Вы не должны есть всякого, кто попадется, – сказали мы джанада. – Вы должны есть только стариков и старух, от которых больше нет никакого толка». Так мы приручили джанада. И теперь хорошие дети находятся в безопасности и они забирают только старых, усталых и больных людей.
София изогнулась и посмотрела на него:
– Кто-то думает, что это хорошая сказка для малых детей, чтобы они хорошо спали и не наделали фиерно, когда придет выбраковщик.
Канчай поднял подбородок и вновь принялся расчесывать ее волосы.
– Сипаж, Канчай, эта не велика ростом, но не ребенок, чтобы прятаться от правды. Джанада убивают очень старых, больных и несовершенных. А убивают ли они еще и тех, кто вселяет беспокойство? – потребовала она ответа. – Сипаж, Канчай, почему вы позволяете им это? Откуда у них такое право?
Руки его остановились на мгновение, он проговорил с прозаическим терпением:
– Когда мы отказываемся идти с ними, наше место должен занять кто-то другой.
И прежде чем она успела ответить, протянул руку к ее животу, чтобы погладить его, словно живот собственной жены.
– Сипаж, Фиа, твой ребенок, конечно, уже созрел! – проговорил он явно для того, чтобы сменить тему разговора.
– Нет, – ответила она, – еще рано. Наверное, ждать придется еще шестьдесят ночей.
– Так долго! Кто-то уже думает, что ты вот-вот лопнешь, как стручок датинсы.
– Сипаж, Канчай, – отозвалась она с нервным смешком, – лучше молчи, а то случится по-твоему.
Страх и надежда, страх и надежда, страх и надежда… бесконечный круг.
«Почему же я так боюсь? – спросила она себя. – Я же Мендес. Я могу все». Однако ей удалось – пусть и недолго – побыть в веселых Куиннах: радующейся ночам и дням единственного в ее жизни лета и абсолютно немыслимому своему сочетанию с невероятно высоким, до смешного домашним и неимоверно любящим астрономом и ирландским католиком. A теперь Джимми больше не было, его убили джанада…
Ощутив, что пальцы Канчая вновь приступили к работе, она привалилась к нему спиной и посмотрела на лужайку, на которой прочие представители его расы говорили, готовили еду, смеялись, развлекали младенцев. «Могло быть и хуже, – подумала она, вспомнив привычную реакцию Джимми на неприятности, и охнула, ощутив резкое движение своего ребенка. – Я – София Мендес Куинн, и дела мои могли бы обстоять много хуже».
Глава 3
Неаполь
Сентябрь 2060 года
Иногда, если он никак не реагировал, люди уходили.
Некогда здесь жил мирянин-шофер. Комнатушка над гаражом находилась всего в нескольких сотнях метров от приюта, обычно такого расстояния вполне хватало, и Эмилио Сандос боролся за сохранение его со свирепостью отпетого собственника, удивлявшей его самого. Он добавил к обстановке немногое – фотонику, звуковое оборудование, рабочий стол, – но это была его комната. Голые балки и побеленные стены. Два стула, стол, узкая кровать; импровизированная кухонька; душевая кабинка и стульчак за передвижной ширмой.
Он смирился с тем, что не все умел контролировать. В частности, кошмары. Опустошительные приступы невралгии – поврежденные нервы кистей время от времени посылали стробоскопические импульсы боли вверх по его рукам. Он прекратил сопротивляться накатывавшим без предупреждения слезам; Эд Бер был прав, рыдания лишь ухудшали головную боль. Здесь, в одиночестве, он мог заставлять себя переносить эти удары, кататься от боли, принимая их, отдыхать, когда отступало. Если все отвяжутся от него, оставят его в покое – позволят ему жить своим чередом, на собственных условиях, – все будет в порядке.
Зажмурив глаза, сгорбившись, раскачиваясь на руках, он с нетерпением ждал, надеясь услышать, что шаги удаляются от двери. Стук повторился.
– Эмилио! – позвал отец-генерал, и в голосе его слышалась улыбка. – У нас неожиданный гость. Он приехал, чтобы встретиться с вами.
– O боже, – прошептал Сандос, вставая на ноги и пряча ладони под мышками. Спустившись по скрипучей лестнице к боковой двери, он остановился, чтобы отдышаться, отрывисто вдыхая воздух и медленно выпуская его. Коротким и резким движением локтя откинул заслонку с дверного глазка. Подождал, согнувшийся, молчаливый.
– Хорошо, – сказал он наконец. – Открыто.
На подъездной дороге рядом с Джулиани стоял высокий священник. Из Восточной Африки, определил Сандос, мельком глянув на новичка, однако равнодушный взгляд его остановился на лице отца-генерала.
– Как-то не вовремя, Винс.
– Безусловно, – согласился Джулиани, – конечно, не вовремя.
Эмилио стоял, прислонившись к стене, ему было не по себе, но что можно сделать в такой ситуации? Если бы Лопоре заранее позвонил…
– Прости, Эмилио. Я задержу тебя всего на несколько минут.
– Вы говорите на суахили? – Сандос внезапно спросил визитера по-арабски с легким суданским акцентом, вдруг неведомо откуда посетившим его. Вопрос, похоже, несколько удивил африканца, но он кивнул.
– Какими еще языками владеете? – требовательно спросил Сандос. – Латынью? Английским?
– Тем и другим. И еще несколькими, – ответил тот.
– Отлично. Подойдет, – обратился Сандос к Джулиани.
– Вам придется пока поработать самостоятельно, – сообщил он африканцу. – Начните с программы, разработанной Мендес для руанжи. Файлов по к’сан пока не касайтесь: я не слишком далеко продвинулся с формальным анализом. В следующий раз предупредите о приезде по телефону.
Он посмотрел на Джулиани, явным образом разочарованного его грубостью, и шепнул, поворачиваясь к лестнице:
– Расскажи ему о моих руках, Винс, сегодня болят обе. Я не могу думать.
«И ты тоже хорош, не мог предупредить меня, а не вваливаться без приглашения», – подумал Эмилио об отце-генерале, однако он уже был слишком близок к слезам, чтобы затевать выяснение отношений, и слишком утомлен, чтобы воспринять услышанные далее слова.
– Я молился за вас пятьдесят лет, – проговорил Калингемала Лопоре полным удивления голосом. – Бог тяжко испытал вас, однако вы не настолько переменились, чтобы я не узнал в вас того, каким вы были.
Остановившись на лестнице, Сандос повернул назад. Он по-прежнему горбился, прижимал руки к груди, но теперь он внимательнее посмотрел на священника, стоявшего возле отца-генерала. Шестидесятилетний, наверное, лет на двадцать моложе Джулиани, и такой же высокий, кожа цвета эбенового дерева, крепкие кости, глубоко посаженные и широко расставленные глаза, придающие в старости особую красоту женщинам из Восточной Африки и сделавшие лицо этого мужчины неотразимым. «Пятьдесят лет, – подумал он. – Сколько же этому парню было тогда? Десять, одиннадцать?»
Эмилио посмотрел на Джулиани, проверяя, понимает ли отец-генерал, что происходит, однако в данный момент тот был растерян, как и сам Сандос, и столь же удивлен словами гостя.
– Я знал вас? – спросил Эмилио.
Лицо африканца как бы осветилось изнутри, необычайные глаза его засияли.
– У вас нет никакой причины для того, чтобы помнить меня, и я никогда не знал вашего имени. Но Бог знал вас, еще когда вы были в чреве матери, – подобно Иеремии, с которым Бог был также жесток.
И он протянул перед собой обе руки. Эмилио задержался, прежде чем снова сойти с лестницы. И жестом мучительным, сразу знакомым и чуждым, вложил собственные покрытые шрамами и невероятно длинные пальцы в бледные теплые ладони незнакомца.
«Сколько же лет прошло», – думал Лопоре, испытывая такое потрясение, что требование величать себя во множественном числе мгновенно улетучилось из его головы.
– Я запомнил ваши фокусы, – проговорил он с улыбкой, опуская глаза. – Какая красота и ловкость погублены, – печально проговорил и, поднеся ладони Сандоса к лицу, не замечая того, поцеловал их. Как потом решил Сандос, должно быть, сработало изменение кровяного давления или какая-нибудь причуда нейромышечного взаимодействия, но приступ галлюцинаторной невралгии наконец закончился, однако в этот миг африканец посмотрел прямо в глаза Эмилио, пришедшему в полное замешательство. – Пожалуй, руки были не самым тяжелым переживанием.
Сандос кивнул и, онемев, хмурясь, начал искать разгадку в лице собеседника.
– Эмилио, – произнес Винченцо Джулиани, нарушая недоуменное молчание, – может быть, ты пригласишь Святого Отца наверх?
Какое-то мгновение Сандос взирал на гостя, не скрывая изумления, а потом с губ его сорвалось:
– Иисусе!
На что епископ римский с неожиданным чувством юмора возразил:
– Отнюдь, всего лишь Его наместник.
Расхохотавшись, отец-генерал сухим тоном добавил:
– К сожалению, последние несколько десятилетий с отцом Сандосом невозможно было связаться.
Ошеломленный Эмилио снова кивнул и первым направился вверх по лестнице.
По чести говоря, папа в иезуитский приют на севере Неаполя прибыл в полном одиночестве и без предупреждения, в самом простом священническом облачении, находясь за рулем ничем не примечательного «Фиата». Будучи первым с X века уроженцем Африки на своем посту и к тому же еще первым папой-прозелитом во всей современной истории, Калингемала Лопоре под именем Геласия III начинал второй год своего замечательного правления, наделив римский престол глубокой убежденностью новообращенного и дальновидной верой в универсальность Церкви, не путавшей вечную истину с укоренившимся в Европе обрядом.
На самой заре своей деятельности, пренебрегая политическими и дипломатическими условностями, Лопоре решил, что должен повстречаться с этим Эмилио Сандосом, знакомым с другими детьми Бога, видевшим дела Господни и здесь и там. И когда он принял это решение, ни одна из действующих в Ватикане бюрократических сил не была способна остановить его: Геласий III был наделен внушительным самообладанием и отнюдь не апологетическим прагматизмом. Лишь он один изо всех сумел пройти мимо охранявших Сандоса членов каморры и сделал это лишь потому, что пошел на переговоры лично с кузеном отца-генерала, доном Доменико Джулиани, некоронованным королем юга Италии.
В комнатушке Сандоса царил беспорядок, что с радостью отметил Лопоре, взяв с кресла забытое на нем полотенце, бросив его на незастеленную постель и усевшись без каких-либо церемоний.
– Я… Я прошу прощения за этот кавардак, – начал, осекаясь, извиняться Сандос, однако понтифик отмахнулся от извинений.
– Одной из причин, по которым Мы настояли на своем желании воспользоваться собственным автомобилем, было желание встречаться с людьми, не повергая их в припадок маниакальных приготовлений, – заметил Геласий III, а затем поведал сугубо официальным тоном: – Мы находим особо отвратительной свежую побелку и новые ковры. – Он пригласил Эмилио сесть напротив него за стол. – Пожалуйста, садись со мной, – проговорил он, опуская множественное число. И посмотрел на Джулиани, оставшегося в уголке возле лестницы, не желая вмешиваться, но явно опасавшегося уходить. «Оставайтесь, – сказали ему глаза Святого Отца, – и запоминайте все».
– Мой народ называется додот[9]. Они пастухи, даже сейчас, – сообщил папа Сандосу на экзотичной латыни, в которой звучали африканские интонации и памятные с детства ритмические каденции. – Когда настала засуха, мы пошли на север, к родне, к топоса, живущим на юге Судана. Это было время войны, а значит, и голода. Топоса прогнали нас – у них самих ничего не было. Мы спросили: «Куда же нам идти?» Человек на дороге сказал нам: «На восток отсюда есть лагерь для кикуйю». Дорога была длинной, и, пока мы шли, моя младшая сестра умерла на руках у матери. Ты видел нас. Ты пошел навстречу моей семье. Ты взял у моей матери мертвую дочь с такой лаской, словно она была твоей собственной. Держа мертвого ребенка на руках, ты нашел для нас место для отдыха. Ты принес нам воды, а потом еды. А пока мы ели, выкопал могилу для моей сестры. Не помнишь?
– Нет. Младенцев было так много. И мертвых младенцев. – Эмилио посмотрел на папу усталыми глазами. – Я выкопал много могил, Ваше Святейшество.
– Тебе не придется больше копать могилы, – проговорил папа, и Винченцо Джулиани услышал в этих словах нотку пророчества – двусмысленного, неуловимого, уверенного. Но мгновение миновало, и интонация понтифика вновь сделалась обыденной.
– И каждый день после того дня я думал о тебе! Какой мужчина будет плакать о дочери не своего тела? Ответ на этот вопрос привел меня к христианству, к священству и вот теперь к тебе!
Он откинулся на спинку кресла, удивленный этой встречей с незнакомым ему священником полвека спустя. Помедлив, он продолжил мягким тоном, подобающим сану, призванному примирять человека с Богом:
– Ты оплакивал и других детей после тех дней, проведенных в Судане.
– Сотни. Нет. Тысячи, я думаю, умерли по моей вине.
– Ты взял великое бремя на свои плечи. Но был один особенный ребенок, Нам сказали. Ты можешь назвать ее имя, чтобы Мы могли помянуть ее в молитве?
И он смог… выдохнуть, едва слышно, почти беззвучно:
– Аскама, Ваше Святейшество.
Наступило короткое молчание, а потом Калингемала Лопоре, протянув руки над небольшим столиком, поднял склоненную голову Эмилио широкими сильными пальцами, стирая с его лица слезы. Винченцо Джулиани всегда считал Эмилио смуглым, но в этих могучих коричневых ручищах лицо его скорее казалось призрачным, и тут Джулиани понял, что Сандос едва не лишился сознания. Эмилио ненавидел прикосновения, терпеть не мог неожиданный физический контакт. Лопоре не мог этого знать, и Джулиани уже шагнул вперед, собираясь объяснить, когда понял, что папа говорит.
Эмилио внимал с окаменевшим лицом, лишь грудная клетка подрагивала, выдавая его. Джулиани не мог слышать слов, но заметил, как Сандос застыл, отодвинулся, встал и начал расхаживать.
– Я сделал свое тело монастырем, а душу свою – садом, Ваше Святейшество. Ночи мои стали камнями стены этого монастыря, a дни мои – раствором между камнями, – произнес Эмилио на мягкой музыкальной латыни, которой так завидовал и восхищался юный Винс Джулиани, когда они вместе учились. – Год за годом я возводил эти стены. Но между ними устроил сад, который оставил открытым перед небом, и пригласил Бога гулять в моем саду. И Бог посетил меня. – Сандос, задрожав, отвернулся. – Бог наполнил меня, и восторг этих мгновений был настолько чистым и могучим, что стены моего монастыря рассыпались. Я более не нуждался в них, Ваше Святейшество. Бог был моим защитником. Я мог спокойно смотреть в лицо жены, которой у меня никогда не будет, и любить всех жен. Я мог смотреть в лицо мужа, которым мне не суждено быть, и любить всех мужей. Я мог плясать на свадьбах, потому что любил Бога и все дети были моими.
Ошеломленный Джулиани ощутил, как глаза его наполняются слезами. «Да, – думал он. – Да».
Но когда Эмилио вновь повернулся лицом к Калингемала Лопоре, он не плакал. Вернувшись к столу, он положил свои искалеченные руки на шероховатую от долгого использования столешницу, лицо его было искажено яростью.
– A теперь сад опустошен, – прошептал он. – Мертвы жены, мужья и дети… все мертвы. И не осталось ничего, кроме пепла и костей. Где был Защитник наш? Где был Бог, Ваше Святейшество? Где Бог теперь?
Ответ пришел немедленно, уверенный ответ:
– В пепле. В костях. В душах усопших, в детях, живущих благодаря тебе…
– Никто не живет благодаря мне!
– Ошибаешься. Я живу. И не только я.
– Я гниль и язва. Я занес на Ракхат смерть, словно сифилис, и Бог смеялся, когда меня насиловали.
– Бог плакал о тебе. Ты заплатил страшную цену, выполняя Его план, и Бог плакал, когда просил тебя об этом…
Мотая головой, Сандос попятился и вскричал:
– Это и есть самая ужасная ложь из всех! Бог не спрашивает. Я не давал согласия. Мертвые не давали согласия. Вина на Боге.
Богохульство дымком закурилось в комнате. Но уже через несколько секунд ему ответили слова Иеремии:
– «Я человек, испытавший горе от жезла гнева Его. Он повел меня и ввел во тьму, а не во свет … посадил меня в темное место, как давно умерших; окружил меня стеною, чтобы я не вышел, отяготил оковы мои, – цитировал Геласий III, глядя на Эмилио понимающими и полными сочувствия глазами, – и, когда я взывал и вопиял, задерживал молитву мою… Он пресытил меня горечью, напоил меня полынью… покрыл меня пеплом…»[10]
Сандос остановился на месте, глядя на нечто видимое только ему одному.
– Я проклят, – проговорил он наконец голосом, полным смертельной усталости, – а почему – не знаю.
Калингемала Лопоре сидел в кресле, соединив длинные сильные пальцы обеих рук на коленях… Вера его в тайный смысл, в Господне дело и Господне время оставалась незыблемой.
– Бог возлюбил тебя, – проговорил он. – Вернувшись на Ракхат, ты увидишь, что стало возможным благодаря тебе.
Голова Сандоса дернулась:
– Я не вернусь туда.
– Даже если тебя попросит об этом старший по рангу? – спросил Лопоре и, приподняв бровь, посмотрел на Джулиани.
Винченцо Джулиани, до той поры пребывавший забытым в своем углу, обнаружил, что смотрит прямо в глаза Эмилио Сандоса, и впервые за примерно пятьдесят пять лет устрашился. Отец-генерал развел руки в стороны и покачал головой, давая Эмилио понять: он здесь совсем ни при чем.
– Non serviam, – проговорил Сандос, отворачиваясь от Джулиани. – Не позволю вновь использовать меня.
– Даже если об этом попросим Мы? – настаивал Папа.
– Нет.
– Так… Не ради Общества… не ради Святой Матери Церкви… Тем не менее ради себя самого и ради Бога ты должен вернуться, – поведал Эмилио Сандосу Геласий III с жуткой и веселой уверенностью. – Бог ждет тебя там, на руинах.
Винченцо Джулиани всегда был человеком сдержанным и привыкшим владеть собой. И всю свою взрослую жизнь он проводил среди подобных себе людей – интеллектуалов и умудренных космополитов. Он читал и писал о святых и пророках, но это… «Я увяз в этой истории с головой», – думал он, желая спрятаться, устраниться от того, что происходило в этой комнате, любым способом сбежать от жуткого милосердия Господа. «Говори ты с нами, и мы будем слушать, но чтобы не говорил с нами Бог, дабы нам не умереть»[11], – подумал Джулиани, внезапно посочувствовав израильтянам на Синае, Иеремии, послужившему Богу против воли, Петру, пытавшемуся бежать от Христа. И Эмилио.
Тем не менее надо было собраться воедино, произнести короткие милосердные объяснения и утешительные апологии, проводить Святого Отца вниз по лестнице и наружу, под солнце. Вежливость требовала предложить Его Святейшеству откушать перед возвращением в Рим. Долгий опыт позволил проводить гостя в трапезную, непринужденно обсудить неаполитанский приют и достоинства его архитектуры, созданной Тристано. Указать на живописные произведения – превосходного Караваджо здесь, неплохого Тициана там. Милостиво улыбнуться брату Козимо, полностью ошарашенному появлением на своей кухне верховного понтифика, осведомлявшегося о том, готовили ли сегодня рыбный суп, особенно рекомендованный отцом-генералом.
Далее последовал anguilla in umido[12] и тост, произнесенный над бокалом изумительного вина 49 года «Лакрима Кристи»[13], слезы Христовой, пролитой о Сатане… Генерал Общества Иисуса и Святой Отец Римско-католической церкви за простым деревянным столом в самой обыкновенной кухне мирно вкушали обед, завершившийся капучино и sfogliatele[14], внутренне посмеиваясь над тем фактом, что обоих равным образом называли Черными Папами: иезуита – за черную сутану, римского епископа – за экваториальную кожу. Ни тот ни другой более не упоминали Сандоса. Или Ракхат. Речь шла о вторых раскопках Помпеи, которые можно было уже начинать, после того как Везувий как будто бы удовлетворился новым преподанным им Неаполю уроком геологического смирения. Поговорили об общих знакомых, обменялись сплетнями о ватиканских политиках и внутрицерковных шахматных матчах. И Джулиани заново проникся уважением к человеку, явившемуся на Святой престол извне и в данный момент умело разворачивавшему это древнее общечеловеческое учреждение в сторону политики, на взгляд отца-генерала вселявшей надежду своей мудростью и проницательностью.
Потом они неспешно дошли до «Фиата» папы, и длинные тени их скользили по неровной каменной мостовой. Усевшись в свой автомобиль, Калингемала Лопоре вставил ключ, однако смуглая рука его задержала движение. Опустив стекло, он некоторое время смотрел прямо перед собой и не сразу заговорил.
– Очень жаль, – произнес папа неторопливо, – что между Ватиканом и религиозным орденом, долго и достойно служившим нашим предшественникам, пробежала тень непонимания.
Джулиани замер, сердце его колотилось.
– Да, Ваше Святейшество, – проговорил он. Именно поэтому, среди прочих причин, он посылал Геласию III расшифровки присланных ракхатской миссией отчетов и собственное изложение случившегося с Сандосом. Ибо в течение пяти сотен лет преданность папскому престолу являлась той осью, вокруг которой обращалось всемирное служение ордена иезуитов, однако, основывая Общество Иисуса, Игнаций Лойола подразумевал солдатскую диалектику повиновения и инициативы. Терпение и молитва – и безжалостное давление, оказанное в том направлении, куда, по мнению иезуитов, должны быть нацелены решения, – время от времени приносили плоды. И при всем этом иезуиты считали своей целью образование и общественную активность, подчас граничившую с революционной; столкновения с Ватиканом редкостью не считались, и некоторые из них оказывались серьезнее остальных. – В то время это казалось неизбежным, но, конечно…
– Времена меняются. – Геласий говорил рассудительно, непринужденно, с юмором, как будто общаясь с другим светским человеком. – Приходские священники теперь могут жениться. На папский престол избрали угандийца! Но кто, кроме Бога, знает будущее?
Брови Джулиани поползли вверх… в ту сторону, где прежде росли волосы.
– Пророки? – предположил он.
Папа благоразумно кивнул, скептически поджав губы.
– Разве что редкий биржевой аналитик.
Застигнутый врасплох Джулиани рассмеялся, покачал головой и понял, что человек этот очень нравится ему.
– Нас разделяет не будущее, но прошлое, – сказал понтифик генералу ордена иезуитов, обрывая тем самым годы взаимного молчания о клине, который едва не развалил Церковь пополам.
– Ваше Святейшество, мы более чем готовы признать, что перенаселение не является единственной причиной нищеты и страданий, – начал Джулиани.
– Что же еще? Слабые умом олигархи? – предположил Геласий. – Этническая паранойя? Непредсказуемые экономические системы? Давняя привычка относиться к женщинам как к собакам?
Джулиани глубоко вздохнул и ненадолго затаил дыхание, прежде чем высказать мнение Общества Иисуса и свое собственное:
– Никакой кондом не избавит человечество от тупости, никакая пилюля или прививка не защитит его от жадности и тщеславия… Однако существуют вполне гуманные и разумные способы смягчить некоторые рождающие страдание тенденции.
– Мы лично претерпели смерть сестры, закланной на алтаре Мальтуса, – отметил Геласий III. – В отличие от Наших просвещенных и блаженных предшественников Мы не способны узреть святейшую волю Господню в контроле за численностью населения посредством войн, голода и болезней. С точки зрения простого человека, эти факторы слепы и жестоки.
– И при всем том неадекватны цели. Как и простое половое воздержание, – отметил Джулиани. – Общество всего лишь просит, чтобы Святая Матерь Церковь снисходила к человеческой природе, как и любая любящая свое чадо мать. Безусловно, способность думать и планировать свои действия является Божественным даром, который следует использовать ответственно. Конечно, нет никакого зла в том, чтобы к каждому рожденному ребенку относились с такой же радостью и заботой, как к самому Христу Младенцу.
– О признании системы абортов не может быть никакой речи, – решительным тоном произнес Лопоре.
– И все же, – заметил Джулиани, – святой Игнаций советовал нам «не устанавливать таких жестких правил, из которых не может быть исключения».
– Но равным образом мы не вправе содействовать установлению такой негибкой и жестокой системы контроля за рождаемостью, которую Сандос описывает на Ракхате, – продолжил Геласий.
– Средний, Царский, путь всегда является наиболее трудным, Ваше Святейшество.
– A экстремизм всегда остается простейшим, однако… Ecclesia semper reformanda![15]– с неожиданным пылом произнес Геласий. – Мы изучили предложения ордена иезуитов и наших братьев из Православной церкви. Благое решение достижимо! Вопрос только в том, каким образом… Для этого, как Нам кажется, надо заново определить области естественного и искусственного контроля за рождаемостью. Салинс… вы читали Салинса?[16] Так вот, Салинс пишет, что понятие природного определяется через культуру, так что и искусственного тоже.
Рука шевельнулась, зажужжал стартер, Папа приготовился к отъезду. Однако темные глаза его вновь вернулись к лицу Винченцо Джулиани:
– Да, следует думать, планировать… и все же какие замечательные дети приходят к нам незапланированными, нежеланными, презираемыми! Нам сообщили, что Эмилио Сандос – бастард и рожден в трущобе.
– Жестокие слова, Ваше Святейшество. – Подсказанные, вне сомнения, ватиканскими политиканами, скользнувшими за престол святого Петра, как только это место освободили их изгнанные предшественники-иезуиты. – Но технически правильные, как я понимаю. – Джулиани задумался на мгновение. – Невольно вспоминается Книга Чисел 11:23[17] и поздние дети Сары и Елизаветы. Даже Владычицы нашей! Полагаю, что, если Всемогущему Богу угодно, чтобы родился необычный ребенок, нам следует верить, что Он способен устроить такое рождение?
Карие глаза блеснули на невозмутимом лице.
– Этот разговор доставил Нам чрезвычайное удовольствие. Быть может, вы также посетите Нас?
– Не сомневаюсь в том, что мой секретарь договорится с вашим кабинетом, Cвятейший.
Папа склонил голову, поднял, благословляя, руку. Но, перед тем как переключить регулируемые односторонние стекла «Фиата» на режим видимости изнутри и вывести автомобиль на мощенную древней брусчаткой дорогу, спускавшуюся к римскому шоссе, он еще раз повторил:
– Сандос должен вернуться туда.
Глава 4
Великий Южный лес, Ракхат
2042 год по земному летоисчислению
В последний месяц беременности София Мендес взяла себя в руки, изгнав из памяти лица ушедших и сконцентрировав все свое внимание на пока неведомом ей самой собственном ребенке. Поворотная точка случилась через несколько недель после того, как они оказались в Труча Сай.
– Кто-то подумал: Фиа никогда не разлучается с этой вещью, – однажды утром сказал Канчай, передавая ей компьютерный планшет. – И поэтому кто-то принес его из Кашана.
Проведя ладошками по гладким торцам компьютера, заново ощутив его очертания и вес, стерев пыль с солнечной батареи, София почти беззвучно поблагодарила Канчая и в одиночестве отправилась к поваленному стволу в’ралии, чтобы сесть возле него, пристроив планшет на животе и поднятых коленях. После всего странного и страшного, после смятения и печали перед ней оказалась вещь обычная и знакомая. С трепетом душевным она вызвала «Стеллу Марис» и даже охнула с облегчением, когда включился экран библиотеки, как всегда терпеливый и надежный.
Она погрузилась в систему, по ходу процесса загружая данные. Роды, связанные термины: Роды дома, Роды в Средние века. Естественные роды…
– Единственный вариант для меня, – пробормотала она. И тут же воскликнула вслух: – Роды под водой! – Полностью озадаченная София заглянула в рекомендованные источники, чтобы понять, о чем речь. «Чушь», – решила она и продолжила поиск. Ребенка Развитие – тысячи отсылок. Ограничив поиск Младенца Развитием – Норма, она, отчасти из суеверия, не стала изучать такие статьи, как Аутизм, Пороки развития, Замедление роста, Воспитание – Максимы. «Возможно, еще пригодятся, – подумала она, – тем более за отсутствием такого важного источника информации, как бабушка. O, Энн! O, мама! Где вы?» – подумала она, немедленно прогнав воспоминания. Воспитание детей – Религиозные аспекты – Иудаизм. «Да, – решила она и открыла заодно и Тору. – Что делать, если родится мальчик?» – подумала она и решила, что справится с этой проблемой, когда и если до нее дойдет.
«За всяким листиком и корешком стоит ангел и приговаривает: расти, детка, расти! – говорила ей мать, когда она была маленькой и боялась темноты. – Или ты думаешь, что Бог будет хлопотать над каждой травинкой, а про тебя забудет?»
«Мама, теперь я всего лишь одноглазая вдовая беременная еврейка, – подумала София, – застрявшая в невозможной дали от дома. И если за мной действительно наблюдает Бог, то я предпочла бы оказаться травинкой. Но раз так, Боже… пошли мне дочку, прошу тебя, – торопливо помолилась она. – Маленькую девочку. Маленькую и здоровую».
Однако София никогда не полагалась на Бога, немногословного с ней даже в те времена, когда Он явно присутствовал на рабочем месте. «Ступай к фараону и освободи Мой народ», – сказал Он, оставив логистику Моисею в качестве самостоятельной работы. Поэтому последующие несколько недель она провела за чтением и усвоением доступных в Сети книг и статей, создав для себя нечто вроде ИИ акушерки: синтезируя, расписывая последовательность действий, устанавливая ключевые точки, по возможности сводя их к утверждениям вида: если (условие), то (действие) – причем действия следовало производить на Ракхате, руками руна. Свои объяснения она сводила к практическим, наглядным и простым указаниям; после чего записывала их на руанже так, чтобы, заметив какие-то неполадки с ребенком или собой, могла без лишних размышлений отдать распоряжения, способные спасти жизни обоих. И, занимаясь этим делом, она утратила долю страха, но не надежды.
Отбраковка продолжалась по всему югу Инброкара – повсюду, где были высажены огороды. Продолжали небольшими группами по двое и трое приходить с младенцами отцы-руна, заодно приносившие и новости. Однажды пришли и женщины из Кашана; их вела девушка по имени Джалао, к которой мужчины относились с большим пиететом, так как именно она предупреждала их о появлении патрулей джанада.
Понимая, что Джалао ВаКашан спасла ее собственную жизнь, помимо множества прочих, София отозвала девушку в сторонку, чтобы поблагодарить ее во время короткого перерыва в шелесте руанжи, наполнявшем красные вечера, когда отцы укладывали детей спать: ручки на животик, хвостик на ножки, спинку к спинке.
Джалао выслушала благодарность, подняв уши и без смущения, и факт этот, помимо всего прочего, заставил Софию зайти в разговоре подальше:
– Сипаж, Джалао, но почему руна должны вернуться назад в свои деревни? Почему они не могут просто уйти от жана’ата? Почему бы не показать им свой хвост, перебраться сюда и остаться здесь!
Джалао обвела взглядом лесной поселок, и только тут уши ее поникли. Расстроенная видом руна, живущих как животные, она сказала Софии:
– Дом наш не здесь, а там. Мы не можем покинуть поселки и города, в которых мы живем и торгуем. Мы… – Она умолкла и тряхнула головой, словно для того, чтобы отогнать надоедливого йув’ат, якобы жужжавшего ей в ухо. – Сипаж, Фиа, это мы построили города. Приходить сюда на время приемлемо. А уходить от созданного нашими руками, из мест, в которых обитают наши сердца, нельзя…
– Но так вы могли бы порвать свою связь с джанада, – сказала София. Удивленная самой идеей, Джалао фукнула на нее, но София не сдавалась: – Разве они дети, что вы должны носить их? Сипаж, Джалао, жана’ата не имеют права указывать вам, когда можно рожать детей, не имеют права указывать вам, кому рожать, кому жить и кому умирать. Они не имеют права убивать вас и поедать ваши тела! Канчай говорит, что таков закон, однако закон таков только потому, что вы соглашаетесь соблюдать его. Измените закон!
Заметив признаки сомнения – легкое, полное тревоги покачивание из стороны в сторону, – София шепнула:
– Джалао, джанада не нужны вам. Это вы нужны им!
Девушка распрямилась, застыв на месте в напряженной позе.
– Но что тогда будут кушать джанада? – спросила она, наставив вперед уши.
– А вам-то что до того? Пусть едят пийанот! – воскликнула вознегодовавшая София. – Ракхат кишит животными, годящимися в пищу плотоядным существам.
Наклонившись вперед, она заговорила самым уверенным и настоятельным тоном, радуясь тому, что наконец обрела слушателя, способного понять, что руна нет нужды соединяться в своей покорности:
– Вы не мясо. У вас есть право восстать и сказать – все, и никогда больше! Пусть у них когти и обычай на их стороне. Вас больше и… – Она хотела сказать, на их стороне справедливость, однако в руанже не было такого слова, как и честность или равенство.
– На вашей стороне сила, – наконец произнесла София, – если вы решите воспользоваться ею. Сипаж, Джалао, вы можете освободиться от них.
Несмотря на молодость и видовую принадлежность, Джалао ВаКашан явно не только могла принять такое решение, но и хотела прийти к нему своим умом. И поэтому, когда заговорила, ограничилась немногими словами:
– Кто-то обдумает твои слова.
Это был вежливый отказ. Эмилио Сандос всегда трактовал формулу «кто-то обдумает твои слова» как «когда рак свистнет и рыба запоет».
София вздохнула и сдалась. «Но я попыталась, – решила она. – Впрочем, кто знает? Может быть, семя уже посеяно».
Гостьи-ВаКашани отбыли восвояси на следующее утро, и жизнь в Труча Сай вернулась к прежнему распорядку – к уходу за младенцами, сбору пищи, приготовлению ее и еде… вечной еде. Жизнь спокойная, далеко не вызывающая, и София благословляла каждый лишенный событий день, сопротивляясь спазмам, время от время посещавшим и покидавшим ее. Низкие и приходившие изнутри ее тела, они не были достаточно сильными для беспокойства, думала она, заставляя себя успокоиться и приказывая матке утихомириться.
Руна, удивлявшиеся на свете столь немногому, тем не менее находили беременность Софии удивительной благодаря продолжительности и тому влиянию, которое оказывал на нее этот процесс. Лопающиеся стручки датинсы стали упоминаться слишком часто, и примерно за четыре недели до расчетной даты родов София, спина которой постоянно болела, и вообще ей было не по себе в этой липкой жаре, постаралась донести до всех и каждого в радиусе трех километров, что не желает более слышать ни единого слова о том, что кто-то или что-то лопнуло, заранее всех вас благодарю. Но едва эти слова сошли с ее уст, как нагрянула жуткая гроза с ужасающим ветром, сгибавшим деревья едва ли не пополам.
Дождь хлестал с такой силой, что в самый разгар грозы София уже подумала, что ребенка придется назвать Ноем, ибо более мокрой она не смогла бы стать, даже оказавшись посреди океана. Воды, должно быть, отошли во время грозы; ибо схватки начались по-настоящему через несколько часов после нее и без всякого предупреждения.
– Слишком рано! – крикнула она Канчаю, Тинбару, Сичу-Лану и всем прочим собравшимся рядом, когда она присела на корточки, ожидая, что схватка пройдет.
– Должно быть, – попытался успокоить ее Канчай, помогший ей устоять, когда накатила вторая волна. Однако у младенцев своя повестка дня и своя логика, и ее личный младенец уже вышел в путь, готовый к тому или нет.
Софии в жизни пришлось перенести много всякого-разного, и поэтому она никогда не покорялась боли целиком, но все-таки при своем небольшом росте она еще не до конца оправилась от почти смертельного ранения, полученного всего два месяца назад. Сначала она много ходила, так как ей становилось лучше, однако к следующему восходу ощутила, что очень и очень устала, и даже перестала думать о младенце. Она хотела просто пережить этот эпизод в своей жизни, закончить его.
У всех присутствовавших отцов, естественно, имелись надежные советы, мнения, наблюдения и комментарии. И уже скоро она обнаружила, что огрызается на них, требует, чтобы они заткнулись и оставили ее в покое. Будучи руна, они никак не могли сделать ни то ни другое… В конце концов, они просто не видели причин молчать или оставлять ее в одиночестве. Посему разговоры продолжились, и их длинные прекрасные деловые пальцы под общий разговор продолжали сплетать новые ветровые ширмы и полотнища крыш, поврежденных во время грозы.
К полудню, уже в изнеможении, она прекратила всякую борьбу с окружающими и умолкла. Когда Канчай понес ее к крохотному водопаду, расположенному рядом с лагерем, София возражать не стала, но уселась рядом с ним под струю, благодатной прохладой осенявшую ее плечи, и за легким ропотом водопада исчезали голоса болтающих руна. К собственному удивлению, она расслабилась, и это помогло ей родить.
– Сипаж, Фиа, – произнес Канчай спустя какое-то время, не отводя от нее глаз кота породы голубой шартрез[18], – пощупай здесь. – Он опустил ее пальцы на родившуюся головку и улыбнулся, пока она ощупывала влажные и кудрявые волосики младенца. Последовали три сокрушительных схватки, и когда младенец вышел целиком, память недавнего кошмара затопила ее.
– Сипаж, Канчай! – выкрикнула София, даже не узнав, кто родился у нее, сын или дочь. – С глазками все в порядке? Они не кровоточат?
– Они маленькие, – честно признал Канчай. – Но нормальные для твоей родни, – добавил он ее успокоения ради.
– И их два, – сообщил его кузен Тинбар, полагая, что количество глаз у ребенка одноглазой Софии могло смутить ее.
– И они голубые! – добавил их друг Сичу-Лан, испытывая облегчение, так как странные карие глаза Фии всегда непонятным образом смущали его.
Наступило молчание, она ощутила, что ножки младенца выскользнули из ее тела. И София даже успела подумать, что он родился мертвым. Нет, решила она. Все дело в посторонних шумах – разговорах и водопаде. И тут она наконец услышала возмущенный голосок младенца, попавшего под заставившую его дышать холодную воду, ставшую таким утешением для его матери в конце удушающе жаркого бесконечного дня.
Канчай принес листьев, чтобы обтереть новорожденного, а Сичу-Лан со смехом указал на его гениталии, оказавшиеся наружными.
– Посмотри, – воскликнул он, – кто-то думает, что этот младенец торопится стать отцом!
Значит, сын, поняла она и шепнула:
– У нас родился мальчишка, Джимми!
И расплакалась – не от горя или ужаса, но от облегчения и благодарности, – когда сильные руки подняли ее из прохладной воды, и жаркий ветерок тут же высушил ее и ребенка. Заново ощутив своей кожей прикосновение человеческого тела, она вздрогнула и уснула. А потом ощутила, как губки ребенка сомкнулись вокруг ее соска: прикосновение ласковое, почти ленивое, напомнившее о Джимми, столь же прекрасное в себе, но слабое. Тут что-то не так, подумала София, но тут же прикрикнула на себя: малыш только что родился, причем до срока. Он станет сильнее.
А потом решила: пусть будет Исаак, чей отец, подобно Аврааму, оставил родные края ради земель неведомых; и чья мать, как и Сара, вопреки всем ожиданиям родила своего ребенка и возликовала.
София приложила младенца к груди и посмотрела в мудрые совиные глазки на крохотном личике эльфа под шапкой темно-рыжих волос. В данный момент она уважала своего сына больше, чем любила его. И потому подумала: «Ты сделал это. Джанада едва не убил нас обоих, и ты родился прежде своего времени, неудачно начав свою жизнь, но ты жив, жив вопреки всему».
Могло быть и хуже, подумала она, вновь погружаясь в сон, ощущая рядом с собой младенца. Жар ракхатского дня окутывал их, как тепло земного инкубатора для новорожденных, и обоих их окружали руки, ноги и хвосты что-то бормотавших руна.
«Я – Мендес, – подумала она, – и сын мой жив. Все могло быть и хуже».
Глава 5
Город Инброкар, Ракхат
2046 год по земному летоисчислению
Дитя родилось с дефектом.
Лжаат-са Китхери, сорок седьмой Высочайший, сорок седьмой глава Благороднейшей Наследственной Линии Инброкара, изложил эту неприукрашенную новость отцу ребенка без всяких преамбул. Призванный доместиком-руна в личные покои Высочайшего сразу же после восхода второго, самого золотого, из солнц Ракхата, Супаари ВаГайжур воспринял известие молча, даже не моргнув.
Шок или самоконтроль? Удивился Китхери, когда абсурдный муж его дочери подошел к окну и какое-то время изучал косые крыши людного города Инброкар, после чего повернулся и склонился в почтительном поклоне.
– Что не так с ребенком, если мне позволительно знать, Твое Великолепие?
– Ножка подворачивается. – Китхери посмотрел на дверь. – На этом все.
– Виноват, Твое Великолепие, – настаивал коммерсант. – Но разве дефект обязательно наследственный? Быть может, чего-то не хватило во время беременности?
Хамский выпад, но, учитывая происхождение купчины, Высочайший не стал обращать внимание.
– Ни одна из женщин моего рода или рода моей жены в недавние времена не рожала дефективных детей, – сухим тоном проговорил Китхери, с удовольствием отметив, что коммерсант опустил уши. Недавние времена в данном контексте и в устах Китхери означали самый древний на всем Ракхате род.
Недовольный замужеством дочери с самого начала, Лжаат-са Китхери примирился с этим браком потому лишь, что третья линия потомков предоставляла известное количество необычных политических возможностей. Теперь, однако, было ясно, что вся история превратилась в фарс, чего и следовало ожидать с учетом участия Хлавина, подумал Высочайший. Типичный результат действий этого недотепы, собственно являвшегося позором своей семьи, вдруг ни с того ни с сего решившего предоставить права основателя рода этому Супаари для того лишь, чтобы шокировать своих родных. Со времен незапамятных законное право учреждать новые наследственные линии принадлежало Рештарам Китхери именно потому, что предписанное им законом бесплодие представляло собой наиболее заметный аспект их жизни. На этих злополучных третьих сыновей можно было положиться в том, что они будут в нормальных условиях с большим разбором предоставлять привилегию, которой им самим не суждено удостоиться. «Однако Хлавин никогда и ни в чем не соответствовал норме», – подумал Высший с неудовольствием и гневом.
– Это был сын? – спросил коммерсант, прерывая размышления Высшего.
Всего лишь с любопытством, говорил тон. Уже задвигая ребенка в прошлое. Восхитительное самообладание, учитывая обстоятельства.
– Нет, дочь, – возразил Высочайший.
Впрочем, удивительный результат случки. Когда коммерсант явился в Инброкар, чтобы покрыть Жхолаа, Высочайший с удовлетворением отметил, что кандидат в родственники хорош собой. Красивые уши по бокам широкого лба, вытянутое вперед мужественное лицо. Умные глаза. Широкий в плечах. Высокий, мощные ноги – подобные качества не помешают наследственной линии Китхери, признал про себя Высочайший. Хотя, конечно, невозможно представить, как повлияет на наследственность скрещивание с неопробованной наследственной линией.
Откинувшись на мускулистый и жесткий хвост, Высший сложил руки на массивной груди, обхватил локти длинными изогнутыми когтями и перешел к делу:
– В подобных ситуациях, как ты понимаешь, существует такое понятие, как отцовский долг. – Супаари, соглашаясь, поднял вверх подбородок. Вытянутое, симпатичное и на удивление достойное лицо его оставалось спокойным. – Могут быть и другие дети, – предположил Высочайший, однако они понимали, что с этой идеей к Жхолаа и подойти-то теперь практически невозможно. Коммерсант промолчал.
И молчание это было крайне неприятно. Высший осел на подушку, жалея теперь о том, что не послал с этим известием в торговую палату протоколиста-руна.
– Так. Значит, обряд назначен на завтра, Твое Великолепие? – спросил наконец Супаари.
«Мои предки были обязаны делать это, – подумал Высочайший, против собственного желания ощущая сочувствие. – Пожертвовать одним ребенком, чтобы избавить в дальнейшем весь род от наследственного заболевания, уродства, отклонения от нормы».
– Это необходимо, – объявил он громко и с убежденностью. – Смерть одного ничего не значащего ребенка избавляет в будущем от страданий целые поколения. Мы должны всегда стремиться к высшему благу. – Естественно, этому торгашу неведомы воспитание и дисциплина, которые формируют тех, кто от рождения предназначен властвовать.
– Быть может, – предложил Лжаат-са Китхери с несвойственной ему деликатностью, – ты предпочтешь, чтобы я…
Коммерсант на мгновение задохнулся и встал в полный рост.
– Нет. Спасибо, Твое Великолепие, – произнес он мягким и окончательным тоном и неторопливо повернулся, чтобы посмотреть на Высочайшего, в чем читалась тонко рассчитанная угроза. Как с легким удивлением отметил тот, делая в памяти заметку, что мужа этого нельзя оскорблять пренебрежением, причем удивление его еще более усугубилось за счет новой наглости – преднамеренно кроткого тона, с которым Супаари произнес следующие слова: – Возможно, это цена, которую приходится платить тому, кто начинает что-то новое.
– Да, – согласился Лжаат-са Китхери. – Именно так, хотя коммерческая терминология, на мой взгляд, неуместна. Значит, до завтра.
Коммерсант с благородством принял поправку, однако оставил покои Высочайшего без предписанного этикетом поклона. Допустив таким образом всего лишь один промах. Причем ошибка эта могла оказаться вполне преднамеренной, как с признаками растущего уважения начинал подозревать Высочайший.
«И за это я должен благодарить Сандоса, – с горечью думал Супаари, устремляясь по кривым коридорам к отведенным ему покоям в западном коридоре дворца Китхери. Ощущая, как горло его стискивает желание взвыть, он повалился в оцепенении на свое ложе, чувствуя только свое горе. – Ну как могло все сложиться так неудачно? – спрашивал он себя. – Все, что было у меня, – состояние, дом, торговля, друзья – все за ребенка с подвернутой ножкой. И, если бы не Сандос, ничего этого не случилось бы! – думал он в ярости. – Все предприятие это было порочным с самого начала и до самого конца».
И все же, до тех пор пока Высочайший не поведал ему эту катастрофическую новость, Супаари казалось, что на всех этапах своей интриги он не допустил ни единой ошибки. Он вел себя осторожно и предусмотрительно. Обдумывая задним числом последние три года, он не видел альтернатив принятым им решениям. Руна деревни Кашан являлись его клиентами: он был обязан торговать их товаром. Даже если для этого требовалось иметь дело с бесхвостыми иноземцами с С’емли. Кто был очевидным покупателем для их экзотического товара? Рештар Дворца Галатна, Хлавин Китхери, чья страсть к курьезам и уникумам была известна всему Ракхату. «Следовало ли мне оставаться с иноземцами в Кашане?» – спрашивал он себя. Нелепо! У него оставалась его торговля, обязанности перед другими деревенскими корпорациями.
Даже когда иноземцы научили руна выращивать пищу, и властям стало известно о несанкционированном размножении руна на юге страны, и начались бунты, даже тогда он сохранял контроль за ситуацией, прежде чем разразился хаос. Иноземцы были здесь совершенно чужими, они не знали, что поступают неправильно, и, чтобы не предавать двоих уцелевших суду за подрывную деятельность, он, Супаари, предложил сделать их хаста’акала. Конечно, один из них сразу после этого умер, что стало дурным знаком. «Быть может, мне следовало не торопиться и побольше узнать о них, прежде чем отдавать приказание обрезать им руки», – думал Супаари. Однако он должен был тогда придать им легальный статус, чтобы правительство не казнило их без суда. «Как я мог догадаться, что руки их будут так кровоточить?»
Когда Сандос поправился, Супаари предпринял все усилия, чтобы включить низкорослого толмача в повседневную жизнь Гайжурской торговой копании. Он предлагал Сандосу проводить время на складах и в конторе, предлагал ему заняться обыденной торговой деятельностью, однако иноземец оставался пассивным и угнетенным.
Наконец, испробовав все, что можно было сделать любезным образом, Супаари решил бестактно и в лоб спросить Сандоса, что ему не так.
– Твоему недостойному гостю одиноко, господин, – произнес Сандос, сопроводив свои слова движением плеч, как будто бы означавшим задумчивость. Или, возможно, согласие. Иногда безразличие. Трудно было точно понять, что именно означает этот жест. Однако потом иноземец подставил шею, чтобы Супаари не счел его недовольным.
– Господин, ты более чем добр ко мне и твое гостеприимство безупречно. Сей бесполезный чрезвычайно благодарен тебе.
Итак, он тоскует по другим существам своего рода, сообразил Супаари и подумал, что иноземцы скорее были ближе к руна, чем к жана’ата. Привязанность у руна носила подлинный, но эластичный характер: она охватывала тех, кто находился рядом, но плавно сокращалась, когда кто-то удалялся. К тому же им было необходимо пребывать в стаде. O да, женщины их могли переносить определенную долю уединения и даже умели работать с незнакомцами, однако мужчины нуждались в семьях и детях. Оказавшись вдали от родных и друзей, некоторые из мужчин руна просто переставали есть и умирали. Такое случалось нечасто, но тем не менее происходило.
– Сандос, ты нуждаешься в жене? – спросил Супаари, презрев условности из-за беспокойства за этого иноземца, который может также умереть, находясь на его попечении.
– Господин, твой благодарный гость придерживается правил целибата, – сообщил ему Сандос, воспользовавшись словом своего х’инглиша и посмотрев в сторону. А затем пояснил на своем очаровательно неловком к’сан: – Такие, как сей недостойный, не берут себе жен.
– О! Значит, твоя родня похожа на жана’ата, разрешающих иметь детей и жениться только двум первородным отпрыскам, – с облегчением произнес Супаари. – Я тоже соблюдаю это правило – ваш целибат. Ты тоже третьерожденный, как и я?
– Нет, господин. Второй. Но среди таких, как твой гость, искать себе пару и иметь детей может даже рожденный пятым или шестым.
Пятым? Шестым! Иноземцы рождаются целыми выводками? Супаари задумался. Как они могут позволять себе иметь столько детей? Подчас он приходил к выводу, что во всем, что известно ему об иноземцах, понимает всего лишь двенадцатую часть. – Но если ты второй, почему же ты не женился?
– Сей недостойный решил не делать этого, господин. Среди моего рода, как и среди твоего, немногие решаются идти подобным путем. Такие мужчины, как твой гость, оставляют семьи, в которых были рождены, и не заводят связей с другими людьми, и не рождают детей. Так мы можем любить всех без исключения и служить многим.
Супаари был потрясен этими словами маленького толмача, о котором привык заботиться.
– То есть ты лично являешься слугой многим?
– Да, господин, этот служил людям, будучи среди своих.
«Однако здесь более нет никого из твоего рода», – подумал Супаари. Cбитый с толку, он откинулся на груду обеденных подушек, на которых отдыхал, пока остывали остатки его трапезы, и с сожалением подумал о тех временах, когда самой серьезной его проблемой являлся спрос на кирт в будущем сезоне.
– Сандос, – проговорил он, пытаясь наконец обрести в чем-то реальную опору, – зачем вы здесь? Что привело вас сюда?
– Желание изучать дары вашего языка… познать песни вашей земли.
– Так говорила мне Хэ’эн! – воскликнул Супаари, наконец понимая кое-что из того, что говорила Энн Эдвардс. – Вы явились к нам, потому что услышали песни наших поэтов и они восхитили вас. – Он смотрел на Сандоса новыми глазами: не как на переводчика, выращенного торговли ради, но как на второродного, осознанно отказавшегося от своего права иметь детей, и на поэта, служащего многим! Неудивительно, что Сандос не выражал интереса к коммерции! И тут все стало на свои места – блестящим образом, как казалось тогда. – А не хотел бы ты служить среди поэтов, чьи песни привели тебя сюда, Сандос?
Тут иноземец впервые за полный сезон просветелел.
– Да, господин. Это будет честью для твоего недостойного гостя. Действительной честью.
И посему Супаари приступил к осуществлению этого желания. Переговоры были тонкими, сложными, восхитительными. В конечном счете он осуществил изящную, превосходно сбалансированную комбинацию, истинный венец чрезвычайно успешной коммерческой карьеры. Иноземец Сандос поступает на пожизненную службу к Хлавину Китхери, Рештару Галатны, чье увядающее поэтическое мастерство могло заново возродиться к величию в результате общения с иноземцем. Младшая сестра Рештара Жхолаа, как и сам Супаари, будет избавлена от вынужденного бесплодного состояния благодаря их браку и основанию новой наследственной линии Даржан, обладающей всеми правами на размножение. Поскольку собственное состояние Супаари ВаГайжура присоединится к линии Даржан, Благороднейшая Патримония Инброкара обретет третий клан без малейшего намека на непристойное непостоянство: идеально умножая наследственные линии без раздела наследуемой собственности.
Соглашение было подписано, передача собственности совершена. Сандоса передали во Дворец Галатна, и он как будто бы достаточно хорошо устроился. Супаари сам присутствовал при передаче иноземца Рештару; на самом деле его малость смущала патетическая трепетная готовность, с которой Сандос воспринимал заходы Китхери.
Тем не менее коммерсант покинул Дворец Галатна, восхищаясь собственной удачей и полагая, что правильно поступил и в отношении Сандоса.
Однако прошло не так уж много времени, и Супаари понял, что здесь могло иметь место некое непонимание.
– А как поживает иноземец? – поинтересовался он через несколько дней после осуществления сделки, надеясь услышать, что Сандос наслаждается жизнью.
Отвечено было:
– Неплохо.
Секретерь Рештара сообщил ему, что даже после первого посещения Сандос ведет себя необычным образом – каждый раз сопротивляется, словно девственница.
Рештар был этим доволен и уже успел сочинить великолепный песенный цикл. Лучший за многие годы, по общему мнению. Как узнал Супаари, проблема заключалась в том, что иноземец реагировал на секс бурной рвотой. Это было неприятно, однако Супаари предположил, что для его родни это нормально. Одна из иноземок, София, как раз была беременна перед тем, как ее убили во время кашанского бунта, и ее постоянно рвало.
В любом случае сделка была совершена и обратного пути не оставалось. И стихи Рештара быди очаровательны. Как и новый дом Супаари, город Инброкар; как и его новая жена, госпожа Жхолаа.
Однако стихи приобрели очень странный поворот, и Рештар умолк. Кроме того, Инброкар оказался удивительно нудным местом по сравнению с оживленным и деловым Гайжуром.
Жхолаа, напротив, сухо отметил Супаари, скучной не была, однако как будто бы оказалась умалишенной.
Исчез и Сандос, которого отослал туда, откуда он явился, прибывший с этой самой С’емли новый отряд иноземцев, благополучно исчезнувший после этого. Должно быть, тоже вернулся на родину. Но как знать?
С учетом того, как сложилось его супружество, Супаари предпочел бы никогда не встречаться с этой троицей: Сандосом, Рештаром, Жхолаа. «Теперь будешь знать, дурак, чем заканчиваются перемены, – наставлял себя Супаари. – Сдвинешь камешек, получишь оползень».
И тут Супаари осознал с тошнотворной уверенностью, что, если ему и удастся зачать нового ребенка вместо этой дочери, его следующая встреча с Жхолаа окажется еще уродливей первой. На этом общественном уровне чистота крови ценится как сокровще… Потом ему пришло в голову, что, наверное, Жхолаа не видела даже случку руна, каковым образом большинство простого народа знакомилось с основами секса. В принципе Супаари приближался к своей даме с предвкушением ожидавшей его нетрадиционной эротической красоты, воспетой и обетованной поэзией ее брата Рештара, однако ему немедленно стало ясно, что Жхолаа совершенно не знакома со свежими литературными достижениями знаменитого брата. Дитя, которое ему предстояло убить завтра утром, в процессе зачатия едва не стоило ему глаза; он готов уже был и совсем отказаться от этого занятия, если б не овладевшие им феромоны и не знающий отказа запах крови.
Завершив сей союз, Супаари с облегчением удалился в состоянии полного разочарования. И наконец понял, почему многие аристократы-жана’ата препочитали общество наложниц-руна, рожденных для наслаждения и наученных любовному мастерству, после того как династические обязанности их оказывались завершенными.
Спавшая в тот момент, утомленная трудами по изгнанию из собственного тела отродья своего мужа, дама Жхолаа Китхери у Даржан всегда представляла собой скорее династическую идею, чем личность.
Подобно большинству женщин ее касты, Жхолаа Китхери содержали в катастрофическом невежестве, но дурой она не была. И поскольку ей не позволялось видеть ничего подлинно значительного, она обращала особое внимание на эмоциональные мелочи, даже еще девочкой ей хватало ума возмущаться злой или бездумной жестокостью, когда по прихоти отца ее выпускали из собственных покоев и позволяли безмолвно присуствовать – в темном уголке, на шелковых подушках притененного от солнц двора, на каком-либо незначительном государственном событии. Но даже в этих редких оказиях никто не приближался к ней и даже не смотрел в ее сторону.
– Я могла бы родиться стекляшкой, сотканной из ветра или времени, – жаловалась Жхолаа на подобное безразличие к ней, когда ей было еще десять лет. – Срокан, я существую! Почему же никто не видит меня?
– Они не видят мою прекраснейшую госпожу, потому что она наделена сиянием лун! – нашептывала ее нянюшка-руна, надеясь отвлечь дитя. – Люди не видят сияния лун, потому что они светят глубокой ночью. Только руна, как твоя ничтожная, могут видеть такие вещи и любить их.
– Значит, я должна увидеть то, чего не могут увидеть другие, – объявила Жхолаа в тот день, вырвавшись из объятий Срокан и дав себе задание не уснуть до второго заката и далее до того, как сядет самое меньшее, третье, солнце Ракхата, и собственным глазами увидеть эти славные луны.
Никто не мог запретить ей этого, никто не мог преградить ей путь к исполнению собственного желания, кроме детской и присущей ее виду сонливости. Ей было страшно, как и любому жана’ата в подобной ситуации, но Срокан была рядом в ее покоях, она рассказывала ей всякие истории и слухи, мягкие ладони ее гладили Жхолаа, успокаивая ребенка, так что девочка наконец перестала различать сперва синие цвета, а потом желтые, и контраст между ними превратился в серую мглу, похожую на ту невидимую стену, которая окружала жизнь аристократки. Слепую панику прогоняли только голос Срокан, утешительные запахи постели и детской комнаты, ароматы благовоний и парящий в воздухе аппетитный запах жареного мяса.
Срокан внезапно схватила Жхолаа за руки и подняла ее на ноги.
– Вот! Смотри! Ветер прогнал облака, и вот они, луны! – прошептала она настоятельным тоном, поворачива девочку лицом в нужную сторону, так, чтобы она смогла увидеть светлые диски лун, похожие на крохотные холодные солнца, прекрасные посреди чернильной тьмы… прекрасные и далекие, как горный снег.
– На небе сейчас видны не только луны, – говорила Срокан. – Есть еще дочери Лун! Крошечные младенцы… сверкающие искорки. – Глаза жана’ата не были приспособлены для лицезрения подобных вещей, и Жхолаа приходилось верить няне на слово, что звезды действительно существуют, а не являются глупой сказкой, вымыслом руна.
Эта ночь стала единственным памятным событием ее детства.
Какое-то время общество Жхолаа разделял Китхери Рештар, ее третьеродный брат Хлавин. Титул его означал «запасной» – и, подобно самой Жхолаа, смысл жизни Хлавина заключался в том, чтобы просто существовать… гарантировать сохранение наследственной линии в том случае, если прекратится жизнь любого из двоих старших братьев. Если не считать Срокан, только один Хлавин замечал существование Жхолаа, рассказывал ей разные истории и пел секретные песенки, хотя наставник побил его однажды, застигнув за этим делом. Кто, кроме Хлавина, мог заставить ее смеяться над женами Дхерая и Бхансаара, пополнявших фамильные колыбели детьми, вытеснявшими Хлавина и Жхолаа из череды наследников Китхери? Кто, кроме Хлавина, поплакал бы с ней, растроганный рассказом о лунах и ее признанием, что с рождением каждого очередного племянника или племянницы Жхолаа все более и более ощущала себя лунным ребенком: невидимой для собственного народа звездочкой, блестящей, никому не нужной и всеми забытой в кромешной тьме?
Затем у Дхерая родился собственный Рештар, а затем и у Бхансаара; порядок наследования утвердился, и Хлавина отняли у нее, сослав в портовый город Гайжур, дабы сберечь жизни племянников от покушений неудовлетворенного честолюбия молодого дяди.
Но, даже находясь в ссылке, Хлавин отыскал способ петь ей и прислал Жхолаа радиоприемник, чтобы она могла слышать собственные слова о лунных дочерях, качающихся на волнах, столь же невидимых, как сами звезды, но вплетенных в ту трансцендентную кантату, которую он пропел во время первой своей передачи из Дворца Галатна, разрешенной ему потому, что пел он не традиционные канты, дозволенные перво- и второрожденным, но нечто совершенно новое и ни на что не похожее. Концерт этот по непонятной причине рассердил Жхолаа, возможно, потому, что собственные слова оказались украденными у нее, а не полученными в качестве подарка. Когда музыка закончилась, она смахнула приемник с подставки, словно виновато было само устройство.
– А где находится эта Галатна? – спросила она у Срокан, пригнувшейся, чтобы собрать обломки.
– Она, словно драгоценный камень, расположена на склоне горы, высящейся над городом Гайжур, у самого океана, моя госпожа, – ответила Срокан, посмотрев на нее огромными голубыми глазами. – Там столько воды, что ты стоишь у края ее и смотришь… смотришь в самую далекую даль, и воде нет конца!
– Ты врешь. Такой воды просто не может быть. Руна всегда врут. Вы убили бы нас, если бы только смогли, – произнесла Жхолаа с сознанием собственного превосходства, ибо уже успела достаточно повзрослеть для того, чтобы понять страх господина.
– Какая ерунда, моя крошка! – воскликнула добродушная Срокан. – Сама посуди, жана’ата спят все время красного солнца и настоящую ночь – и никто не вредит вам! Эта преданная не лжет своей любимой госпоже. Луны были реальны, реален и океан! Вода его солона, а запах воздуха ни с чем не сравним!
Гнев к этому времени сделался единственной закваской, способной вывести Жхолаа из оцепенения, иногда овладевавшего ею даже не на один день. Она возненавидела домашних слуг-руна, этих несчастных, бывших ее единственными компаньонами, этих бесстыжих шлюх, презирая их за то, что они могут выйти на волю без вуалей и без охраны, побывать на берегу океана, вдохнуть запахи, которые навсегда останутся неведомыми Жхолаа. Зацепив элегантным когтем ухо Срокан, Жхолаа начала отрывать его от головы женщины, смилостивившись над ней, только когда та призналась, что никогда не видела океана своими глазами, не пробовала вкуса его воды и обо всем этом услышала на кухне от судомойки, родившейся на юге. Хлавин рассказал ей всю правду об океане, однако связь с ним была потеряна, и, вдыхая соленый запах крови, не океана, Жхолаа позволила своей служанке трясущимися руками огладить и успокоить ее.
Той же самой ночью, лежа в слепом и бесполезном темном свете самого малого из солнц Ракхата, Жхолаа решила казнить Срокан за то, что она посмела подумать, что может убить спящих жана’ата, а заодно и ее детей, чтобы остальным руна неповадно было.
В любом случае Срокан стара. Но в суп пойдет, окончательно решила Жхолаа.
И поэтому среди домашних слуг не нашлось никого, кто мог предупредить или подготовить Жхолаа к тому, что будет с ней после брачного обряда: все они боялись, и никто не посмел объяснить, почему ее одевают для торжественной государственной церемонии. Однако сама Жхолаа привыкла к тому, что ее выставляют напоказ при подобных оказиях, и не удивилась тому, что ее провели в приемный зал, полный ослепительно разодетых чиновников и всех ее родствеников мужского пола, продолживших петь, словно она и не входила.
Она спокойно выстояла бесконечные церемониальные декламации; выполнение обрядов порой растягивалось на несколько дней, и она давно уже перестала внимательно вслушиваться. Однако, когда пропели ее имя, она очнулась. А потом прозвучала мелодия, которой скрепляли брак, и она поняла, что ее законным путем выдают замуж за мужчину, имени рода которого она до сих пор вообще ни разу не слышала. Озираясь круглыми глазами из-под украшенной самоцветами золотой сетки, она попыталась найти кого-ниудь – да кого угодно, – чтобы выяснить, не отсылают ли ее в другую страну, но, прежде чем она сумела заговорить, отец и братья окружили Жхолаа и повели ее на середину комнаты.
Тут появились служанки-руна, и, когда они начали раздевать ее, Жхолаа заговорила, требуя объяснить ей, что происходит, но мужчины только пересмеивались. Разъяренная и испуганная, она попыталась прикрыться, однако тут мужчина, имени которого она еще не запомнила, подошел к ней так близко, что она ощутила его запах, уронил свое одеяние с плеч и… даже не посмотрев на нее, зашел сзади, схватил за лодыжки и…
Она сопротивлялась, но ее крики и шум сопротивления утонули за одобрительными и веселыми возгласами гостей. Потом она услышала, как отец ее с гордой усмешкой говорил обществу:
– Девственница! Уж этого теперь никто отрицать не может!
На что ее самый старший брат ответил:
– И почти такой же отличный боец, как тот иноземец, которого пользуют Хлавин и его друзья…
Когда все закончилось, ее провели по празднично украшенному двору в маленькую комнатку со ставнями, где, растерзанная и взволнованная, она села слушать песни, сочиненные в честь четверородной Жхолаа Китхери у Даржан, самым невероятным образом вышедшей за третьеродного коммерсанта, которому никогда не удалось бы добиться отцовства, если бы не его иноземный слуга по имени Сандос.
И когда Жхолаа наконец родила этого ребенка, в происхождении его невозможно было усомниться, что, как она поняла, являлось единственной причиной ее собственного существования. Аналогичная судьба, по мнению Жхолаа, ожидала и ее собственную дочь. Дама Жхолаа даже не посмотрела на своего ребенка, в первые мгновения жизни младенца, высвободив руку из хватки повитухи, попыталась когтем разорвать горло ребенка – из жалости и отвращения. Потом, когда в ее комнату зашел ее брат Дхерай, чтобы сообщить о том, что ребенок родился калекой, Жхолаа нимало не расстроилась.
– Тогда убейте его, – равнодушно сказала она и пожалела о том, что никто не поступит аналогичным образом с ней самой.
Глава 6
Неаполь
Сентябрь 2060 года
Для того чтобы успокоиться после визита папы, потребовалось немало времени, и Эмилио Сандос только что уснул, когда внезапный стук едва не заставил его выпрыгнуть из постели.
– Боже! Ну кто там еще? – возопил он, снова падая на подушку. Утомленный, вновь оказавшийся в горизонтальном положении, он решительно зажмурил глаза и крикнул: – Уходи!
– Кому ты рекомендуешь уйти? Богу? – послышался знакомый голос. – Потому что я не вернусь в Чикаго.
– Джон? – Сандос выскочил из постели и локтями отворил высокие деревянные ставни. – Кандотти! – в удивлении проговорил он, высовывая голову в окошко. – А я думал, что после слушаний тебя отослали домой!
– Отослали. Сперва отослали, а потом передумали. – На подъездной дорожке стоял ухмылявшийся Джон Кандотти, обхвативший длинными костлявыми руками бумажно-пластиковую коробку. В косых лучах вечернего света длинный римский нос превращал его физиономию в подобие циферблата солнечных часов. – Но что это? Или нужно быть папой, чтобы удостоиться приглашения подняться наверх?
Сандос перегнулся через подоконник, опираясь локтями, лишенные нервов пальцы, словно черешки листьев плюща ста’ака, свисали с его ладоней.
– Что ж, поднимайся, – с театральной миной проговорил он. – Дверь-то открыта.
– Так! El Cahuna Grande[19] сообщил мне о том, что ты только что проинтервьюировал Святого Отца с точки зрения его пригодности в качестве ассистента для работы в твоем исследовательском проекте, – проговорил Джон, подлезая под дверную притолоку, весьма низкую, о чем Эмилио, будучи на две головы ниже, даже не подозревал. – Отлично сыграно, Сандос. Ловкий ход.
– Весьма благодарен вам за то, что вы обратили мое внимание на этот факт, – проговорил Эмилио, причем английское произношение его вдруг напомнило про Лонг-Айленд, а не про Пуэрто-Рико. Надевая протезы, он сгибался над небольшим столиком. – Так почему бы тебе не взять бумагу и ножницы…
– Билли Кристал. «Принцесса-Невеста», – немедленно отреагировал Джон, ставя коробку в угол. – Тебе пора обновить репертуар. Ты смотрел комедии, которые я тебе рекомендовал?
– Ага. Больше всех мне понравилась голландская, «К Востоку от Эдема»… «Никаких признаков жизни» тоже была ничего. Шутки в фильмах поновее до меня не доходят. В любом случае, – вознегодовал он наконец, – откуда мне знать, кто здесь теперь является папой? Какой-то тип вдруг явился прямо к моему порогу…
– Если бы ты следовал моим советам, – произнес Джон с остатками смирения вдохновенного семинарского проповедника, – то понял бы шутки. Да и правящего Папу узнал бы, даже если он явился прямо к твоему порогу!
Сандос выпад проигнорировал, как игнорировал он сорокалетнюю прореху в восприятии современной истории, сначала по причине слишком большой слабости, не позволявшей ему знакомиться с ней, а теперь просто в связи с отсутствием желания признавать ее.
– Ты вообще понимаешь, насколько важно было то, что Геласий сам приехал, чтобы посетить нас? Я же говорил тебе… пора догонять время! Но разве ты когда-нибудь слушал меня? Нет!
«И сейчас не слушает», – понял Джон, посмотрев на Эмилио. Который за два прошедших месяца стал много лучше справляться с ортезами, однако процедура до сих пор требовала от него значительной концентрации.
– …А Джулиани стоит себе рядом, предоставляя мне полную возможность отдуваться за него! – бормотал Сандос, вправляя по очереди ладони в открытые механизмы, после чего махнул руками вперед, чтобы включить устройство. С тихим жужжанием пластины и электроника сомкнулись на его пальцах, ладонях и предплечьях. Он выпрямился. – Как-нибудь, Джон, я почувствую желание забить этого сукина сына мешочками с песком.
– Удачи, – пожелал Джон. – Кстати, я думаю, что у «Щенков» в этом году отличные шансы выиграть мировую серию.
Они сели за стол, Сандос плюхнулся в ближайшее к кухне кресло, а Джон занял место напротив него, на котором прежде сидел папа. Окидывая взглядом комнату, обмениваясь цитатами из «К Востоку от Эдема» и «Дальних закоулков» и пары старых эпизодов с Мими Дженсен, Джон застелил кровать, убрал с пола носки, тарелки из раковины, после чего подозрительно воззрился на Эмилио, взъерошенного и небритого. Сандос обыкновенно был аккуратен, черная с серебром конкистадорская бородка коротко подстрижена, одежда безупречна. Так что Джон ожидал увидеть «апартаменты» Сандоса находящимися в идеальном порядке.
– Всякое духовное просветление начинается с аккуратно застеленной кровати, – провозгласил Кандотти, широким движением руки указуя на беспорядок. Нахмурясь, он посмотрел на Эмилио. – Выглядишь ты хуже некуда. И когда же тебе удалось поспать в последний раз?
– Примерно пятнадцать минут назад. Но тут ко мне завалился один шилозадый старый друг и разбудил меня. Тебе кофе или еще чего-нибудь? – Поднявшись, Эмилио подошел к крохотной кухоньке, открыл буфет и достал оттуда банку с немолотыми кофейными зернами, которыми и занялся, повернувшись спиной к Кандотти.
– Не надо. Сядь. И не будем менять тему. Когда ты спал до этого?
– Отказ памяти. – Сандос убрал кофе в буфет, хлопнул его дверцей. И вновь осел в кресло напротив гостя. – Только не надо заботиться обо мне, Джон. Я терпеть этого не могу.
– Джулиани говорил, что у тебя ужасно болят руки, – продолжил Джон. – Я этого не понимаю. Раны ведь зажили! – воскликнул он, указуя на Сандоса взглядом обвинителя. – Так почему же они еще болят?
– Как сообщают надежные источники, мертвые нервы негативно влияют на центральную нервную систему, – выпалил Сандос с неожиданно едкой интонацией. – Мой мозг волнуется, так как мои ладони давно ничего не сообщают ему. Он разумно полагает, что у моих рук какие-то неприятности и потому, как шилозадый старый друг, требует внимания к ситуации, прилично досаждая мне при этом! – Сандос на мгновение уставился в окно, пытаясь овладеть собой, a затем посмотрел на Джона, невозмутимо внимавшего очередному взрыву из знакомой ему долгой последовательности. – Прости. Боль утомляет меня, понял? Она приходит и уходит, но иногда…
Выждав мгновение, Джон договорил за него всю сентенцию:
– Иногда, когда она приходит, ты боишься, что она уже никогда не уйдет.
Эмилио не стал возражать:
– Искупительная сила страданий, если судить по моему собственному опыту, существенно преувеличена.
– Идея, на мой взгляд, скорее приличествует францисканцам, – согласился Джон, и Эмилио рассмеялся, а как было известно Джону: тот, кто сумел рассмешить Сандоса, мог считать, что дело его сделано наполовину.
– И как долго длится приступ на сей раз? – спросил он.
Сандос не стал отвечать, взгляд его обратился в сторону:
– Легче бывает, когда работаешь, концентрируешься на чем-то. – Он посмотрел на Джона. – Сейчас я в порядке.
– Но чувствую себя так, будто меня изметелили от ушей до пяток. Хорошо, – проговорил Джон, – я предоставлю тебе малость отдыха.
Шлепнув ладонями по бедрам, он встал, однако же не ушел, а подошел к звукоанализирующей аппаратуре, размещенной вдоль стены фасада напротив лестницы. С любопытством осмотрев ее, он непринужденно произнес:
– Вот, понимаешь, решил заглянуть к своему новому боссу… Конечно, если только ты уже не нанял папу.
Закрыв глаза, Сандос повернулся в своем кресле так, чтобы через плечо посмотреть на Джона:
– Прости, не понял.
Джон повернулся с ухмылкой на губах, однако улыбка исчезла, как только он увидел лицо Эмилио.
– Ты говорил, что тебе нужен сотрудник, разговаривающий на мадьярском языке. A еще на английском, латыни или испанском. Правда, латынь у меня не слишком хороша, – признался Джон, сдаваясь под ледяным взором. – Но при всем том я знаю все четыре языка. И вообще я полностью твой. Если ты, конечно, захочешь.
– Ты шутишь, – ровным тоном сказал Эмилио. – Не пытайся надуть меня, Джон.
– Вот ты владеешь шестнадцатью языками, и каким пользуешься? Послушай, я не лингвист, но разбираюсь в аудиосистемах и умею учиться, – попытался защититься Джон. – Родители моей мамы были родом из Будапешта. Бабуля Тот опекала меня после школы. Мой венгерский лучше английского. Бабуля в своей стране писала стихи, и…
Сандос к этому времени просто качал головой, не зная, смеяться ему или плакать:
– Джон, Джон. Не надо уговаривать меня. Просто…
Просто ему не хватало Кандотти. Просто ему нужна была помощь, но он ненавидел просить о ней, он нуждался в коллегах, но боялся любой новизны. Патер Джон Кандотти, обладавший великим для священника даром прощать, знал и слышал о нем все – и тем не менее не презирал и не жалел его; так что, когда голос вернулся к Эмилио, голос этот был милосердно ровным:
– Просто я подумал, что в этом есть какой-то подвох. В последнее время хорошие новости как-то обходят меня стороной.
– Никакого подвоха, – уверенным тоном ответил Джон, поскольку жизнь не приучила его готовиться к неожиданным ударам. Он направился к лестнице, ведущей вниз, в гараж. – Когда я могу начать?
– Прямо сейчас, насколько это зависит от меня. Но пользуйся библиотекой, ладно? А я ложусь спать, – заявил Сандос с той мерой уверенности, которую ему позволял чудовищный зевок. – Если я не проснусь в октябре, на что я самым искренним образом надеюсь, даю тебе разрешение разбудить меня. А ты тем временем можешь начать с программы обучения руанже – у Джулиани есть коды доступа. Но не пробуй заниматься к’саном, пока я не смогу помочь тебе с этим кошмарным наречием, Джон.
Положив левую руку на стол, он повел ее вперед, чтобы отключить ортез, и замер, осененный внезапной мыслью.
– Иисусе, это значит, что Джулиани посылает тебя со следующей группой?
После продолжительной паузы Джон согласился:
– Ага, похоже на то.
– И ты хочешь лететь?
Джон, посерьезнев, кивнул:
– Да. Да, я хочу.
Выйдя из оцепенения, Эмилио рухнул обратно в кресло и со строгой и величественной интонацией процитировал Игнатия Лойолу:
– Готов выступить сразу же, как только получу приказание и застегну ремни кирасы.
– Если я умру на Ракхате, – торжественно проговорил Джон, – прошу об одном: чтобы тело мое доставили на Землю и похоронили в Чикаго, где я смогу, как и прежде, участвовать в…
– …В политике Демократической партии! – вместе с ним договорил фразу Эмилио. Коротко хохотнув, он покачал головой: – Ну, ты знаешь, что тамошнее мясо есть не стоит. Потом, ты рослый. И, возможно, сумеешь отбиться, если какой-нибудь обиженный Богом жана’ата воспылает к тебе страстью.
– Похоже, что Джулиани имел это в виду. Если я обрасту мышцами, то из нас можно будет составить приличную линию нападения Национальной футбольной лиги. Остальные парни просто огромные.
– Так ты уже встречался с ними?
– Только со священниками, не с мирянами, – проговорил Джон, возвращаясь к столу. – Отец настоятель у нас парень по имени Дэнни Железный Конь…
– Лакота? – спросил Сандос.
– Отчасти, еще, по его словам, в какой-то степени француз и швед, и это у него чувствительная точка. Его предки-лакота покинули резервацию четыре поколения назад, и его достали люди, удивляющиеся тому, что он не носит перья на голове и не сокращает слова.
– Много лун шел чокто…[20] – нараспев произнес Эмилио.
– Словом, вырос он в предместьях Виннипега, a рост унаследовал от шведской родни. Однако Черные Холмы[21] буквально вытатуированы у него на лбу, так что его то и дело заносит в эту сторону. – Джон скривился. – Я отшил его с ходу, рассказав о своем знакомом с Пайн Ридж. Он отбрил меня тут же: «Никаких кос и боевой раскраски, шеф. Я не пью и никогда не бывал в парной бане».
Сандос присвистнул, округлив глаза:
– Да… чувствительный, выходит, парнишка. Но это о том, чем он не является. А что он собой представляет на самом деле?
– По тому, что я слышал, одного из самых проницательных политологов Общества, а у нас в таковых нет недостатка. Рассказывали, что он мог претендовать на пост генерала, но когда Джулиани предложил ему лететь на Ракхат, Дэнни, ни разу не оглянувшись, покинул профессорскую кафедру в римском Грегорианском консорциуме. Так что пышет энтузиазмом.
– А как насчет остальных? – спросил Эмилио.
– Химик из Белфаста… предполагается, что он разберется с тем, как у них на Ракхате обстоят дела с наносборкой. Я встречался с ним на прошлой неделе, однако Джулиани гоняет этих ребят уже несколько месяцев! Кто бы мог подумать! В любом случае имей в виду, что имя его будет Шон Фейн.
Сандос посмотрел на Джона отсутствующим взглядом.
– Ну, подумай, – посоветовал Джон.
– Ты шутишь, – проговорил Сандос спустя мгновение.
– Не я: его родители. Папа его был…
– Евреем, – с невозмутимой миной предположил Сандос.
– Угадал. A его мать была политической…
– Шон Фейн, «Шинн Фейн»[22], – задушевно промолвил Эмилио. – Не просто шутка, но какая-то кривая шутка.
– Ну да. Я спросил Шона, будет ли ему приятно узнать, что я учился в старших классах с парнем по имени Джек Гофф. Ни на грош, вот что он мне ответил. Самый мрачный ирландец, кого я встречал, но держится как принц.
– Забавная группа получается, – сухим тоном заметил Эмилио. – Но Джулиани говорил, что посылает четверых. И кто же четвертый?
– O, ты будешь в восторге… ты же просил баскоговорящего, так?
– Владеющего эускарой, – поправил его Сандос. – Я всего лишь нуждался в людях, привыкших иметь дело с подлинно чужими для нас грамматическими структурами…
– И так далее. – Джон пожал плечами. – Словом, входит он, такая махина, причем с такой густой шапкой волос, каких я еще не видал, и я думаю: ха! Так вот кому досталась вся причитающаяся мне шевелюра! И тут он говорит мне нечто абсолютно не поддающееся восприятию, содержащее слишком много согласных, так что непонятно, то ли сказать ему здрасьте, то ли дать пинка! Вот оно – он написал мне на бумажке свое имечко.
Джон выкопал из кармана листок бумаги.
– И как прикажешь произносить вот это вот?
Эмилио взял листок правой, еще в ортезе, рукой и подвигал его перед собой в воздухе.
– Прямо на тромбоне играю! Мелкие буковки теперь, хоть убей, не вижу, – с прискорбием проговорил он, но наконец понял: – Жосеба Гастаиназаторре Уризарбаррена.
– Красота, – промолвил Джон.
– Рассказывают, что сам черт однажды попытался выучить баскский язык, – тоном просветителя поведал Сандос. – Нечистый сдался после трех месяцев, выучив всего два слова эускары: два ругательства, оказавшиеся к тому же испанскими.
– И как нам, простым смертным, следует звать его? – спросил Джон.
– Джо Альфабет? – предположил Эмилио, с зевком отстегивая второй ортез. – Первое имя его звучит как Жозе. Выговорить легко: Жо-се-ба.
Джон пару раз попробовал произнести полное имя и удовлетворился тем, чего сумел достичь, тем более что никто не ожидал, что он продвинется дальше трех первых слогов.
– Еще он эколог. И вроде бы неплохой парень. Слава Богу и за малые милости… так? Боже… прости! Я забыл о том, что ты очень устал, – проговорил Джон, когда Эмилио зевнул в третий раз за такое же число минут. – Все… ухожу. Ухожу! Отдыхай.
– До завтра, – проговорил Эмилио, делая шаг к постели. – И еще, Джон… я рад тому, что ты здесь.
Кандотти радостно кивнул и поднялся на ноги, однако на верху лестницы остановился и посмотрел назад, на Эмилио, слишком вымотанного для того, чтобы раздеваться и уже повалившегося на постель.
– Эй, – спросил Джон, – неужели ты не хочешь спросить меня о том, что я принес тебе в этой коробке?
Эмилио не стал открывать глаза.
– Так скажи мне, Джон, что ты принес в этой коробке? – послушно проговорил он. – Правда, мне на это насрать.
– Письма. И прочую бумажную хрень. Почему ты не читаешь свою почту?
– Потому что всех моих знакомых нет в живых. – Глаза открылись. – И кто, по-твоему, будет писать мне? – обратился к потолку Сандос с деланым изумлением. И немедленно восхитился пришедшей мыслью. – А что, Джон, я, наверное, получаю предложения трахнуться от бывших заключенных мужского пола!
Кандотти фыркнул, удивленный самой идеей, однако Сандос, восхищенный несомненной абсурдностью подобного предположения, приподнялся на локтях, лицо его просветлело, вся усталость мгновенно улетучилась.
– Мой дорогой Эмилио, – начал он и, перевалившись на спину, продолжил непристойную и чрезвычайно бойкую импровизацию на широкую литературную тему тюремной романтики, заставившую Джона задохнуться от хохота.
Наконец, когда поток красноречия иссяк, Джон утер глаза, отдышался и воскликнул:
– Ты ужасный циник! У тебя много друзей на Земле, Эмилио.
– Не надо, Джон. В настоящее время из всех пороков я способен только на цинизм и сквернословие. Для всего прочего необходимы силы или деньги.
Кандотти снова расхохотался, велел Сандосу прочитать двое четок в порядке покаяния за явным образом нечистые помыслы, помахал на прощание рукой и начал спускаться по лестнице. Он уже намеревался выйти из домика, когда услышал, что Эмилио зовет его по имени. Не отрывая ладони от ручки двери, все еще ухмыляясь, он посмотрел наверх, в сторону комнаты Сандоса. – Да?
– Джон, мне… мне нужна помощь.
– Конечно. В чем угодно.
– Я… мне придется подписать кое-какие бумаги. Я ухожу, Джон. Я покидаю Общество.
В высшей степени ошеломленный, Кандотти привалился к дверному переплету.
Спустя мгновение Сандос продолжил голосом негромким и нерешительным:
– Можешь ли ты пристроить к моей руке ручку, так чтобы я мог удержать ее? Как ты сделал с бритвенным станком, а?
Поднявшись до половины лестницы, Джон остановился, как и Сандос не желая вести этот разговор лицом к лицу.
– Эмилио. Вот что… Ну, хорошо, я понимаю твои обстоятельства – ну, в той мере, в которой их может понять посторонний. Но ты уверен? Я о том, что…
– Я уверен. Сегодня днем я принял решение. – Подождав, Кандотти услышал: – На моей совести и так много всякого дерьма, Джон. Я не хочу добавлять к нему ложь. Никто не сможет осудить меня за все содеянное и за то, что после всего этого я считаю себя священником. Это будет нечестно.
Джон тяжело опустился на ступеньку лестницы и закрыл руками лицо… Тем временем Эмилио продолжил:
– Как мне кажется, это должно быть какое-то подобие клинышка, который будет удерживать ручку под углом, так? Новый ортез неплох, однако тонкая моторика ко мне вернулась лишь отчасти.
– Ага. Хорошо. Без проблем. Что-нибудь придумаю.
Джон поднялся на ноги и направился вниз по лестнице, как будто постарев на десять лет за эти пять минут. Шагая вразвалочку по дорожке в сторону главного дома, он услышал голос Эмилио, доносившийся из слухового окошка:
– Спасибо тебе, Джон.
И, не оглядываясь, безнадежно помахал рукой, зная, что Эмилио не может видеть его.
– Конечно. Честное слово, – прошептал Джон, ощущая неприятное ползучее прикосновение морского ветерка, высушившего слезы.
Глава 7
город Инброкар
2046 год по земному летоисчислению
Ошибка его, если этот поступок действительно стал ошибкой, заключалась в том, что он решил посмотреть на ребенка.
Кто знает, как сложилась бы вся дальнейшая история, если бы Супаари ВаГайжур просто дождался утра и, ничего не подозревая, освободил бы душу своего ребенка для лучшей участи?
Однако повитуха явилась к нему, нисколько не сомневаясь в том, что он непременно захочет увидеть младенца, а он редко находил в себе силы отвергнуть ту бесхитростную дружбу, которую руна как будто бы всегда предлагали ему. И посему Супаари торжественно направился в ясли – тяжелое вышитое облачение негромко шелестело в такт мягким, в шлепанцах, шагам, – глядя куда-то вдаль, отвергая болтовню повитухи-руна опущенными вперед ушами и не намереваясь обращать внимание на ее любезности – сознательно подражая аристократу-жана’ата, полному несокрушимой гражданской добродетели и монументального самоуважения.
«И кто я такой, чтобы над кем-нибудь насмехаться?» – спрашивал Супаари себя. Торговец-выскочка, склонный к неудачным коммерческим метафорам в разговорах с высшими рангом. Третьеродный сын из провинциального равнинного городишка, сколотивший себе состояние на торговле с руна. Чужак среди прочих чужаков, буквально случайным образом натолкнувшийся на группу иноземцев, явившихся на Ракхат откуда-то из-за трех его солнц, и воспользовавшийся этим, чтобы соорудить себе из этого факта подобие благородного происхождения, в которое не способен поверить никто, кроме руна.
С того самого мгновения, когда Рештар согласился на его предложение, он твердо знал, что никогда не станет чем-то большим, чем есть. Это ничего не значило. Он привык к одиночеству. Жизнь Супаари всегда носила характер промежуточный: она проходила между мирами руна и жана’ата, и он наслаждался перспективой, предпочитая наблюдение участию. Первый год среди высокопоставленных представителей собственной породы он провел изучая привычки окружающих его мужчин столь же внимательно, как охотник изучает свою добычу. Он привык получать удовольствие от того, что научился точно предсказывать поступки этих снобов. Он умел предвидеть, кто из них откажется присутствовать на приеме, если на него будет приглашен он, Супаари, а кто явится, чтобы подразнить его; кто совершенно не станет здороваться с ним, а кто ограничится приветствием, более подходящим второродному. Первородные предпочитали прямые оскорбления; второродные вели себя более тонко. Его собственный старший брат, Дхерай, мог пройти в дверь, не заметив Супаари на пороге, второродный же брат, Бхансаар, мог остановиться перед ней, словно Супаари был невидимым, и пройти в комнату мгновение спустя, будто ему только что приспичило войти внутрь.
Общество Инброкара, подражая князьям Китхери, игнорировало Супаари или презрительно поглядывало на него из углов. Подчас слово «купчина» всплывало над общим разговором, погружаясь мгновением позже в ласковые волны благовоспитанного веселья. Ушедший в себя Супаари переносил подобное отношение с любезным отстранением и подлинным терпением – ради сына и будущего.
Ясли находились в самой глубине дворцовых строений. Он не имел представления о том, где находилась Жхолаа. Повитуха-руна по имени Пакуарин уверила Супаари в том, что жена его здорова, но добавила:
– Она измождена до последней жилочки, бедняжка. Не то что у нас, – с благодарностью произнесла рунаo. – Из нас детишки выскакивают так же легко, как и попадают внутрь. Не быть жана’ата – это благо. К тому же женщины Китхери всегда узки в бедрах! – пожаловалась она. – Бедной повитухе непросто приходится.
Когда Супаари спросил, Пакуарин признала, что роды расстроили Жхолаа. Еще бы. Новая причина для ненависти к нему: зачал калеку.
Занятый своими думами, Супаар, лишь оказавшись в кухне среди мягких, с придыханием, смешков руна и их бойкой и безобидной болтовни, мешающейся с запахами специй и жарящихся овощей, понял, что Пакуарин провела его сквозь детскую и даже дальше. Пройдя через последнюю решетчатую дверь, он оказался на пустынном хозяйственном дворе, расположенном в дальней части дворцовых строений, и вдруг заметил в углу его небольшой деревянный ящичек.
Супаари привели сюда затем, чтобы он увидел этот ящик, и он остановился на месте как вкопанный, не окончив шаг.
Ни расшитого покрывала для колыбели, ни праздничных лент, колышущихся на ветру, привлекая внимание младенца и обучая его следить за движущимися предметами. Тряпка, взятая из кухни, прикрывала колыбель его дочери, а с ней и его позор от посторонних взглядов. И ящик не новый, отметил Супаари, простая, сбитая из досок коробка для младенцев руна. Колыбель для ребенка кухарки.
Другой человек обвинил бы в подобном неуважении повитуху – но не Супаари ВаГайжур. «Ах, Бхансаар, – подумал он. – Попал. Чтоб твои дети стали падальщиками. И чтоб ты дожил до того, как они начнут есть падаль, и увидел это собственными глазами».
Он не ожидал этого даже после года, полного родственных оскорблений и унижений. Он смирился с тем, что дочь его обречена. Никто не женится на калеке. Положение ее будет даже хуже, чем у третьей, – первородная, но оскверненная увечьем. Из всего, что он знал об обычаях иноземцев, самым непостижимым, самым аморальным казалось ему то, что рожать детей у них может всякий, даже те, у кого имеются отклонения от нормы, способные повредить отпрыску. Каким же надо быть человеком, чтобы осознанно передать свою болезнь собственным внукам?
«Нет, – думал он, – мы, жана’ата, на это не способны! А ты, Дхерай, мог бы преодолеть мелочность Бхансаара, и отвести девочке хоть какое-то место в яслях на единственную ночь ее жизни. Дочерей тебе, которые обслуживают путешественников, – свирепо думал Супаари, – и пусть твои сыновья окажутся трусами, Дхерай».
Подойдя к колыбели, он кривым когтем зацепил и отбросил в сторону прикрывавшую ее грубую ткань.
– Ребенок ни в чем не виноват, господин, – заторопилась с советом повитуха, испуганная резким запахом гнева. – Бедняжка не сделала ничего плохого.
«A кого же мне винить? – захотелось ему огрызнуться. – Кто положил ее в этот мерзкий ящик?.. Кто принес ее в этот жалкий двор?.. Я… я ничтожный», – думал он, склоняясь над колыбелью…
Выкупанная, накормленная и спящая дочь его благоухала, как пахнут первые капли дождя в грозу. Голова его пошла кругом, он пошатнулся, перед тем как стать перед ней на колени. Вглядываясь в ее крохотное совершенное личико, он по очереди, шесть раз поднес ко рту свои длинные когти, отхватив каждый из них – так сильна была в нем потребность взять ее на руки и не причинить при этом малейшей боли. И почти в тот же самый момент понял, какую унизительную и бесповоротную глупость только что совершил. Лишенный когтей, он вынужден будет предоставить Лжаат-са Китхери право осуществить обязанность отца. Но разум его таял в тумане, и он вынул свое дитя из ящика, неловко прижав дочку к груди.
– Глаза Китхери! Красотка, как и ее мать, – невинным образом щебетала повитуха-руна, радуясь тому, что этот жана’ата успокоился, – но носик у нее твой, господин.
Невзирая на ситуацию, он рассмеялся, забыв обо всем, забыв о своем одеянии, касавшемся еще блестевших от утренней мороси глиняных плиток, для того чтобы можно было взять ребенка на руки. С душевной болью он провел пальцем по бархатной и нежной щечке, лишенные когтей корявые пальцы его казались странным образом обнаженными и беззащитными, как шейка дочери. «Я не должен был иметь детей, – подумал он. – Вывихнутая ножка – это знак. Я все сделал неправильно».
Собрав воедино всю свою внушительную отвагу, чувствуя, как перехватило горло, Супаари принялся распутывать скрывавшие девочку пеленки, заставляя себя увидеть то, что обрекало этого ребенка на смерть в младенчестве, унося с собой во тьму все его надежды. Но то, что он увидел, заставило его задохнуться.
– Пакуарин, – произнес он самым осторожным образом, стараясь ничем не встревожить повитуху. – Пакуарин, кто видел этого ребенка, кроме нас с тобой?
– Сановные дядья, господин. Они доложили об увиденном Высочайшему, но сам он не приходил посмотреть на нее. Какая жалость! Госпожа уже пыталась убить эту крошку, – бездумно выпалила Пакуарин. Однако, услышав собственные слова, сообразила, что сделала неправильно. Жхолаа хотела убить ребенка еще до того, как стало известно о ее увечье. Рунаo начала раскачиваться из стороны в сторону, но вдруг остановилась.
– Госпожа Жхолаа сказала, что лучше умереть новорожденной, чем жить обреченной на безбрачие, – сказала она, не солгав при этом, ибо Жхолаа действительно говорила эти слова несколько лет назад. Удовлетворившись той сообразительностью, с которой вплела эту фразу в настоящее, Пакуарин благонамеренно затрещала: – И так должно быть. Никто не захочет жить с калекой. Но неправильно, чтобы родительница делала это. Обязанность лежит на родителе, господин. Эта услужливая сохранила ребенка для твоей чести.
По-прежнему ошеломленный, толком не вслушивающийся в болтовню Пакуарин, Супаари надолго уставился на повитуху. Наконец, ощутив, что выражение на его лице сделалось благосклонным и ободряющим, он спросил:
– Пакуарин, а скажи, пожалуйста, мне, какая ножка у нее искалечена? Правая? Или левая?
Смутившись, она опустила уши и закачалась снова, на сей раз быстрее, и перешла на родную для нее руанжу:
– Кто-то не знает. Кто-то просит прощения. Руна не разбираются в подобных делах. Решают господа.
– Спасибо тебе, Пакуарин. Ты хорошо поступила, сохранив для меня ребенка. – Супаари передал младенца повитухе, движениями столь же точными и аккуратными, как те, которые ему предстояло выполнить во время утреннего ритуала.
– Лучше, если ты никому не скажешь о том, что я был здесь, – сказал он ей. И чтобы убедиться в том, что она все поняла, повторил на руанже: – Сипаж, Пакуарин, кто-то хочет, чтобы ты молчала о моем посещении.
Зажмурив глаза, сложив на затылке уши от ужаса, Пакуарин подставила горло, полагая, что Супаари немедленно убьет ее, чтобы добиться молчания, однако он улыбнулся и положил руку на голову рунао, чтобы успокоить ее, как сделал бы родной отец, и еще раз похвалил:
– Останешься ли ты с ней сегодня, Пакуарин? – спросил он. Супаари не стал предлагать ей деньги, зная, что природная привязанность удержит эту женщину в этом дворе: наследственная линия ее выводилась по принципу верности.
– Да, господин. Кто-то благодарит тебя. Этот бедный комарик не должен оставаться в одиночестве в свою единственную ночь. Чье-то сердце скорбит о ней.
– Ты хорошая женщина, Пакуарин, – еще раз сказал он. – Может быть, она проживет короткую жизнь, но подобающую ей и достойную, так?
– Да, господин.
Оставив Пакуарин на середине книксена, он без недостойной поспешности прошествовал через детскую. Услышав смех и возню подростков-внуков Лжаат-са Китхери, он решил, что шумная борьба мальчишек является единственным знаком живой жизни в этом затхлом и мертвом месте. И пожелал им вырасти и побыстрее расправиться со своими отцами. Он шествовал по узким коридорам мимо опустевших приемных покоев, до ушей его из-за закрытых и занавешенных дверей доносились глухие и негромкие обрывки разговоров. Шествовал мимо привратников-руна, стоявших на страже у каждой двери, во всем приспособленных к своему делу и слишком флегматичных для того, чтобы замечать скуку.
Кивая им, открывшим перед ним врата внутренние и внешние и отдававшим честь, он наконец оказался на тихой улочке. Однако чувство избавления не посетило его, когда он очутился вне дворца. Не пришло чувство открытого неба над головой, ощущение ветра. Супаари жег взглядом резные балконы над головой и нависающие карнизы, по всей видимости сооруженные лишь для того, чтобы не позволить дождям смывать мусор с улиц. «Почему здесь никто не подметает?» – возмутился он, заметив, что ноги его по лодыжку утопают в несомом ветром мусоре. Тяжесть, теснота, неопрятность этого города угнетали его. Инброкар был связан и скован каждым мгновением своей запутанной и прелюбодейной истории. В этом городе ничего не производят, впервые понял он. Это город аристократов и советников, агентов и аналитиков, вечно оценивающих и сопоставляющих, бесконечно маневрирующих в лихорадочном самопродвижении и хищном соперничестве.
Какое безумие заставило его поверить в то, что здесь можно положить начало чему-то подлинному, настоящему? И заставило его в еще большем безумии гневаться на вечно царящую в этом городе и отчасти рожденную им самим тьму, на его собственное липкое, волокнистое, плотно сплетенное увлечение положением в обществе и собственным значением.
На пути по городу, который он некогда находил прекрасным, Супаари там и сям встречал различных приятелей, знакомых, клиентов Китхери, и они обращались к нему с лживыми соболезнованиями. Полные сочувствия словеса выглядели слишком скороспелыми: ребенок родился только сегодня, о появлении его на свет не объявляли, но выражения сострадания были столь же корректными, как и лица их авторов. «Насколько давно был составлен этот план? – гадал Супаари. – И сколько народа было посвящено в этот восхитительный и тонкий розыгрыш, сколько же их ожидало разрешения моей жены от бремени с тем же нетерпением, с каким я сам ожидал появления на свет младенца, которого должен был, по замыслу шутников, убить?»
И тут ему пришло в голову, что от роскошного и тщательного замысла и воплощения так и разит утонченной восприимчивостью Рештара. «Кто первым предложил махнуть Сандоса на Жхолаа? – подумал он, чуть сбившись с шага на этой мысли. – Неужели Хлавин Китхери с самого начала направлял его к этой сделке?» Ошеломленный этой мыслью, Супаари припал к стене и попытался восстановить ход переговоров, происходивших на языке, столь же причудливом и цветистом, как и дворец Рештара, в обществе поэтов и певцов, разделявших роскошную опалу Хлавина и с нетерпением ждавших мгновения, когда возведенный в князья коммерсант Супаари наконец будет лишен чести и достоинства. «И кому это выгодно? – спросил он себя, глядя незрячими глазами на улицу, не замечая прохожих. – Кто выиграл?»
Хлавин. Его братья. Их друзья и приятели. Хлавин должен был знать, что Жхолаа уже не молода, и он, должно быть, предложил Дхераю и Бхансаару повеселиться, когда род Даржан будет уничтожен во младенчестве собственным введенным в заблуждение основателем…
Голова Супаари кружилась от унижения, он боролся с тошнотой и, когда дорого купленные иллюзии рассеялись, понял со странной уверенностью, что приступы дурноты не были естественными и для родни Сандоса. Всегда любезный и стремящийся угодить Супаари понял, что сам навлек презрение Хлавина Китхери, столь же не осознавая этого, как и Сандос, пригласивший его…
«Кто заплатит за это?» – подумал он. И когда ярость вытеснила ощущение стыда, с недоброй иронией сказал себе, что фраза из коммерческого словаря в данном случае неуместна.
Пылая гневом, он повернул назад, к логову Китхери, переполненный черными мыслями о кровавой мести, о вызовах на дуэли ха’аран. Однако других вариантов не оставалось. Дождаться утра и перед свидетелями обвинить Китхери в обмане – под общий хохот… Его разыграли, никакого заговора не было и в помине. Спасти жизнь ребенка теперь – и дождаться этого хохота потом, когда подстроят расторжение брачного контракта. Живая, прекрасная, чарующая дочь закончит так же, как и ее мать, став орудием в хитроумной комедии, в подставе, задуманной для того, чтобы унизить его на потеху приближенным.
«Нет, дело не во мне, – думал он, замедляя шаг уже перед владением Китхери. – Дело не в личности. Просто таким, как я, следует знать свое место. Мы нужны им там, где мы есть. Третьеродные торговцы. И руна. Мы их кормим, одеваем и укрываем. Мы поставляем им все необходимое, обеспечиваем все прихоти и желания. Мы являемся фундаментом их дворца, и они не смеют тронуть даже единственный его камень, чтобы все остальное не рухнуло на их головы». Он остановился возле стены соседнего дома, разглядывая высокую стену, окружавшую владения семейства, поколение за поколением правившего Инброкаром, и наконец нашел в своем сердце знакомое и холодное место, решения в котором принимались без гнева и желаний.
По долгому опыту он знал наизусть расписание отплытия барж от причалов Инброкара по реке Пон. Супаари ВаГайжур заново рассмотрел условия совершенной им сделки и заново сопоставил их с кодексом чести коммерсанта. Свою часть сделки он выполнил.
И не остался в долгу перед этими людьми.
«Итак, я беру мое, – подумал он, – и ухожу».
– Открованно говоря, Хлавин, я ожидал от него большего, – обратился Ира’ил Вро к Рештару Галатны. Получив информацию от доносчиков, они наблюдали за возвращением Супаари во владение Китхери, перейдя в угловую башню, откуда можно было видеть, как этот коммерсант разговаривал с повитухой на заднем дворе, а затем ушел из дворцового комплекса вместе с ней и ребенком. Ира’ил посмотрел на Хлавина Китхери, но встретил только спокойный обескураживающий взгляд.
– Должно быть, ты разочарован… – продолжил Ира’ил уже с неуверенностью.
Смущенный, он осторожно вдохнул запах Китхери. В нем не угадывались дуновения гнева, однако Ира’ил отвернулся к окну башни, чтобы скрыть смущение.
Отсюда, чуть-чуть меняя направление взгляда, он мог видеть казначейство, провинциальные налоговые службы, государственные архивы и библиотеки, арену, находившуюся в считаных шагах от Высокого суда. Бани, посольства; высокие каменные столпы, увенчанные серебряной сеткой антенн, поднимающиеся над Генеральным штабом. Он знал все эти ориентиры и всегда восхищался городским ландшафтом – непокорным времени воплощением стабильности и неизменного равновесия…
Равновесия! Именно его так не хватало Ира’илу в отношениях с Китхери Рештаром. Да, Хлавин был третьеродным, а он, Ира’ил, первородным, но своей древностью род Китхери превосходил всякую другую фамилию в Принципате Инброкара, так что возможность обращаться к Рештару по имени или быть с ним на «ты» определялась строгим церемониалом, за несоблюдение которого можно было дорого заплатить. Не имея рядом специалиста-руна по дворцовому протоколу, Ира’ил постоянно опасался совершить какую-то непростительную ошибку.
Однако ситуацию еще более ухудшало то, что Ира’ил не имел представления, почему именно его избрали, чтобы сопровождать Рештара из Гайжура в Инброкар, когда ссылка Хлавина была прервана ради рождения ребенка его сестры. Безусловно, Ира’ил настолько восхищался необыкновенной поэзией Рештара, что отрекся от собственной семьи и отказался от права продлевать существование рода Вро ради того, чтобы присоединиться к блистательному обществу, обретавшемуся во Дворце Галатны. Однако подобные поступки совершали и другие мужчины, а сам Ира’ил оказался никудышным певцом, впрочем, достаточно разбиравшимся в поэзии, чтобы понять, что собственные его стихи никогда не поднимутся над уровнем банальности. Единственный раз Рештар обратил на него внимание, когда он произнес прискорбно очевидную фразу по поводу чужой очаровательной метафоры и еще когда сфальшивил в хоре. Посему Ира’ил удовлетворялся тем, что пребывал на самой периферии двора Рештара, считая за честь находиться в обществе таких артистов… В конце концов, кому-то приходится служить публикой…
И тут Хлавин Китхери необъяснимым образом протянул свою длань и извлек Ира’ила Вро из неизвестности, пригласив его стать свидетелем церемоний, утверждающих образование нового рода Даржан, которому Рештар позволил обрести существование.
– O, ты должен побывать там, Ира’ил, – настоял на приглашении Рештар, когда Ира’ил, осекаясь, пробормотал отказ, – ты должен увидеть весь замысел целиком! Обещаю, что только ты один помимо меня поймешь величие этой шутки.
Ира’илу оставалось только предположить, что Рештару по какой-то причине нравится его общество – предположение странное, но, бесспорно, лестное.
Все в этой экскурсии казалось ему удивительным. Впервые попав в Инброкар, Ира’ил был изумлен дворцом Китхери, находящимся в самом центре столицы. Архитектура впечатляла, однако сам дворец оказался странно тихим местом – почти пустынным, служившим местом обитания благородного рода и домашних слуг. Ира’ил рассчитывал увидеть в средоточии своей культуры нечто более волнующее, нечто более живое… Он отвернулся от города и посмотрел на кухонный двор со специальными воротами для руна, через которые только что вышел торговец.
– Можно было ожидать славную дуэль, – сказал он Рештару, надеясь на то, что Хлавин забудет панибратское обращение.
– Купчина мог бы одолеть Дхерая. И вы сделались бы вторым.
– Думаю, что я уже второй, – с полной невозмутимостью молвил Рештар.
– Прошу прощения, – произнес Ира’ил Вро, допуская в смятении новую бестактность. – Не понимаю… простите! Но я не могу понять…
«Еще бы, тупица», – думал Хлавин Китхери, взирая на своего спутника с выражением, близким к симпатии, поскольку он чрезвычайно наслаждался обществом Вро – в особенности дурацкими промахами этого идиота и неуклюжими попытками извиниться. Во всей разыгрывавшейся драме присутствовали изумительно комичные моменты, и тот факт, что он сам начал ее разыгрывать, доставлял Хлавину чрезвычайное удовольствие. Супаари собирается бежать из города, понял Рештар, когда его нелепый шурин украдкой выбрался из города со своей добычей подобно трусливому шакалу; свет, наполнивший в эти мгновения душу Хлавина Китхери, можно было сравнить только с теми мгновениями, когда финал импровизированной песни приходил ему в голову прямо посреди представления. «Я не мог спланировать свою интригу более совершенным образом».
– Думаю, что купчина уже убил моего достопочтенного брата Дхерая, – молвил тогда Рештар голосом чистым и музыкальным, глядя на Ира’ила небесной чистоты голубыми, влажными, лавандовыми глазами. – И Бхансаара! И их отпрысков. A потом, обезумев от пролитой крови, опьянев от жаркого и густого запаха мести, убил Жхолаа и моего отца…
Ира’ил открыл свой рот, чтобы возразить:
– Нет, он всего лишь бежал из дворца.
– Я думаю, что все это уже произошло, – повторил Рештар, по-братски опуская руку на плечи своего собеседника и умиротворяющим образом прикасаясь хвостом к его хвосту. – Разве не так?
Глава 8
Инброкар
Во время правления Лжаат-са Китхери
Существовали такие вопросы, которых не следовало задавать, и самым важным среди них был «Почему?».
Без «что?» и «когда?» обойтись невозможно. Спрашивать «где?» можно было без особой опаски. «Как?» – вполне допустимо, хотя нередко приводило к неприятностям. Однако задавать вопрос «почему?» было настолько опасно, что Селикат лупила его всякий раз, когда он использовал это слово. Даже ребенком Хлавин понимал, что она исполняет свой долг. Она била его ради его же собственного блага, потому что опасалась за него и не хотела, чтобы из лучшего из ее учеников сделали обратный пример. Лучше кнут наставницы, чем медленное и публичное разоблачение взбунтовавшегося младшего брата.
– Так что я такое… выходит – манекен портного? – потребовал он ответа в возрасте двенадцати лет, еще не знающий страха и жизненных тонкостей.
– Если умрет Бхансаар, они возложат его служебные обязанности, как мантию, на мои плечи, и – щелк! Я Верховный судья! Разве не так оно происходит, Селикат?
Наставница колебалась. Участь рештара требовала изучения опыта старших братьев, заранее знавших, что, если любой из них не даст потомства или умрет до рождения своих детей, считающийся лишним сын займет освободившийся пост, обладая нужным уровнем компетенции. Невысокий, но ловкий Хлавин физически уже ничем не уступал Дхераю, обреченному выступать в качестве военного предводителя своего народа в том случае, если Патримонии будет угрожать любая опасность.
И даже Жхолаа обнаруживала лучшие способности, чем Бхансаар, который помнил все, чему его учили, и умел применять эти знания, но редко замечал следствия и делал собственные выводы, однако ему назначено было в свое время сделаться председателем Высшего суда Инброкара.
– В древних песнях все это объясняется, господин, – сказала ему рунао, закрывая глаза и голосом своим воспроизводя ритм, если не мелодию, этих песен.
– Ингви, любитель порядка, рек первым братьям, Ч’хорилу и Сримату: когда собираются женщины – пляшет Хаос. Посему разлучите Па’ау и Тиха’ай, свирепых сестер, которых взяли женами себе, и содержите их в плену у себя и порознь.
Хитростью и лукавством Ч’хорил и Сримат соединились с прочими мужчинами, пока все они не подчинили себе своих жен и дочерей. Однако, собственными руками совершив резню и избиение, мужчины опьянели от крови и начали сражаться между собой. «Мы не можем оградить себя друг от друга», – сказали они. И тогда Ингви повелел: «Пусть те среди вас, кто мудр, решат, кто из вас слишком свиреп для того, чтобы жить, а те, кто силен, убьют свирепых, осужденных мудрыми». И потому что Ч’хорил Старший был силен, а Сримат Младший – мудр, начиная с того времени уделом перворожденных мужчин каждого рода стали война и кровавые жертвоприношения, а второрожденным достались суд, приговор и решение.
– И ты веришь в это? – откровенно спросил Хлавин рунао. Глаза ее открылись.
– Все это произошло задолго до того, как были одомашнены руна, – ответила Селикат, всплеснув хвостом и уронив его с мягким и, возможно, даже ироничным шлепком. – В любом случае какое значение имеют верования ничтожной наставницы, мой господин?
– Ты не ничтожна. Ты обучаешь Китхери Рештара. Скажи мне, что ты думаешь, – приказал ребенок, властный даже тогда, когда можно было подумать, что его не ждет ничего большего, чем почетная ссылка, устроенная для того, чтобы отвлечь от тщетных сожалений и опасных вопросов.
Селикат собралась, приняв облик персоны, достойной внимания.
– Стабильность и порядок всегда оплачивались пленом и кровью, – сказала рунаo своему подопечному, глядя на него спокойными глазами. – Песни также рассказывают нам о Веке Постоянства, когда все было так, как и должно быть, и каждый человек знал свое место и свой род. Тогда было почтение к высшим и обхождение со стороны низших. Все элементы были уравновешены: Служение торжествовало, и Хаос был в подчинении…
– Да, да, «свирепость покорна, как женщина в своих покоях». Или Рештар в своем изгнании, – сказал мальчишка. Она регулярно лупила его, однако он оставался порывистым и опасно циничным. – Разве такая благодать царила всегда, Селикат? Даже когда люди знают свое место, земля может разверзнуться и поглотить города. Где тут равновесие? При потопе может погибнуть половина населения низменной провинции. Пепел может засыпать целый город всего лишь за время послеобеденного сна!
– Истинно, – согласилась Селикат. – Но есть и худшее: есть люди, которые втайне сеют раздоры, обращаются к кровной мести в удобных для того обстоятельствах. Существуют зависть и эгоизм; соперничество ради соперничества. A еще агрессия и гнев: слепая и глухая ярость, требующая раз и навсегда уладить что-то.
Рунаo умолкла, почтительная, но все же наследница поколений селективного отбора и одновременно абсолютная владычица в собственном поле знаний. Всю свою жизнь она обреталась среди людей, исследовавших анатомию, рефлексы, инстинкты хищного вида: хватательные ноги, режущие когти, могучие конечности; терпение жана’ата в погоне, их хитроумные засады, быстроту, с которой они убивали. Селикат видела, как поступают с вольнодумцами, и не хотела подобной участи для Хлавина.
– Против подобной свирепости, – продолжила она, – возражали великие юристы, искусные дипломаты, мужи, чьи голоса способны восстановить покой и ввести прочих в здравое расположение духа. И ты, господин мой, получил свое имя в честь величайшего из этих людей – Хлавина Мра, чья мудрость запечатлена в основах законодательства Инброкара, чью ораторию «Должны ли мы уподобиться женщинам?» исполняет каждый обладающий правом отцовства мужчина, достигая зрелости и занимая свое место в обществе.
– A если Хлавин Мра родился бы третьим? – спросил тезка древнего героя. – Или же первым?
Селикат какое-то время помолчала. А потом выпорола его. Ибо вопрос «Что, если?» был еще более опасен, чем «Почему?».
Если бы не влияние Селикат, он мог бы закончть так же, как многие рештари его касты: соблазненным разнообразными удовольствиями праздной и легкой жизни, разрешенными третьеродному аристократу, и умерев в среднем возрасте от ожирения и скуки. Пределов потреблению практически не существовало; Дхерай и Бхансаар, опасаясь подосланных убийц и предупреждая интриги, были рады предоставить Хлавину все, чего он хотел, если только хотения эти не касались того, что принадлежало им самим. Лишенный права отцовства, сосланный во Дворец Галатна с гаремом наложниц-руна и жен из числа сделанных бесплодными третьих по рождению женщин жана’ата, изгнанник Хлавин располагал в качестве компаньонов сынами аристократии низшего уровня, которым позволялось путешествовать более свободно, чем представителям высшей знати. Вместе они заполняли пустые дни буйными играми, нередко заканчивавшимися переломами, или коротали время за чудовищными пирами и все более и более порочным сексом.
– Во всяком случае, когда она завизжала, я понял, что хоть кто-то обращает на меня внимание! – выкрикнул Хлавин, пьяный и беспечный, когда Селикат стала отчитывать его за скверное обращение с наложницей во время соития. – Я невидим! И вообще, может быть, я – не я, а Жхолаа! Здесь нет ничего реального. Все важное находится не здесь.
Немногие рештари смели посмотреть себе в лицо и старались полностью забыться в напевном самогипнозе ритуала Сти.
Но Хлавин нуждался в полноте, а не в ограниченности бытия. Некоторые рештари являлись людьми плотскими, не любившими сражений или закона и искренне предпочитавшими ученые занятия; таковые продолжали свое образование под руководством старших, и из их рядов выходили архитекторы, химики, инженеры всякого рода, историки, математики, генетики, гидрологи. Но Хлавин не был ученым.
Селикат получила исчерпывающее образование, и она знала все симптомы помутнения ума. Не зная выхода из этой ловушки, Хлавин погубит себя тем или иным образом… Существовала одна возможность… Она долго не решалась обратиться к ней, надеясь, что тот сам отыщет запах, по которому следует идти.
Селикат приняла решение в тот вечер, глядя на Хлавина со стороны, когда он слушал народные хоры Гайжура, и древние канты наполняли воздух во время заката второго солнца. Давно известно: сведи двоих жана’ата на расстояние в пол ха’aра в это время суток – и с неизбежностью наступления тьмы сам собой затеется хор. Все гармонии были основаны на двух голосах, для третьего голоса места не было. Она так и не сумела выбить из Хлавина музыку. Он не имел права петь, однако выглядел довольным, только когда пел, и она могла слышать его при правильном ветре, ведущего по желанию или доминирующую мелодию, или контрапункт к ней, украшавший оригинальные тона хроматическими элементами, подчеркивавшими или отрицавшими линию баса. И когда угасли последние ноты и померк вместе с ними солнечный свет, она подошла к нему и заговорила, не беспокоясь о том, что их может подслушать кто-то еще:
– Помнишь ли ты, мой господин, как однажды спросил меня: что было бы, если бы Хлавин Mра родился третьим?
Хлавин поднял голову и посмотрел на нее.
– В таком случае, – сказала Селикат со спокойной уверенностью, – он стал бы петь.
«Почему она сделала это?» – спрашивал потом себя Хлавин. Конечно же, руна пользовались таким способом, чтобы принести себя в жертву своим господам. К тому же Селикат оставалось жить чуть менее года: ей и так было уж почти пятьдесят лет – старость даже по меркам придворных руна. Возможно, она просто ненавидела бессмысленные потери и знала, к какому итогу он придет, если не сможет высвободить то, что содержится в нем. Возможно даже, что она подлинно желала ему счастья и знала, что без музыки ничего в его жизни не состоится… Как бы то ни было, рунаo, воспитавшая Хлавина Китхери, решила наделить его последним даром.
Потрясенные ее словами, оба они умолкли. И, старательно прислушиваясь к красноречивым звукам собственного дыхания, услышали приближающиеся шаги, заранее зная исход.
– Он превратил бы свою жизнь в песню, – окликнула его Селикат, когда ее уводили, – из чего бы ни была она сделана!
Это были последние обращенные к нему слова Селикат, а Хлавин Китхери старался чтить память своей наставницы.
Почти с самого начала он рисковал. Обратившись к концентрированной свирепости своих предков, Хлавин Китхери избавился от юных дураков, с помощью которых его братья надеялись притупить его разум, и призвал к себе физиков, математиков, музыкантов, бардов, окружив себя людьми любой касты и возраста, от которых можно было чему-то научиться. Для начала он потребил кости и мясо ритма, гармонии и образности. А потом, утолив самый отчаянный голод, обратился к деликатесам сольфеджио: темпу, ритму, складу, паузам; тональности, равновесию, обертонам; длительности звучания гласных и ударению, взаимодействию лингвистических и музыкальных структур.
Довольные столь способным учеником, преподаватели считали Хлавина одним из собственной братии – теоретиком и толкователем традиционных кантов. И естественным образом пережили потрясение, когда он пропел вслух музыкальную фразу, чтобы проверить собственное понимание… о сем было донесено кабинету Высочайшего, однако приватно они приняли это толкование. А кроме того, отметили, что Рештар обладает удивительным голосом: гибким и чистым во всем своем необычайно широком диапазоне. Действительно жаль, что его не может послушать более широкая аудитория…
Достаточно скоро, однако, он отпустил и ученых, а избавившись от них, начал создавать песни, классические по форме, но не имевшие прецедента по содержанию, стихи, не имевшие сюжета, но обладавшие лиризмом, настолько убедительным и могучим, что никто из тех, кто хоть раз слышал его песни, не мог более пребывать в забвении тайных сокровищ и незримых красот сего мира. Первородные и второродные ВаГайжури собирались у ворот дворца, чтобы послушать его. Хлавин позволял это, понимая, что они могут унести его песни в Пийа’ар, Агарди, Кирабай, на Внешние Острова, в Мо’арл и, наконец, в саму столицу. Хлавин хотел, чтобы его слышали, чтобы его песни знали за пределами дворца, и не прекратил своих концертов, даже когда его предупредили о том, что для расследования нововведения отправлен сам Бхансаар Китхери.
Прибывшего старшего брата Хлавин приветствовал без малейшего страха – так, будто Бхансаар прибыл с визитом вежливости. Селикат сумела вбить в своего питомца обходительность, и посредством мудрого выбора в своем серале Рештар Галатны познакомил брата с несколькими приятными обычаями, a после употчевал напитками и деликатесами, о существовании которых Бханасаар даже не подозревал.
– Безвредное нововведение… очаровательное к тому же, – решил Бхансаар.
Каким-то образом посреди всех изящных и умных бесед, пересыпанных стихами, восхвалявшими его мудрость и суждения, все еще звучавших в его голове, когда Бхансаар отходил ко сну, ему стало казаться, что никаких легальных причин затыкать рот молодому Хлавину вовсе не существует. И перед тем как оставить Гайжур, Бхансаар даже предложил – в какой-то мере самостоятельно – транслировать концерты Хлавина по радио в ранге государственных ораторий.
– Действительно, – определил Бхансаар в своем официальном рескрипте, – незапрещенное должно быть разрешено, ибо, доказывая справделивость обратного, придется признать, что те, кто устанавливал закон, не обладали должным предвидением.
И допустить подобное было куда опасней, чем разрешить Рештару Галатны петь свои песни! И разве может Рештар найти себе более невинное занятие, чем сочинение стихов?
– Он поет лишь о том, что может обрести внутри Галатны: об ароматах, o грозах, о сексе, – сообщил Бхансаар отцу и брату, вернувшись из поездки в Инброкар. Когда они заулыбались, он подчеркнул: – Стихи великолепны. И, занимаясь ими, он не лезет в другие дела.
Так Хлавину Китхери разрешили петь, и посредством пения он заманил свободу в собственную тюрьму. Слушатели его концертов, даже первые и вторые, потрясенные его песнями, воспламенялись желанием сбросить со своих плеч тиранию генеалогии и присоединиться к Хлавину в его возвышенной духом, пусть и скандальной, ссылке, и Дворец Галатны сделался местом, в котором собирались люди, которые иначе никогда не встретились бы.
Своими стихами Рештар Галатны заново переопределил установленную законом бездетность как чистоту ума; очистив свою жизнь от запятнанного прошлого и запрещенного будущего, он сделал ее завидной. Другие учились жить так, как он, – на гребне бытия, существуя полностью в мгновение, следующее за эфемерным мигом изысканного секса, не запятнанного династическими соображениями. И среди них находились мужи, которые не просто высоко ставили поэтические произведения Китхери, но и сами были способны создавать наделенные удивительной красотой песни.
Эти люди были детьми его души.
Он всего лишь хотел быть довольным, жить в вечном настоящем, побеждая время: все элементы уравновешены, все предметы стабильны, заключенный в нем самом хаос спокоен и управляем подобно женщине, находящейся в своих покоях.
И все же, когда он наконец достиг желаемого, музыка начала умирать в нем. «Почему?» – спросил себя Хлавин, однако ответить было некому.
Сначала Хлавин попытался заполнить пустоту предметами. Он всегда ценил редкое и необыкновенное. Теперь он искал и собирал самое превосходное, самое старинное, самое дорогое, самое богато украшенное, самое сложное. Каждое новое сокровище извлекало праздник из недр его пустоты, пока он изучал все сложные переплетения, пока вглядывался в нюансы, пока пытался найти в нем качество, способное призвать свет, вспыхнуть слепящим пламенем… Но потом он все равно отставлял эту вещь в сторону, наслаждение уходило, аромат рассеивался, тишина восстанавливалась. День за днем он расхаживал по комнатам, ожидая, однако ничто не приходило – ничто не высекало искру для песни. Собственная жизнь стала казаться ему не поэмой, но бессмысленным скопищем слов, столь же случайных, как пустая болтовня домашних слуг-руна.
Он ощущал не скуку – нечто большее, скорее медленное умирание души, окончательную уверенность в том, что теперь уже ничто и нигде более в этом мире не сможет позволить ему в полной мере вдохнуть и ощутить жизнь.
И посреди этой ночи золотой полоской рассвета явился хрустальный, удивительной простоты флакон с семью небольшими бурыми зернышками, испускавшими необычайный аромат: камфорный, сладостный, пряный – альдегиды, эфиры и пиразины, соединившись в едином благоуханном порыве, потрясли его, вдохнувшего этот аромат, как сотрясает взрыв вулкана окрестные скалы, сперва задохнувшегося и потом вскричавшего, как новорожденный младенец. Вместе с благовонием, наполнившим сперва его голову, а потом грудь, пришло и знание того, что мир обрел нечто подлинно новое. Нечто чудесное. Такое, что снова обратило его к жизни.
Были и другие ароматы: кин’амон, так торговец Супаари ВаГайжур назвал свой следующий товар. Kлов, ванил’а, дрожд, полын, тамин, куумин, сохп. И каждую новую удивительную поставку сопровождало обетование чего-то невообразимого: пота, масла, бесконечно малых частичек кожи. Не принадлежащих жана’ата. И руна. Кому-то еще… кому-то совсем другому. Нечто такое, что можно было оплатить только его собственной монетой: жизнью за жизнь.
А потом была сложная пляска не знавших прецедента запахов, звуков и ощущений, высший момент мучительного сексуального напряжения, ощущение не изведанного прежде экстаза. Всю свою жизнь он искал вдохновение в презираемом, незаметном, уникальном, мимолетном; всю свою жизнь он веровал в то, что каждое переживание, каждый предмет, каждая поэма может быть самодостаточной, совершенной и цельной. И все же, не открыв еще глаза в оргазме, кончая в иноземце в тот первый раз, он понял, что источником всякого значения является сравнение.
Ну как мог он так долго не слышать этого?
Возьмем хотя бы удовлетворение, думал он, когда иноземца увели. В акте с наложницей-руна или с пленной женщиной жана’ата, безусловно, присутствовало известного рода неравенство, представлявшее своего рода основу для сравнения, однако ощущение это затмевалось чем-то вроде исполняемого долга. Или силы! Чтобы понять силу, надо познать бессилие. Здесь наиболее красноречивым был опыт с иноземцем, даже когда стал рассеиваться пьянящий запах страха и крови. Ни когтей, ни хвоста, смехотворный зубной аппарат, малорослый, плененный. Беззащитный. Иноземец являл собой самую презренную добычу… воплощенный Ноль, физическое проявление начальной точки отсчета переживания…
В ту ночь Хлавин Китхери, лежа без движения на своих подушках, размышлял об отсутствии величины, о цифре, разделяющей положительное и отрицательное, о том, чего нет, и о Небытии. Для существа, произведшего подобное сопоставление, оргазм становится неистощимо прекрасным, а его градации – в своем неравенстве – утонченным образом размещены для того, чтобы в высшей степени ученый эстет мог узнать и оценить их.
Искусство не может существовать без неравенства, устанавливаемого сравнением, осознал он.
С первым светом он снова послал за иноземцем. На сей раз восприятие было другим, и на третий тоже. Он созвал лучших своих поэтов – самых одаренных, самых восприимчивых, – воспользовавшись иноземцем, преподал им то, что узнал, и в итоге обнаружил, что восприятие их носило исключительно персональный характер. Теперь он внимал их стихам с новым пониманием и был потрясен разнообразием и великолепием их песен. Он ошибался, чистого восприятия не существует, теперь он понимал это! Личность представляла собой линзу, посредством которой прошлое взирало на мгновение и изменяло будущее.
Даже иноземец был отмечен, преображен каждым эпизодом так, как никогда не бывали наложницы-руна и пленные жана’ата.
В полные дурмана дни после того, первого акта Хлавин Китхери создал философию красоты, науку об искусстве и его творческих источниках, его формах и оттенках воздействия. Вся жизнь могла стать эпической поэмой, смысл каждого ее мгновения – обрести рельеф под косыми лучами прошлого и будущего, сумерек и рассвета. Не должно быть только изоляции, никакого случайного опыта, никакой сингулярности!
Чтобы возвысить свою жизнь до Искусства, следует классифицировать, сопоставлять, ранжировать – воспринимать непохожести, так чтобы можно было по контрасту познать высшее, обыкновенное и низшее.
Умолкшая на многие времена года, трансцендентная музыка Хлавина Китхери зазвучала вновь, став излиянием артистической энергии, выплеснувшейся на его общество приливной волной. Даже те, кто прежде игнорировал его, не признавая ни скандальных интересов, ни необычайных идей, были теперь околдованы светом, пролитым Хлавином на неизменные истины.
– Как прекрасно! – восторгались мужи-жана’ата. – Как подлинно! Все наше общество, всю нашу историю следует воспринимать как безупречную поэму, пропетую нами поколение за поколением, из которой ничего не утрачено и к которой ничего не добавлено!
Посреди всего этого брожения к воротам Дворца Галатны явились новые иноземцы вместе с юной переводчицей по имени Аскама, заявившей, что пришли члены его семьи, явившиеся для того, чтобы забрать родственника домой.
Хлавин Китхери к этому времени почти забыл то малое семя, из которого выросло сие огромное великолепие, и когда к нему с этим вопросом явилась собственная секретарь-руна, он подумал: «Да не будет забыт всякий и каждый. Да не будет никто угнетен и ограничен чужими желаниями и потребностями».
– Единственная наша тюрьма, – со смехом пропел Рештар, – наша собственная ограниченность!
Чуть покачиваясь из стороны в сторону, опасающаяся сделать ошибку, секретарша спросила:
– Мой господин, надо ли отпустить иноземца Сандоса?
– Да! Да, пусть откроются двери! – воскликнул Китхери. – Пусть пляшет Хаос!
Такой вот оказалась последняя услуга, оказанная иноземцем всем жителям Ракхата. Ибо Хлавин Китхери был рожден в обществе, порабощавшем дух всех своих членов, способствовавшем тупости, неспособности и летаргическому оцепенению среди властей и вынуждавшем массы соблюдать пассивность. Хлавин теперь понимал, что вся структура общества жана’ата основана на ранге как таковом, однако это неравенство носит искусственный характер и выдвигает наверх худших, раздражая при этом лучших.
– Представьте себе, – наставлял Рештар своих последователей, – весь спектр вариаций, который естественно сделался бы очевидным, если бы всем было позволено сражаться за место в подлинной иерархии!
– Он безумен, как моя матушка, – начали говорить мужчины.
Быть может, так оно и было: не ослепленный обычаем, свободный от всяческих ограничений, не заинтересованный в настоящем, Хлавин Китхери придумал мир, в котором ничто – ни происхождение, ни обычай, ни наследственные права, – ничто, кроме способностей, проверенных и доказанных, не может определять место человека в жизни. И какое-то недолгое время он воспевал эту тему с ужасающим величием духа и размахом воображения, пока наконец отец и его братья не осознали его слова и не запретили концерты.
И кто на его месте не потерял бы равновесия? Мечтать о такой свободе, представить себе мир, лишенный стен, – и снова попасть в тюрьму…
У Хлавина Китхери были настоящие друзья, подлинные ценители и поклонники среди поэтов, и некоторые из них остались с ним в этой новой и более жесткой ссылке. Верные люди эти надеялись на то, что он сможет еще раз найти путь к умиротворению внутри роскошного, но небольшого Дворца Галатны. Но когда он начал одну за другой убивать своих наложниц и день за днем следить за тем, как гниют и распадаются их тела, лучшие из сподвижников оставили его, не желая далее лицезреть его падение.
Но затем явился свет в ночи: оказалось, что Жхолаа была выдана замуж и понесла и в связи с этим Рештар Галатны будет выпущен из места заточения и ему позволят на короткое время вернуться в Инброкар для присутствия на церемонии утверждения рода Даржан, дарования имени первому ребенку его сестры и возведения в благородное достоинство гайжурского торговца, который передал ему Сандоса.
Хлавин Китхери измерил, сопоставил и рассудил отвагу правителей, зная при этом, что сам он неизмерим и бесподобен. На вопрос «почему?» ответ уже был получен. Оставались только «когда?» и «как?» – и, зная все это, Рештар Галатны, улыбаясь, бесшумно засел в засаде, ожидая подходящего мгновения, чтобы захватить свободу. Оно пришло к нему, когда его абсурдный шурин Супаари ВаГайжур оставил Инброкар с безымянным младенцем на руках. В тот день – с внезапной и уверенной жестокостью изголодавшегося хищника – Хлавин Китхери истребил всех, кто преграждал ему путь к власти.
Последние дни своего пребывания в качестве Рештара он провел в погребальных церемониях по убиенному отцу и братьям, по павшим насильственной смертью племянникам и племянницам, по беззащитной сестре и по доблестному, но ужасно неудачливому гостю дома по имени Ира’ил Вро – предательским образом убитому ночью слугами-руна, подученными изменником Супаари ВаГайжуром. На самом же деле все слуги дома Китхери были объявлены соучастниками и немедленно убиты. Через считаные часы беглый шурин Хлавина Китхери был объявлен ВаХапта, что предусматривало казнь Супаари ВаГайжура, его ребенка и всех, кто помогал их бегству. Скосив, словно цветы, все препятствия на пути к власти, Хлавин Китхери начал сложный обряд возведения во власть собственной персоны в качестве сорок восьмого Высочайшего Патримонии Инброкара и приготовился дать своим людям свободу.
Глава 9
Неаполь
Октябрь – ноябрь 2060 года
Погода в том октябре выдалась сухой и теплой, и уже этого было достаточно, чтобы порадовать Эмилио Сандоса. Пробивавшийся сквозь окна солнечный свет исцелял даже после тяжелой ночи.
Осторожно действуя руками, поскольку невозможно было предсказать, какое именно движение породит боль, в ранние часы каждого дня он приводил в уютный вид собственные апартаменты, намереваясь сделать все, что мог, – без чьей-то помощи или разрешения. После долгого пребывания в качестве инвалида он теперь наслаждался тем, что может самостоятельно застелить постель, подмести пол, убрать со стола посуду. И к девяти часам, если только сны не были очень тяжелыми, он был умыт, побрит, одет и готов перейти на безопасную стезю ожидавшей его высокой науки.
С технической точки зрения его облагодетельствовало почти уже вымершее поколение американского беби-бума, старение которого создало огромный рынок для всяких устройств, помогающих обездвиженным и увечным. На то, чтобы натренировать систему узнавать его голосовые паттерны на тех четырех языках, которые он намеревался чаще всего использовать во время работы, ушла неделя, еще столько же времени потребовалось, чтобы настроить горловой микрофон. Предпочитая знакомые вещи, он заказал виртуальную клавиатуру и к тринадцатому октября уже научился с помощью особых устройств быстро набирать текст едва заметными движениями пальцев.
«Прямо роболингвист», – подумал он в то утро, усевшись за работу в шлеме, ортезах и системе пользования клавиатурой. Занятый поиском эпонимов и коллокаций в присланных с Ракхата материалах, за наушниками он не услышал стука в дверь и был удивлен звавшим его женским голосом:
– Дон Эмилио?
Стащив всю аппаратуру с головы и пальцев, он ждал, не зная, что сделать или сказать, пока не услышал:
– Его нет дома, Селестина, но идея очаровательна. Мы придем в другой раз.
«Разбирайся сейчас, или придется разбираться потом», – подумал он.
Он спустился к двери как раз в тот момент, когда тонкий голос ребенка сделался громче, и открыл ее перед женщиной лет тридцати с небольшим, смущенной и усталой, однако выглядевшей как ангел небесный кисти художника эпохи Возрождения: карие глаза на овальном лице цвета слоновой кости, обрамленном темно-русыми кудрями.
– Я принесла вам морскую свинку, – объявила Селестина.
Сандос без всякой радости посмотрел на ее мать, ожидая объяснения.
– Прошу вашего прощения, дон Эмилио, но Селестина пришла к выводу, что вам необходим домашний питомец, – извинилась женщина, жестом показывая свое бессилие перед лицом детского натиска, как нетрудно было предположить, не ослабевавшего после их первого знакомства на крещении. – Эту девицу, мою дочь, после того как она приняла решение, всякий раз посещает внушительная нравственная сила.
– Я знаком с этим феноменом, синьора Джулиани, – сухо, но любезно произнес Сандос, вспомнив Аскаму – на сей раз всего лишь с привязанностью, без обычной боли.
– Прошу вас называть меня Джина, – произнесла мать Селестины, пытаясь сухим юмором скрыть свое неудовольствие ситуацией. – Так как мне предстоит стать вашей тещей, я полагаю, что мы имеем полное право звать друг друга по имени. Не возражаете?
Глаза священника распахнулись:
– Прошу прощения?
– Разве Селестина вам еще не сказала? – Джина отвела от губ прядку волос, попавшую на лицо под дуновением ветра, и автоматически поправила волосы Селестины, пытаясь придать капризному недовольному ребенку презентабельный вид.
Итак, сражение заранее проиграно.
– Моя дочь намеревается выйти за вас замуж, дон Эмилио.
– Я надену свое белое платьице с именами, – проинформировала его Селестина. – Тогда оно навсегда станет моим. И вы тоже, – добавила она, подумав. – Навсегда.
Заметив болезненное выражение, мгновенно пробежавшее по лицу матери, Сандос сел на нижнюю ступеньку лестницы так, чтобы глаза его оказались на одном уровне с лицом девочки. Облачко кудрявых волос вспыхнуло ореолом под лучами светившего за дверью солнца.
– Донна Селестина, я польщен вашим предложением. Однако вынужден указать, что я очень пожилой джентльмен, – с истинно герцогским достоинством поведал он ребенку. – Боюсь, что я не могу стать достойной парой столь юной и прекрасной леди.
Девочка подозрительно посмотрела на Сандоса:
– Что это значит?
– Это значит, carissima, что ты получила отказ, – усталым голосом произнесла Джина, объяснявшая все это своему ребенку сотню раз только сегодня утром.
– Я слишком стар для тебя, cari, – печальным тоном подтвердил Сандос.
– А сколько тебе лет?
– Скоро мне исполнится восемьдесят лет, – сказал он. Джина рассмеялась… Он посмотрел на нее: лицо серьезное, глаза сияющие.
– А сколько это будет на пальцах? – спросила Селестина. И, показав четыре собственных пальца, произнесла: – А мне вот сколько.
Сандос поднял вверх обе ладони. И неспешно открыл и закрыл их восемь раз, повторяя десятки для ребенка под жужжание сервомоторчиков.
– Это много пальцев, – заявила впечатленная количеством Селестина.
– Действительно, cara. Много. Целая куча.
Селестина принялась обдумывать факт, наматывая прядку волос на нежные пальчики, на маленьких запястьях ее еще оставались последние следы младенческих складок.
– Но тебе все равно положена морская свинка, – решила она наконец.
Сандос рассмеялся с неподдельным теплом, однако посмотрел на Джину Джулиани с явной нерешительностью и слегка качнул головой.
– O, но вы окажете мне огромную любезность, дон Эмилио! – принялась уговаривать его Джина, смущенная и решительная, ибо отец-генерал одобрил идею Селестины подарить Сандосу свинку под тем соусом, что уход за животным может оказаться для него некой физической и эмоциональной терапией. К тому же… – У нас дома уже три штуки. Все наше семейство уже переполнено этими созданиями, с тех пор как моя невестка принесла домой первую из магазина. Кармелла не поняла, что зверушка уже беременна.
– По правде сказать, синьора, я не способен содержать или кормить живое существо… – Он умолк. «Классическая ошибка!» – подумал он, вспоминая совет, данный Джорджем Эдвардсом Джимии Куинну на его свадьбе: никогда не предоставляй женщине аргументы, которые можно оспорить. Говори «нет», или готовься к поражению.
– Мы принесли с собой клетку, – сказала Селестина, в свои четыре года уже освоившая этот принцип. – И ее еду. И бутылочку с водой.
– Они очень милые зверушки, – вполне искренне заверила его Джина Джулиани, придерживая дочку за плечики и не отпуская ее от себя. – С ними нет никакой возни, пока они не начинают умножаться в немыслимых количествах. Эта свинка еще молода и невинна, однако таковой останется недолго. – Ощущая, что решимость Сандоса слабеет, она продолжила свою атаку безжалостной мелодрамой. – И если вы не возьмете ее, дон Эмилио, она скоро падет жертвой порочных домогательств своих собственных братьев!
Наступила тишина, которая вполне заслуживала название чреватой.
– Вы, синьора, безжалостны, – проговорил наконец Сандос, прищурив глаза. – Рад, что мне повезло и я не могу оказаться вашим зятем.
Улыбающаяся и победоносная Джина повела Сандоса к своей машине. Селестина семенила рядом с ними. Открыв заднюю дверь, Джина нырнула внутрь и передала священнику большой пакет с гранулами, не обращая внимания на его руки, которые решила игнорировать.
Какое-то мгновение он неловко пытался удержать пакет, но наконец сумел надежно ухватить его, пока Селестина чирикала о том, как надо держать, поить и кормить животное, и сообщила ему, что мать зверька звали Клеопатрой.
– Названа в честь египетского обычая царственного инцеста, – очень негромко произнесла Джина, так чтобы Селестина не услышала и не потребовала разъяснений.
Она достала клетку с заднего сиденья.
– Так, – столь же тихо и по той же причине произнес Сандос, как только они сделали первые шаги к его апартаментам. – Тогда эта получает имя Элизабет в надежде на то, что последует примеру Королевы-девственницы.
Джина рассмеялась, однако он предупредил ее:
– Если она окажется в положении, синьора, я без малейших колебаний верну всю династию к вашему порогу.
Они поднялись наверх и водворили Элизабет в ее новую квартиру. Клетка представляла собой нехитрое сооружение из планок и мелкой сетки на оранжевом пластмассовом поддоне. В ней располагался перевернутый овощной ящичек, в котором маленькое животное могло укрыться. Клетка была открытой сверху.
– А она не вылезет отсюда? – спросил Сандос, садясь и глядя на животное: продолговатый комок золотых волос с белым седлом и звездочкой на лбу величиной и формой примерно с камень мостовой. Передний конец тушки, по его мнению, отличался от заднего исключительно наличием пары настороженных глазок, блестящих, как черные бусины.
– Я сейчас покажу вам, что морские свинки не принадлежат к числу любителей лазить, – произнесла Джина, пристраивая к клетке полную воды бутылочку. Она на мгновение приподняла зверюшку, так что Эмилио мог видеть абсурдно короткие ножки, на которые опиралось массивное тельце, а затем отправилась на его кухню в поисках посудного полотенца.
– Кроме того, не надо забывать класть на колени какую-нибудь тряпку, – сказала она, передавая ему ткань.
– Она сделает на тебя пипи, – пояснила Селестина, когда он принял животинку от ее матери. – A еще…
– Спасибо, cara. Дон Эмилио вполне способен понять все остальное, – произнесла Джина, плавно опускаясь в другое кресло.
– Какашки похожи на маленькие изюмки, – добавила безжалостная Селестина.
– Свинки не такие вредные, как моя дочь, – добавила Джина. – Они обожают, когда их гладят, но ваша еще немного боится, когда ее вынимают из клетки. Время от времени берите ее на руки на пять или десять минут. Вообще Селестина права, пусть и несколько неделикатна. Не доверяйте терпению морской свинки. Если вы продержите Королеву Элизабет на руках много дольше этого срока, она вполне может решить, что вы собрались перейти в англиканство, и собственными силами крестить вас.
Сандос посмотрел на животное, инстинктивно старавшееся сделаться похожим на камень и потому решительно несъедобным на тот случай, если наверху вдруг пролетит орел. На лбу зверька располагалась небольшая черная буковка V между двумя опущенными, похожими на раковины гребешка ушами.
– У меня никогда не было домашних животных, – произнес он негромко. На внешних краях его ладоней, там, где нервы не были перерезаны, ощущения сохранились, и Эмилио провел внешней стороной мизинца по короткой шелковой спинке животного, от круглой головы до бесхвостой попы. – Ну, хорошо. Я принимаю твой подарок, Селестина, при одном условии, – проговорил Эмилио, жестко посмотрев на мать девочки. – Насколько я понимаю, синьора, мне потребуется торговый агент.
– Понятно, – поторопилась с ответом Джина. – Я буду доставлять вам корм и свежую подстилку каждую неделю. Естественно, за мой счет. И я очень благодарна вам за то, что вы берете ее, дон Эмилио…
– Ну да, конечно, и это тоже. Но есть и другие вещи. Если это не слишком затруднит вас, я нуждаюсь в кое-какой одежде. Я не имею установленного кредита, и существуют кое-какие практически необходимые вещи, которых я пока еще не могу сделать.
Эмилио осторожно поднял свинку с колен и поместил ее в оставшуюся на полу клетку. Животное немедленно шмыгнуло под миску для овощей и замерло там.
– Я не нуждаюсь в том, чтобы вы за что-то платили, – сказал он, выпрямляясь. – Мне платят небольшую пенсию.
Она удивилась:
– Пенсию по инвалидности? Но вы же работаете, – сказала Джина, указав рукой в сторону звукозаписывающей аппаратуры.
– Как отставному священнику, синьора. Признаюсь, что легальная сторона ситуации остается загадочной для меня самого, – признал Сандос. – Но на прошлой неделе мне объяснили, что в наши дни общество Лойолы в некоторых регионах функционирует как межнациональная корпорация со своими медицинскими льготами и пенсионными планами.
– То есть место провинций заняли конторы филиалов! – Джина закатила глаза к небу, все еще удивляясь тому, что разногласия дошли до этой точки. – Линия раздела оказалась на своем месте еще почти век назад, однако удивительно то, сколько вреда могут натворить два упрямых, не идущих на компромисс старика – теперь уже скончавшихся, однако, на мой взгляд, слишком поздно.
Сандос скривился:
– Что ж, иезуиты не в первый раз забегают вперед Ватикана. К тому же Общество уже не впервые подвергается разделению.
– Но на сей раз ситуация выглядит еще грязнее, – сказала Джина. – Почти треть епископов отказалась читать Буллу о Прещении[23], и до сих пор длятся сотни гражданских процессов по поводу прав собственности. Не думаю, чтобы сейчас кто-нибудь реально понимал юридический статус Общества Иисуса!
Сандос покачал головой и пожал плечами:
– Ну, Джон Кандотти говорил мне, что переговоры возобновились. Он полагает, что пространство для маневра есть у обеих сторон, и вскоре может возникнуть какого-то рода договоренность…
Джина улыбнулась, глаза ее блеснули:
– Дон Эмилио, в Неаполе вам каждый скажет, что трудно найти такую политическую головоломку, решение которой Джулиани не смог бы найти хитростью или силой. Новый Папа великолепен и столь же хитроумен, как дон Винченцо. Не сомневайтесь: вдвоем они решат и эту проблему.
– Надеюсь на это. Однако, – проговорил Эмилио, обращаясь к более насущной проблеме, – в статьях положения о начислении пенсии нет пункта, позволяющего учитывать сокращение времени, возникающее при перемещении с околосветовой скоростью. Поскольку по календарю мне уже почти восемьдесят лет, я считаю, что по закону имею право получать пенсию от той части корпорации, которая прежде именовалась Антильской провинцией.
Иоганн Фелькер, личный секретарь отца-генерала, донес эту ситуацию до всеобщего сведения. Отец-генерал был крайне раздосадован аргументацией, однако Фелькер, человек в высшей степени принципиальный, настоял на том, что Сандос имеет право на этот источник дохода.
– Так. Сейчас до сих пор производят одежду фирмы Levi’s?
– Конечно, – сказала она несколько рассеянным тоном, поскольку Селестина оставила клетку с морской свинкой и направилась в сторону. – Ничего не трогай, cara! Scuzi, дон Эмилио. Как вы сказали? Levi’s?
– Да. Пару брюк, если угодно. И, может быть, три рубашки? У меня очень маленькая пенсия. – Он кашлянул. – Не имею ни малейшего представления о том, что сейчас носят и сколько это стоит, так что буду полагаться на ваше усмотрение, однако предпочту, чтобы вы не покупали чего-то ужасно…
– Поняла. Ничего ужасно экстравагантного, модного и дорогого. – Джина была растрогана тем, что он просит ее об этом, однако сохраняла на своем лице деловое выражение, прикидывая размеры на глаз, как опытная портниха, будто ей то и дело приходилось помогать обращавшимся к ней за помощью священникам.
– Один пуловер, мне кажется…
– Не пойдет. – Она отрицательно покачала головой. – Ортезы будут цепляться за ткань. Но я знаю портного, который шьет чудесные замшевые куртки… – Теперь уже он засомневался, и она поняла причину возражения.
– Классический покрой и прочный материал никогда не будут экстравагантными, – сказала Джина. – К тому же я устрою все недорого. Что-то еще?.. Я – замужняя женщина, дон Эмилио. И мне уже приходилось покупать мужское белье.
Эмилио закашлялся, покраснел, отвел глаза в сторону:
– Благодарю вас, в настоящее время мне ничего не надо.
– Но я несколько смущена, – проговорила она. – Неужели иезуиты не могут предоставить вам…
– Я не просто выхожу из корпорации, синьора. Я слагаю сан. – Наступила неловкая пауза. – Подробности пока не согласованы. Я останусь здесь, скорее всего, как наемный работник. Я лингвист по профессии, и здесь для меня есть работа.
Она знала кое-что из его прошлого; отец-генерал подготовил свое семейство, прежде чем приглашать Сандоса на крещение. И тем не менее Джина была удивлена и опечалена его решением, каковы бы ни были его причины.
– Жаль, – проговорила она. – Я понимаю, насколько трудным могло оказаться такое решение. Селестина! – окликнула она дочь, вставая и призывая ее к себе. – Ну что ж, – сказала она, снова улыбнувшись, – не будем более досаждать вам, дон Эмилио. Мы и так слишком надолго оторвали вас от дел.
Думая лишь о том, как эти двое прекрасно смотрятся вместе, Селестина посмотрела снизу вверх на обоих взрослых, темного и светлую, и ей, не сведущей в иконографии, делавшей их обоих такой неподходящей парой, представились церковные росписи.
– Дон Эмилио не слишком стар для тебя, Mammina, – заметила она с детской непосредственностью. – Почему бы тебе не выйти за него замуж?
– Замолчи, cara! Что это тебе в голову пришло? Простите нас, дон Эмилио. Ох, эти дети! – воскликнула донельзя смущенная Джина Джулиани. – Карло – мой муж – больше не живет с нами. А Селестина, как вы могли заметить, девочка решительная…
Сандос поднял руку в ортезе.
– Объяснения излишни, синьора, – заметил он с непроницаемым выражением на лице и помог свести ребенка вниз по лестнице и наружу.
Они вместе прошли по подъездной дороге до автомобиля, молчание взрослых благопристойно маскировалось детской болтовней. Последовал обмен ciaos и grazies, Эмилио открыл перед обеими дамами дверцу автомобиля, демонстрируя уверенность движений, которую ортезы усиливали и позволяли. И когда они отъезжали, крикнул:
– Только ничего черного! Не покупайте ничего черного, хорошо?
Джина рассмеялась и, не оглядываясь, помахала ему из окна рукой.
– Угораздило вас, мадам, выйти замуж за дурака, – проговорил Эмилио негромко, поворачивая назад к гаражу, где ждала его работа.
К тому времени, как установилась мягкая неаполитанская осень и стали частить дожди, он уже вжился в повседневную рутину. Как и было обещано, Элизабет оказалась нетребовательным компаньоном и скоро обрела форму и размер мохнатого кирпича, приветствовавшего первые признаки его пробуждения бодрым свистом.
Обычно неприветливый по утрам, он откликался с постели:
– Ты – вредительница. И родители твои были вредителями. И если у тебя будут дети, они тоже будут вредителями.
Однако доставал свинку из клетки затем, чтобы она съела морковку у него на коленях, пока сам он пил кофе, и спустя какое-то время перестал чувствовать себя дураком, разговаривая с ней.
Морские свинки, как Эмилио скоро обнаружил, являлись животными сумеречными: пребывавшими в покое ночью и днем и активными только вечером и на рассвете. Такая схема его устраивала. Эмилио часто работал без перерыва с восьми утра до шестого часа дня, не желая останавливаться до тех пор, пока свинка не начинала свистом своим указывать на наступление сумерек. Эмилио всегда понимал, что его научный прогресс может в любой момент прерваться в результате полученных на Ракхате увечий и последствий многомесячного недоедания во время одинокого возвращения домой. Посему он старался сконцентрироваться как можно дольше, а потом готовил себе на ужин красные бобы с рисом, которые съедал под внимательным контролем глазок-бусинок Элизабет. После чего вынимал ее из клетки, клал себе на колени и поглаживал ей спинку онемевшими кончиками пальцев, когда маленькое животное устраивалось поудобнее и задремывало коротким и неглубоким сном потенциальной жертвы хищника.
A после снова принимался за работу и часто засиживался за полночь; общая структура к’сана – языка жана’ата – становилась теперь ему все более ясной, да и прекрасной: язык этот уже не казался ему, как прежде, только лишь инструментом ужаса и деградации. Час за часом ритм поиска и сравнения, методичного накопления знаний увлекал его все дальше и дальше, завораживая своим течением, способным выдержать проверку памятью и ожиданиями.
В конце октября Джон тактично проинформировал его об ожидавшемся прибытии прочих священников, готовившихся к участию во второй миссии на Ракхат. Джон сказал, что все они прочли письменные отчеты и научные работы первой миссии, а также ознакомились с руанжей с помощью вводной лингвистической обучающей системы Софии Мендес и теперь самостоятельно изучали этот язык. Кроме того, отец-генерал и сам Джон подробно ознакомили их с прошлым Сандоса. Джон особо не распространялся на эту тему, однако Эмилио понял, что они получили следующий инструктаж: не задевайте его, не пытайтесь заботиться, не изображайте лекарей. Просто следуйте его указаниям и делайте свое дело.
Эмилио особо не стремился познакомиться с новичками, предпочитая обезличенное техникой общение в киберпространстве или в библиотеке, откуда при необходимости он мог удалиться. Тем не менее свое самостоятельно возложенное на себя уединение он нарушал путешествиями на кухню к брату Козимо за овощными обрезками для Элизабет.
Заезжала по пятницам и Джина Джулиани, всегда с Селестиной, с подстилкой и кормом для свинки, а иногда и с разными мелочами, которые он мог заставить себя попросить. Они с Джоном Кандотти умели помогать Сандосу так, чтобы он не чувствовал себя беспомощным, за что он и был благодарен превыше всяких слов. Однажды в пятницу после ленча они втроем составили совет и внимательно изучили апартаменты Эмилио и его повседневные потребности. В тех случаях, когда Джина не могла купить готовые вещи, отвечающие его потребностям, Джон делал их сам: противовесы для предметов, которые ему нужно было поднимать, широкие ручки для кухонной утвари, краны и ручки для дверей, с которыми ему было проще обходиться, более удобную одежду.
Пятого ноября 2060-го, каковое число – насколько было ему известно – примерно соответствовало его сорок седьмому дню рождения, Эмилио Сандос налил себе бокал рома «Ронрико» – после обычной трапезы из бобов и риса.
– Элизабет, – провозгласил он, поднимая бокал, – за меня, абсолютного монарха своей державы, простирающейся от лестницы до рабочего стола.
А потом вернулся к работе. Ум его был поглощен идеей связи семантического поля к’сана с речными системами, выдвинутой баскским экологом, и может связываться со словами, используемыми в отношении к высоким политическим альянсам. «Подобно серии притоков!» – подумал Эмилио, ощущая странный первобытный восторг, и попытался опровергнуть достаточно обоснованную, по его мнению, гипотезу.
Глава 10
Река Пон, Центральная провинция, Инброкар
2046 год по земному летоисчислению
На третий день пути на юг жара оборвалась ливнем с грозой, насквозь промочившим пассажиров речной баржи и затопившим равнины слоем воды по щиколотку. Знакомый с обычаями деревенских руна, Супаари ВаГайжур стащил с себя мокрые городские облачения и, чтобы не выделяться среди прочих, остался почти нагим, как и его практичные спутники. Отбросив городскую одежду, он снял с себя вонь Инброкара и вновь почувствовал себя настоящим.
Итак, кончено, подумал Супаари, не ощущая в душе сожаления.
Он достаточно приблизился к цели своей жизни, чтобы не видеть, что именно покупает, и понимать, какую именно цену придется заплатить за это, находясь в извращенном клубке аристократических альянсов, взаимных ненавистей и обид. С уверенностью торговца он обрезал свои потери, разорвав клубок противоречий одним-единственным словом: «ухожу».
Итак, Супаари ВаГайжур покинул двор Китхери, никому не сказав о том, что он уходит. Он взял с собой лишь то, что принадлежало лично ему и никого более не интересовало, – своего ребенка, дочь, которую Пакуарин в данный момент держала над забортной водой, и струйка мочи отлетала к корме. Рунао согласилась проводить его до Кирабая, и теперь она весело смеялась, подмывая ребенка.
Теперь она уснет, подумал он, улыбнувшись тому, как мгновенно выражение сердитой детской мордочки на коленях Пакуарин сменилось сонным довольством и ласковые руки рунаo гладили и утешали дитя.
Привалившись к транспортной плетенке со сладкими листьями, борясь с дремотой, он смотрел, как отползают назад речные берега, и пытался понять, зачем жана’ата настойчиво пытались прикрыть одеждой свои покрытые густой шерстью тела. Энн Эдвардс однажды спросила его об этом, и он так и не смог найти нужный ответ и только заметил, что жана’ата всегда предпочитают сложное простому. Почти засыпая, подсыхая на ветерке, он вдруг подумал, что одежда нужна не столько для защиты тела или его украшения, но для различения – так чтобы можно было с первого взгляда отличить воинов-первых от бюрократов-вторых, а также тех и других от ученых или торговцев-третьих, чтобы каждый твердо знал свое место, чтобы соблюдалась точная мера приветствий и необходимой почтительности.
А еще для того, чтобы соблюдалась дистанция между правителями и простым народом, понял он, чтобы самого захудалого жана’ата не могли принять за домашнего слугу-руна! И, не открывая глаз, он улыбнулся, радуясь тому, что наконец все-таки сумел ответить на вопрос Хэ’эн.
Сам Супаари даже не подозревал о невероятном сходстве между жана’ата и руна, до тех пор пока эти невозможно полиморфные иноземцы не указали ему на него. Он даже не замечал его, как не замечают, что капли дождя и вода одного и того же цвета, однако оно интриговало иноземцев. Однажды в резиденции Супаари в Гайжуре Сандос предположил, что в древние времена оба вида отличались в большей степени, однако руна каким-то неведомым способом вынудили жана’ата сделаться более похожими на них. Сандос назвал этот механизм мимикрией хищника. Супаари был основательно шокирован тем, что наиболее удачливые охотники жана’ата, искавшие пропитание в стадах руна, и внешне, и запахом более прочих походили на руна – и потому могли приближаться к стадам, не пугая добычу.
– Такие охотники были сильнее и здоровее остальных и без труда находили себе пару, – сказал также Сандос. – И они лучше питались, и у них рождалось больше детей. Со временем сходство с руна становилось среди жана’ата более заметным и более частым.
– Сандос, это просто глупо, – сказал ему Супаари. – Это мы их разводим, а не они нас! Скорее всего, наши предки ели только уродливых руна, а в живых оставляли только прекрасных, похожих на жана’ата!
Теперь, однако, Супаари признавал, что в словах Сандоса присутствовала доля истины.
– Мы одомашнили жана’ата, – сказала ему некогда Авижан, его секретарша. В свое время он отмахнулся от этих слов, приняв их за иронию, однако детей жана’ата воспитывали няньки-руна, и если это не одомашнивание, то что же?..
Потом он уснул и во сне оказался перед входом в пещеру. Как это случается во снах, он каким-то образом знал, что открывшийся перед ним ход ведет его в подземные каверны.
Он сделал один-единственный шаг вперед и тут же сбился с пути, все более и более запутываясь с каждым новым шагом, и проснулся под брачные вопли белошеих кранил, бродивших по мелководью. Разбуженный и встревоженный, он вскочил на ноги и попытался стряхнуть с себя нелегкое чувство, обойдя хижину кормчего, чтобы посмотреть на животных, круживших с титанической искренностью, и пожелать им удачи, в чем бы она ни заключалась для кранил. Повернувшись к дочери, спавшей свернувшись клубочком возле Пакуарин, он подумал: «Я сделал шаг в пещеру, и я везу с собой этого ребенка. Впрочем, нет. Не этого ребенка, а моего ребенка. Мою дочь».
Однако не с кем было обсудить ее имя. По обычаю, первая дочь получала имя из использованных уже в родне ее матери.
Супаари не имел никакого желания вспоминать кого бы то ни было из родни Жхолаа и потому попытался вспомнить кого бы то ни было из предков собственной матери и с неудовольствием понял, что просто не знает их. Будучи третьеродным, которому право отцовства не предоставлялось, Супаари как будто бы не слышал имен своих предков, а если их ему и называли, не запомнил ни одного. Не имея никакого представления о том, что делать дальше после того, как он благополучно покинул Инброкар с живым и невредимым ребенком, Супаари решил вернуться домой в Кирабай. Там он попросит мать выбрать имя дочери, надеясь, что такая просьба порадует ее.
Наполнив свои легкие воздухом, в котором ни одна частица не напоминала о городах, он подумал: теперь все стало другим.
Тем не менее запахи дома не изменились. Горизонт прятался за дымкой пыльцы кустов красноцвета, ставшей видимой в косых лучах второго заката – благоуханная пелена поднималась вверх от земли. Местность стала более равнинной, русло реки расширилось, течение замедлилось, ленивый ветерок приносил знакомые лечебные испарения переваренной травы: странным образом чистый запах помета пийанот. К ним добавлялись пряное благоухание плодов мел за несколько дней до созревания и острый, с дымком, аромат начавшей увядать датинсы. Запахи земли приветствовали их с дочерью, и ту ночь он проспал на палубе без сновидений и в полном довольстве. На четвертый день пути на юг он проснулся от начавшегося среди пассажиров шума: баржа приближалась к мосту Кирабай; здесь многие остановятся, чтобы поторговать. Поднявшись, Супаари велел Пакуарин собирать вещи и готовиться к высадке и начал неловко приводить себя в порядок. Без всяких просьб с его стороны торговец-руна взялся помогать Пакуарин распаковывать лучшие одежды Супаари и, не закрывая рта, помог завязать все тесемки и застегнуть пряжки. Радуясь тому, что с вынужденной надменностью Инброкара покончено, Супаари поблагодарил их обоих.
Его осенило поначалу легкое, потом сильное волнение – складывавшееся из оптимизма, накопившейся энергии и радости вновь оказаться в родных местах. Повернувшись к Пакуарин, он протянул руки к ребенку, не думая о роскошной одежде.
– Смотри, детка, – проговорил он, когда баржа проплывала под грубыми известняковыми арками. – На замковом камне этого свода находится герб твоего пращура в девятом колене, отличившегося во втором походе на приток реки Пон. Потомки его с тех пор владели Кирабаем по праву рождения.
Глазки ребенка округлились, конечно, всего лишь потому, что баржа вплыла с яркого солнца под тень моста. Супаари поднял малышку на плечо и вдохнул исходивший от нее сладкий мускусный младенческий запах.
– Признаюсь тебе честно, что в более поздние времена гордиться нам некем, – сухим тоном прошептал он. – Мы здесь гостиничники, обеспечивающие постой в четырех ночах пути к югу от Инброкара и в трех ночах к северу от моря. А взамен мы имеем пособие от правительства, а также право на двенадцатую часть от любой сделки торговой операции, совершенной ВаКирабай руна. Боюсь, что семья твоего отца не блещет богатством.
«Однако мы не убиваем обманом детей», – подумал он, когда баржа вынырнула на свет.
– Мы останемся здесь только до завтрашнего второго рассвета, господин, – окликнул его руна, которому принадлежала баржа, из своей будки, – будешь ли ты спускаться с нами вниз по реке?
– Нет, – ответил Супаари, восхищенный видом, запахом и звуками Кирабая. – Мы дома.
С внешней невозмутимостью он вернул ребенка Пакуарин, пока баржу останавливали шестами и перебрасывали толстые плетеные лини на причальные тумбы. Супаари вглядывался в лица, принюхивался к запахам, исходившим от грузчиков, однако не уловил ни единого намека хотя бы на родню одного из прежних знакомых и потому прошествовал мимо толпы руна, заявлявших свой товар и уплачивавших налог за пользование причалом, нанял наугад рунао нести его багаж, хотя вещей было немного, да и денег тоже, чтобы еще тратить их на престиж. Его выставили из Кирабая практически с пустыми руками, а он создал торговую компанию, рождавшую ему деньги с той же легкостью, как равнина производит траву; ему был ведом вкус богатства, и иногда, в темные часы, когда сон не шел к нему, он представлял, как в роскоши триумфально вернется домой. Но вместо победоносного возвращения ему пришлось сдать все свои активы в государственную казну, чтобы занять место Основателя нового рода. И теперь он возвращался домой на грузовой барже, ничуть не лучшей, чем та, на которой он оставил родные стены, имея возможность похвастать всего лишь очаровательным, но безымянным ребенком и шестью сотнями бахли – оставшимися у него после того, как на пристани Инброкара он распродал свои драгоценности, чтобы нанять Пакуарин и оплатить ее проезд на барже. Посему он облачился в самые лучшие одеяния, надеясь произвести хорошее первое впечатление, и пожелал себе поскорее отрастить когти.
«Этот ребенок стоит заплаченной за него цены, – без малейшего стыда думал меркантильный Супаари. – А деньги я заработаю снова».
Постоялый двор, расположившийся поперек продолговатого холма, над отметкой высокой воды, было видно с пристани. Вчерашняя гроза разгулялась здесь сильнее, чем выше по течению реки, и пока Супаари вел свою небольшую свиту через главные ворота и за центральную площадь, по лабиринту узких троп, вдоль которых стояли известняковые дома ВаКирабай руна, им то и дело приходилось переступать через черепицы и ветви, сорванные с деревьев хлари. Радиобашню тоже повалил ветер, а в роще возле моста несколько высоких мархлар упали кронами в воду, и корни их торчали над берегом. Но, если не обращать внимания на последствия бури, сам город Кирабай почти не изменился за годы его отсутствия…
Конечно же, он привык к кипучей энергии Гайжура и мелочной интриге Инброкара, и поэтому вполне естественно Кирабай показался ему погруженным в летаргический сон.
Тем не менее город этот охранял мост к восточным полям ракара и являлся достаточно важным торговым центром для земледельцев из внутренних регионов. Кроме того, в городе имелись кооперативы прях-руна и фабрики кхалиат.
«Я могу найти себе здесь много дел», – думал Супаари, не желая впадать в уныние.
Возле ворот постоялого двора сидел новый привратник, однако ворота какими были, такими и остались, и Супаари отметил с легким неудовольствием, что верхняя петля по-прежнему нуждалась в починке.
– Найди своего господина! – крикнул он привратнику-руна, с улыбкой предвкушая изумление родителей. – Скажи, что к нему прибыли гости из Инброкара!
Не произнеся и слова, рунао удалился, оставив их стоять во дворе. Последовало продолжительное молчание, и когда Пакуарин вопросительно посмотрела на него, Супаари опустил хвост в знак неведения. Спустя какое-то время он выкрикнул приветствие и стал прислушиваться, надеясь услышать знакомый голос. Однако ответа не было. Озадаченный Супаари начал осматриваться по сторонам. Во дворе хватало места для экипажей путешественников, однако никого в доме не было. Впрочем, это нормально для времени года. Жана’ата путешествовали в основном в начале времени Фра’ан до начала жары…
– Я не потерплю ублюдка в своем доме, поэтому, если ты добиваешься этого, можешь уходить прямо сейчас.
Он повернулся, слишком изумленный голосом матери, чтобы почувствовать обиду от ее слов.
– Люди шлют о нас анонимные письма в Инброкар, но от моих сыновей нет никакого толка, – оскалилась старая женщина, глядя на уже проснувшуюся малышку, которая, попискивая, копошилась возле шеи Пакуарин. – Я сказала им: изложите дело префекту! Но род Гран’жори отравил эту наживку. Остается только выть под дождем. Денег на ремонт никогда не хватает. Гран’жори хотят Кирабай – и пусть берут: от этого двора остались одни кости. А я родилась для лучшего, могу тебе прямо сказать! Префект изображает, будто все уладит, но его устраивает, чтобы мы запускали друг другу когти в нутро. Что ты стоишь как дура! Покорми это отродье, – рявкнула она на Пакуарин, так как младенец запищал, – пока я не отрезала тебе ухо.
– Префекту полагается провести расследование, однако он верит тому, что говорят эти грабители, живущие вверх по течению, так что тут никакого мяса не найдешь… не стоит и пытаться! Этому заведению не помогло бы ничего, кроме костей моего брата! Как тебе известно, я была рождена для лучшей судьбы. Приличный человек оставил бы меня в доме моего родителя, однако кто может назвать твоего отца приличным человеком!
Лишившись дара речи, Супаари последовал за матерью в тенистую галерею, устроенную вдоль обращенной к реке стены дома, где дул приятный ветерок. Он попросил ее сесть, однако, не обращая внимания на его слова, она металась от одного края аркады к другому, под съехавшей набок вуалью, собирая юбками пыль, листья и опавшие лепестки цветов хлари. Устроившаяся с младенцем в уголке Пакуарин достала остатки мясного пюре и, методически обмакивая кончик тонкого пальца, подносила его к губам младенца. Супаари поместился на подушках, разложенных возле холодной каменной стены, не отводя глаз от матери, поседевшей и высохшей, все расхаживавшей и причитавшей.
Наконец из-за угла насосной станции появился отец вместе со слугой-руна, отпустив его коротким словом.
– Никто не пишет на нас доносы, жена. И у префекта есть другие дела, кроме того, чтобы преследовать содержателей постоялого двора. – Энрай вздохнул, почти не глядя на Супаари и совершенно не обращая внимания на младенца. – Иди отсюда, возвращайся в дом, где тебе положено быть, бесстыжая старая сука. И пришли сюда эту твою девку с мясом. Я голоден.
Рухнув на подушку в нескольких шагах от Супаари, он принялся разглядывать реку, блиставшую золотом под медным светом трех солнц. Настала тишина – теперь, когда старуха вернулась в дом.
– Твои братья на бойне, – проговорил Энрай по прошествии некоторого времени. – Эти новые руна никуда не годятся. Не знаю, как префект может ожидать, что мы вот так сразу обучим ему весь персонал. Род Валнброкари правит, однако они ничуть не лучше твоей матери… повсюду видят злоумышленников, заговоры и бесхвостых монстров с крошечными глазами. – Полуповернувшись к кухне, он снова потребовал мяса, перед тем как пробормотать: – Прежде она была красоткой. А вы, парни, погубили ее.
Дожидаясь, пока его покормят, содержатель постоялого двора коротал время, как и его жена, за демократическим злопыхательством в адрес живых и мертвых, ближних и дальних, равно знакомых и незнакомых. Явившись, старшие братья Супаари присоединились к сложному повествованию о распрях и вражде, тем более интенсивной, чем вздорней был для нее повод. Посреди разговора явилась юная служанка рунао с блюдом мяса, отставив его в сторону и двигаясь бочком, так чтобы не ощущать запах.
Только один Супаари посмотрел на нее. Селянка ВаКашани, сообразил он, однако так и не сумел припомнить фамилии. Поднявшись, он взял поднос у девушки, поздоровавшись с ней на руанже. Она уже собиралась ответить, когда Энрай фыркнул:
– Если ты этому научился в городе, Супаари, то здесь можешь забыть про свое жеманство. У нас в Кирабае с руна не миндальничают.
Так что девчонка присела в неловком, еще непривычном ей полупоклоне и немедленно отправилась на кухню.
Застыв на мгновение, Супаари помолчал, потом поставил блюдо на низкий столик, а братья его хохотали. Он возвратился на свое место на подушках, и прошло немало времени, прежде чем старший его брат заметил, что Супаари ни к чему не прикоснулся.
– Мог бы и отведать, – сказал Лаалраж, указав тыльной стороной руки на блюдо. Но добавил при этом: – У нас все простое. Оглядись по сторонам.
– Когда отплываешь? – спросил брат его, Вижар, жуя.
– Завтра на втором рассвете, – проговорил Супаари и отправился проверять, устроилась ли Пакуарин вместе с кухонной прислугой.
Бесконечное время между первым и вторым закатами он провел с братьями и несколькими соседями, за которыми отправили посыльных. Гайжур или Инброкар никого не интересовали, никто не спросил, почему Супаари оказался в Кирабае или каким образом получилось, что он путешествует с младенцем. Разговор разнообразили крики требовавших еды голодных, испуганных и необученных руна, а посвящен он был утомительной дискуссии о том, как несколько обдуманных и справедливых убийств могли бы подкорректировать генеалогический и политический статус всего бассейна реки Пон. Консенсус, недостаточный для того, чтобы разрушить затор на уровне города Кирабай, был тем не менее достигнут с лишенной отваги решимостью, присущей людям, понимавшим, как они обездолены рождением и историей.
– Тройной альянс был ошибочным с самого начала, – пробурчал склонивший голову на грудь сосед. – Нам нужна драка так же, как руна необходим хороший фураж. Мы деградировали, потратив все эти годы на ожидание. Праздность и упадок…
«Так уходите отсюда! – хотелось закричать Супаари. – Уматывайте. Возьмите новый след». Однако они могли оставить Кирабай не более, чем руна – запеть. В них не было такого качества… или оно присутствовало в них, но обычай настолько искалечил этих людей, что они даже не могли представить, что можно пытаться искать что-то новое. Значение имело только одно наследие, даже если все помянутые предки за последние двенадцать поколений являли собой перечень в два столбца: в одном – кого из них ненавидеть, в другом – кого винить за каждое прикосновение злой судьбы. «А внутри себя никакой вины нет, – думал, слушая их, Супаари. – Среди нас нет тупиц, нет бестолковых, нет бездельников. Все мы могучи и победоносны, кроме тех, кто правит нами».
Песнопения начались сразу же, как только догорел свет второго заката, голоса возвысились в древних гармониях, и соседи отправились по домам, а его братья начали готовиться ко сну. Эти закатные песни были самым ранним воспоминанием Супаари, грудь его сдавило, гортань стиснуло. Самой подлинной красотой, открывшейся ему, которую он познал, как основатель новой наследственной линии, было участие на закате в хоровом пении Инброкара; счастье это превосходило в его памяти даже тот момент, когда он узнал о беременности Жхолаа.
Теперь он имел законное право исполнять роль Старейшего, но в тот вечер он молчал, как трепетавшие в кухне слуги руна. «Я спою снова, – пообещал он себе. – Только не здесь, не среди этих темных невежественных дураков. Не знаю где, но спою».
На следующее утро он поднялся на борт баржи, как человек, бросившийся наутек из города при первом слухе об эпидемии: радуяясь удаче, но полный презрительной жалости к остающимся в нем. Пакуарин, расстроенная окружавшей враждебностью, упросила его не заставлять ее ехать дальше, посему он подписал ей подорожную и оставил денег – достаточно для того, чтобы дождаться в Кирабае следующей поднимающейся вверх баржи. На последние три сотни бахли он выкупил у Энрая права на ВаКашани рунаo, пообещав ей, что доставит ее обратно в Кашан, если она возьмет на себя все заботы о младенце, пока он не наймет постоянную няню.
– Эту вот зовут Кинса, господин, – напомнила она Супаари после нескольких спокойных часов, проведенных на барже, приложив обе ладони ко лбу. – Если это будет угодно тебе, не назовешь ли ты этой никчемной имя сего дитяти?
«Почему же я не такой, как все? – думал он, глядя на реку и опустив на поручень руки с затупленными ногтями. – Все вокруг меня думают так, и только я думаю иначе. Кто я, чтобы считать их ошибающимися?» Услышав слова девушки, он повернулся.
– Кинса… ну, конечно! Ты дочь Хартат.
Запах ее с момента их последней встречи заметно изменился.
– Сипаж, Кинса, – проговорил он, – ты выросла.
Услышав слова родного языка, девушка просияла, и к ней вернулась природная приветливость. В любом случае Супаари ВаГайжур был ей знаком чуть ли не от рождения, он торговал с родной ей деревней уже много лет; она доверяла ему.
«Повезло девочке, – подумал он. – Родные будут рады снова прикоснуться к тебе».
– Сипаж, Супаари, так как мы будем звать эту маленькую? – настаивала Кинса.
Не зная, что ей сказать, он протянул руки, и, сняв ребенка со спины, Кинса передала ему девочку. Супаари улыбнулся. Кинса еще очень недолго пробыла среди жана’атa, и желание отца взять на руки собственного ребенка казалось ей вполне естественным. Прижимая к груди малышку без толики смущения, как сделал бы это мужчина-рунао, Супаари принялся бродить вдоль бортов баржи.
«Я не знаю, совершенно не понимаю, что сейчас делаю, – сказал он дочери всем своим сердцем. – Не знаю, какую жизнь готовлю нам с тобой. Не знаю, где мы будем жить, не знаю, за кого ты сможешь выйти замуж. Не знаю даже, как мне назвать тебя».
Прислонившись спиной к поручням, он уложил ребенка на свою согнутую руку. Спустя какое-то время взгляд его оставил личико дочери и устремился вдаль, на юг, где речной туман сливался с дождем, где исчезала разница между небом и водой, и вновь, как во сне, ощутил себя скитальцем. «Я иноземец в родной земле, – подумал он, – и дочь моя тоже. Как Хэ’эн!» – представилось ему, ибо из всех иноземцев память об Энн Эдвардс была ярче всего. На к’сане имя звучало красиво: Хэ’энала.
– Именем ее да будет Хэ’энала, – громко проговорил Супаари. И благословил свое дитя: «Да будешь ты такой, как была Хэ’эн, иноземка в наших краях, но не знавшая страха».
Он был доволен именем, рад тому, что вопрос наконец улажен. Берега реки уплывали назад, и мир казался переполненным возможностями.
У него были контакты и знания. «Я не буду больше торговать с Рештаром», – думал Супаари, не желая впредь иметь ничего общего с Хлавином Китхери, как бы хорошо он ни платил. Когда-то он подумывал о том, чтобы открыть новую контору в Агарди. «Да, – подумал он. – Попробую начать с нуля в Агарди. Бывают разные города. И имена также могут меняться».
А потом негромко, так чтобы не испугать Кинсу или остальных, сделал то, чего никогда и нигде не делал ни один ставший отцом жана’ата: пропел вечернюю песнь своей дочери. Хэ’энале.
Глава 11
Неаполь
Октябрь – декабрь 2060 года
– Да я ж не ПРОТИВ, отец-генерал, – возразил своему боссу Дэниэл Железный Конь. – Я говорю, что просто не могу представить, каким образом вы намереваетесь уговорить его вернуться туда. Мы можем взять с собой лазерную пушку, но Сандос все равно будет испуган до потери сознания!
– Сандос – моя проблема, – сообщил Винченцо Джулиани отцу игумену второй миссии на Ракхат. – А вы занимайтесь остальными.
«Остальными проблемами или остальными членами экипажа?» – пытался понять Дэнни, выйдя в тот день из кабинета. Проходя по гулкому коридору к библиотеке, он фыркнул:
– Одна сатана.
Оставив на потом вопрос об участии Сандоса, Дэнни был менее чем уверен в любом из тех мужчин, вместе с которыми ему предстояло рисковать собственной жизнью. Все они были людьми умными, все они были людьми рослыми; это было понятно. Весь прошедший год Дэниэл Бовуа Железный Конь, Шон Фейн и Жосеба Уризарбаррена отрабатывали навыки, способные оказаться критически важными на Ракхате: методики коммуникации и выживания, первую помощь, навигационный расчет, даже летные упражнения на тренажере, так чтобы каждый из них мог в случае необходимости пилотировать посадочный аппарат звездолета миссии. Все они тщательно проработали ежедневные отчеты первой миссии и научные статьи ее участников. Пользуясь вводной языковой системой Софии Мендес, все они самостоятельно изучали руанжу и теперь собрались в Неаполе для того, чтобы попрактиковаться под руководством самого Сандоса в более глубоком владении руанжей и основами к’сана. Жосеба демонстрировал особые успехи, и Дэнни понимал, почему эколога включили в состав экипажа, вне зависимости от того, сколько денег сумеет заработать компания, если им удастся привезти с Ракхата тамошние нанотехнологии. Шон Фейн являл собой чистейший геморрой, и Дэнни мог бы назвать никак не меньше сотни людей, более пригодных для полета. Джон Кандотти по сравнению с ними оказался чертовски хорошим и к тому же весьма умелым парнем, однако не имел при этом никакого научного опыта и по программе занятий отставал от остальных на несколько месяцев. Отец-генерал, вне сомнения, имел на то собственные причины – обыкновенно по меньшей мере три на каждый сделанный им ход, по мнению Дэнни.
– Я должен считать себя посохом в руке старца и вести себя соответствующим образом, – покорно твердил Дэнни всякий раз, когда окончательно запутывался в хитросплетениях, однако держал глаза открытыми и искал разгадки, пока со всеми остальными вживался в эффективный рабочий порядок.
Утренние часы были посвящены усвоению языков, но полдневные и вечерние занятия отводились для дальнейшего изучения материалов первой миссии под руководством Сандоса, и именно во время этих часов Дэнни начал понимать, почему Сандос является такой ценностью; сам Железный Конь уже едва ли не зазубрил отчеты первой миссии, но постоянно удивлялся ошибкам в собственном восприятии событий и потому находил бесценными знания и воспоминания Сандоса. Тем не менее время от времени случались такие дни, когда Эмилио по той или иной причине оказывался в нерабочем состоянии, причем собственные вопросы Дэнни о жана’ата вызывали самую сильную реакцию.
«Воспоминания, депрессия, головные боли, ночные кошмары – классические симптомы, – написал Дэнни в конце ноября в отчете. – И я ему симпатизирую, отче! Однако это никак не может отменить тот факт, что Сандос опасным образом непригоден к полету, даже если его удастся убедить лететь с нами».
– Он приходит в себя, – дипломатично выразился Джулиани. – За последние несколько месяцев его состояние кардинальным образом улучшилось – как в научном, так и в эмоциональном плане. В конце концов он поймет логику. Только он один обладает, так сказать, полевым опытом. Он знает языки, знает тамошних людей, знает местную политику. Его возможное участие резко повысит шансы миссии на успех.
– Люди, которых он знал, умрут к тому времени, когда мы долетим туда. Политика меняется. Мы будем знать языки, мы будем владеть информацией. Мы не нуждаемся в нем.
– Он будет спасать жизни, Дэнни, – настаивал Джулиани. – Другого способа заставить его принять свое прошлое не существует, – добавил он. – Сандос должен вернуться туда ради собственного блага.
– Нет, даже в том случае, если вы станете на колени и будете умолять меня, – повторял Эмилио Сандос каждый раз, когда его начинали просить. – Я буду учить ваших людей. Я буду отвечать на их вопросы. Я сделаю все от меня зависящее для того, чтобы помочь им. Но туда я не вернусь.
Не изменил Сандос и своего решения расстаться с Обществом Иисуса, хотя процесс этот ему постарались всемерно затруднить. Его отставка, будучи чисто делом совести, должна была без всяких сложностей пройти административные инстанции, но когда он подписал необходимые бумаги просто «Э. Х. Сандос» и в конце сентября отправил в римскую резиденцию отца-генерала, то получил их обратно через несколько недель с указанием переподписать документы полным именем. И Сандос снова взял привезенную ему Джиной в какую-то пятницу ручку, специально приспособленную для использования жертвами инсульта, также потерявшими способность писать, и стал посвящать свои вечера мучительным тренировкам. Не стоит удивляться тому, что новый документ был отправлен на подпись в Рим лишь через месяц.
Поначалу Эмилио находил избранную Джулиани тактику проволочек просто утомительной, но потом она его взбесила, и он положил ей конец, отправив сообщение Иоганну Фелькеру, попросив проинформировать отца-генерала о том, что доктор Сандос намеревается находиться в состоянии, полностью не позволяющем ему вернуться к работе до получения бумаг. Документы на следующее утро доставил ему сам Винченцо Джулиани.
Разговор в неапольском кабинете отца-генерала был короток и энергичен. После его окончания Сандос отправился в библиотеку, постоял посреди зала, заставив четверых своих коллег обратить на него внимание, и наконец отрезал:
– В моей квартире. Через десять минут.
– Кто-то еще помог мне писать, – напряженным голосом сообщил Сандос Кандотти, хлопая небольшой стопкой бумаг о поверхность деревянного стола, за которым сидели Джон и Дэнни Железный Конь. Внизу каждой страницы неловким но вполне понятным курсивом было написано: Эмилио Хосе Сандос. – Если вы не хотели участвовать в этом деле, то могли бы хотя бы сообщить мне, Джон.
Шон Фейн только что изучал личную фотонику Сандоса, но теперь все внимание его переключилось на Кандотти, как и внимание Жосеба Уризарбаррены, прислонившегося к невысокой стенке, отделявшей квартирку Сандоса от лестницы в гараж. Дэнни Железный Конь также бросил короткий взгляд на Джона, но промолчал, глядя на Сандоса, не находившего себе места в комнате, сердитого и заведенного.
Под общим внимательным взором Джон опустил глаза.
– Я просто не мог…
– Забудем, – отрезал Сандос. – Джентльмены, я перестал быть иезуитом сегодня в девять часов утра. Меня проинформировали о том, что если я могу уйти из Общества или Корпорации, каким бы чертом его сейчас ни называли, то тем не менее остаюсь священником в вечности. Кроме экстренных ситуаций, мне не позволено совершать таинства без особого разрешения епископа диоцеза. Я не буду хлопотать о подобном разрешении, – проговорил он, обводя присутствующих взглядом. – Таким образом, теперь я являюсь vagus, священником, не имеющим полномочий и власти.
– С чисто технической точки зрения ваша ситуация во многом похожа на ту, в которой находятся многие из нас после прещения. Конечно, иногда нам удается истолковать понятие экстренной ситуации в свою пользу, – дружелюбным тоном отметил Дэнни. – Так. И каковы ваши дальнейшие планы?
Морская свинка, разбуженная ходьбой Эмилио, пронзительно засвистела. Перейдя к кухне, он бросил в клетку кусок морковки, даже не замечая, что делает.
– Я останусь здесь, пока не возмещу все потраченные на меня средства.
Железный Конь невесело улыбнулся:
– Дайте подумать. Неужели старикан подал вам подробный перечень всего, что было потрачено на вас с первого дня обучения? Вы, шеф, не обязаны возмещать эти расходы.
– Кроме того, он не имеет права требовать с вас плату за эти модные ортезы, – добавил Шон сквозь сухую улыбку. – В наши дни компания прекрасно работает со страховщиками. Вы учтены.
Сандос остановился и сначала посмотрел на Дэнни, a потом на Шона.
– Благодарю вас. Иоганн Фелькер ознакомил меня с моими правами. – Услышав эти слова, Джон Кандотти выпрямился, однако, прежде чем он сумел что-то сказать, Сандос продолжил: – Существуют, однако, некие чрезвычайные долги, за которые я считаю себя ответственным. Я намереваюсь выплатить их. На это может уйти какое-то время, но за мной сохраняется пенсия, и я выговорил себе оклад, равный окладу полного профессора лингвистики в Фордхэме на время существования этого проекта.
– Итак, вы остаетесь здесь, хотя бы на какое-то время. Хорошо, – заметил удовлетворенный Жосеба, тем не менее не собираясь уходить.
Дэнни Железный Конь также устроился поудобнее, умудрившись каким-то образом угнездиться в маленьком деревянном кресле.
– А как насчет изучения к’сана? – спросил он Сандоса. – Навеки его не упрячешь, шеф.
– Да. Я не могу этого сделать. – Все помолчали. – Возможно, когда мы закончим эту работу, пойду в Неаполь и устрою пресс-конференцию, – продолжил Сандос с деланой бравадой. – Я признаюсь во всем. Объявлю, что ел младенцев! Может быть, мне повезет и меня линчуют.
– Эмилио, прошу тебя, – начал Джон, но Сандос, не обращая на него внимания, выпрямился, являя Испанца.
– Джентльмены, – проговорил он, возвращаясь к насущной теме. – Я не просто оставляю священство. Я вероотступник. И если вы не намереваетесь общаться со мной, в подобном случае…
Дэнни Железный Конь безразлично повел плечами.
– Не вижу никакой разницы. Я здесь для того, чтобы изучать языки. – Подняв брови, он вопросительно посмотрел на присутствующих, закивавших в знак согласия, а затем обратил свой взгляд к Сандосу.
Послышался общий неровный вздох, засвидетельствовавший легкое ослабление напряженности. Сандос постоял еще несколько мгновений, а потом присел на край собственной постели, молчаливый и бдительный.
– Хорошие портки, – помолчав, заметил Дэнни.
Застигнутый врасплох, Сандос поперхнулся смешком и посмотрел вниз: синие джинсы, белая рубашка в узкую синюю полоску. Ничего черного.
– Сама синьора Джулиани выбирала, – отметил он не без гордости. – На мой взгляд, все великовато, но она говорит, что сейчас носят именно так.
Радуясь перемене темы, Джон проговорил:
– Ну да, теперь все носят свободную одежду.
Впрочем, на бесплотном теле Сандоса любая одежда была бы свободной, внезапно сообразил Джон. Эмилио всегда был невелик ростом, но теперь он снова казался изможденным – почти таким же, каким вышел из госпиталя. Очевидно, следуя той же линии мысли, Железный Конь заметил:
– А вообще-то, шеф, вам не худо бы и малость мясцом обрасти.
– Это мое дело, – недовольным тоном бросил Эмилио, вставая. – Ну, хорошо. Перерыв закончен. У всех есть работа.
Он направился к своему звукоанализатору, явным образом прекращая разговор. Жосеба встал, Шон шагнул к лестнице. Поднялся на ноги и Джон, но Дэнни Железный Конь, неподвижный, как скала, остался сидеть, заложив руки за голову.
– Одна моя нога весит больше вас, Сандос, – сказал он, оглядывая Эмилио с головы до ног лукавыми черными глазками, небольшими на изрытом оспинами лице. – Вы вообще едите?
Джон попытался жестом помешать Дэнни в такой сомнительной форме проявлять заботу об этом человеке, однако Сандос развернулся на месте и едким, но четким для восприятия тоном проговорил:
– Да, ем. А вы, патер Железный Конь, находитесь здесь для того, чтобы изучать руанжу и к’сан. Не помню, чтобы вас приглашали сюда в качестве медсестры.
– Ну, это хорошо, потому что подобная деятельность меня не привлекает, – любезно согласился Дэнни. – Но если вы едите и выглядите при этом именно так, как сейчас, у меня невольно возникают подозрения о том, что вы подхватили на Ракхате ту же самую дрянь, от которой скончался Д. У. Ярброу. И которую Энн Эдвардс до самой гибели так и не сумела определить, так?
– Иисусе, Дэнни! – взорвался Шон, Жосеба поглядел на него, а Джон воскликнул:
– Ради бога, Дэнни! Какого черта ты добиваешься?
– Я ничего не добиваюсь, а просто говорю!
– Я просидел в карантине много месяцев, – промолвил Сандос, бледнея на глазах. – Меня не выпустили бы из больницы при малейшем подозрении на болезнь. Разве не так?











