Читать онлайн Опасная идея Дарвина: Эволюция и смысл жизни
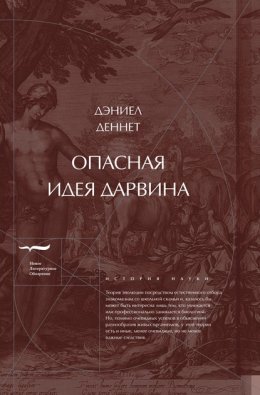
ПРЕДИСЛОВИЕ РЕДАКТОРА И ПЕРЕВОДЧИКА
Дэниел Деннет, профессор и содиректор Центра когнитивных исследований Университета Тафтс, США, автор двух десятков книг и сотен научных и научно-популярных статей, – один из самых знаменитых философов современности, чья известность выходит далеко за пределы не только круга академической философии, но и круга академической науки. Деннет является автором многих оригинальных идей, изложенных как в строгих академических статьях, так и в произведениях, предназначенных для более широкого круга читателей.
Для творчества Деннета характерны несколько особенностей: натурализм, то есть убеждение в том, что научные методы представляют собой наиболее надежный способ получения знаний, в том числе знаний о самых фундаментальных вопросах, относящихся к компетенции философии; широчайшая эрудиция – в его трудах читателю встретится множество фактов из самых разных областей человеческого знания, начиная от физики и математики и заканчивая филологией и историей искусств; последовательность изложения, в которой самые разнообразные факты выстраиваются в единую убедительную картину; и остроумный, изящный и полный неожиданных аллюзий стиль изложения. Произведения Деннета требуют от читателя того же напряженного внимания, что и, к примеру, восприятие полифонической музыки: любая метафора или, на первый взгляд, незначительный ход мысли могут впоследствии превратиться в полноценную «музыкальную линию», разворачивающуюся параллельно с другими и вступающую с ними в сложные взаимодействия. Однако приложенные усилия будут сполна вознаграждены.
Деннет внес существенный вклад в различные области философского и научного знания. Одним из наиболее известных его достижений является оригинальная теория сознания: «модель множественных набросков», которая решает ряд фундаментальных загадок сознания путем радикального переформулирования проблемы и привлечения научных методов и результатов эмпирических исследований. Вопрос о том, как субъективная, неуловимая, индивидуальная природа сознания может быть объяснена при помощи объективных, бесстрастных и общеприменимых научных методов, может показаться риторическим. «Никак!» – отвечает множество философов, психологов и даже нейрофизиологов, авторов многочисленных книг и статей о неподдающейся научному анализу сущности сознательного опыта. «Может, но совсем не так, как вы думали!» – отвечает Деннет в «Объясненном сознании» (1991)1, книге, ставящей под вопрос кажущееся очевидным и предлагающей научно обоснованное и нетрадиционное понимание различных аспектов субъективного опыта. В книге «Виды психики» (1996)2, представляющей собой продолжение и уточнение «Объясненного сознания», Деннет дает столь же нетрадиционный ответ на другой традиционный философский вопрос: «Есть ли сознание у животных, и если да, то похоже ли оно на сознание людей?» Еще один традиционный философский вопрос: «Существует ли свобода воли?» – получает утвердительный ответ и натуралистическое, научное обоснование в монографии Деннета «Эволюция свободы» (2003). Все вышеупомянутые труды Деннета объединяет тема эволюции. Деннет показывает, что наш разум таков, таким он является по причине эволюции, его отличие от других разумов может быть объяснено с точки зрения эволюции, а свобода воли, одно из наиболее ценимых нами человеческих качеств, не сразу стала тем, чем является сегодня, – она эволюционировала из более простых способностей и свойств, присущих различным живым организмам. В целом эволюционные объяснения играют важнейшую роль для понимания творчества Деннета.
В книге «Опасная идея Дарвина: эволюция и смысл жизни», предлагаемой вниманию читателя, Деннет, приводя множество примеров и интересных фактов, объясняет, почему теория эволюции посредством естественного отбора – это не просто одна из биологических теорий, а нечто гораздо более важное. Деннет сравнивает эту идею с «универсальной кислотой», разрушающей все предшествующие представления о мироздании. И действие этой универсальной кислоты неостановимо: в книге показано, как теория эволюции меняет наше представление о развитии культуры и о том, кто мы такие и в чем смысл нашей жизни.
Поскольку «Опасная идея Дарвина» была опубликована двадцать пять лет назад, во многих областях научного знания произошли существенные изменения. Компьютерные технологии шагнули далеко вперед; в области биологии были выявлены новые механизмы регулирования экспрессии генетической информации в фенотипе – так называемое «эпигенетическое наследование» – и были решены некоторые из упоминаемых в книге загадок. Например, определена биологическая функция сна: установлена роль сна в закреплении информации в долгосрочной памяти и выведении из мозга токсичных отходов жизнедеятельности, накапливающихся в бодрствующем состоянии. Для того чтобы описать все изменения, которые произошли в науке, потребовалась бы не одна книга, потому что научный прогресс постоянно ускоряется, – но эти изменения не только не опровергают идею и принцип эволюции, но, напротив, наполняют ее все большим содержанием и большей предсказательной силой. «Опасная идея Дарвина» в увлекательной и доступной форме повествует о сути эволюционной теории Дарвина, о развитии неодарвинизма в XX веке и о том, какое значение теория эволюции имеет для нашего понимания не только истории жизни на планете Земля, но и истории Вселенной.
Переводчик и научный редактор выражают благодарность Кариму Барагиту, Оксане Гончарко, Владимиру Семиколенных, Галине Смагиной и Анне Троицкой за помощь и консультации.
Мария Секацкая, Мария Семиколенных
ПРЕДИСЛОВИЕ
Меня всегда восхищала дарвиновская теория эволюции посредством естественного отбора, но за прошедшие годы я столкнулся с удивительно большим числом мыслителей, у которых эта великая идея вызывает целый спектр негативных реакций: от скептического ворчания до неприкрытой враждебности. Я осознал, что не только верующие люди и религиозные деятели, но и некоторые философы, психологи, физики и даже биологи, кажется, надеются, что Дарвин ошибался. Эта книга объясняет, почему идея Дарвина столь убедительна и почему она обещает – а не угрожает – дать новые основания самым драгоценным нашим представлениям о жизни.
Несколько слов о методе. Эта книга в основном посвящена науке, но сама научной работой не является. Цитировать авторитетных авторов (сколь угодно красноречивых и прославленных), а затем оценивать их доводы – не значит заниматься наукой. Однако ученые упорно продолжают писать научно-популярные (и не такие уж популярные) книги и статьи, интерпретировать результаты лабораторных и полевых исследований и стараться повлиять на мнение своих коллег. Цитируя работы ученых, в том числе воспроизводя их риторические приемы, я делаю то же, что и они: убеждаю. Довод от авторитета не может быть решающим, но авторитеты могут с успехом нас убеждать: иногда в том, что истинно, а иногда – в том, что ложно. Я пытаюсь в этом разобраться и сам понимаю не все, что связанно с обсуждаемыми теориями, – но то же можно сказать и об ученых (за исключением, вероятно, немногих эрудитов). Междисциплинарные исследования – рискованное дело. Надеюсь, я достаточно подробно рассмотрел различные научные вопросы, чтобы несведущий читатель мог понять, в чем их суть и почему я интерпретирую их так, а не иначе; и я достаточно много ссылаюсь на соответствующую литературу.
Фамилии, сопровождающиеся датами, отсылают к библиографическим описаниям в списке литературы, размещенном в конце книги. Вместо глоссария использованных научных терминов я даю краткие определения по ходу дела и уточняю их при дальнейшем обсуждении: отсюда весьма обширный указатель, который позволит вам отследить все случаи появления термина или идеи в книге. Отступления, которые будут интересны или нужны некоторым – но не всем – читателям, помещены в примечаниях.
Помимо этого, я попытался сделать так, чтобы вы могли прочитать цитируемую в книге научную литературу: я дал общий обзор и высказал мнение о степени значимости ведущихся дискуссий. О некоторых диспутах я высказываюсь смело, в других случаях воздерживаюсь от суждений, но рассказываю, о чем идет разговор, чтобы вы могли решить, важно ли – для вас, – к чему придут участники спора. Надеюсь, вы прочитаете эти книги – ведь они полны удивительных идей. Некоторые из них входят в число самых сложных из прочитанных мною трудов. Я имею в виду, например, книги Стюарта Кауфмана и Роджера Пенроуза; но это – педагогические шедевры, кладезь в высшей степени сложного материала, и любой, кому хочется сформировать собственное мнение о поднимаемых там важных вопросах, может и должен их прочитать. Другие проще – ясные, информативные, достойные серьезных читательских усилий, – а читать иные не только просто, но и очень приятно: они представляют собой великолепный пример Искусства на службе Науке. Раз вы читаете эту книгу, с некоторыми из них вы, вероятно, уже знакомы, и уже то, что я поместил их в общий список, будет достаточной рекомендацией: книги Грэма Кэрнса-Смита, Билла Кальвина, Ричарда Докинза, Джареда Даймонда, Манфреда Эйгена, Стива Гулда, Джона Мейнадра Смита, Стива Пинкера, Марка Ридли и Мэтта Ридли. Ни одной области науки не повезло с писателями так, как эволюционной теории.
На этих страницах не будет узкоспециальных философских доводов, излюбленных многими философами, ибо мне предстоит решить более фундаментальную проблему. Я понял, что даже самые неотразимые доводы нередко оказываются гласом вопиющего в пустыне. Я сам выдвигал аргументы, казавшиеся мне точными и неопровержимыми, но их часто не столько опровергали или отвергали, сколько просто игнорировали. Я не жалуюсь на несправедливость: всем нам приходится игнорировать аргументы и, без сомнения, будущее покажет, что некоторые из проигнорированных аргументов следовало бы воспринять серьезно. Скорее мне бы хотелось попробовать более прямолинейный подход и изменить то, что и кем может быть проигнорировано. Я хочу, чтобы представители других дисциплин приняли эволюционное мышление всерьез; я хочу показать, как они его недооценивали и почему они заслушались не тех сирен. Для этого придется прибегнуть к более изощренным методам. Нужно рассказать историю. Не хотите, чтобы история вас убедила? Что ж, я знаю, что формальными аргументами вас не пронять; вы даже слушать не будете доводы в пользу моего тезиса, так что я начну, откуда следует начинать.
Моя история по большей части нова, но она также вбирает обрывки и фрагменты многочисленных работ, написанных мною за последние двадцать пять лет и касавшихся различных дискуссий и спорных вопросов. Некоторые из них вошли в эту книгу практически целиком и с дополнениями, а на другие я лишь намекаю. Сказанное в книге – только вершина айсберга, но этого, надеюсь, достаточно, чтобы просветить и даже убедить непредубежденного человека и, по крайней мере, бросить моим оппонентам прямой и решительный вызов. Я постарался проскользнуть между Сциллой легкомысленного пренебрежения и Харибдой изнуряюще мелочных нападок, и каждый раз, ловко уклонившись от спора, я предупреждаю об этом и объясняю читателю, где он может ознакомиться с позицией оппонента. Список литературы легко было бы сделать в два раза длиннее, но я исходил из убеждения, что любому серьезному читателю нужно указать лишь на одну или две книги, а все остальное он разыщет сам.
В начале своей восхитительной книги «Метафизические мифы, математические упражнения: Онтология и эпистемология точных наук»3 мой коллега Джоди Аззуни благодарит «философский факультет Университета Тафтса за создание идеальных условия для занятий философией». Я хочу повторить и благодарность, и похвалу. Во многих университетах философию изучают, но ею не занимаются, – можно сказать, ей «отдают должное», – а есть университеты, в чьих стенах философские исследования оказываются эзотерической деятельностью, скрытой от глаз студентов и практически всех аспирантов за исключением наиболее блестящих. В Университете Тафтса философией занимаются в аудитории и в кругу коллег, и, полагаю, результаты свидетельствуют, что Аззуни не ошибается. Тафтс подарил мне прекрасных студентов и коллег и идеальные условия для совместной работы. В последние годы я вел студенческий семинар о Дарвине и философии, в ходе которого обсуждалось большинство появляющихся в этой книге идей. Последний черновик был прочитан, подвергнут критике и доведен до совершенства особенно сильной семинарской группой студентов и аспирантов, которым я благодарен за помощь: Карен Бейли, Паскаль Бакли, Джон Кабрал, Брайан Кавото, Тим Чамберс, Шираз Купала, Дженнифер Фокс, Анджела Джилс, Патрик Холи, Дин Хо, Мэтью Кесслер, Крис Лернер, Кристин Макгир, Майкл Ридж, Джон Робертс, Ли Розенберг, Стейси Шмидт, Ретт Смит, Лора Шпилитаку и Скотт Танона. В работе семинара также принимали участие Марсель Кинсбурн, Бо Дальбом, Дэвид Хэйг, Цинтия Шлоссбергер, Джефф Макконнел, Дэвид Штипп. Я хочу также поблагодарить своих коллег за множество ценных замечаний: в особенности Хуго Бидо, Джорджа Смита и Стивена Уайта. Моя особая благодарность – Алисии Смит, секретарю Центра когнитивных исследований, виртуозно отыскивавшей ссылки, проверявшей факты, добивавшейся разрешений, исправлявшей черновики, печатавшей, рассылавшей рукописи и координировавшей всю работу над проектом: она меня окрыляла.
Очень полезными стали подробные комментарии тех, кто прочитал большую часть книги – или всю ее – в черновике: Бо Дальбома, Ричарда Докинза, Дэвида Хэйга, Дуга Хофштадтера, Ника Хамфри, Рэя Джекендоффа, Филипа Китчера, Джастина Лейбера, Эрнста Майра, Джеффа Макконнела, Стива Пинкера, Сью Стэффорд и Кима Стерельни. Как всегда, они не несут ответственности за ошибочные суждения, в которых не смогли меня разубедить. (И, если вы неспособны написать приличную книгу об эволюции с помощью группы столь дотошных редакторов, не стоит и пытаться!)
Многие другие люди в ходе десятков бесед отвечали на важные вопросы и помогали мне привести мысли в порядок: Рон Амудсен, Роберт Аксельрод, Джонатан Беннет, Роберт Брэндон, Маделин Кейвинесс, Тим Клаттон-Брок, Леда Космидес, Хелена Кронин, Артур Данто, Марк Де Вото, Марк Фельдман, Мюррей Гельманн, Питер Годфри-Смит, Стив Гулд, Дэнни Хиллис, Джон Холланд, Алистер Хустон, Дэвид Хой, Бредо Джонсен, Стью Кауфман, Крис Лангтон, Дик Левонтин, Джон Мейнард Смит, Джим Мур, Роджер Пенроуз, Джоанн Филлипс, Роберт Ричардс, Марк и Мэтт (братья) Ридли, Дик Шахт, Джефф Шанк, Элиот Собер, Джон Туби, Роберт Трайвз, Питер ван Инваген, Джордж Уильямс, Дэвид Слоан Уилсон, Эдвард О. Уилсон и Билл Уимсатт.
Хочу поблагодарить своего агента, Джона Брокмана, проведшего этот огромный проект среди множества подводных камней и помогшего мне понять, как сделать книгу лучше. Благодарю также Терри Зароффа, искусного редактора, нашедшего множество ошибок и несогласованностей и во многих случаях уточнившего выражения и добившегося единообразия в использовании терминов. А также Илавенила Суббия, которому принадлежат рисунки за исключением ил. 26 и 27, созданных Марком Макконнелом на терминале Хьюлетт-Пакард Аполло с использованием программы I-dea.
Последнее и самое важное: благодарность и любовь моей жене Сьюзан за советы, любовь и поддержку.
Дэниел Деннет, сентябрь 1994 года
ПРЕДИСЛОВИЕ К РУССКОМУ ПЕРЕВОДУ
За двадцать пять лет, прошедших с момента публикации «Опасной идеи Дарвина», в биологии было сделано множество удивительных открытий, и особенно далеко ученым удалось продвинуться в исследовании двух наиболее сложных для изучения временных отрезков – у корней и вершины Древа Жизни: самого возникновения жизни и роли культурной эволюции в новейшей истории эволюции человека. Как сказано в моей книге, специалисты по теории эволюции склонны преувеличивать свои заслуги, провозглашая себя революционерами там, где на самом деле речь идет о некоторых усовершенствованиях, дополнениях и правках, вносимых по ходу дела. Так, например, мы наблюдали взлет evo-devo (эволюционной биологии развития), «конструирования ниш» и неустанные попытки продемонстрировать существование «ламаркианских» явлений, и, хотя эти кампании и конфликты привели к некоторым важным открытиям, ортодоксальный неодарвинизм остается непоколебимым, продолжает развиваться и каждый день подтверждается открытиями в области биоинформатики и других новых научных дисциплин. Вероятно, у нас больше шансов стать свидетелями масштабного переворота в физике, чем в биологии, – но, конечно, от нашего внимания могло ускользнуть что-то важное.
В философии шли совсем другие процессы: триумфальный взлет твердо опирающихся на научные данные философских исследований разума, смысла, сознания и даже этики спровоцировал реакцию, которая, по-моему, вполне понятна, хотя и весьма прискорбна. Философия, которую я отстаивал и которой сам пытался заниматься в своих работах – в особенности в «Объясненном сознании» (1991) и «Опасной идее Дарвина» (1995), предполагает, что философы, желающие, чтобы их принимали всерьез, должны достаточно хорошо разобраться в областях науки, которые имеют отношение к философским проблемам. «Кабинетная философия», которой занимаются в благодушном неведении относительно научных достижений, показала себя совершенно косной и по большей части бесполезной «дисциплиной». Но среди философов, несомненно, есть профессора и студенты, сопротивляющиеся научному повороту. Больше всего меня обескураживает точка зрения, прекрасно выраженная студентом, которого я встретил на аспирантской конференции в Брауновском университете году в 2005‐м: «Я занялся философией, потому что так мне ничего особенно не придется учить». Он занимался не историей философии, которую с успехом изучает так много студентов европейских философских факультетов, но современной аналитической метафизикой – тем, что я назвал наивной аутоантропологией: вы используете себя и своих столь же малообразованных коллег в качестве информантов, пытаясь выработать самый обширный и внутренне непротиворечивый набор метафизических «позиций», какой только у вас получается, – и наивно полагаете, что результат обязательно будет истинным! Философы из этой секты считают почти что делом чести не читать работ философов, занимающихся изучением междисциплинарных проблем. Вместо этого они пишут книги и статьи, предназначенные в лучшем случае для нескольких сотен читателей и совершенно непонятные непосвященным. Вероятно, в известной степени осознавая, что сложно понять технические научные статьи без существенной подготовки, они в результате склонны полагать, что легко или приятно читающиеся работы не могут быть глубокими или важными. Это – цена, которую приходится платить тем немногочисленным философам, которые пишут книги, доступные широкому кругу достаточно образованных читателей. Как однажды сказал именитый член этого эзотерического кружка, покидая битком набитую аудиторию, где только что выступал я: «Черт подери, да можно ли научиться чему-нибудь у того, на чьих лекциях яблоку негде упасть!» Верный своему слову, он так ничему и не научился.
Печаль по поводу изгнания из заповедного сада «чистой» философии была более чем утолена тем, как мои идеи восприняли ученые, заинтересованные читатели и философы, которым тоже хотелось сделать что-то значимое за пределами узких рамок своей дисциплины. За последние двадцать пять лет меня наставляли, просвещали, вдохновляли и восхищали потрясающие мыслители, работающие в самых разнообразных отраслях знания, и я рад заявить, что не нашел оснований отзывать или серьезно пересматривать какие-либо из тезисов, сформулированных в «Опасной идее Дарвина». Я развивал их, прояснял и находил более веские доводы в их пользу – в особенности в последней своей книге, «От бактерии к Баху и обратно: эволюция разума» (2017). Одним из направлений дальнейшего развития этих тезисов стала более подробная, научно обоснованная и – я надеюсь – убедительная защита понятия мем, введенного Ричардом Докинзом; другим является высказанная мною ранее идея блуждающего обоснования (free-floating rationale), впервые появившаяся в статье 1983 года под заглавием «Интенциональные системы в когнитивной этологии» и лишь вскользь затронутая в «Опасной идее Дарвина». С этим понятием тесно связана идея неосознаваемой способности (competence without comprehension), проясняющая некоторые из рассуждений и аргументов в «Опасной идее Дарвина». Приятно наблюдать, что описанная мною пара – небесные крючья и подъемные краны – превратилась в объяснительную стратегию, популярную у биологов и авторов, пишущих об эволюции, и что не прошли зря мои призывы не забывать спрашивать Cui bono? (кому или чему идет это на пользу?) прежде, чем принять решение о том, как интерпретировать какую-либо функцию или цель. Краткое исследование влияния дарвинистского мышления на этику и связанную с ней проблему свободной воли, которому посвящены последние три главы «Опасной идеи Дарвина», также было продолжено в моей книге «Эволюция свободы» (2003) и ряде недавних статей: это – тема, которой я сейчас очень серьезно занимаюсь. Все, что я в последнее время написал (на английском языке), можно найти на моем веб-сайте: https://ase.tufts.edu/cogstud/dennett/recent.html.
Сейчас, когда по миру распространяется коронавирус, я размышляю о том, как важно помочь всем людям понять суть эволюции, и хотя я по большей части доволен своим вкладом в достижение этой цели, мне бы хотелось, чтобы сделано было гораздо больше. Слишком много людей испытывают к идее эволюции глубокую неприязнь, и я считаю это существенным недостатком современной цивилизации. Надеюсь, что, поманив читателей обещанием как опасностей, так и открывающихся возможностей, эта книга приведет множество людей к пониманию этой идеи – лучшей из всех, которые когда-либо возникали у человека.
Дэниел К. Деннет, 20 марта 2020 года
Часть I
НАЧАВ С СЕРЕДИНЫ
Нейрат сравнил науку с лодкой: во время ремонта приходится спустить ее на воду и, стоя внутри, заменять доску за доской. Философ и ученый находятся в одной лодке…
Чтобы, согласно нашему намерению, исследовать процесс создания теории, придется начать с середины. Мы начнем со средних размеров объектов, отстоящих от нас не далеко, но и не близко, и подступим к ним посреди истории культурной эволюции расы. Усваивая эту духовную пищу, мы задумываемся о различии между описанием и изобретением, сутью и стилем, намеками и концептуализацией не больше, чем за обедом – о разнице между протеинами и углеводами. Мы можем отличить один компонент теории от другого задним числом подобно тому, как отличаем друг от друга питающие нас протеины и углеводы.
Уиллард Ван Орман Куайн 4
Глава первая
СКАЖИ ПОЧЕМУ
1. Разве нет ничего святого?
Ребенком я много пел: у костра в летнем лагере, в школе, в воскресной школе или дома, собравшись с родными у фортепьяно. Одна из моих любимых песен – «Tell Me Why». (Помещаю ноты в приложении для тех, кто незнаком с этим маленьким шедевром. Простая мелодия в сочетании с незатейливыми аккордами рождают удивительно прекрасное целое.)
- Скажи, почему так сияют звезды,
- Скажи, почему так вьется плющ,
- Скажи, отчего так синеет небо?
- Я скажу, почему тебя я люблю.
- Потому что Господь зажег эти звезды,
- Потому что Господь сотворил этот плющ,
- Потому что Господь сделал небо синим.
- Он тебя сотворил, и тебя я люблю5.
На мои глаза до сих пор наворачиваются слезы, стоит услышать это простое, сентиментальное признание – столь свежий, столь невинный, столь утешительный взгляд на мир!
И тут пришел Дарвин и все испортил. Или нет? Вот о чем эта книга. С 1859 года, когда «Происхождение видов» увидело свет, основополагающая идея Чарлза Дарвина вызывала самые резкие отклики: от яростного осуждения до экстатических клятв верности, подчас проникнутых прямо-таки религиозным пылом. Противники и сторонники искажали и неправильно интерпретировали его теорию. Ее использовали, чтобы обеспечить научную респектабельность чудовищным политическим и социальным доктринам. Ее поднимали на смех, а некоторые из оппонентов заставили ее состязаться с «креационизмом» – жалкой благочестивой галиматьей, прикидывающейся настоящей наукой, – в школах, где учатся наши дети6.
Когда речь заходит о Дарвине, равнодушных практически не остается, да это было бы и неправильно. Учение Дарвина – научная теория, и притом великая, но дело не только в этом. Столь яростно спорящие с ней креационисты правы в одном: опасная идея Дарвина вгрызается в корни наших фундаментальных убеждений гораздо глубже, чем до сих пор признаются – даже самим себе – многие ее искушенные защитники.
Как бы яростно мы это ни отрицали, большинство из нас выросло с тем самым простым и невинным взглядом на мир, о котором поется в песне. Добрый Бог, любовно вылепивший каждого из нас (все создания, большие и малые) и на радость нам усыпавший небо блистающими звездами – этот Бог, подобно Деду Морозу, – часть мифологии детства; он не может быть предметом веры разумного, здравомыслящего взрослого человека. Такого Бога следует либо превратить в символ чего-то менее конкретного, либо полностью отбросить.
Не все ученые и философы – атеисты, и многие верующие заявляют, что их представления о Боге могут мирно сосуществовать с дарвиновской системой идей (и даже найти в ней опору). Их Бог – не антропоморфный Демиург, но в их глазах он все еще достоин поклонения, способен даровать утешение и смысл жизни. Основу мировоззрения других составляют абсолютно светские философские системы: они позволяют обрести смысл жизни и отбросить отчаяние, не прибегая к представлению о каком-то Высшем Существе – только о самой Вселенной. Для этих мыслителей есть что-то святое, но Богом они это не называют, предпочитая, возможно, такие имена, как Жизнь, или Любовь, или Благо, или Разум, или Красота, или Человечество. Несмотря на глубочайшие различия в символах веры, и тех и других объединяет убеждение, что жизнь осмыслена, а добродетель имеет значение.
Но способен ли хоть какой-нибудь из изводов этого мировоззрения, основанного на восхищении и целесообразности, устоять перед лицом дарвинизма? Поначалу казалось, что Дарвин открыл ящик Пандоры, выпустив самое страшное чудовище – нигилизм. Современники думали, что если Дарвин прав, то в мире не может быть ничего святого. Выражаясь без околичностей, ничто не будет иметь смысла. Была ли такая реакция слишком острой? Каковы в действительности выводы из дарвиновской идеи и, если уж зашла об этом речь, является ли она научно обоснованной или продолжает оставаться «всего лишь теорией»?
Вам может показаться, что было бы полезно провести различие: некоторые элементы дарвиновской идеи доказаны и не вызывают никаких обоснованных сомнений, но существуют еще умозрительные выводы из научно неопровержимых тезисов. И – если нам повезет – возможно, из непреложных научных истин не получится сделать ошеломляющих выводов относительно религии, или человеческой природы, или смысла жизни, а те элементы дарвиновской идеи, которые расстраивают людей, можно будет вывести за скобки как в высшей степени спорные выводы из научно неопровержимых тезисов (или просто их интерпретации). Это бы всех успокоило.
Увы, все наоборот. Вокруг эволюционной теории ведутся бурные споры, но тем, кто опасается дарвинизма, не стоит на это рассчитывать. Большинство этих споров – если не все они – касаются «чисто научных» вопросов; кто бы ни вышел из них победителем, основы учения Дарвина останутся непоколебимы. И его идея, подтвержденная не хуже, чем любая другая научная идея, и в самом деле существенным образом влияет на наши представления о том, в чем состоит (или мог бы состоять) смысл жизни.
В 1543 году Коперник предположил, что центром вселенной является не Земля, а Солнце. Его идее понадобилось больше века, чтобы распространиться: процесс был постепенным и достаточно безболезненным. (Религиозный реформатор Филипп Меланхтон, сподвижник Мартина Лютера, полагал, что «какой-нибудь христианский государь» должен заткнуть рот этому безумцу, но, если не считать нескольких таких атак, сам Коперник не то чтобы заметно пошатнул мир.) В конце концов и для коперниканской революции прозвучал «выстрел, что услышал весь мир»: «Диалог о двух главнейших системах мира» Галилея. Книга эта была опубликована лишь в 1632 году, когда ее предмет уже не вызывал споров среди ученых. За выстрелом Галилея последовал печально знаменитый залп Римской католической церкви, эхо которого только сейчас перестает отдаваться в ушах. Но несмотря на драматизм этого эпического противостояния, люди довольно легко согласились с идеей, что наша планета – не центр мироздания. Сегодня любой школьник без слез или страха принимает это как нечто само собой разумеющееся.
Со временем дарвиновская революция тоже займет прочное и неоспоримое место в умах – и сердцах – всех образованных людей, но сегодня, спустя более века после смерти Дарвина, мы все еще не свыклись с ее поразительными последствиями. В отличие от коперниканской революции, привлекшей внимание широкой общественности лишь после того, как было решено большинство поставленных ею научных вопросов, взбудораженные наблюдатели и приверженцы разных позиций с самого начала активно вмешивались в ход дарвиновской революции, дергая ее участников за рукава и провоцируя их на эффектные заявления. Самими учеными руководили те же надежды и страхи, и неудивительно, что сравнительно камерные разногласия теоретиков часто превращались их сторонниками в масштабные столкновения: смысл спора при этом значительно искажался. Все смутно догадывались, сколь многое поставлено на карту.
Более того, хотя сам Дарвин всесторонне разработал свою теорию, и многие современные ему ученые и мыслители немедленно оценили ее убедительность, в ней, действительно, оставались заметные лакуны, которые только сейчас начинают должным образом заполняться. Самая заметная сегодня кажется почти забавной. При всех его блестящих догадках Дарвин так и не сформулировал важнейшее понятие, без которого не может быть эволюционной теории: понятие гена. У Дарвина не было единицы наследственности, и потому его описание процесса естественного отбора вызывало вполне обоснованные сомнения: будет ли этот процесс работать? Дарвин полагал, что потомок всегда будет представлять собой смесь или некое среднее арифметическое особенностей родительских организмов. Разве такая «смешивающая наследственность» не будет всегда приводить к простой нивелировке различий и повсеместному единообразию? Как при постоянном усреднении может сохраняться разнообразие? Дарвин осознавал, сколь серьезна эта претензия, и ни он сам, ни многие его пылкие поклонники не смогли ответить на нее описанием убедительного и документально засвидетельствованного механизма наследственности, который мог бы комбинировать черты родителей, одновременно сохраняя фундаментальное и неизменное тождество. Нужная им идея была под рукой; ее обнаружил (слово «сформулировал» было бы чересчур громким) и в 1865 году описал в сравнительно малоизвестном австрийском журнале монах Грегор Мендель, но – одна из наиболее ироничных страниц в истории науки – она оставалась незамеченной вплоть до начала XX века, когда ее важность начали (поначалу смутно) осознавать. В 1940‐х годах благодаря работе Феодосия Добржанского, Джулиана Хаксли, Эрнста Майра и других исследователей она, наконец, триумфально заняла прочное место в самом сердце «синтетической теории эволюции» (то есть синтеза идей Менделя и Дарвина). Потребовалось еще полвека, чтобы сгладить все шероховатости.
Сегодня фундаментальное ядро современного дарвинизма, теория о том, что размножение и эволюция обуславливаются ДНК, не является для ученых предметом спора. Она ежедневно доказывает свою неопровержимость, внося важнейший вклад в объяснение глобальных геологических и метеорологических феноменов, более локальных феноменов экологических и агрономических и так далее вплоть до процессов генной инженерии, которые можно наблюдать лишь в микроскоп. Она сплетает все биологические науки и историю нашей планеты в единое полотно. Ее не сдвинуть с места, словно связанного лилипутами Гулливера: не из‐за одной-двух веских цепей аргументов, в которых – случаются же чудеса! – могут найтись слабые звенья, а из‐за сотен тысяч свидетельств, надежно связывающих ее с практически всеми другими областями человеческого знания. Вероятно, новые открытия могут привести к резким, даже «революционным» сдвигам в дарвиновской теории, но надеяться на то, что какая-нибудь потрясающая находка ее опровергнет, – все равно что надеяться, что мы вернемся к геоцентрической системе и предадим Коперника забвению.
Однако теория Дарвина стала предметом удивительно жаркой полемики; одна из причин такого накала страстей состоит в том, что на ход научных дебатов зачастую влияет страх, что «неверный» ответ повлечет выводы, недопустимые с моральной точки зрения. Этот страх так силен, что о нем стараются не упоминать и вытесняют из поля зрения, прибегая к многочисленным отвлекающим контраргументам и контраргументам против контраргументов. Участники дискуссии все время немного меняют ее предмет, что позволяет не выпускать чудовищ из-под кровати. В основном именно из‐за этого хождения вокруг да около день, когда мы сможем спокойно воспринять новую биологическую картину мира, как смогли воспринять новую астрономическую, коперниканскую, все не настает.
Стоит зайти речи о дарвинизме, как атмосфера накаляется, поскольку дело не просто в том, как эволюционировала жизнь на Земле, или в логической непротиворечивости теории, описывающей этот процесс. Среди важнейших вопросов, поставленных на кон, понимание того, что значит спрашивать: «Почему?» – и отвечать на этот вопрос. Новая теория Дарвина переворачивает вверх тормашками некоторые традиционные допущения и ставит под вопрос наши привычные представления о том, что можно считать удовлетворительным ответом на этот древний и неизбежный вопрос. Наука и философия оказываются здесь неразрывно связаны. Ученые иногда обманываются, полагая, будто философские идеи являются в лучшем случае украшениями объективных научных побед или паразитирующими на них комментариями и что сами они неуязвимы для сомнений, на разрешение которых философы кладут свою жизнь. Но не может быть науки, свободной от философии: есть лишь наука, чей философский багаж приняли на борт без досмотра.
Дарвиновская революция – революция не только научная, но и философская, и одна не случилась бы без другой. Как мы увидим, именно философские предрассудки ученых (а вовсе не недостаток научных доказательств) более всего мешали им понять, как теория может работать в действительности; но эти философские предрассудки, которые следовало ниспровергнуть, слишком глубоко укоренились, чтобы для их опровержения было достаточно только философской гениальности. Потребовалась целая батарея неоспоримых – и завоеванных дорогой ценой – научных фактов, чтобы мыслители серьезно восприняли странные новые взгляды Дарвина. Тем, кто все еще плохо знаком с участниками этого торжественного парада, извинительна приверженность идеям додарвиновского мира. Кампания далека от завершения; партизанская война продолжается – даже среди ученых.
Позвольте выложить карты на стол. Если бы я вручал награду за лучшую идею в истории, я бы отдал ее Дарвину, а не Ньютону, Эйнштейну или любому другому мыслителю. Идея эволюции посредством естественного отбора мгновенно объединяет область жизни, смысла и цели с областью пространства и времени, причины и результата, механизма и физического закона. Это не просто замечательная научная идея – эта идея опасна. Я бесконечно восхищаюсь потрясающей идеей Дарвина, но мне также дóроги многие идеи и идеалы, которые она, казалось бы, ниспровергает, и мне хочется их защитить. Например, я хочу сберечь песенку, которую пел у костра, и то, что в ней есть прекрасного и подлинного, для своего маленького внука, его товарищей и их будущих детей. Кажется, что дарвиновская идея также ставит под вопрос немало более блистательных концепций, которые тоже нуждаются в защите. Единственный разумный способ добиться этого – единственный, у которого в долгосрочной перспективе есть шансы на успех, – пробраться сквозь дымовую завесу и изучить эту идею со всем возможным мужеством и беспристрастностью.
В данном случае мы не удовлетворимся утешительным: «Ну, ну, тише, в конце концов все будет хорошо». Наше предприятие потребует известной силы духа. Возможно, чьи-то чувства будут оскорблены. Те, кто пишет об эволюции, обычно избегают затрагивать очевидный конфликт науки и религии. Как сказал Александр Поуп, «туда кидается дурак, где ангел не решится сделать шаг». Пойдете ли вы за мной? Вам в самом деле хочется узнать, кто переживет эту битву? Что, если окажется, что милый образ – или что-то еще более прекрасное – выйдет из нее незапятнанным и притом более сильным и глубоким? Не стыдно ли упустить возможность обрести обновленные и более прочные убеждения, предпочтя им хрупкую, болезненную веру, которую мы по ошибке боимся потревожить?
У священного мифа будущего нет. Почему? Потому что мы любопытны. Мы – как напоминает песенка – спрашиваем: «Почему?» Возможно, мы выросли из ответа, который она дает, но из вопроса нам не вырасти. Каковы бы ни были наши ценности, нам не защитить их от своего собственного любопытства, ибо истина входит в их число. Любовь к истине, несомненно, важнейшая составляющая смысла нашей жизни. В любом случае идея, будто можно сохранить смысл, обманываясь, – для меня, например, слишком пессимистична и нигилистична. Если бы это было наилучшим выходом из ситуации, я бы, в конце концов, заключил, что ничто не имеет смысла.
Итак, эта книга – для тех, кто согласен, что беспокоиться о смысле жизни стоит, лишь если он не исчезает в результате самого пристального анализа. Остальным я посоветую закрыть книгу и тихонько удалиться.
А тех, кто остается, ждет следующее. В первой части книги я рассмотрю дарвиновскую революцию в более широком контексте и покажу, как она может изменить мировоззрение хорошо с ней знакомого человека. В этой, первой, главе рассказывается об основных философских идеях, царивших до Дарвина. Во второй главе центральная идея Дарвина подается в несколько новом свете: как представление об эволюции как алгоритмическом процессе, – и разбираются некоторые наиболее распространенные ошибки в ее интерпретации. В третьей главе показано, как эта идея трансформирует описанную в первой главе традицию. В четвертой и пятой речь пойдет о некоторых потрясающих – и тревожных – перспективах, которые открывает дарвиновская мысль.
Во второй части рассматриваются вызовы, которые поставила перед дарвиновской идеей – неодарвинизмом или синтетической теорией эволюции – сама биология, и показывается, что, в противоположность заявлениям некоторых противников, идея Дарвина выходит из этих столкновений не только невредимой, но и обретшей новые силы. Затем, в третьей части, показано, что происходит, когда те же идеи определяют наши размышления о виде, занимающем нас более других, – о Homo sapiens. Сам Дарвин полностью осознавал, что для многих людей это станет камнем преткновения, и сделал все, что было в его силах, чтобы преподнести новость потактичней. Более века спустя все еще есть те, кто хочет прорыть ров, который защитил бы человечество от большинства, если не всех, мерещащихся им ужасных последствий дарвинизма. Из третьей части становится ясно, что они ошибаются и в оценке фактов, и в выборе стратегии; опасная идея Дарвина не только применима к нам напрямую и на многих уровнях: правильное применение дарвиновской мысли к вопросам человеческого бытия – например, вопросам сознания, языка, знания и этики – позволяет увидеть их так, как никогда не могли сторонники традиционных подходов; она дает новые формулировки древним проблемам и указывает пути их решения. Наконец, мы можем оценить, какие выгоды таит в себе обмен додарвиновского мышления на дарвиновское, взвесив преимущества и недостатки этой сделки и показав, как то, что нам по-настоящему дорого (и что должно быть нам дорого), пройдя дарвиновскую революцию, блистает, трансформировавшись и став еще дороже.
2. Что, где, когда, зачем – и как?
Как заметил на заре истории науки Аристотель, любопытство принимает различные формы. Предпринятая им первая попытка их классификации все еще весьма продуктивна. Аристотель выделил четыре основных вопроса, которые можно задать о любом предмете, и назвал их четырьмя αἰτία (совершенно непереводимое греческое понятие, традиционно – но довольно неуклюже – интерпретируемое как четыре «причины»).
1. Нас может интересовать, из чего состоит предмет, – его материя, или материальная причина.
2. Нас может интересовать форма (или структура, или очертания), которую принимает материя, формальная причина.
3. Нас может интересовать начало – то, как предмет появился, или его действующая причина.
4. Нас может интересовать назначение, или функция, или цель (как в «цель оправдывает средства») предмета, которую Аристотель называет словом τέλος, что довольно несуразно переводится как целевая причина.
Для того чтобы четыре αἰτία Аристотеля ответили на стандартные вопросы «что, где, когда и зачем (почему)», приходится приложить усилия, которые увенчиваются лишь частичным успехом. Однако вопросы, начинающиеся словом «зачем», обычно задают о четвертой «причине» Аристотеля, о τέλος вещи. Зачем это существует? – спрашиваем мы. Для чего оно? Что составляет raison d’être вещи, как говорят французы, – то есть смысл ее существования? Сотни лет философы и ученые осознавали проблематичность этих вопросов так остро, что сама эта проблема заслужила имя: телеология.
Телеология объясняет существование или возникновение предмета отсылкой к его цели или назначению. Наиболее очевидно такое объяснение там, где речь идет об артефактах; цель или назначение артефакта – это функция, которую он должен выполнять по замыслу создателя. Τέλος молотка-гвоздодера не вызывает сомнений: с его помощью забивают или вытаскивают гвозди. Τέλος более сложных артефактов (например, портативных видеокамер, эвакуаторов или компьютерных томографов), возможно, еще более очевиден. Но даже в простых случаях можно заметить маячащую на заднем плане проблему:
– Зачем ты пилишь доску?
– Чтобы сделать дверь.
– Зачем делать дверь?
– Чтобы в дом никто не зашел.
– Почему ты хочешь, чтобы в дом никто не зашел?
– Чтобы спокойно спать по ночам.
– А зачем тебе спать по ночам?
– Беги-ка ты отсюда, и хватит задавать дурацкие вопросы.
Этот диалог демонстрирует одну из проблем телеологии: где закончить? Какой самой последней целевой причиной можно увенчать иерархию причин? У Аристотеля был ответ: Бог, Перводвигатель, то, для чего существуют все прочие для чего. Идея, воспринятая христианской, иудейской и мусульманской традицией, состоит в том, что все наши цели являются в конечном счете целями Бога. Бесспорно, идея естественная и привлекательная. Если мы взглянем на карманные часы и спросим, зачем нужно стекло над циферблатом, ответ, разумеется, будет касаться потребностей и желаний тех, кто пользуется часами и хочет узнавать время, взглянув на стрелки сквозь прозрачное защитное стекло, и т. д., и т. п. Не зная этого о нас – тех, для кого созданы часы, – невозможно объяснить, зачем нужно закрывающее циферблат стекло. Если мир сотворен Богом ради достижения Его целей, то все цели, существующие в мире, в конечном счете сводятся к божественным целям. Но каковы они? Это тайна.
Один из способов справиться с беспокойством, вызванным этой тайной, – слегка изменить тему. Вместо того чтобы отвечать на вопрос «зачем?» фразой, начинающейся словами «чтобы» (что, казалось бы, логично), люди часто заменяют вопрос «зачем?» вопросом «как?» и пытаются ответить на него историей о том, как так случилось, что Бог создал нас и остальной мир, не задерживаясь слишком долго на том, зачем Он мог этого захотеть. В списке Аристотеля вопроса «как?» нет, но он (и соответствующий ответ) был весьма востребован задолго до того, как Аристотель предпринял свой анализ. Ответами на самые серьезные «как?» являются космогонии – истории о том, как появился космос: Вселенная и все ее обитатели. Книга Бытия представляет собой космогонию, но есть и множество других. Космологи, исследующие гипотезу Большого взрыва и размышляющие о черных дырах и суперструнах, являются современными творцами космогоний. Не все древние космогонии являются рассказами о демиурге. Некоторые повествуют о «мировом яйце», отложенном «в Бездне» той или иной мифической птицей, а в некоторых речь идет о посеве семян и взращивании растений. Источники, из которых может черпать человеческое воображение, ищущее ответ на столь грандиозный вопрос, немногочисленны. В одном из ранних мифов о сотворении мира рассказывается о «самосущем Господе», который «мыслью сотворил золотое яйцо, в котором он сам рожден как Брахма, сотворитель миров»7.
А в чем же смысл этого откладывания яиц, или засевания земель, или сотворения миров? Или, если уж на то пошло, в чем смысл Большого взрыва? Как и многие их предшественники, современные космологи рассказывают занимательную историю, предпочитая обходить телеологическое «зачем?» стороной. Есть ли смысл в существовании Вселенной? Есть ли у причин понятная роль в объяснениях космоса? Может ли нечто быть целесообразным, если эта цель – не чья-то конкретная? Или причины – четыре причины Аристотеля – уместны лишь в объяснениях действий и свершений людей или иных рациональных акторов? Если Бог – не личность, не рациональный актор, не Разумный Демиург, то в чем тогда смысл самого важного «зачем»? А если самое важное «зачем» не имеет смысла, как могут его иметь не столь значимые, более локальные «зачем»?
Одно из наиболее фундаментальных открытий Дарвина – новый способ найти смысл в «зачем». Нравится вам это или нет, идея Дарвина предлагает подход – ясный, обоснованный и удивительно универсальный, – который позволяет решить эти старинные головоломки. К нему нужно приспособиться, и его нередко неверно употребляют даже самые преданные сторонники. Главная задача этой книги – последовательно изложить и обосновать этот подход. Следует внимательно проследить различия между дарвиновской мыслью и вульгаризированными измышлениями самозванцев: для этого потребуется разобраться в некоторых деталях, но оно того стоит. Наградой будет первая в истории устойчивая система объяснения, свободная от хождений по кругу или обрушения в бездну тайн. Вероятно, некоторые предпочтут бездну тайн, но в наши дни такой выбор слишком дорого обходится: придется обмануться. Можно обмануть себя самостоятельно или поручить это грязное дело другим, но невозможно рационально оправдать попытки вновь отстроить сокрушенные Дарвином преграды на пути понимания.
Чтобы оценить эту сторону открытия Дарвина, надо поглядеть, как выглядел мир до совершенного им переворота. Посмотрев на мир глазами двух земляков Дарвина, Джона Локка и Дэвида Юма, мы сможем составить ясное представление об альтернативном мировоззрении (во многих отношениях все еще очень влиятельном), которое после Дарвина устарело.
3. «Доказательство» примата Разума у Локка
Джон Локк изобрел здравый смысл, и с тех пор он есть лишь у англичан!
Бертран Рассел 8
Джон Локк, современник «несравненного мистера Ньютона», был одним из отцов-основателей английского эмпиризма и, как и пристало эмпирику, не слишком увлекался рационалистскими дедуктивными аргументами; но одно из его нехарактерных обращений к «доказательству» следует привести дословно, поскольку оно прекрасно иллюстрирует, в какой тупик зашла мысль до дарвиновской революции. Нашему современнику этот довод может показаться странным и натянутым, но отнеситесь к нему с пониманием – пусть он покажет, как далеко мы с тех пор успели уйти. Сам Локк полагал, что просто напоминает людям об очевидном! В этом отрывке из «Опыта о человеческом разумении» он желал доказать нечто, что, по его убеждению, все люди и так уже втайне знали: что «в начале» был Разум. Он начинает с вопроса: существует ли что-то вечное?
Если должно существовать нечто вечное, то посмотрим, что это за вещь должна быть. Вполне очевидно для разума, что это необходимо должно быть мыслящее существо. Представить себе, чтобы чистая немыслящая материя могла произвести мыслящее, разумное существо, так же невозможно, как невозможно представить себе, чтобы ничто могло из себя самого произвести материю9.
Локк начинает доказательство с намека на одну из древнейших и наиболее часто упоминаемых философских максим: Ex nihilo nihil fit. Ничто ничего не порождает. Поскольку это дедуктивный аргумент, планку ему следует поднять высоко: идея, будто «чистая немыслящая материя может произвести мыслящее, разумное существо», не просто маловероятна, или сомнительна, или невообразима, – она невозможна. Развивая аргумент, он двигается последовательно:
Допустим, что какая угодно частица материи, большая или маленькая, вечна; мы найдем, что сама по себе она не может произвести ничего. <…> Значит, материя собственной силой не в состоянии произвести в себе даже движение; ее движение либо тоже должно проистекать от вечности, либо должно быть произведено или сообщено материи какой-нибудь иной, более могучей, чем материя, вещью <…> Но предположим, что движение также вечно; все же материя – немыслящая материя вместе с движением – никогда не могла бы произвести мысли, какие бы ни производила она изменения в форме и объеме: движение и материя так же не способны породить знание, как ничто, или небытие, не способно произвести материю. Пусть каждый спросит себя, не равно ли невозможно представить себе возникновение материи из небытия, а мысли из чистой материи, если не существует самой мысли или мыслящего существа?10
Интересно, что Локк считает «призыв обратиться к собственным мыслям» подходящим обоснованием этого «вывода». Он был уверен, что его «здравый смысл» был подлинно здравым и свойственным каждому. Разве мы не видим, сколь очевидно, что, хотя материя и движения могут изменять «форму и объем», им никогда не породить «мысль»? Не делает ли это невозможным существование роботов – или, по крайней мере, роботов, которые могли бы заявить, что помимо движения в их материальном «мозгу» возникают настоящие мысли? Несомненно, во времена Локка – они были также временами Декарта – сама идея искусственного интеллекта была настолько немыслимой, что Локк мог с уверенностью рассчитывать на единодушную поддержку читателей: сегодня его обращение вызвало бы лишь презрительный смех11. И, как мы увидим, концепция искусственного интеллекта, можно сказать, непосредственно наследует идеям Дарвина. Ее появление, которое сам Дарвин разве что не предсказал, сопровождалось одной из первых поистине впечатляющих демонстраций формальной мощи естественного отбора (легендарная программа для игры в шашки Артура Сэмюэля, о которой мы подробнее поговорим ниже). Как и эволюция, идея искусственного интеллекта вызывает отвращение у многих людей, которым следовало бы проявить больше понимания, что мы тоже увидим в следующих главах. Но вернемся к выводу Локка:
Так что если мы не хотим предположить ничего первичного или вечного, то материя не может иметь начало своего бытия; если мы хотим предположить одну материю вечной без движения, то движение не может иметь начала своего бытия; если мы хотим предположить первичными или вечными только материю и движение, то мысль может не иметь начала бытия. Ибо невозможно представить себе, чтобы материя, с движением или без него, могла первоначально иметь в себе и от самой себя чувство, восприятие и познание. Это очевидно из того, что в таком случае чувство, восприятие и познание должны быть свойством, вечно присущим материи и каждой ее частице12.
Итак, если Локк прав, первым возникает Разум – или, по крайней мере, он должен возникнуть одновременно с прочим. Он не может появиться позже, путем сочетания более скромных, лишенных сознания элементов. Это – совершенно светское, логичное (почти математическое!) обоснование центральной идеи иудео-христианской (а также мусульманской) космогонии: в начале было нечто разумное – как говорит Локк, «мыслящее существо». Традиционное представление о Боге как рациональном, мыслящем акторе, задумавшем и создавшем мир, получает здесь безоговорочное научное одобрение: предполагается, что отрицать его столь же невозможно, как и верность математической теоремы.
И до появления Дарвина так считали многие блестящие мыслители-скептики. Почти век спустя после Локка другой великий английский эмпирик, Дэвид Юм, вновь рассмотрел эту проблему на страницах одного из шедевров европейской философии, «Диалогов о естественной истории религии» (1779).
4. Юм попадает в девятку
Во времена Юма понятие «естественная религия» означало религию, обосновываемую естественными науками в противоположность «боговдохновенной» религии, основанной на «откровении» – мистическом опыте или ином источнике убеждений, не поддающемся рациональному рассмотрению. Если единственное основание вашей веры – нечто, что «Бог явил во сне», ваша религия не является естественной. Это различие не имело особого смысла до появления в XVII веке современной науки, когда сформировался (и начал соперничать с традиционным) новый стандарт обоснования любых убеждений. Началось все с вопроса:
Есть ли у ваших религиозных убеждений какие-нибудь научные основания?
Многие религиозные философы, решившие, что при прочих равных престиж научного мышления – желанный приз, приняли вызов. Сложно возразить против научного обоснования своих убеждений, если таковое возможно. Первое место среди предположительно научных подтверждений религиозных догматов было – тогда и ныне – отдано разнообразным версиям Довода от Замысла: среди явлений окружающего мира, которые мы можем объективно наблюдать, есть много таких, которые не являются (и по разным причинам не могут быть) случайными; они должны были быть сознательно спроектированы такими, а проект не может появиться без Конструктора; следовательно, должен существовать (сейчас или ранее) Конструктор, Бог – источник всех этих удивительных явлений.
Такой довод можно воспринять как альтернативный путь к сделанному Локком выводу: путь, на котором мы обращаемся к неким эмпирическим данным, а не просто апеллируем к непостижимости. Например, можно проанализировать конкретные особенности наблюдаемого нами замысла, чтобы наше восхищение мудростью Конструктора и уверенность, что все эти дива не могут быть плодом простой случайности, не были беспочвенными.
В «Диалогах» Юма три вымышленных персонажа спорят об этом с восхитительным остроумием и пылкостью. Клеант защищает Довод от Замысла и дает одну из самых красноречивых его формулировок13. Вот его вступительная речь:
Окиньте взором мир, рассмотрите его в целом и по частям: Вы увидите, что он представляет собой не что иное, как единую громадную машину, состоящую из бесконечного числа меньших машин, которые в свою очередь допускают дальнейшие подразделения, простирающиеся столь далеко, что проследить и объяснить их уже не могут ни человеческие чувства, ни человеческие способности. Все эти разнообразные машины и даже самые мельчайшие их части приспособлены друг к другу с такой точностью, которая приводит в восхищение всех, кто когда-либо созерцал их. Удивительное приспособление средств к целям, обнаруживаемое во всей природе, в точности сходно с продуктами человеческой изобретательности, человеческих замыслов, человеческой мысли, мудрости, человеческого разума, хотя и значительно превосходит их. Но коль скоро действия сходны, то по всем правилам аналогии мы приходим к выводу, что сходны также и причины и что, следовательно, творец природы имеет некоторое сходство с человеческим духом, хотя и обладает гораздо более обширными способностями, пропорциональными величию его творений. С помощью этого апостериорного аргумента, и только с его помощью, мы доказываем одновременно и существование Божества, и сходство его с человеческим духом, с человеческим интеллектом14.
Филон, скептик и противник Клеанта, готовясь опровергнуть аргумент, конкретизирует его. Предвосхищая знаменитый пример Пейли, он замечает: «Бросьте в каком-нибудь месте несколько кусочков железа, не придавая им никакой определенной формы, они никогда не расположатся так, чтобы образовать часы»15. Он продолжает: «Камни, известь и дерево никогда не образуют дома без содействия архитектора. Но идеи в человеческом духе в силу некоторого неизвестного, необъяснимого приспособления располагаются, как мы видим, так, что образуют план часов или дома. Таким образом, опыт доказывает, что первоначальный принцип порядка находится в духе, а не в материи»16.
Отметим, что Довод от Замысла основан на индуктивном умозаключении: где есть дым, есть и огонь, а где есть замысел, там есть и разум. Но эта логика сомнительна, замечает Филон, и человеческий интеллект —
…это не что иное, как один из принципов, одно из начал вселенной, так же как тепло или холод, притяжение или отталкивание и сотни других явлений, ежедневно наблюдаемых нами. <…> Но разве мы вправе умозаключать от части к целому?.. Разве можем мы, наблюдая рост волоса, узнать что-либо о происхождении человека?.. Какой особой привилегией обладают незначительные колебания мозга, называемые нами мышлением, чтобы его следовало сделать прообразом вселенной? <…> Удивительное заключение! Камень, дерево, кирпич, железо, медь не обнаруживают в данное время на этом крошечном земном шаре никакого порядка, никакого строя без посредства человеческого искусства, человеческих предначертаний, поэтому и вселенная не могла изначально достичь своего строя и порядка без помощи чего-нибудь подобного человеческому искусству17.
Кроме того, замечает Филон, если мы поставим на первое место разум с его «неизвестным, необъяснимым устройством», то лишь отложим решение вопроса:
И в том и в другом случае мы вынуждены подняться еще выше, чтобы найти причину той причины, которую ты определил как достаточную и окончательную. <…> Как же нам удовлетворительно ответить на вопрос о причине того Существа, которое ты считаешь Творцом природы, или, если придерживаться твоей системы антропоморфизма, о причине того мира идей, к которому ты сводишь мир материальный? Разве мы не можем на том же основании свести этот мир идей к другому миру идей или новому разумному началу? Но если даже мы остановимся здесь и не пойдем дальше, то спрашивается, какой смысл был нам идти и до сих пор? Почему бы нам не остановиться на материальном мире? Как можем мы быть удовлетворены, если не будем идти дальше in infinitum? И наконец, что за удовлетворение заключается в этом бесконечном движении все дальше и дальше?18
Клеант не может дать на эти риторические вопросы, за которыми маячат другие, еще более обескураживающие, удовлетворительный ответ. Он настаивает, что божественный разум подобен человеческому, и соглашается, когда Филон прибавляет: «И чем сильнее это сходство, тем лучше». Но тогда, упорствует Филон, совершенен ли божественный разум, «свободен ли от всякой ошибки, от всякого заблуждения, от всякой непоследовательности в его действиях»?19 Следует опровергнуть конкурирующую гипотезу:
И какое удивление должны мы почувствовать, когда увидим, что этот плотник – ограниченный ремесленник, подражавший другим и копировавший то искусство, которое лишь постепенно совершенствовалось в течение длинного ряда веков после бесчисленных попыток, ошибок, исправлений, размышлений и споров. Быть может, в течение вечности множество миров было изуродовано и испорчено, пока не удалась нынешняя система; быть может, при этом было потрачено много труда, сделано много бесплодных попыток и искусство миросозидания совершенствовалось в течение бесчисленных веков медленно и постепенно20.
Предлагая эту фантастическую альтернативу, словно бы предвосхищающую догадку Дарвина, Филон не воспринимает ее серьезно, а лишь в ходе полемики противопоставляет описанному Клеантом образу премудрого Демиурга. Для Юма она – лишь способ указать на ограниченность наших знаний: «Когда ставятся такие вопросы, кто может решить, где истина, или даже предположить, что является более вероятным среди огромного количества гипотез, которые могут быть предложены, и еще большего числа тех, которые могут быть созданы воображением»21. Фантазия буйствует, и с помощью ее порождений Филон ошеломляет Клеанта, создавая странные и смешные варианты его собственных гипотез и требуя объяснить, почему им следует предпочесть оригинал. «Почему же не могут соединиться несколько божеств ради составления плана вселенной и ее созидания? <…> А почему не стать и полным антропоморфистом? Почему не утверждать телесность божества или божеств, не приписывать им наличие глаз, носа, рта, ушей и т. д.?»22 В какой-то момент Филон предугадывает гипотезу Геи: вселенная
…имеет большое сходство с животным, или организованным, телом и, по-видимому, подчинена воздействию сходного жизненного и двигательного начала. Постоянный круговорот материи не производит в ней никакого беспорядка… Отсюда я заключаю, что мир – это живой организм (animal), а Божество – это душа мира, воздействующая на него и испытывающая воздействие с его стороны23.
А может быть, мир похож скорее на растение, а не животное?
Подобно тому как дерево роняет свои семена в окрестные поля и порождает новые деревья, так и великое растение – мир, или данная планетная система, порождает в себе особые семена, которые, будучи разбросаны в окружающем хаосе, разрастаются в новые миры. Например, комета есть семя мира24…
И напоследок еще более фантастическая гипотеза:
Брамины утверждают, что мир произведен неизмеримо большим пауком, который ткет всю эту сложную громаду из своих внутренностей, а затем уничтожает или весь мир, или любую из его частей, снова поглощая ее и сливая со своей сущностью. Такой вид космогонии кажется нам смехотворным, потому что паук – маленькая, презренная козявка, деятельность которой мы вряд ли примем когда-либо в качестве образца для всего мира. Но все-таки для нашего земного шара это новый вид аналогии, а если бы существовала планета, сплошь заселенная пауками (что весьма возможно), то там это заключение казалось бы столь же естественным и неоспоримым, как то, которое на нашей планете приписывает происхождение всех вещей преднамеренности и разуму, как это выяснил Клеант. Почему организованная система не может быть выткана из чрева настолько же хорошо, как из мозга, – это ему будет трудно удовлетворительно объяснить25.
Клеант отважно отражает эти атаки, но Филон находит пагубные изъяны в каждой новой версии его аргумента. Однако, как ни удивительно, в самом конце «Диалогов» Филон и Клеант достигают согласия:
Законным выводом из этого исследования является то, что… Если мы не удовлетворимся тем, что будем называть первую и верховную причину Богом или Божеством, а пожелаем разнообразить свои выражения, то как же иначе можем мы назвать ее, как не духом или мышлением, с которыми, как мы вправе предполагать, у нее есть значительное сходство?26
Несомненно, Филон в «Диалогах» – маска самого Юма. Почему Юм сдался? Опасаясь недовольства церкви? Нет. Юм понимал, что в его книге доказано наличие у Довода от Замысла, моста между наукой и религией, непоправимого дефекта, и позаботился о том, чтобы «Диалоги» были опубликованы после его смерти, в 1776 году, ровно затем, чтобы избежать преследований. Он отступил потому, что просто не мог вообразить иного объяснения целесообразности природы. Юм не понимал, как «удивительное приспособление средств к целям, обнаруживаемое во всей природе» может быть плодом случайного стечения обстоятельств – а если не случайность их породила, то что же?
Кто может нести ответственность за этот продуманный замысел, если не разумное божество? Филон – один из самых искусных и находчивых участников философских дискуссий, реальных или вымышленных, и в поисках альтернативы он вслепую наносит несколько удивительно точных ударов. В Восьмой части он выдумывает кое-что соблазнительно похожее на идею Дарвина (и некоторые более современные ее изводы) – за столетие до того, как та была сформулирована:
Вместо того чтобы предполагать, что материя бесконечна, как это делал Эпикур, предположим, что она конечна. Конечное число частиц способно лишь к конечному числу перемещений, и при вечной длительности должно произойти то, что всякий возможный порядок, всякое возможное расположение окажутся испробованы бесконечное число раз. <…> Существует ли какая-нибудь система, какой-нибудь порядок, какой-нибудь строй вещей, при помощи которых материя может сохранять вечное движение, являющееся, по-видимому, существенным для нее, и в то же время поддерживать известное постоянство в производимых ею формах? Очевидно, что подобный строй существует, ибо таково в действительности положение настоящего мира. Итак, постоянное движение материи должно произвести подобный порядок, или строй, в результате конечного числа перемещений; и по самой своей природе этот порядок, будучи раз установлен, должен поддерживать сам себя в течение многих веков, если не вечно. Но если материя уравновешена, устроена и приспособлена таким образом, что может пребывать в вечном движении и тем не менее сохранять постоянство в формах, то ее состояние необходимо должно обладать всеми теми внешними признаками искусства и преднамеренности, которые мы наблюдаем в настоящее время. <…> Какой-нибудь недочет в любом из указанных условий разрушает форму, и материя, из которой она составлена, снова освобождается и претерпевает различные неправильные движения, различные брожения до тех пор, пока снова не объединится в какую-либо другую правильную форму. <…> Предположим… что материя была приведена в какое-нибудь состояние слепой, ничем не руководимой силой; очевидно, что это первоначальное состояние должно быть, по всей вероятности, самым неустроенным и беспорядочным, какое только можно себе представить, и лишенным какого-либо сходства с теми произведениями человеческой изобретательности, которые наряду с симметрией частей обнаруживают приспособленность средств к целям и стремление к самосохранению <…> предположим, что действующая сила, какова бы она ни была, продолжает действовать на материю <…> Так вселенная продолжает существовать в течение многих веков при постоянной смене хаоса и беспорядка. Но нет ли какой-нибудь возможности, чтобы в конце концов она пришла в уравновешенное состояние…? Не вправе ли мы считать, более того, не можем ли мы быть уверены в том, что такое состояние произведено вечными переворотами ничем не руководимой материи? И не может ли это объяснять всю видимую мудрость и преднамеренность, проявляющуюся во вселенной?27
М-да, вроде бы что-то такое есть… Но Юм не мог воспринять всерьез дерзкую атаку Филона. Его окончательный вердикт: «В таких случаях единственный разумный исход для нас – полное воздержание от суждения»28. За несколько лет до него Дени Дидро также записал некоторые свои рассуждения, подозрительно напоминающие дарвиновские: «Могу тебе сказать… что чудовища уничтожали друг друга по порядку; что все неудачные сочетания материи исчезли, а сохранились лишь те, в строении которых не было каких-либо значимых противоречий, которые могли самостоятельно существовать и продолжить свой род»29. Проницательные догадки об эволюции высказывались на протяжении тысячелетий, но, как и в случае большинства философских идей, хотя и казалось, что они предлагают какое-то решение насущных проблем, они не открывали новых перспектив и областей исследования и не делали неожиданных предсказаний, которые можно было бы проверить. И они не объясняли чего-либо помимо тех фактов, для объяснения которых они и были сформулированы. Эволюционной революции пришлось подождать, пока Чарлз Дарвин не увидел, как сделать гипотезу об эволюции наглядным объяснением, объединившим буквально тысячи непросто давшихся и зачастую удивительных фактов о природе. Дарвин не в одиночку изобрел эту удивительную идею и, сформулировав, так и не понял ее во всей полноте. Но он проделал столь грандиозный труд, проясняя идею и связывая ее, чтобы та уже никогда больше не упорхнула, что, если кто и заслуживает славы первооткрывателя, то это он. В следующей главе мы скажем об основных его свершениях.
ГЛАВА 1: До Дарвина в философии господствовала концепция примата Разума; разумное божество считалось конечным источником Замысла, окончательным ответом на любую цепь «зачем?». Даже Дэвид Юм, умело раскрывший неразрешимые проблемы, связанные с таким представлением о мире, и смутно предугадывавший дарвиновскую альтернативу, не понимал, что с ней делать.
ГЛАВА 2: Дарвин, намеревавшийся ответить на сравнительно скромный вопрос о происхождении видов, описал процесс, названный им естественным отбором: процесс бессознательный, не имеющий цели и механический. Из этого семени появился ответ на более значимый вопрос: как возник Замысел?
Глава вторая
РОЖДЕНИЕ ИДЕИ
1. Что особенного в видах?
Чарлз Дарвин не собирался выводить Джона Локка из теоретического тупика или искать впечатляющую космологическую гипотезу, ускользнувшую от Юма. Сформулировав свою великую идею, он осознал, что она и в самом деле приведет к такому поистине радикальному перевороту, но изначально у него и в мыслях не было отвечать на вопрос о смысле – или даже происхождении – жизни. Цель была немного скромнее: он хотел объяснить происхождение видов.
К тому времени натуралисты накопили горы заманчивых фактов о живых организмах и сумели разработать несколько способов их систематизации. В результате были сформулированы две важные загадки30. Во-первых, совокупность открытий, касавшихся адаптации организмов, что так занимали юмовского Клеанта: «Все эти разнообразные машины и даже самые мельчайшие их части приспособлены друг к другу с такой точностью, которая приводит в восхищение всех, кто когда-либо созерцал их»31. Во-вторых, невероятное разнообразие живых существ – буквально миллионы различных видов растений и животных. Почему их так много?
Это разнообразие в строении организмов было в некоторых отношениях не менее поразительным, чем их совершенство, и еще поразительнее были закономерности, которые прослеживались в этом разнообразии. Существовали тысячи стадий и вариаций в развитии организмов, а также зияющие пропасти между ними. Некоторые птицы и млекопитающие могли плавать, словно рыбы, но ни у одного вида не наблюдалось жабр; существовали собаки с телами самых разных размеров и форм, но не было собакокотов, собакокоров или пернатых собак. Закономерности требовали классификации, и ко времени Дарвина труды великих систематиков (для начала взявших за исходную точку и исправивших древние классификации Аристотеля) увенчались созданием подробной иерархии двух царств (растительного и животного), разделенных на типы, в свою очередь делившиеся на классы, за которыми следовали отряды, семейства, роды и, наконец, виды. Разумеется, виды тоже можно разделить на подвиды или разновидности: кокер-спаниель и бассет – разные подвиды вида «собаки», Canis familiaris.
Сколько существует различных видов организмов? Поскольку нет двух в точности похожих друг на друга – различаются даже однояйцевые близнецы, – то различных видов столько же, сколько и живых организмов. Однако очевидно, что различия можно классифицировать, рассортировать на важные и незначительные, или случайные и сущностные. Так учил Аристотель, и этим философским принципом руководствовались все – от кардиналов до химиков и лоточников32. У любого предмета (а не только живого организма) есть два вида качеств: сущностные, без которых предмет не будет относиться к определенному виду вещей, и случайные, которые могут быть разными у представителей одного вида. Слиток золота может сколько угодно менять форму, оставаясь при этом золотом: золотом его делают сущностные качества, а не случайные. Предполагалось, что у каждого вида есть некая сущность. Сущности определяют вид и являются вневременными, неизменными и не допускающими градаций. Не бывает в некоторой степени серебра, или квазизолота, или полумлекопитающего.
Аристотель разработал теорию сущностей в стремлении усовершенствовать платоновское учение об идеях, согласно которому каждая вещь на земле является своего рода несовершенной копией или отражением идеального образца или формы, которая существует вне времени в платоновском мире идей, где правит Бог. Эти платоновские небеса абстракций были, разумеется, невидимы, но доступны Разуму и дедуктивному мышлению. Например, геометры размышляли и доказывали теоремы о формах круга и треугольника. Поскольку существовали также формы орла и слона, возможна была и дедуктивная наука о природе. Но подобно тому как ни одна окружность на земле, сколько ни вычерчивай ее циркулем и не раскручивай гончарный круг, не может стать одной из совершенных окружностей евклидовой геометрии, так и настоящий орел не может быть совершенным проявлением орлиности, хотя каждый орел к этому стремится. У всего существующего есть божественный образец, отражающий сущность предмета. Таким образом, Дарвин унаследовал классификацию живых организмов напрямую (при посредничестве Аристотеля) у платоновского эссенциализма. По сути дела, само слово «вид» в какой-то момент было шаблонным переводом греческого термина, означающего «форма» или «идея», – слова εἶδος.
Мы, наследники Дарвина, так привыкли думать о развитии форм жизни в исторической перспективе, что нам требуется сознательное усилие, чтобы не забывать о господствовавшем во времена Дарвина убеждении, будто биологические виды существуют вне времени, подобно совершенным треугольникам и кругам евклидовой геометрии. Отдельные особи рождались и умирали, но сам вид пребывал неизменным. То было частью философского наследия, но не бессмысленной и необоснованной догмой. Победы современной науки со времен Коперника и Кеплера, Декарта и Ньютона предполагали применение точной математики к материальному миру, а это, несомненно, требует абстрагирования от неряшливых случайных качеств вещей с целью нахождения их тайной математической сущности. Цвет или форма вещи неважны, когда речь идет о том, подчиняется ли она ньютоновскому закону всемирного тяготения: значение имеет лишь масса. Равным образом, химики победили алхимиков, стоило им сформулировать фундаментальную аксиому: существует ограниченное число базовых, неизменных химических элементов (углерод, кислород, водород, железо и т. д.), которые можно смешивать и соединять в бесконечном числе сочетаний; однако исходные элементы можно выделить благодаря их неизменным сущностным качествам.
Учение о сущностях кажется действенным способом систематизации явлений, относящихся ко множеству областей знания, но срабатывает ли этот принцип в каждой классификации, которую мы можем разработать? Есть ли сущностные различия между холмами и горами, снегом и градом, особняками и дворцами, скрипками и альтами? Джон Локк и другие мыслители разработали сложные учения, различающие подлинные и всего лишь номинальные сущности; последние просто паразитируют на именах или словах, которые мы решаем использовать. Можно ввести любую классификационную схему: например, члены клуба любителей собак могут голосованием утвердить список условий, которым собака должна удовлетворять, чтобы считаться настоящим клубным спаниелем, но здесь сущность будет лишь номинальной, а не подлинной. Подлинные сущности выявляются в ходе научного исследования внутренней природы вещей, где сущностные и случайные свойства можно различить, опираясь на конкретные принципы. Сложно сказать, каковы принципиальные принципы, но, раз химия и физика так замечательно согласуются друг с другом, казалось разумным предположить также и существование определяющих признаков подлинных сущностей живых организмов.
Если исходить из этого восхитительно внятного и систематического представления об иерархии живых существ, мы столкнемся с некоторым количеством несообразностей и загадок. Натуралистов эти очевидные исключения тревожили почти так же сильно, как геометра всполошило бы открытие треугольника с суммой углов не вполне равной 180°. Хотя многие таксономические границы были точно установлены и, по всей видимости, не предусматривали исключений, существовали всевозможные промежуточные виды, не поддававшиеся классификации: казалось, они причастны более чем одной сущности. Существовали также любопытные примеры общих и уникальных видовых черт более высокого порядка: почему птиц и рыб объединяет наличие позвоночника, а не перьев, и почему понятия зрячее животное или хищник не являются столь же важными основаниями для классификации, как и теплокровное животное? Хотя вопрос об общих принципах систематизации и большинстве характерных видовых особенностей был уже решен (и, разумеется, сегодня больше не поднимается), спорные случаи становились предметом жарких дебатов. Являются ли все эти ящерицы членами одного вида или нескольких разных? Какой принцип классификации следует «принимать в расчет»? Какая система способна, говоря знаменитыми словами Платона, «рассекать на виды, согласно естественным членениям, стараясь не повредить отдельные части, как порой получается у грубого мясника»33?
До Дарвина эти дискуссии отличала фундаментальная рассогласованность и невозможность прийти к точному, обоснованному ответу, ибо не существовало базовой теории, которая объясняла бы, почему одна схема классификации разделяет все на естественные составные части правильно, в соответствии с подлинной природой вещей. С такой же рассогласованностью сталкиваются современные книжные магазины: как соотнести разные категории книг – бестселлеры, научную фантастику, ужасы, руководства по садоводству, биографии, романы, собрания сочинений, литературу о спорте, иллюстрированные издания? Если ужасы – жанр художественной литературы, то возникает вопрос о документальных триллерах. Все ли романы представляют собой художественный вымысел? Если так, то продавец не может вслед за автором назвать «Хладнокровное убийство» Трумена Капоте (1965) «журналистским романом». Но эту книгу не назовешь ни биографией, ни историческим произведением. На какую полку магазина поместить произведение, которое вы сейчас читаете? Очевидно, правильного способа категоризации книг не существует – в этой области сущности могут быть лишь номинальными. Но многие натуралисты были в целом убеждены, что в число выделенных категорий Естественной системы живых организмов входят и подлинные сущности. Как писал сам Дарвин: «Они думают, что в ней выражается план Творца; но пока не будет определено, что разуметь под планом творца – известный ли порядок во времени или в пространстве, или во времени и пространстве, или еще что-либо другое, мне кажется, что это утверждение ни в какой мере не увеличивает наших знаний»34.
Иногда в научной проблеме легче разобраться, усложнив ее. Развитие геологии и находки ископаемых останков представителей несомненно вымерших видов еще больше смутили систематиков, став, однако, тем самым кусочком головоломки, что позволил Дарвину, работавшему плечом к плечу с другими учеными, найти ключ к решению: виды не были вечными и неизменными; они эволюционировали с течением времени. В отличие от атомов углерода, которые, насколько было известно, всегда сохраняли наблюдаемую ныне форму, виды появлялись, исчезали и, в свою очередь, могли порождать новые виды. Сама по себе идея была не нова: ее многочисленные изводы серьезно обсуждались со времен Древней Греции. Но принять ее мешал фундаментальный платонический предрассудок: сущности являются неизменными, вещь не может изменить свою сущность, появление новых сущностей невозможно (кроме, конечно, исключительных случаев прямого божественного вмешательства). Превращение рептилий в птиц казалось столь же невозможным, сколь и превращение меди в золото.
Сегодня нам сложно воспринять это убеждение, но тут на помощь приходит воображение: представьте, как бы вы отнеслись к теории, стремящейся доказать, что число 7 некогда – очень, очень давно – было четным и постепенно стало нечетным, обмениваясь какими-то качествами с предками числа 10 (некогда бывшего простым). Разумеется, это полная чушь. Просто уму непостижимо. Дарвин знал, что такое представление глубоко укоренилось в сознании его современников и что потребуется приложить огромные усилия для его преодоления. Действительно, он более или менее признавал, что его старшие, авторитетные коллеги, вероятнее всего, окажутся столь же непоколебимы, сколь и виды, в которые они верили, и в заключении своей книги зашел так далеко, что попросил о поддержке более молодых читателей: «Тот, кто убедится, что виды являются изменчивыми, окажет хорошую услугу, добросовестно высказав свое убеждение; только таким образом будет сдвинута с места та масса предрассудков, которая тяготеет над этим вопросом»35.
Даже сегодня не все смирились с осуществленным Дарвином ниспровержением эссенциализма. Например, современные философы бурно обсуждают проблему «естественных видов»: этот старинный термин был очень осторожно воскрешен У. В. О. Куайном исключительно для того, чтобы отличить хорошие научные категории от плохих. Но в произведениях других философов маску «естественного вида» нередко носит подлинная сущность. Мы все еще томимся по эссенциализму – и не всегда безосновательно. Наука и в самом деле стремится рассекать на виды согласно естественным членениям, и часто кажется, что для этого нужно представление о сущностях или чем-то подобном. В этом согласны меж собой представители двух великих философских держав – платоники и аристотелики. Но дарвиновская изменчивость, что поначалу кажется лишь новым способом размышлять о биологических видах, может, как мы увидим, распространяться на другие явления и дисциплины. В биологии и иных областях знания есть сложные проблемы, легко разрешающиеся, стоит лишь усвоить дарвиновские представления о том, что делает вещь самой собой; однако консерваторы продолжают возражать против этой идеи.
2. Естественный отбор – грубое преувеличение
Убеждение, будто таким образом сформировался павлиний хвост, будет грубым преувеличением; но я все же убежден, что в несколько измененном виде тот же принцип применим к человеку.
Чарлз Дарвин 36
Планы Дарвина относительно «Происхождения видов» можно разделить на две части: его целью было доказать, что, преобразовавшись, ранее существовавшие виды породили современные (то есть что виды эволюционируют), и показать, как проходил этот процесс «наследования с изменением». Не будь у Дарвина представления о механизме – естественном отборе, – посредством которого могла свершиться эта почти немыслимая историческая трансформация, у него, вероятно, не было бы стимула собирать все косвенные доказательства того, что она имела место. Сегодня мы довольно легко можем представить, как Дарвин решает первую задачу – доказывает незатейливый исторический факт наследования с изменением, – не увязывая его ни с какими соображениями касательно Естественного отбора или какого бы то ни было иного механизма, благодаря которому этот факт свершился; но для Дарвина такой механизм был одновременно необходимой охотничьей лицензией и непогрешимым руководством, подсказывающим, какие вопросы задавать37.
Сама по себе идея естественного отбора была не удивительной новинкой, выдуманной Дарвином, а скорее развитием идей, высказанных ранее и на протяжении лет или даже поколений бывших предметом жарких дебатов38. Среди этих идей центральной была догадка, возникшая у Дарвина, когда он обдумывал «Очерк о законе народонаселения» Томаса Мальтуса (1798). Мальтус настаивал, что, учитывая невероятную плодовитость людей, взрывной рост населения и голод неизбежны – если не будут приняты решительные меры. Мрачные мальтузианские представления об общественных и политических силах, которые можно было бы задействовать, чтобы предотвратить перенаселение, могли сильно повлиять на размышления Дарвина (и, вне всякого сомнения, повлияли на поверхностные нападки множества его противников), но идея, которую он позаимствовал у Мальтуса, была чисто логической. Она не имела ничего общего с политической идеологией и может быть сформулирована в весьма общем, абстрактном виде.
Представим себе мир, где живые организмы приносят многочисленное потомство. Так как эти потомки будут, в свою очередь, приносить многочисленный приплод, популяция будет расти и расти (в «геометрической прогрессии») до тех пор, пока, раньше или позже, – на деле, удивительно быстро – ей неизбежно не перестанет хватать доступных ресурсов (пищи, пространства и прочего, в чем живые организмы нуждаются, чтобы просуществовать достаточно долго и размножиться). В этот момент – когда бы он ни настал – потомство появится не у всех: многие останутся бездетными. Именно Мальтус указал на математическую неизбежность такого критического момента для любой в течение длительного периода воспроизводящейся популяции – людей, животных или растений (или, к примеру, марсианских машин-клонов, хотя такие причудливые варианты Мальтус и не обсуждал). Популяции, чья скорость размножения ниже, чем необходимо для воспроизводства, исчезнут, если тенденция не изменится. Если популяция в течение долгого времени сохраняет стабильную численность, она продолжит существование, поддерживая баланс между перепроизводством потомства и убылью численности в результате неблагоприятных изменений среды. Вероятно, это очевидно в случае домашних мух и других созданий, размножающихся с большой скоростью, но Дарвин доказывает свой тезис, самостоятельно подсчитывая: «Считается, что из всех известных животных наименьшая воспроизводительная способность у слона, и я старался вычислить вероятную минимальную скорость естественного возрастания его численности… через пятьсот лет от одной пары получилось бы около пятнадцати миллионов живых слонов»39. Поскольку слоны существуют уже миллионы лет, можно с уверенностью заключить, что в любом поколении лишь некоторые особи имели собственное потомство.
Следовательно, для любого вида нормальным положением дел будет такое, когда численность потомства в любом поколении будет выше, чем численность особей, которые дадут потомство в следующем поколении. Иными словами, момент почти всегда – критический40. Кому из потенциальных родителей «повезет» в этот период? Будет ли то справедливая лотерея, в которой у каждого организма равные шансы вытянуть счастливый билет? Если бы мы говорили о политике, то именно здесь зашла бы речь об общественном расслоении: власти, привилегиях, вероломстве, классовой борьбе и прочем, – но можно абстрагироваться от политического контекста и, подобно Дарвину, беспристрастно рассмотреть вопрос о том, что произойдет – должно произойти – в природе. Дарвин сделал два дополнения к почерпнутой у Мальтуса догадке: во-первых, если между участниками соревнования есть существенные различия, то в период катастрофы любое преимущество в гонке неизбежно отразится на том, кто именно размножится. Сколь бы незначительным ни было это преимущество, если оно является преимуществом (и, следовательно, природа его замечает), то склонит чашу весов в пользу своего обладателя. Во-вторых, если бы существовал «сильный принцип наследственности» (если бы потомок был склонен напоминать скорее своих родителей, чем их современников), смещение, обеспечиваемое преимуществами, сколь угодно малыми, со временем бы усилилось, порождая черты, способные к неограниченному развитию. «Рождается более особей, чем может выжить. Песчинка на весах может определить жизнь одной особи и смерть другой, какая разновидность или какой вид будут увеличиваться в числе и какие пойдут на убыль или окончательно исчезнут»41.
Дарвин заметил, что, если просто предположить применимость этих немногих общих условий (условий, существование которых он мог подтвердить многочисленными доказательствами) к моменту катастрофы, то в результате чаша весов неизбежно склонится в пользу тех представителей будущих поколений, которые лучше подготовлены к решению связанных с ограниченностью ресурсов проблем, с которыми столкнулись их родители. Эта фундаментальная идея – опасная идея Дарвина, идея, ставшая источником стольких озарений, неразберихи, замешательства, опасений, – на деле весьма проста. Дарвин резюмирует ее в двух длинных предложениях в конце четвертой главы «Происхождения видов».
Если при меняющихся условиях жизни органические существа представляют индивидуальные различия почти в любой части своей организации, а это оспаривать невозможно; если в силу геометрической прогрессии возрастания численности ведется жестокая борьба за жизнь в любом возрасте, в любой год или время года, а это, конечно, неоспоримо; если вспомнить бесконечную сложность отношений органических существ (как между собой, так и к их жизненным условиям), в силу которых бесконечное многообразие строения, конституции и привычек полезно для этих существ; если принять все это во внимание, то крайне невероятно, чтобы никогда не встречались вариации, полезные каждому существу для его собственного благополучия, точно так же, как встречались многочисленные вариации, полезные для человека. Но если полезные для какого-нибудь органического существа вариации когда-либо встречаются, то особи, характеризующиеся ими, конечно, будут обладать наибольшей вероятностью сохранения в борьбе за жизнь, а в силу строгого принципа наследственности они обнаружат наклонность производить сходное с ними потомство. Этот принцип сохранения, или выживания наиболее приспособленного, я назвал Естественным отбором42.
Это и было великой идеей Дарвина – представление не об эволюции, а об эволюции посредством естественного отбора; сам он так и не смог изложить эту идею достаточно строго и обстоятельно, хотя и представил блестящие доводы в ее пользу. В следующих двух параграфах мы поговорим о любопытных и исключительно важных деталях этой краткой формулировки.
3. Объяснил ли Дарвин происхождение видов?
Дарвин блестяще и триумфально справился с проблемой адаптации, но с вопросом разнообразия не вполне преуспел, хотя и дал своей книге заглавие, намекавшее на эту относительную неудачу, – происхождение видов.
Стивен Джей Гулд 43
Так, по моему мнению, объясняется важный факт естественного распределения организмов в группы, подчиненные одна другой, – факт, который вследствие своей обычности мало обращает на себя наше внимание.
Чарлз Дарвин 44
Заметим, что в своей формулировке Дарвин ничего не говорит о видообразовании: в центре его внимания приспособление организмов, их совершенство, а не разнообразие. Более того, на первый взгляд в этом заявлении разнообразие видов берется как исходная посылка: «…бесконечная <sic> сложность отношений органических существ (как между собой, так и к их жизненным условиям)». Это громадная (если и не вправду бесконечная) сложность обеспечивается одновременным существованием (и борьбой за жизненное пространство) значительного количества различных живых организмов со значительным количеством различных потребностей и стратегий. Дарвин даже не претендовал на то, чтобы дать объяснение происхождения первых видов или самой жизни; он начинает с середины, когда уже существует множество разных видов со множеством разных способностей, и заявляет, что там, на полпути, описываемый им процесс будет неизбежно совершенствовать и разнообразить способности уже существующих видов. Появятся ли в результате этого процесса другие виды? В приведенной формулировке об этом ни слова, но книга более красноречива. На деле Дарвин видел, что его идея одним махом объясняет два удивительных факта. Возникновение адаптаций и разнообразия были разными сторонами одного сложного явления, и принцип естественного отбора, по его словам, мог их объединить.
Естественный отбор неизбежно приводит к приспособленности, как ясно из приведенной формулировки, и, по утверждению Дарвина, в правильных условиях накопление адаптаций приведет к видообразованию. Дарвин прекрасно знал, что объяснить мутацию не значит объяснить появление вида. Животноводы, у которых он столь усердно учился, знали, как добиться многообразия в рамках одного вида, но, по всей видимости, никогда не создавали нового вида и высмеивали саму идею, будто у их особенных, различных пород животных может быть один предок. «Спросите, как я это делал не раз, у какого-нибудь известного селекционера герефордского скота, не могла ли его порода произойти от длиннорогого скота… и он подымет вас на смех». Почему? Потому что «вследствие продолжительного изучения специалисты слишком увлекаются различиями между разными расами; и хотя они очень хорошо знают, что каждая раса слегка изменяется, так как сами же получают призы благодаря отбору таких слабых различий, отказываются от всяких обобщений, в частности от суммирования в уме слабых различий, накапливавшихся на протяжении многих последовательных поколений»45.
Дальнейшее разделение на виды будет происходить, утверждал Дарвин, поскольку, если в популяции (одного вида) существует многообразие наследуемых навыков или приспособлений, эти различные навыки или приспособления будут склонны давать различным группам внутри популяции различные преимущества, и потом эти субпопуляции будут отличаться друг от друга все больше, каждая в погоне за своей конкретной излюбленной формой совершенства, до тех пор пока, в конце концов, их пути не разойдутся окончательно. Почему – размышлял Дарвин – это расхождение приводит к разделению или накапливанию вариаций вместо того, чтобы оставаться более или менее равномерным «веером» небольших различий? Одним из ответов на вопрос была элементарная географическая изоляция; когда значительное геологическое или климатическое изменение (или случайное переселение в изолированный ареал обитания – например, на остров) приводит к расколу популяции, характерные особенности конкретной окружающей среды со временем должны отразиться в различных полезных мутациях, которые можно наблюдать в двух популяциях. А стоит вариации закрепиться, как различия будут накапливаться вплоть до разделения популяций на самостоятельные виды. Другая, и довольно необычная, идея Дарвина состояла в том, что к внутривидовой борьбе обычно применим принцип «победитель получает все»:
Не следует забывать, что конкуренция будет всего упорнее между формами, наиболее близкими по строению, конституции и образу жизни. Отсюда склонность к исчезновению будут иметь все промежуточные формы; а именно между ранними и более поздними состояниями, или, иначе, между менее совершенными и более совершенными состояниями одного и того же вида, а равно и сам родоначальный вид46.
Он сформулировал ряд иных оригинальных и правдоподобных догадок о том, как и почему безжалостная выбраковка естественного отбора может и в самом деле установить межвидовые границы, но они и по сей день остаются догадками. Потребовалось столетие дальнейших исследований, чтобы блестящие, но незавершенные размышления Дарвина о механике видообразования получили определенное подтверждение. Споры о механизме и принципах видообразования еще ведутся, так что в каком-то смысле ни Дарвин, ни кто-либо из его последователей не объяснили происхождение видов. Как отметил генетик Стив Джонс, опубликуй сегодня Дарвин свой шедевр под тем же заглавием, «у него были бы проблемы с законом об описании товаров, ибо о чем в „Происхождении видов“ не говорится, так это о происхождении видов. Дарвин ничего не знал о генетике. Теперь нам известно многое, и хотя то, как появляется вид, остается загадкой, некоторые кусочки головоломки уже легли на свои места»47.
Но сам факт видообразования неопровержим, как показал Дарвин, собрав неотразимые доводы – буквально сотни досконально изученных и тщательно аргументированных примеров. Виды образуются посредством «наследования с изменением» от ранее существовавших видов, а не путем Творения. Так что в другом смысле Дарвин, бесспорно, объяснил происхождение видов. Какие бы механизмы ни действовали, все, очевидно, начинается с появления разнообразия внутри одного вида и, после накопления модификаций, заканчивается рождением нового вида – наследника предыдущего. Все начинается «хорошо выраженной разновидностью», но постепенно, «стоит [только] допустить, что эти ступени в процессе модификации будут более многочисленными или большими по размерам, чтобы эти три формы превратились в сомнительные или даже во вполне определенные виды»48.
Заметим, что Дарвин с осторожностью описывает итог процесса как создание «вполне определенного» вида. «В конце концов, – говорит он, – различие становится столь значительным, что нет оснований отрицать наличие двух разных видов, а не двух разных форм одного вида». Но он отказывается участвовать в традиционной игре и заявлять, в чем состоит «сущностное» различие:
Из всего сказанного ясно, что термин «вид» я рассматриваю как произвольный, присвоенный ради удобства для обозначения близко сходных между собою особей и не отличающийся в основном от термина «разновидность», которым обозначают менее отчетливые и более флюктуирующие формы49.
Одним из стандартных признаков, позволяющих отличать виды друг от друга, как прекрасно понимал Дарвин, является репродуктивная изоляция – невозможность скрещивания. Именно скрещивание воссоединяет различные группы, образовавшиеся внутри популяции, перемешивая их гены и «прерывая» процесс видообразования. Конечно же, не существует того, кто желает, чтобы видообразование состоялось50, но чтобы случился окончательный развод, означающий формирование нового вида, ему должен предшествовать какой-то период «раздельного проживания», когда случаи скрещивания по той или иной причине становятся реже, так что в этих популяциях накапливается еще больше различий. Критерий репродуктивной изоляции, скорее, неопределенен. Принадлежат ли организмы к разным видам, когда скрещивание невозможно – или когда оно просто не происходит? Считается, что волки, койоты и собаки – разные виды, но случаи скрещивания между ними известны и – в отличие от мула, результата скрещивания кобылы и осла, – их отпрыски обычно не стерильны. Таксы и ирландские волкодавы считаются представителями одного вида, но, если только владельцы не создадут этим собакам какие-то в высшей степени неестественные условия, шансов на скрещивание у них примерно столько же, сколько у летучей мыши с дельфином. Белохвостые олени из Мэна не скрещиваются с белохвостыми оленями Массачусетса, ибо не перемещаются на такие дистанции, но вполне могли бы, если бы их перевезли, и, естественно, принадлежат эти животные к одному виду.
И наконец – подлинный пример, который, кажется, создан специально для философов, – возьмем серебристых чаек, живущих в Северном полушарии: их ареал обитания широкой полосой окружает Северный полюс.
Наблюдая за серебристыми чайками, проживающими на территории от Великобритании до Северной Америки, мы видим, что к западу популяция слегка меняется: американские чайки – это чайки, но немного отличающиеся от английских. Продолжая движение, мы заметим, что постепенные изменения наблюдаются и дальше: в Сибири серебристая чайка больше похожа на птицу, которую в Великобритании называют клушей. При движении по Сибири, России и вплоть до границ Северной Европы обнаружится, что чайки все больше и больше похожи на английских клуш. Наконец, в Европе круг замкнется: две отдельные формы встречаются, чтобы образовать два совершенно полноценных вида: серебристая чайка и клуша выглядят по-разному и в природе не скрещиваются51.
«Отчетливо выраженные» виды, несомненно, существуют – задача книги Дарвина состоит в объяснении их происхождения, – но сам автор препятствует попыткам отыскать «принципиальное» определение понятия вида. Разновидности – продолжает он настаивать – всего лишь «зарождающиеся виды», и обычно две разновидности становятся видами не из‐за присутствия чего-либо (например, новой сущности для каждой группы), а из‐за отсутствия: некогда существовавшие промежуточные вариации (которые можно было бы назвать переходными этапами) в конце концов вымирают, оставляя две группы фактически репродуктивно изолированными, а также отличающимися друг от друга по своим характеристикам.
В «Происхождении видов» излагается чрезвычайно убедительное доказательство первого дарвиновского тезиса – исторического факта эволюции как причины происхождения видов, и соблазнительно наглядное свидетельство в пользу второго тезиса – что фундаментальным механизмом, ответственным за «наследование с изменением», является естественный отбор52. Здравомыслящие читатели просто не могли более сомневаться, что виды эволюционировали в течение невероятно продолжительного времени, как утверждал Дарвин, но преодолеть добросовестный скептицизм относительно предложенного им механизма естественного отбора было сложнее. Прошедшие годы увеличили доверие к обоим тезисам, но не изгладили разницу между ними53. Свидетельств в пользу эволюции предостаточно: не только из области геологии, палеонтологии, биогеографии и анатомии (бывших основными источниками материала для Дарвина), но и из молекулярной биологии и любой другой отрасли наук о жизни. Говоря начистоту, сегодня любой человек, сомневающийся в том, что разнообразие жизни на планете порождено процессом эволюции, – просто невежда; в мире, где трое из четырех научились читать и писать, у такого невежества нет оправданий. Однако сомнения в способности дарвиновской идеи естественного отбора объяснить этот эволюционный процесс остаются интеллектуально оправданными, хотя, как мы увидим, подобный скептицизм становится все сложнее обосновать.
Итак, хотя в своих исследованиях эволюции Дарвин вдохновлялся и руководствовался идеей естественного отбора, окончательный результат изменил порядок обоснования: Дарвин так убедительно доказал, что виды должны были эволюционировать, что затем смог использовать этот результат для обоснования более радикальной идеи – идеи естественного отбора. Он описал механизм или процесс, который, согласно его доводам, мог иметь все эти последствия. Скептикам был брошен вызов: смогут ли они доказать ошибочность дарвиновских аргументов? Смогут ли они показать, что естественный отбор не мог иметь описанных последствий?54 Или смогут ли они хотя бы описать другой процесс, у которого были бы те же результаты? Что еще может привести к эволюции, если не описанный Дарвином механизм?
Этот вызов, по сути, выворачивает наизнанку затруднение Юма. Юм сдался, поскольку не мог вообразить, как что-либо кроме Разумного Демиурга смогло бы стать причиной приспособлений, доступных наблюдению каждого. Или, точнее, Филон Юма вообразил несколько разных альтернатив, но Юм просто не мог воспринять их всерьез. Дарвин описывал, как Неразумный Демиург мог за огромный период времени создать все эти приспособления, и доказал, что некоторые промежуточные стадии, которые для этого потребовались бы, и в самом деле имели место. Брошенный воображению вызов изменился: при всех указанных Дарвином красноречивых признаках исторического процесса – так сказать, всех мазках кисти художника, – может ли кто-нибудь теперь вообразить, как все эти последствия породил какой-либо другой процесс кроме процесса естественного отбора? Бремя доказательства так решительно было им переложено, что ученые зачастую обнаруживают, что столкнулись с чем-то вроде зеркального отражения затруднения Юма. Столкнувшись с, на первый взгляд, убедительным возражением против естественного отбора, которое невозможно проигнорировать (ниже мы поговорим о наиболее ярких примерах подобных возражений), они склонны рассуждать следующим образом: Я (пока что) не понимаю, как опровергнуть это возражение или преодолеть это затруднение, но, поскольку я не могу вообразить, что еще кроме естественного отбора может привести к подобным результатам, мне придется допустить, что возражение это мнимое; так или иначе естественного отбора должно быть вполне достаточно для объяснения.
Прежде чем кто-нибудь набросится на меня и возопит, что я только что признал дарвинизм столь же бездоказательной верой, как и естественная религия, следует вспомнить, что существует фундаментальное различие: принеся клятву верности естественному отбору, эти ученые затем принимали на себя обязанность показать, как можно преодолеть сложности, вытекающие из их мировоззрения, и снова и снова преуспевали в этом. В процессе фундаментальная дарвиновская идея естественного отбора по-разному формулировалась, расширялась, прояснялась, взвешивалась и углублялась – каждое разрешенное затруднение делало ее сильнее. С каждым новым триумфом ученые все больше убеждались, что они на верном пути. Разумно полагать, что в результате таких непрестанных атак ложная идея к настоящему моменту уже неизбежно была бы повержена. Конечно, это не окончательное доказательство, а всего лишь весьма убедительное соображение. Одна из целей этой книги – объяснить, почему идея естественного отбора представляется явным победителем несмотря даже на то, что в некоторых случаях существуют неразрешенные проблемы с ее применением.
4. Естественный отбор как алгоритмический процесс
Какой предел может быть положен этой силе, действующей в течение долгих веков и строго исследующей всю конституцию и образ жизни каждого существа, благоприятствуя полезному и отвергая вредное? Я не усматриваю предела деятельности этой силы, медленно и прекрасно адаптирующей каждую форму к самым сложным жизненным отношениям.
Чарлз Дарвин 55
Второе, на что следует обратить внимание в формулировке Дарвина, – то, что он излагает свой закон в виде формального дедуктивного вывода: если условия выполняются, определенный результат неизбежен56. Приведем ее снова, выделив некоторые ключевые термины жирным шрифтом.
Если при меняющихся условиях жизни органические существа представляют индивидуальные различия почти в любой части своей организации, а это оспаривать невозможно; если в силу геометрической прогрессии возрастания численности ведется жестокая борьба за жизнь в любом возрасте, в любой год или время года, а это, конечно, неоспоримо; если вспомнить бесконечную сложность отношений органических существ (как между собой, так и к их жизненным условиям), в силу которых бесконечное многообразие строения, конституции и привычек полезно для этих существ; если принять все это во внимание, то крайне невероятно, чтобы никогда не встречались вариации, полезные каждому существу для его собственного благополучия, точно так же, как встречались многочисленные вариации, полезные для человека. Но если полезные для какого-нибудь органического существа вариации когда-либо встречаются, то особи, характеризующиеся ими, конечно, будут обладать наибольшей вероятностью сохранения в борьбе за жизнь, а в силу строгого принципа наследственности они обнаружат наклонность производить сходное с ними потомство. Этот принцип сохранения, или выживания наиболее приспособленного, я назвал Естественным отбором57.
Основной дедуктивный аргумент краток и прост, но сам Дарвин писал о «Происхождении видов» как о «едином длинном доказательстве». Так и есть, ведь книга состоит из доказательств двух видов: логического доказательства того, что процесс определенного рода с необходимостью будет приводить к определенного рода результату, и эмпирического доказательства того, что необходимые для протекания такого рода процесса условия в действительности существовали в природе. Дарвин подкрепляет логическое доказательство мысленными экспериментами – «воображаемыми примерами»58, – которые показывают, как выполнение таких условий могло в действительности привести к результатам, на объяснение которых он притязает, но, чтобы изложить довод полностью, ему нужна целая книга, поскольку он приводит множество с трудом добытых эмпирических фактов, чтобы убедить читателя, что эти условия выполнялись снова и снова.
Стивен Джей Гулд59 позволяет нам оценить важность этой особенности дарвиновского аргумента, рассказывая анекдот о Патрике Мэтью, шотландском натуралисте, который – к слову о любопытных исторических фактах – на много лет опередил Дарвина, описав механизм естественного отбора в приложении к опубликованной им в 1831 году книге «Плавник и лесокультура». На заре дарвиновского восхождения к славе Мэтью опубликовал (в Gardeners’ Chronicle!60) письмо, в котором заявил о своем приоритете: Дарвин великодушно его признал и оправдал свою неосведомленность, отметив, что Мэтью избрал для обнародования открытия издание, не привлекшее широкого интереса читателей. В ответ на извинения Дарвина Мэтью написал:
Я сформулировал концепцию этого закона Природы интуитивно, описывая самоочевидный факт, практически без усилий и сосредоточенного обдумывания. Кажется, у г-на Дарвина больше прав на это открытие, чем у меня – мне оно открытием не показалось. Он вывел его, опираясь на индуктивные умозаключения, неторопливо и с должной осторожностию продвигаясь от факта к факту, тогда как я, лишь бросив беглый взгляд на устройство Природы, счел это появление видов в результате отбора a priori очевидным фактом – аксиомой, на которую надо лишь указать, чтобы ее признали непредубежденные и достаточно быстро схватывающие умы61.
Однако непредубежденные умы вполне могут испытывать сомнения относительно новой идеи – по причине благоразумного консерватизма. Дедуктивные аргументы печально известны своей ненадежностью. То, что кажется «само собой разумеющимся», рассыплется из‐за незамеченной детали. Дарвин понимал, что лишь беспощадно подробное перечисление доказательств существования постулированного им исторического процесса будет – или должно быть – достаточно убедительным, чтобы ученые отринули свои традиционные убеждения и восприняли его революционный взгляд, даже если его действительно можно было «вывести из аксиом».
С самого начала были те, кому дарвиновское новаторское сочетание дотошного натурализма с абстрактными рассуждениями о природных процессах казалось сомнительным и нежизнеспособным гибридом. Оно представлялось невероятно правдоподобным, но так же обстоит дело со множеством схем мгновенного обогащения, которые на поверку оказываются трюками и надувательством. Сравните его со следующим законом работы фондовой биржи: покупай по низкой цене, продавай по высокой. Если следовать этому правилу, обязательно разбогатеешь. Не может не разбогатеть тот, кто последует этому совету. Почему он не работает? Он работает – для всякого, кому достаточно повезло действовать в соответствии с ним, но, увы, нет способа определить, что условия выполнены, до того, как действовать, руководствуясь ими, не станет слишком поздно. Дарвин предлагал скептически настроенному миру то, что можно бы было назвать схемой медленного обогащения, схемой, позволяющей создать Порядок из Хаоса без помощи Разума.
Своей теоретической силой дарвиновская абстрактная схема была обязана нескольким особенностям, на которые Дарвин достаточно решительно указывал и которые ценил выше, чем многие его сторонники; однако он не располагал терминологией, позволившей бы их недвусмысленно описать. Сегодня мы можем охарактеризовать их одним-единственным термином. Дарвин открыл мощь алгоритма. Алгоритм – это определенного рода формальный процесс, который (логически) неизбежно приводит к достижению определенного рода результата, когда бы тот ни «запускался» или ни реализовывался. Во времена Дарвина в алгоритмах не было ничего нового. Многие хорошо известные арифметические процедуры – например, деление в столбик или подведение баланса в чековой книжке – являются алгоритмами, и таковы же процедуры принятия решений при разыгрывании образцовой партии в крестики-нолики или расположении нескольких слов в алфавитном порядке. Сравнительно новым (и позволяющим нам бросить ценный ретроспективный взгляд на открытие Дарвина) было теоретическое размышление математиков и логиков о природе и мощи алгоритмов в целом; в XX веке это привело к появлению компьютера, что в свою очередь, разумеется, стало причиной гораздо более глубокого и наглядного понимания возможностей алгоритмов в целом.
Термин алгоритм восходит – через латинское слово algorismus – к раннеанглийскому algorisme (с ошибочным написанием algorithm), образованному от имени персидского математика, Мусы аль-Хорезми, чья написанная примерно в 835 году н. э. книга о математических действиях в XII веке была переведена на латынь Аделардом Батским или Робертом Честерским. Идея, что алгоритм является надежной и в некотором роде «механической» процедурой, существовала на протяжении столетий, но лишь в 1930‐х годах в новаторской работе Алана Тьюринга, Курта Гёделя и Алонзо Черча было в первом приближении зафиксировано современное понимание этого термина. Нам будут важны три основные особенности алгоритмов, и каждую не так-то просто определить. Более того, каждая усугубила замешательство (и тревогу), все еще мешающие нам размышлять о революционном открытии Дарвина, так что на страницах этой книги нам неоднократно придется возвращаться к этим вводным замечаниям и переосмыслять их.
1. Безразличие к материалу: деление в столбик можно с равным успехом осуществлять, используя карандаш или ручку, бумагу или пергамент, неоновые огни или дымовой след самолета – и прибегая к какой угодно системе символов. Осуществимость процедуры основана на ее логической структуре, а не на конкретных особенностях использованных в данном случае материалов и лишь пока эти конкретные особенности позволяют в точности выполнять предписанные действия.
2. Базовая неразумность: хотя сам проект процедуры может быть блестящим или приводить к великолепным результатам, каждый конкретный ее шаг, а также переходы между ними чрезвычайно просты. Насколько они просты? Достаточно просты, чтобы их мог осуществить прилежный дурак – или попросту механическое устройство. Согласно известной «школьной» аналогии, алгоритмы – это своего рода рецепты, составленные так, чтобы им могли следовать поварята. В кулинарной книге, предназначенной для шеф-поваров, мы можем прочитать: «Варите рыбу в подходящем вине на медленном огне до полуготовности», – но описывающий тот же процесс алгоритм начнется так: «Выберите белое вино со словом „сухое“ на этикетке; возьмите штопор и откупорьте бутылку; налейте на дюйм вина в сковороду; включите конфорку под сковородой…» – утомительное расчленение процесса на элементарные шаги, не требующие от читателя принятия мудрых решений, или вынесения тонких суждений, или проявления интуиции.
3. Гарантированный результат: что бы ни делал алгоритм, при безошибочном исполнении он всегда приводит к ожидаемому результату. Алгоритм – рецепт надежный.
Легко видеть, как эти характеристики делают возможным создание компьютера. Любая компьютерная программа является алгоритмом, в конечном счете составленным из простых шагов, которые тот или иной простой механизм может выполнять с невероятной надежностью. Обычно для этого используют электронные микросхемы, но мощность компьютера никак (если не считать скорости вычислительных процессов) не зависит от конкретных особенностей электронов, ударяющихся о силиконовые чипы. Те же самые алгоритмы могут выполняться (и даже еще быстрее) с помощью приборов, в которых фотоны перемещаются по стекловолокну, или (гораздо, гораздо медленнее) командами людей, вооруженных бумагой и карандашами. И, как мы увидим, способность компьютеров с потрясающей скоростью и надежностью выполнять алгоритмы сегодня позволяет ученым-теоретикам исследовать опасную идею Дарвина доселе невозможными методами – и приходить к удивительным результатам.
По сути дела, Дарвин обнаружил не один алгоритм, а скорее большой класс взаимосвязанных алгоритмов, которые он не мог четко различить. Теперь мы можем переформулировать его фундаментальную идею следующим образом:
На протяжении миллиардов лет жизнь на Земле развивалась как единое дерево со множеством ветвей – Древо Жизни; ее развитию способствовали те или иные алгоритмические процессы.
Со временем постепенно (по мере того как мы будем узнавать, какими способами разные люди выражали эту мысль) станет ясно, что означают эти слова. Некоторые формулировки абсолютно пусты и бессодержательны, другие – очевидным образом ложны. Посередине находятся те, что и в самом деле объясняют происхождение видов – и сулят множество других объяснений. Благодаря как упорной критике откровенных ненавистников идеи эволюции как алгоритма, так и опровержениям ее поклонников, такие формулировки становятся все точнее.
5. Процессы как алгоритмы
Размышляя об алгоритмах, теоретики часто подразумевают виды алгоритмов, обладающих свойствами, которых лишены алгоритмы, интересующие нас. Например, когда об алгоритмах размышляют математики, они обычно имеют в виду алгоритмы, относительно которых можно доказать, что они полезны при вычислении конкретных интересующих их математических функций. (Простой пример тому – деление в столбик. В причудливом мире криптографии внимание привлекает разложение большого числа на простые множители.) Но алгоритмы, которые будут интересовать нас, не имеют ничего особенно общего с системой счисления или иными математическими объектами; это алгоритмы классификации, отсева и созидания62.
Поскольку большинство математических обсуждений алгоритмов сосредоточено на их гарантированной или �











