Читать онлайн Огни на дорогах четырех частей света
- Автор: Елена Рубисова
- Жанр: Книги о путешествиях, Современная русская литература
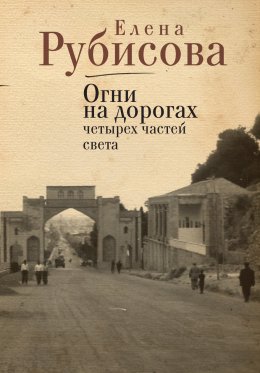
Ю. Терапиано
Сохранившая огонь
В своей новой книге «Огни на дорогах четырех частей света»1, так же как и в предыдущей – «Огни Азии», вышедшей в 1961 году, Елена Рубисова сохраняет свою, очень индивидуальную, манеру повествования.
Это не сухое описание виденных ею европейских и восточных стран, не обычное наблюдение тамошней жизни и всяких политических или общественных явлений, а глубоко-личное переживание того, что особенно поразило ее, что особенно ей запомнилось.
Какой-либо отдельный человек, иногда простой и незаметный, как, например, молодой индус-шофер Бабурао, оказавшийся учеником выдающегося духовного наставника, иногда больше может показать внутреннюю духовную сущность своей страны, чем ученый брамин или европейски образованный восточный литератор.
«Русская Королева Франции», «Анна Киевская», дочь Ярослава Мудрого и жена Генриха Первого, короля Франции, статуя которой до сих пор находится у входа в аббатство св. Винцента в городе Санлис во Франции, недалеко от Парижа, является для Елены Рубисовой такой же интересной и полной жизни встречей, как и индусский «чела» (ученик) шофер Бабурао.
«Мраморная статуя, несколько больше человеческого роста, молодой женщины, облаченной в тяжелые одежды византийского покроя. Две длинных косы, выбиваясь из-под покрывала, придержанного на голове короной, обрамляют строгое спокойное лицо с правильными чертами. В руках она держит маленькую модель аббатства».
Мы видим снимок этой статуи – в книге много фотографий, порой чрезвычайно интересных, сделанных Г. А. Рубисовым.
«По свидетельству современников, Анна Ярославна, дочь Ярослава Мудрого и его жены, шведской принцессы Ингегерды, отличалась необыкновенно красотой. Родилась она в 1028 году в Киеве.
Киев, «Мать городов русских», была тогда богатым и славным престольным городом …науки и искусства, а также торговля процветали в нем, и вся Европа считалась с киевскими князьями…
Анне Ярославне было 25 лет, когда она покинула родной город для новой родины, Франции. 14 мая 1051 года в Реймсе было торжественно отпраздновано ее бракосочетание с Генрихом Первым. Анна, княжна Киевская, стала королевой Франции и поселилась в замке французских королей в Санлисе… Легенда (или – исторический факт?), приводимая многими историками, утверждает, что через несколько месяцев после свадьбы Анна совершила путешествие в Иерусалим и что, вернувшись, дала обет построить в Санлисе Храм, если молитвы ее будут услышаны. Желание королевы исполнилось – у нее родился сын, будущий король Франции. Его назвали Филиппом…».
Мы с удовольствием читаем приводимый Еленой Рубисовой рассказ о дальнейшей судьбе «русской королевы Франции», как бы связавшей Русь и Францию нитью дружбы еще в те далекие времена.
Интересен рассказ о поездке к таинственной песчаной горе Марзуга в Марокко, на вершину которой не осмеливается всходить ни один араб, кроме колдунов.
Там, на колышках, вбитых в песок, украшенных перьями и кусками материи, быть может, утверждено какое-то колдовство, а колышки, вероятно, магические куклы для заклинания демонов.
Никто не может проникнуть в тайну этой опасной, все время осыпающейся песчаной горы, спуститься с которой нелегко даже опытному альпинисту.
В главе «Италия» целый отдел занимает встреча со знаменитым монахом, совершавшим многие чудеса, падре Пио, в миру Франческо Форджоне.
«Католическая церковь насчитывает семьдесят стигматизованных (из них последней была Джемма Гальгани, жившая в нашем веке. Стигматы были и у Терезы Нейман, которая тоже жила в нашем веке, – она умерла в 1962 году)», – говорит Елена Рубисова.
«Чудо стигматизации не объяснимо разумом, но оно является неоспоримым фактом. Стигматы Падре Пио были освидетельствованы несколькими докторами и учеными.
Не существует никаких известных нам клинических наблюдений, который позволили бы отнести эти раны к какой-либо известной нам категории явлений, – сказал профессор Луиджи Романелли».
Невозможно объяснить также дар исцелений, которым обладал Падре Пио, и его способности не только видеть будущее, но и читать мысли и переживания людей, приходивших к нему исповедоваться. Он мог указать им их грех, даже если они хотели скрыть его.
«Я никогда не забуду мессу, которую служил Падре Пио, рано утром, в церкви при монастыре Сан Джованни Ротондо. Большая высокая церковь была полна народу, люди стояли плечом к плечу, но тишина была полная, абсолютная – невероятная, невозможная тишина (такая – подумалось мне – могла быть в мире в первый день творения или перед началом его). Мне сказали, что так всегда бывает, когда Падре Пио ведет богослужение», – пишет Елена Рубисова.
Другая встреча, тоже со знаменитым современником, была в Испании в Кадакесе – с Сальвадором Дали.
Дом художника построен на каменистой террасе над морем. Он не имеет ничего общего со стилем модерн – просто группа белых домиков, жилище художника и его жены.
«Первое, что бросилось мне в глаза, – громадный букет, целый сноп сухих желтых цветов и по сторонам его, справа и слева, два чучела лебедей, широко распростерших крылья… В углу комнаты – массивный дубовый, с резными украшениями шкаф, и на нем – еще птичье чучело: громадный черный орел, повернув голову в профиль, глядит на лебедей…».
Сам художник со знаменитыми усами – с острыми, похожими на железные шипы концами, произвел впечатление странное: «Эти усы придавали лицу вид маски и всей фигуре какую-то сказочную неправдоподобность».
«Белая республика» – поэма в прозе про альпинизм и альпинистов, «граждан волшебного царства снежных вершин», «белой республики».
Там так легко и свободно дышится тем, кто умеет чувствовать и любить горы – снег, крутизну, пропасти и опаснейшую игру с ними – стремление ввысь на самую последнюю вершину.
Это влечение ввысь, как оказывается, свойственно не только людям, но даже некоторым животным.
Трогательна и забавна глава «Зизу, четвероногий альпинист», о кошке, подобно людям, одержимой страстью к альпинизму.
Невозможно говорить обо всем, что она увидела и запечатлела.
Но особенно хочется остановиться на отделе «Россия–СССР». Как все русские, которым судьба судила стать эмигрантами, затем принять иностранное подданство и долгие-долгие годы быть оторванными от своей родины, Елена Рубисова, попав в качестве интуристки в Россию, не может не чувствовать раздвоенности.
«Какой странное ощущение – точно спали с меня какие-то цепи, точно камень скатился с сердца… Родной язык! Какая власть дана ему над умом и сердцем!»
Сквозь новое и чуждое, сквозь незнакомое и враждебное, все-таки, наперекор всему, чувствуется тысячелетняя, все та же Святая Русь – русская история, русская культура, русское зодчество, русский гений, русская всепобеждающая вера и духовная одаренность русского человека.
Это – главное. Иное – как бы наносное. «Москва» все-таки не вид новой Красной площади с Ленинским мавзолеем, а памятник Минина и Пожарского. Знаменитый Загорск, где так же, как прежде, молятся у святынь русские люди, много значительнее доминирующей надо всем центральной башни университета.
А на берегах Невы – «Медный всадник», дворцы, соборы, Эрмитаж – на каждом шагу – Россия, делающая как будто нереально-призрачной всю современность.
Очень хорошо написан очерк «Письменный стол Паустовского», визит на квартиру покойного писателя в Москве, где всюду его книги, рукописи, любимые им предметы и портреты его близких друзей.
«Подсвечник не служит никакой утилитарной цели, в нем нет свечей. Но он красив, и К. Г. Паустовский любил красивые вещи. Дальше гусиное перо, воткнутое в пустую чернильницу, около портрета Юрия Олеши, долголетнего друга, которого К. Г. Паустовский очень любил и уважал как писателя и как человека. Рядом с Олешей две фотографии: Хемингуэй и Пастернак. На стене над столом еще фотографии: Чехов, Бунин и Блок…».
«Глаза», «Мерка масштаба», «Картина Гойи» и «Пруд» – во всех этих рассказах Елена Рубисова с большой остротой ощущает противоречия человеческого бытия и власть чего-то неведомого над ним – рока или благой высшей силы, того, чего мы не в силах еще уяснить себе и понять…
Художник в Лувре – он знает здесь все, он часто приходит, но его ведет под руку жена, он – слепой…
Какую «мерку масштаба» можно приложить к маленькому мирку кроликов, цыплят и утят на ферме?
Картина Гойи, поразительная по краскам и странному сюжету – все сосредоточено в блестящем глазу собаки, глядящей вверх, – что хотел сказать художник?
И, наконец, пруд и дети, которые любили этот пруд, представлявший для них целый фантастический мир, – но вот ушло детство!
Эту книгу с интересом прочтут многие, и каждый в ней найдет что-либо для себя2.
Индия
Бабурао
«Эти деревья когда-то были людьми. Возможно, они были гуру»3, – сказал Бабурао и вдруг замолчал, как бы испугавшись, что сказал слишком много.
Мы ехали по широкой дороге, обсаженной удивительными, невероятными деревьями. Таких деревьев, кажется, нет нигде кроме центральной Индии. В несколько обхватов толщины, в вышину они больше, чем вдвое превосходили обычные деревья юга. Необычайная красота была в их мощных, причудливо изогнутых, широко распростертых над дорогой ветвях. Но самое необыкновенное были их листья – густое, по-весеннему светло-зеленое, тончайшее кружево. Как могли эти стволы-гиганты, с их преувеличенной мощью, создать такие маленькие и такие нежные листья, вырезанные с таким несравненным изяществом? Они дрожали под налетевшим ветерком, и солнце зайчиками играло и переливалось в них. Какая-то величавая тайна чувствовалась в этих деревьях. И когда Бабурао сказал: «Они были гуру», – его слова как нельзя лучше передавали это ощущение.
Ничего экстравагантного не было в этих словах. – Бабурао был индус, и перевоплощение души не являлось для него «теорией с вопросительным знаком». Сомневаться в том, что после смерти – жизнь в новом теле, что смерть – этап жизни, показалось бы ему таким же нелепым ребячеством, как сомневаться в том, что светит солнце, когда оно слепит глаза и обжигает кожу. Душа, сбросив одно тело, изберет себе новую форму, ту или иную – в зависимость от качеств и «заслуг» прожитой жизни, по закону кармы4.
«Эти деревья были когда-то гуру»… Но ведь гуру, духовный наставник, тот, кто ведет к свету, достигший мудрости – это есть вершина возможностей достижений души на земле. Как же может гуру «снова явиться» – в теле дерева?
На это Бабурао не мог ответить. Но вопрос этот даже не вставал в его уме. С молоком матери он впитал в себя чувство единства жизни и уважение ко всему, что живет. И в нем было такое же уважение к этим почтенным деревьям, как к высокому наставнику гуру.
Мы познакомились с Бабурао в первый же день пребывания в Индии. Из аэропорта он повез нас в Бомбей. Туристическая компания горячо рекомендовала его как одного из лучших своих шоферов.
Бабурао нам очень понравился. Было в нем какое-то спокойное достоинство и что-то, внушавшее доверие и хорошее расположение духа. Он говорил мало, но слушал внимательно, отвечал на вопросы толково и ясно. Улыбался вежливо – но не слишком (в этом гордом лице не могло быть и тени заискивающей улыбки). Обладал характерной внешностью жителей юга Индии: среднего роста, с темной, кофейного цвета, кожей (оттенок румянца все же пробивался на щеках) и очень большими, характерно-индусскими, сверкающими и выразительными, черными глазами. Его нельзя было назвать мускулистым (качество, отсутствующее в индусском кодексе красоты, ценящем округлые, женственные формы почти одинаково в мужском и женском теле), но он был силен и вынослив.
Здание аэровокзала, прекрасно построенное в стиле модерн, не заключало в себе ничего «восточного» (жара и мухи, гул вентиляторов – это везде, где солнце горячее); и было тут что-то, напоминавшее русскую вокзальную неразбериху – отсутствие всякой «механичности». Сложная, долгая и ненужная волокита, бесконечные бумаги и «вопросники» компенсировались сияющей улыбкой и общей доброжелательностью служащих. Когда, наконец, все было окончено, перепутанные паспорта и багаж выданы их хозяевам, Бабурао повез нас в город – около часа езды.
Сначала дорога пролегала среди серо-желтых раскаленных песков, над которыми с криками носились какие-то большие, тяжелые птицы. Иногда встречались «оазисы» – несколько чахлых запыленных пальм. Постепенно эти «оазисы» множились, становились больше и зеленее, богаче. Вскоре они превратились в сплошные сады. Потом засверкало море, и над ним явился – как сказочное видение – на зеленых холмах раскинувшийся белый город: Бомбей.
Ганди говорит с бенгальским крестьянином-мусульманином (фот. Консульства Индии)
Холмы, на которых расположен Бомбей, раньше были островами; в 1850 году проливы между ними и сушей были засыпаны, и острова соединились с материком. Но море все еще является как бы частью города. Оно очень синее, и песок пляжей (в городе их несколько) – светлый и чистый.
Бомбей – один из самых интересных городов мира, как по своей красоте, так и по обилию и разнообразию жизненных элементов. В нем уживаются – примиренно, а не воинственно – все национальности Востока и Запада, все виды искусств и все религии. Древний индуизм (браманизм), буддизм, «религия доброй жизни» – маздеизм,5 ислам и христианство. Все это создало сложную амальгаму верований и выработ�











