Читать онлайн Чарующий апрель
- Автор: Элизабет фон Арним
- Жанр: Зарубежная классика, Легкая проза, Литература 20 века
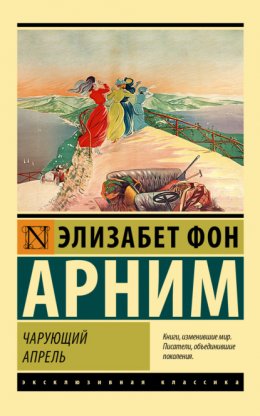
Elizabeth von Arnim
The Enchanted April
© ООО «Издательство АСТ», 2023
Глава 1
Эта история началась ненастным февральским днем в одном из не самых лучших лондонских дамских клубов. Приехавшая за покупками из Хемпстеда миссис Уилкинс зашла в клуб на ленч, в курительной комнате взяла со стола свежий номер газеты «Таймс» и в колонке объявлений равнодушно прочитала короткую заметку следующего содержания:
«Тем, кто ценит цветущую глицинию и южное солнце: на апрель в Италии, на берегу Средиземного моря сдается в аренду небольшой средневековый замок, меблированный. Прислуга имеется. Обращаться: Z, ящик 1000, «Таймс».
Предложение оказалось судьбоносным, однако, как это нередко случается, важность момента раскрылась не сразу.
Поначалу миссис Уилкинс до такой степени не осознала, что грядущий апрель уже предрешен, что небрежным и в то же время раздраженным жестом отбросила газету, подошла к окну и уныло посмотрела в серую дождливую мглу.
Средневековые замки – даже подчеркнуто описанные как маленькие – предназначались не ей. Точно так же не ей предназначались Италия, берег Средиземного моря, цветущая глициния и щедрое солнце. Подобные радости доступны только богатым. И все же если объявление обращалось к тем, кто умеет ценить красоту южной природы, значит, и к ней тоже, поскольку она умела ценить красоту, как никто другой, – больше, чем сама себе могла признаться. К сожалению, миссис Уилкинс была бедна как церковная мышь: все ее личное состояние насчитывало девяносто фунтов, накопленных годами из выделявшихся на одежду денег. Эту сумму миссис Уилкинс собрала по совету мужа, чтобы иметь хотя бы небольшой запас на черный день. Средства на туалеты выделял отец – по сто фунтов в год. Прижимистый супруг называл ее наряды никаким словечком «милые». Знакомые, когда речь заходила о ней (что случалось весьма редко, ибо миссис Уилкинс не пользовалась особым вниманием), неизменно отмечали безупречность вкуса.
Мистер Уилкинс поощрял ее бережливость только до тех пор, пока она не распространялась на количество и качество его пищи. Если же такое случалось, он говорил не об экономии, а о неумелом ведении хозяйства. И все же ту скаредность, которая, словно моль, проникала в гардероб миссис Уилкинс, супруг горячо одобрял и, бывало, рассуждал: «Никогда не знаешь, что принесет завтрашний день. И тогда небольшие запасы очень выручат, причем нас обоих».
Глядя в окно на Шафтсбери-авеню – клуб относился к числу недорогих, но отличался удобством расположения между Хемпстедом, где миссис Уилкинс жила, и гастрономом Шулбреда, где совершала покупки, – она некоторое время стояла в глубокой печали. Воображение живо рисовало цветущую глицинию, берег Средиземного моря, прочие доступные богачам сокровища, в то время как перед глазами нескончаемо поливал спешившие по улице зонты и рассекавшие лужи омнибусы мерзкий, холодный, темный от копоти дождь. Внезапно в голову пришла мысль: уж не к этому ли дождливому дню без устали призывал готовиться Меллерш (то есть мистер Уилкинс)? Не для того ли Провидение позволило накопить девяносто фунтов, чтобы сбежать от безжалостного английского климата в теплую Италию, в сказочный средневековый замок? Разумеется, вовсе не обязательно тратить всю сумму, можно обойтись частью сбережений, причем совсем небольшой. Средневековое строение, скорее всего, пребывает не в лучшем виде, а развалины, как правило, сдают дешевле. Она ничуть не возражает против умеренной доли ветхости: главное – что за это не приходится платить. Напротив, владельцы сами снижают цены, причем значительно…
Миссис Уилкинс отвернулась от окна с не менее раздраженным видом, чем тот, с каким только что бросила газету, и направилась к двери с намерением взять плащ и зонт, втиснуться в один из переполненных омнибусов и, прежде чем отправиться домой, по дороге зайти в магазин Шулбреда и купить Меллершу на обед палтуса. Дело в том, что Меллерш весьма избирательно относился к рыбе и, помимо лосося, ел только палтуса. Планы ее нарушила сидевшая в центре комнаты, возле стола с газетами и журналами, миссис Арбутнот – скромная особа, с которой они были только знакомы, хотя она тоже жила в Хемпстеде и посещала тот же недорогой клуб. Миссис Арбутнот как раз внимательно изучала первую страницу газеты «Таймс».
Миссис Уилкинс еще ни разу не доводилось беседовать с этой дамой, поскольку она входила в одно из многочисленных церковных сообществ и занималась переписью, классификацией, регистрацией неимущих и анализом их жизни, в то время как они с Меллершем, когда выходили в свет, посещали музеи и картинные галереи, выставки художников-импрессионистов, благо те выбрали Хемпстед в качестве ареала обитания. Больше того, сестра Меллерша даже вышла замуж за одного из молодых гениев и поселилась в модном районе Хемпстед-Хит. В результате столь экстравагантного союза миссис Уилкинс очутилась в совершенно чуждом ее натуре круге общения и втайне возненавидела живопись. Приходилось что-то о ней говорить, а что сказать, она не знала, поэтому ограничивалась каким-нибудь избитым словом вроде «великолепно», «гениально», «талантливо», хотя чувствовала их пустоту. Впрочем, никто не возражал, потому что никто ее не слушал, никому не было дела до жены мистера Уилкинса. Такие, как она, в обществе остаются незаметными, и дело не только в устаревших от чрезмерной бережливости нарядах. Лицо ее также не привлекало и не задерживало взгляд, слова не вызывали интереса. К тому же миссис Уилкинс отличалась крайней застенчивостью, которая проистекала из вышеизложенных причин. Сознавая собственные недостатки, она думала, что же в таком случае остается человеку.
Она везде появлялась вместе с мистером Уилкинсом – весьма привлекательным, презентабельным джентльменом, одним своим присутствием придававшим значительность любому обществу. Мистер Уилкинс пользовался глубоким уважением. Знающие люди утверждали, что старшие партнеры его ценят, окружение сестры им восхищалось. Об искусстве и художниках он рассуждал умно и со знанием дела, говорил лаконично и сдержанно, никогда не произносил лишних слов, но в то же время всегда изъяснялся достаточно полно. Мистер Уилкинс производил впечатление человека, оставляющего себе копии всего сказанного, и казался настолько надежным, что нередко впервые встретившие его на вечеринке новые знакомые внезапно разочаровывались в своих поверенных и после краткого периода беспокойства переходили под его опеку.
Неудивительно, что в таких условиях миссис Уилкинс оставалась вне общества. «Она должна сидеть дома», – однажды с видом третейского судьи заявила золовка, однако сам мистер Уилкинс не мог с ней согласиться. Он работал семейным юристом, а все таковые обязаны были не только иметь жен, но и регулярно демонстрировать их клиентам, в том числе и потенциальным, поэтому в будние дни он водил супругу на вечеринки, а по воскресеньям – в церковь. Будучи еще довольно молодым человеком – ему не исполнилось и сорока, – мистер Уилкинс тем не менее стремился привлечь в клиентуру как можно больше пожилых леди, а потому не мог позволить себе пренебречь церковной службой. Именно в церкви миссис Уилкинс и познакомилась с миссис Арбутнот.
Нельзя было не заметить, как умело дама руководила детьми из бедных семейств: ровно за пять минут до начала службы приводила подопечных из воскресной школы и аккуратно рассаживала мальчиков и девочек по отведенным для них местам, затем призывала опуститься на колени для предварительной молитвы и снова подняться как раз в тот момент, когда под первые торжественные звуки органа двери ризницы распахивались и появлялись священнослужители в сопровождении хора, чтобы петь литанию и читать заповеди. Несмотря на грустное выражение лица, действовала миссис Арбутнот уверенно. Такие способности неизменно приводили миссис Уилкинс в недоумение, поскольку еще в те дни, когда они с мужем могли позволить себе только камбалу, Меллерш не уставал повторять, что, если человек работает хорошо, у него нет поводов для печали: хорошая работа автоматически придает характеру жизнерадостность и энергию.
В церкви миссис Арбутнот вовсе не выглядела ни жизнерадостной, ни энергичной, хотя с детьми из воскресной школы обращалась мастерски, с почти механической точностью. Но когда в курительной комнате клуба миссис Уилкинс отвернулась от окна и увидела миссис Арбутнот, та была далека от механически точных действий, скорее напротив: крепко схватив газету двумя руками, не мигая смотрела в какую-то точку на первой странице «Таймс». При этом лицо ее, как обычно, напоминало лик разочарованной, но терпеливой Мадонны.
Миссис Уилкинс с минуту наблюдала за миссис Арбутнот, пытаясь набраться храбрости, чтобы спросить, обратила ли она внимание на объявление об аренде замка. Она даже не сознавала, что хочет это узнать, но спросить хотела, да и глупо не заговорить с леди, которая выглядит такой доброй и такой несчастной. Почему бы двум несчастным женщинам не поддержать друг друга на трудном жизненном пути, перекинувшись несколькими фразами? Не поговорить о чувствах, о том, что нравится или не нравится, и о том, на что они все еще могут надеяться? К тому же, скорее всего, в эту минуту миссис Арбутнот читала то самое объявление о небольшом средневековом замке, поскольку взгляд ее застыл в нужной части страницы. Вдруг она тоже представляет волшебную картину: яркие краски, экзотические ароматы, солнечный свет, мягкое море – вместо Шафтсбери-авеню, сырых омнибусов, рыбного отдела гастронома Шулбреда, возвращения в Хемпстед и приготовления обеда. А завтра все то же самое, и послезавтра, и всегда… День за днем без изменений…
Неожиданно для самой себя миссис Уилкинс присела к столу и услышала собственный голос.
– Читаете о средневековом замке и глициниях?
Миссис Арбутнот, естественно, удивилась, однако значительно меньше, чем сама миссис Уилкинс своему вопросу.
Миссис Арбутнот еще не успела рассмотреть сидевшую напротив худую невзрачную даму с веснушчатым личиком и почти скрытыми обвисшей мокрой шляпой большими серыми глазами, а потому на пару мгновений воцарилась тишина. Да, она читала о средневековом замке и глицинии, то есть прочитала десять минут назад, а теперь мечтала о теплом солнышке, ярких красках, восхитительных ароматах, тихом плеске волн среди горячих скал…
– А почему вы спросили? – проговорила она, наконец, совершенно серьезно: работа с бедняками сделала ее вдумчивой и терпеливой.
Миссис Уилкинс, явно смутившись, покраснела, и пролепетала испуганно:
– О, всего лишь потому, что тоже прочитала объявление, вот и подумала, что, может быть… подумала…
Тем временем привыкшая с первого взгляда распределять людей по спискам и графам, миссис Арбутнот, присмотревшись к собеседнице повнимательнее, пыталась решить, к какому разряду ее было бы уместно отнести.
– Я вас частенько здесь вижу, – проговорила миссис Уилкинс. Подобно всем стеснительным людям, начав говорить, она уже не могла остановиться, все больше и больше пугаясь звука собственного голоса и произнесенных слов. – По воскресеньям… каждое воскресенье… в церкви.
– В церкви? – эхом повторила миссис Арбутнот.
– Так удивительно – объявление о глицинии и… – Похоже, миссис Уилкинс окончательно смутилась и, словно растерянная школьница, поерзав на стуле, продолжила: – Да, так удивительно, а погода такая плохая…
Она умолкла и посмотрела на собеседницу глазами побитой собаки.
Миссис Арбутнот, которая посвятила свою жизнь помощи нуждающимся и наставлению страждущих, сразу поняла, что этой бедняжке нужен совет, и приготовилась исполнить долг.
– Если регулярно видите меня в церкви, – проговорила она добрым участливым голосом, – то, должно быть, тоже живете в Хемпстеде?
– Да, – подтвердила миссис Уилкинс и, слегка склонив голову на длинной тонкой шее, как будто воспоминание о Хемпстеде послужило тяжким грузом, повторила: – Да, конечно.
– А где именно? – уточнила миссис Арбутнот: прежде чем давать советы, необходимо собрать кое-какие сведения.
Миссис Уилкинс ей не ответила, лишь тихо проговорила:
– Наверное, поэтому замок и кажется таким чудесным.
– Это предложение удивительно само по себе, – забыв о необходимости собрать сведения о собеседнице и едва слышно вздохнув, возразила миссис Арбутнот.
– Значит, прочитали?
– Да, – кивнула миссис Арбутнот с мечтательным выражением в глазах.
– Правда, было бы восхитительно? – с надеждой в голосе пробормотала миссис Уилкинс.
– Восхитительно, – согласилась миссис Арбутнот, и ее просветлевшее на миг лицо погасло и приобрело свое привычное выражение. – Просто чудесно, только все это несбыточные мечты, на которые не стоит тратить время.
– Напротив: очень даже стоит, – удивительно быстро возразила миссис Уилкинс, и такой энтузиазм совсем не гармонировал с ее внешностью: безликим жакетом, бесформенной юбкой, мокрой шляпой с обвисшими полями, неаккуратной тусклой прядью, выбившейся из прически. – Такие мысли хороши сами по себе: помогают забыть о Хемпстеде. Иногда думаю… точнее, почти уверена, что если очень чего-то захотеть, то это можно получить.
Миссис Арбутнот опять доброжелательно посмотрела на бедняжку и спросила себя, в какую все же категорию следует ее поместить, а потом предложила, слегка наклонившись к собеседнице:
– Может быть, назовете свое имя? Если мы теперь подруги, то хотелось бы побольше узнать друг о друге.
– Да, конечно, очень мило с вашей стороны. Меня зовут миссис Уилкинс. Не думаю, впрочем, что моя фамилия вам что-нибудь скажет. Порой… она мне самой ничего не говорит. И все же меня зовут именно так.
Фамилия ей действительно не нравилась: жалкая, коротенькая, со смешным, похожим на задранный хвост мопса, завитком в конце, но уж какая есть. Ничего не поделаешь: Уилкинс так Уилкинс. Ее муж, правда, хотел, чтобы она всегда и везде называла себя «миссис Меллерш Уилкинс», но она выполняла его пожелание лишь в тех случаях, когда он мог услышать, потому что считала, что так еще хуже. Это составляющая фамилии придавала ей какое-то особое значение – точно так же, как название «Чатсуорт-хаус»[1] на воротах поместья придает особое значение особняку.
Когда муж впервые предложил ей называть себя «Меллерш», она возразила и привела именно этот довод. После паузы – Меллерш был слишком хорошо воспитан, чтобы говорить, не выдержав паузу, во время которой, очевидно, мысленно репетировал грядущее высказывание, – он крайне недовольно заметил:
– Но ведь я не особняк.
И посмотрел на нее так, как смотрит мужчина, в сотый раз пытаясь убедить себя, что женился не на безнадежной дурочке.
Миссис Уилкинс заверила супруга, что он, конечно же, не особняк, она никогда так не считала, даже не задумалась о смысле… просто сравнила…
Чем дольше она оправдывалась, тем призрачнее становилась надежда Меллерша, что попытки его увенчаются успехом. Последовала продолжительная ссора, если можно так назвать гордое молчание с одной стороны и сбивчивые, но искренние извинения и объяснения с другой относительно того, предполагала ли миссис Уилкинс, что мистер Уилкинс представляет собой особняк.
Наверное, подумала она, когда примирение наконец состоялось, хотя и очень не скоро, все супруги ссорятся из-за ерунды, если два года подряд не расстаются даже на день. Им обоим была необходима передышка.
– Мой муж – юрист, – продолжила миссис Уилкинс, обращаясь к миссис Арбутнот и пытаясь доходчиво объяснить собственное положение, а потом на миг задумалась, подбирая самую яркую и точную характеристику. – Он очень красив.
– О, должно быть, это доставляет вам огромное удовольствие, – снисходительно заметила миссис Арбутнот.
– Почему? – спросила миссис Уилкинс.
Столь прямолинейный вопрос несколько ошеломил миссис Арбутнот.
– Потому что это особый дар, как и любой другой, и если его правильно использовать…
Она замолчала, так и не закончив фразу. Миссис Уилкинс так внимательно посмотрела на нее своими большими серыми глазами, что миссис Арбутнот внезапно подумала: так недолго и приобрести устойчивую привычку произносить наподобие сиделки монологи, когда ее подопечный только слушает и не может ни возразить, ни перебить, потому что, по сути, полностью от нее зависит.
Только вот миссис Уилкинс не слушала. В этот самый миг, как бы абсурдно это ни казалось, в сознании ее явственно возникла картина: под свисающими с веток неизвестного дерева длинными цветущими плетями глицинии сидят две дамы: сама миссис Уилкинс и миссис Арбутнот, она ясно это видела, – а чуть дальше в лучах яркого солнца возвышаются старинные серые стены средневекового замка. Да, они там. Стены она тоже видела…
Из-за этих видений миссис Уилкинс хоть и смотрела на миссис Арбутнот, но не слышала ни единого слова. А миссис Арбутнот в свою очередь смотрела на собеседницу с удивлением: ее лицо, сияющее и трепетное, как взволнованная легким ветерком и освещенная солнцем поверхность моря, словно озарила волшебная картина. Если бы в этот миг миссис Уилкинс оказалась на вечеринке, то взгляды присутствующих были бы наверняка прикованы к ней.
Вот так они и смотрели друг на друга: миссис Арбутнот заинтересованно и вопросительно, а миссис Уилкинс – с выражением постигшего ее озарения. Да, именно так и следует поступить. Сама она не смогла бы позволить себе подобную роскошь, а если бы даже смогла, то все равно не осмелилась бы отправиться в путешествие в одиночестве. А вот вместе с миссис Арбутнот…
Она в волнении перегнулась через стол и шепотом проговорила:
– Почему бы нам не попытаться? Вместе?
– Попытаться? – переспросила миссис Арбутнот, совершенно ошарашенная.
– Да, – едва слышно, словно боялась быть подслушанной, подтвердила миссис Уилкинс. – Что толку сидеть здесь, вздыхать, твердить «это было бы чудесно», а потом, даже пальцем не шевельнув, возвращаться домой в Хемпстед и, как обычно, заняться рыбой. Так мы живем постоянно, из года в год, и никаких просветов. – Словно испугавшись собственных слов, миссис Уилкинс покраснела до корней волос, но все же не смогла остановиться: – Надо что-то менять, и это необходимо не только нам самим. Уехать ненадолго и почувствовать себя счастливыми вовсе не эгоистично, ведь мы вернемся другими, намного лучше. Да, время от времени всем нужен отдых, перерыв!
– Но как же вы собираетесь осуществить это намерение? – уточнила миссис Арбутнот, совершенно неуверенная, что это возможно.
– Взять замок.
– Взять? Как это… взять?
– Арендовать. Снять. Получить. Назовите это как угодно.
– Но… вы имеете в виду только нас?
– Да, нас двоих. Все затраты – поровну, так будет куда дешевле. Просто мне показалось, что вы хотите этого не меньше, чем я, что тоже нуждаетесь в отдыхе, в переменах; хотите, чтобы с вами произошло что-то необычное и прекрасное.
– Но ведь мы совсем не знаем друг друга.
– Это ничего: только представьте, насколько хорошо узнаем, если проведем вместе целый месяц! Я скопила немного денег на черный день и готова вложить их в это предприятие.
Неуравновешенная особа, подумала миссис Арбутнот, но все же испытала странное волнение.
– Представьте: уедем на целый месяц от этой рутины… в рай!
«Нет, так говорить нельзя! – мысленно всполошилась миссис Арбутнот. – Викарий пришел бы в ужас». И все же слова новой знакомой ее глубоко тронули. Отдохнуть, сменить привычный образ жизни на что-то новое было бы действительно замечательно.
Благоразумие, однако, опять одержало верх, а годы общения с бедняками потребовали возражения с легким, сочувственным высокомерием наставницы:
– Но ведь рай не где-то там, в другом месте: он в душе, здесь и сейчас. Так, по крайней мере, говорят пасторы, – пояснила миссис Арбутнот негромким мягким голосом. – Вам наверняка известны связующие нити между родственными понятиями, не так ли? И…
– Да-да, конечно, – не дала ей продолжить миссис Уилкинс.
– Между родственными понятиями рая и дома, – все-таки договорила миссис Арбутнот, поскольку привыкла непременно завершать мысль и договаривать фразу до конца. – Рай пребывает в нашем доме.
– Его там нет, – возразила миссис Уилкинс, опять удивив собеседницу неожиданностью реакции.
Миссис Арбутнот на миг растерялась, а потом спокойно, но настойчиво возразила:
– Нет, он там: там, если мы того хотим, если сами его создаем.
– Я хочу и создаю, и все равно в моем доме рая нет, – упрямо стояла на своем миссис Уилкинс.
Миссис Арбутнот промолчала, потому что тоже порой сомневалась насчет рая и дома, лишь со все возрастающей тревогой глядя на миссис Уилкинс и все настойчивее ощущая потребность ее классифицировать. Если бы только удалось поместить собеседницу в правильную графу, то восстановилось бы ее собственное душевное равновесие, которое странным образом пошатнулось. Она уже много лет не отдыхала, и объявление вызвало к жизни опасные мечты, а возбуждение миссис Уилкинс оказалось столь заразительным, что, слушая ее пылкую, сбивчивую речь и глядя в сияющее лицо, миссис Арбутнот внезапно почувствовала себя так, будто только что очнулась от долгого тяжелого сна.
Несомненно, миссис Уилкинс производила весьма странное впечатление, но подобных ей и еще более неуравновешенных миссис Арбутнот встречала и раньше, а если точнее, то встречала постоянно, и они ничуть не влияли на ее собственную стабильность. Эта же особа заставила ее ощутить неуверенность, почувствовать себя вдали от основополагающих начал: Бога, мужа, дома и долга. Судя по всему, миссис Уилкинс не предполагала присутствия в замке супруга, так что однажды получить хотя бы немного счастья было бы не просто хорошо, а чудесно. Но нет, нельзя, ни в коем случае! Миссис Арбутнот тоже сумела скопить кое-какие деньги путем регулярных вложений небольших сумм в Почтовый сберегательный банк, но ей казалось абсурдом даже предположить, что можно их оттуда забрать и потратить таким вот образом. Разве может она совершить столь ужасный, греховный поступок? Разве способна полностью забыть о бедных, больных и несчастных? Сомнений нет: поездка в Италию принесла бы ни с чем не сравнимую радость, – но ведь в мире существует множество иных соблазнов, способных дать восхитительные впечатления, которые хотелось бы получить. Зачем же человеку дана сила воли, если не для того, чтобы устоять перед подобным искушением?
Четыре основы жизни оставались для миссис Арбутнот такими же незыблемыми, как стрелки компаса: Бог, муж, дом, долг. Много лет назад, после пережитого тяжкого горя, она нашла в них утешение и склонила голову, как перед сном склоняют голову на подушку. Пробудиться от простого, лишенного тревог состояния было страшно, поэтому она всерьез искала подходящую графу, куда можно было бы поместить миссис Уилкинс, тем самым успокоив и облегчив собственный ум. В результате последнего замечания, с тревогой глядя на собеседницу и чувствуя себя все более растерянной и сбитой с толку, миссис Арбутнот решила pro tempore[2], как говорил на собраниях викарий, поместить ее в графу «Нервы». Возможно, следовало бы сразу отправить ее в категорию «Склонность к истерике», которая нередко предваряла категорию «Психоз», однако миссис Арбутнот научилась не спешить с окончательными выводами, поскольку уже не раз с горечью признавала собственные ошибки, понимала, как трудно изменить классификацию, и мучилась в ужасном раскаянии.
Да. «Нервы». Возможно, бедняжка настолько зациклена на самой себе, подумала миссис Арбутнот, не имеет возможности отвлечься, что готова подчиниться порыву, безотчетному импульсу. Несомненно, категория «Нервы» страдалице в данном случае полностью подходит или, если никто не поможет, в скором времени подойдет. Несчастная девочка, пожалела миссис Арбутнот новую знакомую, ощущая, как вместе с сочувствием возвращается душевное равновесие. Взору миссис Уилкинс открывались лишь худенькие плечи, маленькое, страждущее, застенчивое личико и глаза, выражавшие детскую тоску по тому, что должно было принести счастье. Нет. Столь мимолетные радости не способны сделать человека счастливым. За долгие годы жизни с Фредериком – она вышла замуж в двадцать лет, а скоро ей исполнится тридцать три – миссис Арбутнот поняла, где можно обрести истинную радость. Теперь она точно знала, что радость заключается в ежедневной и ежечасной жизни ради других. Радость можно найти только у ног Господа. Разве она не приходила к нему со своими разочарованиями и бедами и не получала утешения? Фредерик оказался одним из тех мужей, чьи жены рано склоняются к ногам Господа. От исходной точки к цели вел короткий, хотя тернистый и болезненный, путь. Впрочем, это сейчас путь казался коротким, а на самом деле это была тяжелая борьба на протяжении всего первого года брака, причем каждый дюйм давался с огромным трудом, пропитывался кровью сердца. Но сейчас все страдания уже остались в прошлом. Из страстно любимого жениха, из обожаемого молодого мужа Фредерик превратился во второй после Бога пункт в перечне обязательств и кротости. Да, там он, добела обескровленный ее молитвами, занимал второе по важности место. Долгие годы миссис Арбутнот находила счастье, лишь забывая о счастье, и мечтала, чтобы так продолжалось впредь, поэтому старалась исключить из жизни все, что могло напомнить о прекрасном, пробудить тоску, вызвать человеческие желания…
– Очень хочу с вами подружиться, – призналась она искренне. – Может, как-нибудь навестите меня или позволите нанести визит вам? Буду всегда рада, если вам захочется поговорить по душам. Сейчас дам свой адрес.
Миссис Арбутнот достала из сумки визитную карточку и протянула собеседнице, но та даже внимания не обратила на клочок глянцевого картона, а проговорила, будто не слышала ни слова из сказанного:
– Ясно вижу нас обеих в средневековом замке в апреле.
Миссис Арбутнот остро ощутила неловкость, но, стараясь сохранить душевное равновесие под мечтательным взглядом сияющих серых глаз, спросила:
– Правда? И как это возможно?
– А разве вы никогда не представляете событие прежде, чем оно действительно произойдет? – спросила миссис Уилкинс.
– Никогда, – честно ответила миссис Арбутнот и попыталась улыбнуться сочувственно, но в то же время мудро и терпимо: так, как привыкла улыбаться, выслушивая неизменно ошибочные и субъективные замечания бедняков, – но улыбка получилась неуверенной, почти дрожащей, жалкой.
Помолчав, словно собираясь с мыслями, она шепотом, как будто боясь, что услышит викарий и Почтовый сберегательный банк, проговорила:
– Конечно, было бы замечательно, просто чудесно…
– И даже если жутко неправильно, то всего лишь на один месяц, – добавила миссис Уилкинс.
– Это… – начала было миссис Арбутнот, не сомневаясь в предосудительности такой точки зрения, однако миссис Уилкинс не позволила ей закончить мысль:
– В любом случае, уверена, нельзя быть всегда только хорошей: когда-нибудь непременно почувствуешь себя несчастной. Почти не сомневаюсь, что вы уже много лет живете правильно, а потому вызываете глубокое сочувствие…
Миссис Арбутнот уже открыла рот, пытаясь возразить, но не успела вставить ни слова.
– Я же – всю жизнь, с самого детства – только и делаю, что исполняю долг по отношению к кому-то, но никто из них меня не любит… нисколько… Вот я и мечтаю… о, да, мечтаю… о чем-то другом. Да, о чем-то другом… совершенно!
У нее что, слезы? Миссис Арбутнот опять ощутила неловкость, но теперь к ней примешивалось сочувствие. Только бы она не заплакала, только не здесь, не в этой неуютной комнате, куда постоянно кто-нибудь заходит.
Словно услышав ее молитвы, миссис Уилкинс суетливо вытащила из кармана не желавший подчиняться носовой платок, без стеснения высморкалась, проморгалась, избавляясь от слез, и то ли смущенно, то ли испуганно с грустной улыбкой взглянула на собеседницу.
– Вы не поверите, но ни разу в жизни ни с кем я не разговаривала так откровенно. Понять не могу, что на меня нашло.
– Это все из-за объявления, – заключила миссис Арбутнот и серьезно кивнула.
– Да, – согласилась миссис Уилкинс, украдкой промокнув глаза. – А еще из-за того, что мы обе такие… несчастные.
Глава 2
Вообще-то миссис Арбутнот не считала себя несчастной. Разве такое возможно, когда за тобой присматривает Бог? Однако возражать не стала, так как рядом сидело существо, остро нуждавшееся в помощи, причем на этот раз дело не ограничивалось обувью, одеялами и улучшением санитарных условий: требовалось куда более деликатное участие, понимание, точные, правильные слова.
После попытки что-то сказать о самопожертвовании, молитвах и полном посвящении себя Богу миссис Уилкинс мгновенно находила непоследовательное, но ввиду ограниченности времени не допускавшее возражения замечание. В результате миссис Арбутнот обнаружила, что единственно точные, правильные слова заключаются в предположении, что не будет вреда, если ответить на объявление: никаких обязательств, просто несколько уточняющих вопросов, но больше всего беспокоило то обстоятельство, что предложила она это не только ради миссис Уилкинс, а под влиянием собственной странной тоски по средневековому замку.
Очень неприятно, очень тревожно. Как могло ее, привыкшую направлять, вести, советовать, поддерживать – всех, кроме мужа: его она давно научилась оставлять Богу, – сбить с толку простое объявление и не вполне адекватная незнакомка. Да, чрезвычайно неприятно и очень тревожно. Трудно понять внезапную тоску по эфемерным радостям, ведь сердце уже давно забыло посторонние, ненужные чувства.
– Думаю, если просто кое-что уточнить, то ничего плохого не случится, – проговорила миссис Арбутнот совсем тихо, словно боялась, что услышат и осудят бедняки, которым она помогала, вкупе с викарием и Почтовым сберегательным банком.
– Тем более что это ни к чему нас не обяжет, – подтвердила миссис Уилкинс так же тихо, но голос ее дрожал.
Дамы одновременно встали – причем миссис Арбутнот удивилась неожиданно высокому росту миссис Уилкинс, – подошли к письменному столу, и миссис Арбутнот написала ответ по адресу: «Z, ящик 1000, «Таймс» – с просьбой в деталях изложить условия сделки. Обратилась за всеми подробностями, хотя на самом деле интересовалась единственным вопросом: арендной платой. Как-то сразу стало ясно, что сочинить ответ на объявление и заняться деловой стороной вопроса должна именно миссис Арбутнот, поскольку не только имела опыт в организации разного рода мероприятий и решении практических задач, но также была старше и определенно уравновешеннее, к тому же (в чем сама не сомневалась) и значительно мудрее. Миссис Уилкинс тоже ничуть в этом не сомневалась: ведь даже то, что миссис Арбутнот носила прическу с пробором, свидетельствовало о порожденном мудростью спокойствии.
Новая подруга представлялась миссис Арбутнот источником полезного движения: пусть сбивчиво и невнятно, она все-таки побуждала к действию. Помимо потребности в помощи, миссис Уилкинс обладала деятельным, вселявшим тревогу, создававшим неустойчивую атмосферу характером, вела за собой. А то, как часто и внезапно парадоксальный ум склонялся к внезапным выводам – естественно, ошибочным (например, что миссис Арбутнот несчастна), – и вообще вызывало изумление.
Как бы то ни было, невзирая на неуравновешенность новой знакомой, неожиданно для себя миссис Арбутнот разделила и волнение, и мечту. Однако, опустив письмо в почтовый ящик и осознав, что исправить уже ничего нельзя, обе дамы ощутили острое чувство вины.
– Теперь понятно, – прошептала миссис Уилкинс, как только они отвернулись от почтового ящика, – насколько безупречную, добродетельную жизнь мы вели. Впервые сделав что-то тайком от мужей, тут же почувствовали вину за этот поступок.
– Боюсь, вряд ли могу назвать свою жизнь безупречной и добродетельной, – слабо возразила миссис Арбутнот, слегка обескураженная новым неожиданным выводом: ведь она ни словом не обмолвилась о чувстве вины.
– О, не сомневаюсь, что так и есть! Вижу, какая вы хорошая и оттого несчастная.
«Она не должна так говорить! – опять подумала миссис Арбутнот. – Надо постараться помочь ей больше так не делать».
Вслух же она рассудительно произнесла:
– Не понимаю, почему вы упорно утверждаете, что я несчастна. Думаю, узнав поближе, вы измените свое мнение. Скорее всего, вы просто верите в то, что достижение добродетели приносит несчастье.
– Верю, – ответила миссис Уилкинс. – Наша добродетель действительно приносит несчастье. Мы ее достигли и стали несчастными. Существует два вида добродетели – печальная и радостная. Например, в средневековом замке мы познаем радостную добродетель.
– В том случае, если там окажемся, – строго добавила миссис Арбутнот, понимая, что безотчетные порывы миссис Уилкинс нужно решительно сдерживать. – В конце концов, мы отправили письмо лишь для того, чтобы уточнить кое-какие детали. Это еще ничего не значит. Вполне вероятно, что условия нам не подойдут, ну а если даже окажутся подходящими, мы возьмем и передумаем ехать.
– Но я вижу нас там, – безапелляционно заявила миссис Уилкинс.
Все это будоражило, тревожило и волновало. Шлепая по лужам на собрание, где предстояло выступить, миссис Арбутнот никак не могла привести мысли в порядок. Оставалось надеяться, что в присутствии миссис Уилкинс удалось скрыть беспокойство и предстать перед новой знакомой практичной, рассудительной и здравомыслящей особой. Но на самом деле она испытывала необычайное волнение, счастье, вину, страх и, сама того не сознавая, все прочие чувства, свойственные женщине, которая возвращается с тайного любовного свидания.
Именно так она выглядела, с опозданием поднявшись на кафедру. Всегда прямая и открытая, сейчас она едва ли не с сомнением смотрела на деревянные лица слушателей, ожидающих очередной попытки уговорить их пожертвовать деньги на облегчение участи бедняков Хемпстеда. Каждый из присутствующих искренне считал, что сам нуждается в помощи. Казалось, миссис Арбутнот скрывала от них что-то постыдное, но восхитительное. Обычное чистое выражение непорочности исчезло, уступив место затаенной и испуганной радости, которая немедленно навела бы более светскую аудиторию на мысль о недавней и, возможно, страстной любовной встрече.
«Красота, красота, красота…» Только это слово и звенело в ушах, в то время как она стояла на кафедре и рассказывала немногочисленной аудитории о печальных обстоятельствах подопечных. Она ни разу не была в Италии. Неужели действительно можно потратить сбережения на поездку? Хоть она и не одобряла веры миссис Уилкинс в предопределенность ближайшего будущего, как будто выбора не существовало, как будто сопротивляться и даже размышлять не имело смысла, идея оказала несомненное влияние на сознание. Кажется, миссис Уилкинс обладала даром предвидения: миссис Арбутнот давно выяснила, что некоторые действительно наделены этой редкой способностью, – поэтому если она и правда видела их обеих в средневековом замке, то, возможно, борьба с мечтой не больше, чем пустая трата времени. И все же допустимо ли использовать сбережения для удовлетворения собственных желаний? Происхождение денег было безнравственным, но она хотя бы надеялась, что цель окажется благородной. Можно ли изменить оправдывающую средства цель и потратить деньги на удовольствие?
Миссис Арбутнот говорила и говорила, до такой степени привыкнув к выступлениям подобного рода, что могла бы произнести речь во сне. Когда же собрание подошло к концу, затуманенный тайными видениями взор не позволил заметить, что никто из слушателей не поверил ни единому слову, а тем более не задумался об облегчении горькой участи бедняков.
Однако викарий все заметил и испытал глубокое разочарование. Как правило, его добрая подруга и помощница миссис Арбутнот выступала более убедительно. Но самое необычное, подумал викарий, заключалось в том, что сама она ничуть не расстроилась из-за неудачи.
– Представить не могу, куда идут эти люди, – сказал он на прощание раздраженным тоном, рассердившись и на слушателей, и на добровольную проповедницу. – Ничто на свете их не трогает.
– Может быть, им просто нужен отдых, – предположила миссис Арбутнот.
Плохой, неубедительный ответ, подумал викарий, и саркастически уточнил ей вслед:
– В феврале?
– О нет! Не раньше апреля, – отозвалась миссис Арбутнот через плечо.
Очень странно, подумал викарий. В самом деле очень странно. Вернувшись домой сердитым, он обошелся с женой не совсем по-христиански.
В вечерней молитве миссис Арбутнот обратилась к Господу за помощью и руководством. Она почувствовала, что должна прямо и открыто попросить, чтобы средневековый замок оказался занят кем-нибудь другим и вопрос решился бы сам собой, однако не нашла в душе достаточного мужества. Вдруг просьба исполнится? Нет, нельзя необдуманно рисковать. В конце концов, почти предупредила она Бога, если истратить сбережения на поездку, то потом можно будет накопить еще, причем довольно быстро: Фредерик никогда не скупился. Правда, возникала проблема: если придется начать откладывать деньги заново, то на некоторое время вклад в церковную благотворительность сократится. И тогда получится, что порочное происхождение денег не очистится добродетельным использованием.
Не располагая собственными средствами, миссис Арбутнот была вынуждена существовать на доходы от литературной деятельности мужа, а ее сбережения представляли собой посмертно созревший плод первородного греха. Способ, которым Фредерик Арбутнот зарабатывал на жизнь, составлял одно из главных несчастий жены. Он регулярно, из года в год, писал пользовавшиеся огромной популярностью биографии королевских любовниц. История насчитывала множество королей, имевших любовниц, и еще больше любовниц, имевших королей. Число их было настолько велико, что позволяло Фредерику каждый год брака публиковать новую книгу, и при этом очередь ожидавших внимания куртизанок не иссякала. Миссис Арбутнот ничего не могла изменить. Нравилось ей это или нет, приходилось жить на гонорары мужа. Однажды, после грандиозного успеха биографии мадам Дюбарри, Фредерик подарил ей чудовищный диван с огромными пухлыми подушками и мягким уютным сиденьем, и теперь она глубоко страдала оттого, что здесь, в ее доме, живет реинкарнация покойной французской грешницы.
Чистая душой, убежденная, что счастье должно основываться на морали и добродетели, миссис Арбутнот так и не смогла примириться с тем, что они с Фредериком строили благосостояние на блуде, пусть даже отфильтрованном прошедшими веками. Вот в чем заключалась одна из тайных причин ее постоянной печали. Чем больше героиня забывала о собственной душе, тем активнее публика читала книгу, и, следовательно, тем больше денег Фредерик выделял жене. Все, что он давал, за вычетом небольшой суммы сбережений – она надеялась, что рано или поздно порочные произведения мужа перестанут пользоваться популярностью, и тогда его придется поддерживать материально, – отправлялось на помощь бедным. Церковный приход процветал благодаря дурному поведению (если наугад назвать несколько имен) мадам Дюбарри, Монтеспан, Помпадур, Нинон де Ланкло и даже ученой маркизы де Ментенон. Бедняки представляли собой тот фильтр, проходя сквозь который, как надеялась миссис Арбутнот, деньги очищались от скверны. Большего она сделать не могла. Когда-то в прошлом пыталась обдумать ситуацию и найти выход, верный путь, но этот путь, как и сам Фредерик, оказался слишком трудным, так что пришлось, как и Фредерика, оставить его на волю Господа. Ни на дом, ни на свою одежду она эти деньги не тратила: и то и другое, за исключением роскошного дивана, оставалось весьма скромным, если не сказать – убогим. Выгоду получали только бедные обитатели Хемпстеда. Даже их обувь держалась на грехах. Но до чего же все это было сложно! В поисках наставления и избавления миссис Арбутнот молилась до изнеможения. Следует ли полностью отказаться от денег, сторониться их так же, как она сторонилась греховного источника? Но тогда что же делать с обувью для прихода? Она спросила совета у викария, и тот крайне осторожно, уклончиво, деликатно дал понять, что стоит на стороне обуви.
Хорошо, что, когда Фредерик только начал свою ужасную карьеру – а несчастье случилось уже после свадьбы, так как она вышла замуж за безупречного сотрудника библиотеки Британского музея, – ей удалось убедить его писать под псевдонимом, чтобы избежать скандальной известности. Жители Хемпстеда с увлечением читали книги, не подозревая, что автор живет по соседству. Фредерика никто не знал даже наглядно. Он никогда не ходил на местные праздники и всякого рода собрания. Свободное время проводил исключительно в Лондоне, но никогда не рассказывал, с кем встречался и что делал, так что для жены его друзья не существовали. Один лишь викарий знал об источнике средств на благо прихода, но, как сам он сказал миссис Арбутнот, считал молчание делом чести.
К счастью, маленький дом оставался свободным от призраков безнравственных женщин, поскольку Фредерик работал в другом месте. Да, возле Британского музея в его распоряжении было две комнаты арендованной квартиры, представлявшие собой место эксгумации: он уезжал туда рано утром, а возвращался, когда жена уже давно спала, а случалось, и вовсе не возвращался. Порой она не видела мужа по несколько дней подряд, а потом вдруг Фредерик неожиданно выходил к завтраку, накануне открыв дверь собственным ключом – очень веселый, добродушный, щедрый, – и радовался, если она соглашалась принять подарок. Сытый, довольный миром, жизнерадостный, полнокровный мужчина. А она держалась с неизменной мягкой кротостью и заботилась, чтобы кофе получался таким, как он любит.
Фредерик выглядел очень счастливым. Жизнь, часто думала миссис Арбутнот, не поддавалась классификации и оставалась вечной тайной. Не всех можно распределить по установленным разрядам, и Фредерик был как раз одним из таких. Он нисколько не походил на того Фредерика, за которого она выходила замуж, не нуждался ни в одной из тех ценностей, о которых когда-то говорил как о важнейших и прекрасных: любви, доме, взаимопомощи и взаимопонимании. В начале совместной жизни миссис Арбутнот пыталась удержать мужа на тех позициях, откуда они так замечательно, рука об руку, начинали свой путь. Увы, в результате этих попыток сама она претерпела тяжкие страдания, а тот, за кого вышла замуж, изменился до неузнаваемости, но, к сожалению, не в лучшую сторону. Поняв, что потерпела полный крах, миссис Арбутнот повесила мысль о муже возле кровати в качестве главного предмета молитв и оставила на волю Господа. Когда-то она слишком глубоко его любила, чтобы сейчас решиться на что-то иное помимо молитвы. Он даже не подозревал, что ни разу не вышел из дома без ее благословения, без витавшего вокруг когда-то дорогой сердцу головы легкого ореола погибшей любви. Она не осмеливалась думать о прежнем Фредерике: таком, каким он казался в первые, счастливые дни брака. Их ребенок умер в младенчестве, и в мире не осталось никого, кому она могла бы себя посвятить, поэтому бедняки превратились в детей, а Бог стал объектом любви. Порой миссис Арбутнот спрашивала себя, что может быть счастливее такой жизни, но лицо, а особенно глаза, оставались печальными.
«Может быть, когда состаримся… потом, когда оба станем совсем старыми…»
Глава 3
Средневековым замком владел англичанин, некий мистер Бриггс. В настоящее время он жил в Лондоне, а в ответ на обращение написал, что готов предложить восемь кроватей отдельно от слуг, три гостиных, крепостные стены с бойницами, угловые башни-донжоны и электрическое освещение. Цена аренды составляла шестьдесят фунтов, а помимо этого оплата жалованья слуг. Хозяин также просил представить рекомендации, поскольку нуждался в гарантии оплаты второй половины суммы (первая выплачивалась авансом). Годилась рекомендация юриста, доктора или священника. В письме владелец замка вежливо пояснял, что подобный порядок вполне обычен и должен рассматриваться как простая формальность.
Миссис Уилкинс и миссис Арбутнот понятия не имели о рекомендациях и не подозревали, что арендная плата окажется столь высокой. В их умах мелькали мысли о трех гинеях в неделю или даже меньше, учитывая, что замок представлял собой едва ли не развалины.
Шестьдесят фунтов за один месяц! Сумма ошеломила.
Миссис Арбутнот первым делом подумала о ботинках: о бесконечной веренице крепких ботинок, которые можно купить на шестьдесят фунтов, – а ведь кроме этого придется оплачивать жалованье слугам, еду и железнодорожные билеты туда и обратно. Рекомендации также представляли серьезное препятствие, поскольку влекли за собой более широкую огласку, чем хотелось бы.
Обе они, даже миссис Арбутнот, сознавали, что, впервые в жизни осмелившись отступить от абсолютной честности, можно избавиться от множества хлопот и неприятностей, неизбежных при неловкой попытке сказать правду, поэтому было решено, что каждая в своем кругу – благо круги эти не пересекались – скажет, что отправляется в гости к подруге, у которой есть дом в Италии. Миссис Уилкинс уверяла, что это будет чистой правдой, однако миссис Арбутнот сомневалась в абсолютной чистоте. Кроме того, по словам миссис Уилкинс, только так можно удержать Меллерша в рамках хотя бы относительного спокойствия. Трата даже небольшой части личных денег на дорогу в Италию приведет его в негодование, а о том, как отреагирует муж на известие об аренде средневекового замка, лучше вообще не думать. Возмущенный монолог растянется на несколько дней, хотя ни единое потраченное пенни не принадлежит ему и никогда не принадлежало.
– Полагаю, – заключила миссис Уилкинс, – ваш муж такой же. Думаю, что в конечном счете все мужья одинаковы.
Миссис Арбутнот промолчала, поскольку не хотела открывать Фредерику правду совсем по другой, противоположной причине: знала, что муж не только не станет возражать против ее отъезда, а чрезвычайно обрадуется и воспримет внезапное проявление самостоятельности и светскости с унизительным одобрением; больше того, посоветует хорошо провести время и не рваться домой с сокрушительной отрешенностью. Уж лучше выслушать нотацию Меллерша: не так обидно и унизительно, – чем поощрение Фредерика. Чувствовать себя необходимой, неважно по какой причине, все-таки приятнее, чем сознавать, что никому ты не нужна, никто не станет по тебе скучать и ждать твоего возвращения.
Ничего не сказав в ответ на это замечание, она позволила миссис Уилкинс беспрепятственно прийти к очередному скоропалительному выводу. Весь день обе леди думали только о необходимости отказаться от мысли о средневековом замке, пока не поняли, что это невозможно: мечта глубоко вонзилась в мозг и не желала его покидать.
Вскоре миссис Арбутнот, чей ум уже научился искать и находить выход из любых ситуаций, придумала, как получить рекомендации; а миссис Уилкинс в то же время посетило озарение относительно снижения арендной платы.
Простой план миссис Арбутнот увенчался успехом, и она лично отнесла владельцу замка всю сумму арендной платы, предварительно сняв деньги со счета в Почтовом сберегательном банке, где держалась с таким виноватым видом, как будто служащий мог знать, что деньги пойдут на удовлетворение собственной предосудительной прихоти. Положив шесть десятифунтовых банкнот в сумочку, она явилась на Бромптон-Оратори, где жил мистер Бриггс, и отдала ему всю сумму, сделав вид, что забыла о просьбе предварительно заплатить только половину. Скромно одетая особа со строгим пробором и мягкими темными глазами внушала уважение, и владелец замка тут же попросил не беспокоиться насчет рекомендаций и дал расписку в получении шестидесяти фунтов.
– Все в порядке, – заверил он любезно. – Не желаете ли присесть? Отвратительная погода, не правда ли? Возможно, в моем замке чего-то недостает для полного комфорта, но чего там точно в избытке, так это солнца. Едете с супругом?
Привыкнув всегда и везде говорить правду и только правду, миссис Арбутнот несколько смешалась и что-то невнятно пробормотала, а мистер Бриггс тут же решил, что она вдова: скорее всего, потеряла мужа во время войны. Как же он мог сразу не понять?
– О, прошу прощения, – покраснев до корней светлых волос, извинился владелец замка. – Вовсе не хотел… хм, да…
Он еще раз пробежал глазами расписку и, отдавая документ даме, заверил:
– Да, думаю, все правильно. Ну вот: теперь один из нас стал богаче, а другая соответственно счастливее. Я получил деньги, а вы обеспечили себе чудесный отдых в замке Сан-Сальваторе. Интересно, какое из приобретений лучше?
– Думаю, вам это известно, – ответила миссис Арбутнот со своей скромной милой улыбкой.
Мистер Бриггс, явно довольный, рассмеялся и распахнул для нее дверь. Жаль, что беседа так быстро закончилась: ему очень хотелось пригласить понравившуюся ему леди на ленч. Посетительница была похожа одновременно на мать и няню: такая же добрая и ласковая, – но с одним преимуществом: не была ни той ни другой.
– Надеюсь, Сан-Сальваторе вам понравится, – заметил мистер Бриггс у порога, чуть дольше допустимого задержав ее руку в своей. Даже сквозь перчатку ладонь согревала и утешала: должно быть, поэтому в темноте дети любят держаться за руку матери или няни. – В апреле вокруг множество цветов. И, конечно, море. Вы непременно должны взять с собой белое платье: будет необыкновенно красиво. Кстати, в замке есть несколько ваших портретов.
– Моих портретов?
– Да. Это Мадонны. Одна, что на лестнице, в точности похожа на вас.
Миссис Арбутнот с улыбкой поблагодарила его и попрощалась. Без малейшего затруднения удалось поместить джентльмена в нужную категорию: это был художник, натура сентиментальная и восторженная.
Пожав любезному хозяину руку, она ушла, а он с сожалением посмотрел ей вслед. Оставшись в одиночестве, Бриггс подумал, что все-таки стоило потребовать рекомендации: хотя бы для того, чтобы она не сочла его легкомысленным, – но с тем же успехом, как у этой серьезной очаровательной леди, можно было потребовать рекомендации у святой с нимбом вокруг чела.
Роуз Арбутнот.
На столе лежало ее письмо с просьбой о встрече.
Какое милое имя!
Итак, одно затруднение удалось преодолеть, но оставалось второе: поистине уничтожающее воздействие расходов на сбережения, – особенно это касалось миссис Уилкинс, поскольку ее накопления соотносились с накоплениями миссис Арбутнот примерно так же, как яйцо зуйка с яйцом утки. Но здесь помогло осенившее миссис Уилкинс предвидение необходимых для устранения препятствия шагов. Получив в полное распоряжение замок Сан-Сальваторе – прекрасное религиозное название завораживало, – они, в свою очередь, также дадут объявление в газету «Таймс» и пригласят еще двух леди с близкими интересами разделить как отдых, так и расходы.
Таким образом, финансовая нагрузка сразу уменьшится с половины стоимости аренды и прочего до четверти. Миссис Уилкинс была готова потратить на путешествие все имеющиеся деньги, но сознавала, что если хотя бы на шесть пенсов превысит сумму девяносто фунтов, то окажется в ужасном положении. Представить только: вот она приходит к Меллершу и говорит: «У меня долг». Страшно даже подумать о том, что непредвиденные обстоятельства заставят признаться в отсутствии сбережений, но в таком случае хотя бы можно утешиться тем, что деньги принадлежали лично ей, поэтому, принимая возможность вложить в предприятие всю сумму до последнего пенни, она ни в коем случае не могла хотя бы на фартинг превзойти очевидный лимит собственных средств. А потому, сократись арендная плата до пятнадцати фунтов, возникла бы надежная прибавка на прочие нужды. Конечно, придется основательно экономить на еде: например, собирать оливки с деревьев, что растут около замка, и питаться ими, а также, возможно, ловить рыбу.
Леди сошлись во мнении, что, увеличив число постояльцев, арендную плату можно свети до минимума. При желании ничто не мешало пригласить не двух, а шесть спутниц, поскольку замок располагал восемью спальными местами, но если восемь кроватей стоят по две в четырех комнатах, то будет не очень приятно ночевать рядом с незнакомкой. К тому же такая большая компания может оказаться слишком шумной. В конце концов, они едут в Сан-Сальваторе отдыхать и наслаждаться тишиной, следовательно, шесть посторонних дам, особенно проникнув в их спальню, нарушат планы.
Как бы то ни было, а в нужный момент во всей Англии нашлось всего две леди, пожелавших отправиться в Италию в апреле: на объявление пришло только два ответа.
– Что ж, мы и хотели привлечь двух спутниц, – быстро перестроилась миссис Уилкинс, хотя ожидала бурного потока писем.
– Думаю, было бы неплохо иметь возможность выбора, – осторожно заметила миссис Арбутнот.
– Имеете в виду, что тогда нам не пришлось бы терпеть присутствие леди Кэролайн Дестер?
– Я этого не говорила, – возразила миссис Арбутнот.
– Вовсе нет необходимости брать ее с собой, – пояснила миссис Уилкинс. – Даже одна компаньонка поможет значительно сократить расходы. Совершенно необязательно приглашать двух.
– Но с какой стати мы должны ей отказывать? Она вполне нам подходит.
– Судя по письму, так и есть, – не очень уверенно согласилась с ней миссис Уилкинс, которая почему-то чувствовала, что присутствие леди Кэролайн Дестер внесет дискомфорт в их существование.
Как бы странно ни казалось, но миссис Уилкинс никогда еще не приходилось общаться с аристократами.
Они побеседовали и с леди Кэролайн, и со второй претенденткой, некой миссис Фишер.
Леди Кэролайн сама явилась в клуб на Шафтсбери-авеню и весьма эмоционально выразила собственное непреодолимое желание уехать как можно дальше от всех, кого когда-нибудь знала. Осмотревшись в клубе, познакомившись с будущими соседками, она сразу поняла: это именно то, что необходимо в данный момент. Она окажется в Италии, которую обожает, но, слава богу, не в каком-нибудь фешенебельном отеле, которые ненавидит. Ей не придется жить и общаться с опостылевшими друзьями из сливок общества: их заменят дамы, которые и словом не обмолвятся ни об одном из ее знакомых по той простой причине, что никогда никого из них не встречали, не могли встретить и не встретят. Она задала несколько вопросов о четвертой особе и получила вполне удовлетворившие ее ответы. Миссис Фишер с Принсес-Уэйлс-террас, вдова, тоже не могла знать никого из ее друзей. Леди Кэролайн понятия не имела, что это за «терраса» такая и где именно находится.
– Где-то в Лондоне, – пояснила миссис Арбутнот.
– Правда? Впервые слышу, – удивилась леди Кэролайн, но совершенно спокойно.
Миссис Фишер приехать не смогла, ибо, как объяснила в письме, у нее проблемы с ногами, поэтому дамы отправились к ней сами.
– Но если она не может даже до клуба добраться, то как же поедет в Италию? – в недоумении проговорила миссис Уилкинс.
– Вот от нее самой и узнаем, – заметила миссис Арбутнот.
На деликатные расспросы миссис Фишер ответила, что сидеть в поезде вовсе не то же самое, что ходить по улицам, так что сомнения благополучно развеялись. Если не брать во внимание трость, то миссис Фишер оказалась весьма приятной четвертой компаньонкой: спокойной и образованной, хотя и пожилой. Самой молодой из них была леди Кэролайн, которая сообщила, что ей двадцать восемь. Миссис Фишер выглядела в высшей степени респектабельной и до сих пор носила полный траур, хотя, по ее словам, потеряла мужа одиннадцать лет назад. Дом ее изобиловал снабженными дарственными надписями фотографиями знаменитых (ныне покойных) представителей Викторианской эпохи, с которыми она познакомилась еще в детстве. Отец ее был известным критиком, так что в доме побывали практически все, кто что-то значил в литературе и искусстве. Карлайл выглядел сердитым; Мэтью Арнольд держал ее на коленях, а Теннисон любил дразнить из-за коротких косичек. Миссис Фишер с воодушевлением демонстрировала развешанные по стенам фотографии, указывала тростью на подписи, но ни словом не обмолвилась о своем муже и, что особенно порадовало, не спросила новых знакомых об их мужьях. Судя по всему, дама приняла их за вдов: услышав, что их четвертой попутчицей станет некая леди Кэролайн Дестер, она уточнила:
– Тоже вдова? – А услышав в ответ, что леди Кэролайн незамужняя молодая женщина, миролюбиво заметила: – Всему свое время.
Сама отрешенность миссис Фишер: дама, казалось, всецело погружена в мир прошлого, тех интересных людей, с которыми когда-то общалась, и их фотографий, – служила убедительной рекомендацией. Она попросила лишь об одном: чтобы ей позволили спокойно сидеть на солнышке и мысленно предаваться воспоминаниям, – а именно этого и ждали от спутниц миссис Арбутнот и миссис Уилкинс. Обе они считали, что о лучшей соседке и мечтать не приходится: пусть себе сидит сколько хочет и мечтает, а вечером в субботу оплачивает свою часть расходов. Еще миссис Фишер поведала, что очень любит цветы: вот однажды, когда вместе с отцом они гостили на Бокс-Хилл…
– Кто жил на Бокс-Хилл? – перебила миссис Уилкинс.
Познакомившись с дамой, которая знала действительно великих людей, она очень боялась, что миссис Арбутнот сейчас уведет ее и не даст услышать даже половины того, что хотелось бы услышать, а потому уже несколько раз задавала уточняющие вопросы. Ее поведение показалось миссис Фишер крайне невежественным и неучтивым, поэтому дама лаконично буркнула:
– Мередит, разумеется. – Потом продолжила: – Так вот, помню один наш визит. Отец часто брал меня с собой, но эту поездку вспоминаю особенно часто…
– А Китса вы знали? – взволнованно поинтересовалась миссис Уилкинс.
После паузы миссис Фишер со сдержанной язвительностью ответила, что не имела чести быть знакомой ни с Китсом, ни с Шекспиром.
– Ах, конечно! До чего же глупо с моей стороны! – густо покраснев, воскликнула миссис Уилкинс. – А все потому, что великие люди кажутся живыми и близкими, как будто с минуты на минуту войдут в комнату. Совсем забываешь, что они давно умерли. Точнее говоря, всем известно, что они вовсе не мертвы, а живы – точно так же, как вы и я.
Миссис Фишер внимательно наблюдала за странной дамой поверх очков, а та, встревоженная пристальным взглядом, бессвязно продолжала бормотать:
– Недавно я действительно увидела Китса, у нас в Хемпстеде. Он переходил улицу как раз перед тем домом… ну, вы знаете… перед тем домом, где жил…
Миссис Арбутнот прервала ее словесный поток, заметив, что им пора.
Миссис Фишер дам не задерживала.
– Но я действительно его видела, – никак не успокаивалась миссис Уилкинс, покраснев еще больше и обращаясь то к одной даме, то к другой. – Уверена, что видела. Он был одет в…
Теперь даже миссис Арбутнот посмотрела на нее с недоумением и нежнейшим голосом напомнила, что, кажется, они уже опаздывают на ленч, а миссис Фишер вдруг попросила представить рекомендации. Ей вовсе не хотелось провести целый месяц в обществе особы, страдающей галлюцинациями. Конечно, замок Сан-Сальваторе располагает тремя гостиными, крепостными стенами и большим садом, так что найдется, где укрыться от миссис Уилкинс, но все равно будет неприятно, если та вдруг заявит, что, например, видела мистера Фишера. Мистер Фишер умер, пусть мертвым и остается. Миссис Фишер не хотела бы услышать, что ее супруг разгуливает по саду. Единственная рекомендация, в которой она нуждалась, поскольку достигла преклонных лет и занимала свое место в обществе, чтобы волноваться насчет сомнительных знакомств, – это оценка здоровья миссис Уилкинс, причем именно психического. Действительно ли она самая обычная женщина, не страдающая какими-либо расстройствами? Миссис Фишер полагала, что если посетительницы назовут хотя бы одну достойную доверия фамилию, то ничто не помешает обратиться к этому лицу за подтверждением, поэтому и попросила представить рекомендации. Обе собеседницы до такой степени изумились, что миссис Уилкинс даже на пару мгновений умолкла, а миссис Фишер резонно добавила:
– Но это вполне обычная практика.
Впрочем, миссис Уилкинс опомнилась первой.
– Но в таком случае это мы должны потребовать рекомендацию.
Миссис Арбутнот была полностью с ней согласна, ведь именно они решали, принять ли миссис Фишер в свою компанию, а не она.
Вместо ответа хозяйка встала, опираясь на трость, подошла к столу, твердой рукой написала три имени и протянула листок миссис Уилкинс. От увиденного у той глаза полезли на лоб: президент Королевской академии наук, архиепископ Кентерберийский и управляющий Банком Англии… Разве кто-нибудь осмелится обратиться к этим почтенным личностям за подтверждением, действительно ли их подруга такова, какой желает казаться?
– Джентльмены знают меня с детства, – скромно пояснила миссис Фишер.
Судя по всему, все знали ее с детства: качали на коленях и водили на прогулки.
– Вряд ли рекомендации уместны между… между уважающими друг друга приличными женщинами, – поняв, что загнала сама себя в тупик, заметила миссис Уилкинс, поскольку отлично понимала, что может представить одну-единственную рекомендацию – от управляющего гастрономом Шулбреда. Только вот кто ей поверит, если в основе деловых отношений лежала исключительно рыба для Меллерша. – Мы не занимаемся бизнесом и не считаем необходимым беспокоить друг друга…
На помощь компаньонке пришла миссис Арбутнот и со свойственным ей очаровательным достоинством заявила:
– Боюсь, что требования рекомендаций придадут нашему путешествию нежелательную напряженность, поэтому не думаю, что мы примем ваши рекомендации или представим вам свои. Полагаю, вы передумали к нам присоединяться.
Она протянула руку, чтобы распрощаться и уйти, но в этот миг пожилая дама сосредоточила взгляд именно на ней, вызывавшей симпатию и доверие даже у служащих подземки, а присмотревшись, решила, что глупо отказываться от возможности отдыха в Италии на предложенных условиях. Что касается второй дамы, то с помощью этой спокойной и разумной миссис Арбутнот можно будет справиться с ее странными приступами болтливости.
– Очень хорошо, – пожав поданную руку, ответила миссис Фишер. – Отзываю рекомендации.
По дороге к расположенной на Кенсингтон-хай-стрит станции подземки спутницы пришли к единому мнению, что поведение миссис Фишер высокомерно. Даже щедрая на оправдания чьих-либо оплошностей миссис Арбутнот подумала, что их будущая компаньонка могла бы найти слова покорректнее, а миссис Уилкинс приняла кардинальное решение: разогрев кровь долгой ходьбой и борьбой с чужими зонтами, предложила отказаться от общества миссис Фишер и просто отозвать приглашение.
Миссис Арбутнот, однако, как всегда, заняла выжидательную позицию. Вскоре, слегка остыв и успокоившись, уже в поезде, миссис Уилкинс изменила свое мнение и с уверенностью заявила, что в Сан-Сальваторе миссис Фишер найдет свое место, с горящими глазами заключив:
– Прямо вот как сейчас вижу: она занимает правильную позицию.
Тем временем миссис Арбутнот неподвижно сидела со спокойно сложенными на коленях руками и размышляла, как наилучшим образом помочь миссис Уилкинс перестать столь часто видеть грядущие события, а уж если что и видеть, то молча.
Глава 4
Было решено, что миссис Арбутнот и миссис Уилкинс приедут в замок Сан-Сальваторе вечером 31 марта, поскольку, объяснив, как туда добраться, владелец поддержал их в нежелании начать отдых именно 1 апреля. Незнакомым друг с другом, а потому не обязанным общаться в дороге леди Кэролайн Дестер и миссис Фишер предстояло только к концу пути выяснить, кто есть кто, и приехать на место утром 2 апреля. Таким образом, появлялась возможность подготовиться к их прибытию: несмотря на равенство в оплате, они все-таки должны были немного ощущать себя гостьями.
В конце марта произошли неприятные события. Испуганная, подавленная чувством вины и ужасом, но полная решимости миссис Уилкинс заявила мужу, что ее пригласили в Италию, но тот отказался верить: просто взял и отказался! Прежде никто, никуда и никогда не приглашал его жену, не говоря уж о том, чтобы в Италию. Меллерш потребовал доказательств. Единственным доказательством могла служить миссис Арбутнот, и миссис Уилкинс ее предъявила, но сколько страстных уговоров, сколько пламенных просьб для этого потребовалось! Миссис Арбутнот понятия не имела, как сможет посмотреть в глаза мистеру Уилкинсу и сказать не соответствующие истине слова, тем самым подтвердив собственное подозрение в медленном, но неуклонном отступлении от Бога.
Больше того, весь март изобиловал опасными, тревожными происшествиями. Месяц выдался тяжелым. Изнеженная, избалованная многолетними потаканиями совесть миссис Арбутнот отказывалась примириться с неполным соответствием высоким требованиям добродетели. Совесть лишала покоя и заставляла неустанно молиться, то и дело нарушала просьбы о божественном руководстве неудобными вопросами вроде: «Уж не лицемеришь ли ты? Действительно так считаешь? Не испытаешь ли разочарования, если молитва вдруг исполнится?»
Сырая холодная погода действовала заодно с совестью, вызвав среди бедняков намного больше болезней, чем обычно. Подопечных мучил бронхит, терзала лихорадка. Напасти следовали бесконечной чередой. И в это время она собиралась уехать, потратить такие нужные деньги на путешествие, на собственное удовольствие. Она одна будет счастлива месяц, в то время как другим несчастным этих денег хватило бы надолго.
У нее не было сил прямо взглянуть в доброе лицо викария. Святой отец не знал, и никто не знал, о ее планах, поэтому с самого начала миссис Арбутнот не могла никому смотреть в глаза, как не могла и произносить речи с просьбами о пожертвованиях. Разве имела она право убеждать незнакомых слушателей, помогать неимущим, если сама собиралась потратить крупную сумму столь эгоистическим образом? Не успокоило и не поддержало даже то, что, дабы восполнить предназначавшиеся беднякам средства, миссис Арбутнот попросила у Фредерика немного денег, и муж тут же, не задавая вопросов, выписал чек на сто фунтов. Она густо покраснела, а Фредерик, взглянув на жену, отвел глаза, чтобы не выказать своей радости оттого, что она приняла решение уехать. Миссис Арбутнот немедленно передала деньги в организацию, с которой сотрудничала, но облегчения не почувствовала.
Миссис Уилкинс, напротив, не испытывала ни малейших колебаний и угрызений совести, поскольку с самого начала не сомневалась, что имеет полное право на отдых и может потратить с трудом скопленные деньги по своему усмотрению.
– Только подумайте, какими мы оттуда вернемся, – стараясь подбодрить, обратилась она к бледной спутнице.
Нет, миссис Уилкинс ничуть не сомневалась в верности принятого решения, хотя и боялась. Март тоже стал для нее тяжелым месяцем, ибо ничего не подозревавший мистер Уилкинс по-прежнему изо дня в день приходил домой обедать и ел свою рыбу.
Обстоятельства складывались крайне неловко, настолько неловко, что даже удивительно. Чтобы угодить мужу, она подавала самые любимые блюда, покупала лучшие продукты и особенно трепетно относилась к приготовлению, – и в итоге до такой степени преуспела, что, доставляя мужу гастрономическое удовольствие, привела его к мысли, что все-таки он женился правильно, хотя прежде не раз подозревал, что совершил непоправимую ошибку. В результате в третье воскресенье месяца – а миссис Уилкинс с трепетом решила, что в четвертое воскресенье (всего в этом марте их было пять, и в пятое ей предстояло уехать) наберется смелости и расскажет Меллершу о приглашении, – после того как йоркширский пудинг растаял во рту, а абрикосовый пирог незаметно исчез целиком, Меллерш закурил сигару перед весело горевшим камином и под стук ветра в окно заявил:
– Собираюсь на Пасху отвезти тебя в Италию.
Супруг умолк в ожидании возгласов изумления и благодарности, но его ожидание не оправдалось. Если не считать завывания ветра и веселого потрескивания камина, в комнате царила глубокая тишина. Миссис Уилкинс не могла вымолвить ни слова, словно лишилась дара речи. В следующее воскресенье предстояло сообщить мужу важную новость, а она до сих пор не придумала, как это сделает.
Мистер Уилкинс, который ездил за границу еще до войны, сейчас с возрастающим негодованием переживал ветер, дождь и прочие погодные мерзости, постепенно укрепляясь в желании покинуть Англию хотя бы на время и провести Пасху в благословенном краю. Дела его шли успешно, так что он вполне мог позволить себе путешествие. Швейцария в апреле ничем не могла порадовать, а вот Италия очень даже, так что надо ехать именно туда. А поскольку отпуск без жены вызовет нежелательные пересуды, придется взять ее с собой. К тому же она может оказаться полезной: покараулить багаж или что-нибудь подержать, поднести.
Мистер Уилкинс ожидал бурных восторгов, поэтому гробовое молчание выбило его из колеи. Он решил, что жена, должно быть, не расслышала: возможно, погрузилась в какую-нибудь очередную бредовую мечту. Порой у него вызывало досаду, что до сих пор она оставалась наивной, как ребенок…
Он повернулся – кресла стояли рядом, напротив камина – и взглянул на супругу. Миссис Уилкинс сосредоточенно смотрела на пламя камина, отчего лицо ее казалось странно красным.
Повысив благозвучный, отточенный в многочисленных судебных заседаниях голос и не скрывая язвительности, так как невнимание в столь ответственный момент ранило самолюбие, Меллерш повторил:
– Должно быть, ты не расслышала? Собираюсь на Пасху отвезти тебя в Италию.
Конечно, все она расслышала: просто задумалась о необыкновенном совпадении. Действительно необыкновенном. Как раз собиралась сказать, что приглашена… подруга пригласила… тоже на Пасху. Пасха ведь в апреле, правда? У подруги там, в Италии, дом…
Объятая ужасом, чувством вины и изумлением, в эту минуту миссис Уилкинс изъяснялась еще более непоследовательно и сбивчиво – если такое возможно, – чем обычно.
Вечер прошел ужасно. До глубины души разгневанный – как же так: благое намерение осталось неоцененным! – Меллерш подверг жену крайне суровому допросу, потребовал немедленно написать подруге и отвергнуть приглашение, поскольку она опрометчиво согласилась без позволения мужа. Но его буквально шокировало неожиданное, необъяснимое упрямство, с которым он столкнулся. Не в силах поверить, что она действительно приглашена в Италию, не захотел он признать и существование некой миссис Арбутнот, о которой прежде ничего не слышал. Пришлось предъявить это нежное, тихое, стеснительное существо во плоти пред его очи, и лишь тогда мистер Уилкинс позволил себе поверить, ибо не поверить миссис Арбутнот было невозможно. Она оказала на него точно такое же влияние, какое оказывала на всех окружающих: могла ничего не говорить, а просто посмотреть кроткими темными глазами. Только вот беда: ее собственная совесть не позволяла забыть о том, что мистер Уилкинс получил неполное впечатление. «Похоже, ты считаешь, что не сказать всей правды и солгать – не одно и то же, – строго попеняла неутомимая совесть. – Господь не видит никакой разницы».
Остаток марта прошел как сумбурный дурной сон. И миссис Арбутнот, и миссис Уилкинс чувствовали себя измученными и, как ни старались избавиться от давящего сознания собственной вины, глубоко страдали, так что, когда утром 30 марта наконец-то сели в поезд, не ощутили даже тени радости от предстоящего путешествия.
– Мы слишком добродетельны, слишком правильны, – бормотала миссис Уилкинс, пока, приехав за час до отправления, они прогуливались по перрону вокзала Виктория. – И поэтому нам кажется, что поступаем дурно. Мы настолько запуганы, что почти перестали быть настоящими людьми. Настоящие люди никогда не бывают такими хорошими, как мы. О! – Она нервно сжала тонкие руки. – Подумать только, ведь сейчас мы должны испытывать счастье: здесь, на перроне, перед самым отъездом! – а мы его не испытываем. Для нас все испорчено просто потому, что сами все испортили! Что плохого в том, хочу я знать, – негодующе обратилась она к спутнице, – что единственный раз в жизни мы решили уехать и отдохнуть от них?
Терпеливо шагая рядом, миссис Арбутнот не спросила, кого именно миссис Уилкинс имеет в виду, говоря «от них», потому что знала ответ: конечно же, мужей, поскольку предполагала, что Фредерик встретил известие с таким же бурным гневом, как Меллерш.
Миссис Арбутнот никогда и нигде не упоминала о супруге, промолчала и сейчас. Фредерик слишком глубоко проник в сердце, чтобы о нем говорить. Заканчивая очередную кошмарную книгу, он особенно много работал и в течение нескольких последних недель почти не бывал дома; отсутствовал и в день ее отъезда. В полной уверенности, что возражений не последует, миссис Арбутнот просто написала короткую записку и положила на стол в холле: прочитает, когда вернется. Объяснять, куда отправляется и зачем, не имело смысла: его это мало интересовало, – она просто заверила мужа, что опытная горничная Глэдис о нем позаботится.
День выдался ненастным: ветреным и дождливым. В проливе Дувр бушевали волны, и от качки обеим стало дурно, но даже самые тяжелые испытания рано или поздно заканчиваются. После долгой изнурительной морской болезни оказаться в Кале и ступить наконец на твердую землю уже показалось счастьем, и понемногу окоченевшие души начали согреваться истинным великолепием происходящего. Первой оттаяла миссис Уилкинс, а от нее уже тепло передалось бледной спутнице. В ресторане они заказали камбалу, потому что миссис Уилкинс захотела наконец отведать той рыбы, которую готовила для мужа. Здесь, в Кале, образ Меллерша сразу как-то сжался и утратил значение. Французские носильщики его не знали, и ни один чиновник не имел о нем ни малейшего понятия. В Париже подумать о муже не хватило времени, потому что поезд из Кале опоздал и на Лионском вокзале они с трудом успели сесть в поезд до Турина, а на следующий день, уже в Италии, Англия, Фредерик, Меллерш, викарий, бедняки, Хемпстед, клуб, гастроном Шулбреда – все это тусклое, темное, утомительное убожество окончательно утонуло в дымке забвения.
Глава 5
Италия встретила путешественниц низкими плотными облаками, чем несказанно удивила, поскольку они ожидали увидеть яркое солнце. И все же здесь даже облака показались белыми и пушистыми. Ни одна ни другая прежде не бывали в Италии, и сейчас обе завороженно смотрели в окно. Время летело незаметно, тем более что каждый час приближал их к вожделенному сказочному замку. В Генуе начался дождь. Генуя! Подумать только! Название было написано на здании вокзала, как любое другое. В Нерви дождь перешел в ливень, а когда, ближе к полуночи, наконец-то добрались до городка Меццаго, потому что поезд опять опоздал, ливень превратился в сплошную водяную стену. Но это же Италия, и по определению ничто здесь не могло оказаться плохим. Даже дождь отличался от английского: прямой и ровный, он падал строго вертикально, причем точно на зонт, а не хлестал беспорядочно во все стороны. К тому же всем известно, что в Италии дожди быстро заканчиваются, и тогда выясняется, что земля покрыта розами.
Владелец замка мистер Бриггс предупредил, что надо выйти в Меццаго и проехать несколько миль в экипаже, но забыл сказать про поезда, которые иногда опаздывают, вообразив, видно, что арендаторы прибудут на станцию в восемь часов вечера, обнаружат целую вереницу ожидающих пассажиров пролеток и выберут подходящую.
Поезд опоздал на четыре часа, и когда дамы с трудом спустились из вагона по крутым ступенькам, ступили в черную от паровозной сажи лужу и пошли по перрону, загребая подолами грязную воду, потому что руки были заняты чемоданами, ни одной пролетки на площади не оказалось: устав ждать, все извозчики давно разъехались по домам. Если бы не предусмотрительность добросовестного садовника Доменико, доехать до замка было бы не на чем. Заботливый Доменико по опыту знал, как обстоят дела на железной дороге, а потому выслал на станцию пролетку тетушки под управлением ее сына – своего кузена. Тетушка, кузен и сам садовник жили в приютившейся у подножия замка деревушке Кастаньедо, поэтому, как бы поздно ни прибыл поезд, возвращение домой без всего, что следовало доставить со станции, было невозможно.
Кузена Доменико звали Беппо, и вскоре парень возник из темноты, посреди которой путешественницы замерли в растерянности, не зная, что делать дальше. Поезд ушел, ни одного носильщика заметно не было, да и вообще казалось, что стоят они не на платформе, а прямо на железнодорожных путях.
Из-за долгого ожидания иностранок Беппо появился из мрака сердитым и сразу принялся громко, быстро и эмоционально что-то говорить по-итальянски. Беппо, весьма респектабельный молодой человек, сейчас, в темноте и под дождем, вовсе не выглядел таковым, в насквозь промокшей шляпе, которая сползла на один глаз. Дамам не понравилось, как он схватил их чемоданы: обе подумали, что носильщиком он ну никак быть не может, – однако вскоре в потоке непонятной речи прозвучало знакомое, вселяющее надежду «Сан-Сальваторе», после чего, стараясь не отстать и не потерять из виду чемоданы, спотыкаясь о рельсы и шпалы, утопая в лужах, путешественницы побежали следом, не переставая громко повторять название замка, и, в конце концов, выбрались на дорогу, где стояла маленькая высокая пролетка.
Верх был поднят, а лошадь пребывала то ли в дреме, то ли в задумчивости. Едва путешественницы забрались внутрь – причем миссис Уилкинс не полностью поместилась под навесом, – лошадь внезапно очнулась и быстро зашагала: очевидно, в сторону дома – без возницы и без чемоданов.
С оглушительными криками Беппо бросился следом и едва успел схватить свисавшие поводья. Гордо и, как ему казалось, с абсолютной ясностью он объяснил иностранкам, что лошадь всегда так себя ведет, потому что это прекрасное, сытое и здоровое животное, за которым он ухаживает как за собственным ребенком. Леди, должно быть, испугались: крепко схватились друг за друга и, как бы громко, внятно и красноречиво он ни изъяснялся, уставились на него широко раскрытыми глазами, ничего не понимая.
И все же Беппо все говорил и говорил, даже втискивая в пролетку чемоданы. Рано или поздно они должны были понять, потому что слова он сопровождал самыми очевидными, доходчивыми жестами. Однако ничего не менялось: пассажирки продолжали смотреть на него испуганно и вопросительно. Обе дамы были симпатичные и молодые, подумал Беппо, а их внимательно следившие за ним поверх чемоданов глаза – сундуков, к счастью, не было, только чемоданы – напоминали очи Мадонны. Даже после того, как пролетка тронулась, обе леди без устали вопросительно повторяли название замка, словно опасались, что он увезет их в какое-то другое место.
– Сан-Сальваторе?
И всякий раз Беппо громко, убедительно отвечал:
– Si, si, San-Salvatore[3].
– Неизвестно, туда ли он нас везет, – потеряв терпение, тихо проговорила миссис Арбутнот.
Дорога казалась бесконечной. Мощеная улица окутанного сном городка закончилась, и теперь они ехали по извилистой дороге вдоль низкой стены, за которой простиралась черная пустота. Издалека доносился звук морского прибоя. С другой стороны, очень близко, тянулось что-то высокое, отвесное и темное.
– Скалы, – прошептали друг другу спутницы. – Огромные скалы.
Обе чувствовали себя ужасно: ночь, темно, дорога такая долгая и пустынная. Вдруг отвалится колесо? Вдруг встретятся фашисты или те, кто им противостоит? Надо было остаться на ночь в Генуе, а утром, при дневном свете, продолжить путь.
– Но ведь тогда уже наступило бы первое апреля, – шепотом заметила миссис Арбутнот.
– Первое апреля уже и так наступило, – пробормотала миссис Уилкинс.
Они замолчали, Беппо опять обернулся на козлах: пассажирки уже отметили эту его опасную привычку, ведь нельзя оставлять лошадь без присмотра – и в очередной раз обратился к ним, как ему казалось, с полной ясностью: без местного наречия и со множеством вспомогательных жестов.
Ах, ну почему в детстве их не заставили учить итальянский! Тогда можно было бы уверенно сказать: «Будьте добры, сядьте прямо и смотрите за лошадью», – а они даже не знали, как по-итальянски «лошадь». Стыдно быть настолько невежественными!
В волнении, поскольку дорога огибала громадные нависающие скалы, а слева от морского обрыва защищала только невысокая стена, обе леди тоже принялись преувеличенно жестикулировать: размахивать руками и кричать, призывая возницу смотреть вперед. Однако тот, похоже, решил, что его просят прибавить скорость, и следующие десять минут, когда он постарался угодить приятным дамам, превратились в кошмар. Он гордился своей лошадью, а та действительно умела бегать очень быстро. После того как Беппо, привстав на козлах, щелкнул кнутом, лошадь так резко рванула вперед, что маленькая пролетка накренилась, чемоданы опрокинулись, а миссис Арбутнот и миссис Уилкинс судорожно ухватились друг за друга. Так, раскачиваясь и цепляясь за все, что попадало под руку, они в ужасе мчались до тех пор, пока возле Кастаньедо дорога не устремилась вверх. У подножия холма, где знала каждый дюйм, лошадь внезапно остановилась, отчего все, что находилось в пролетке, сбилось в кучу, немного постояла, словно решила передохнуть, а затем медленно-медленно пошла дальше, словно вдруг превратилась в старую клячу.
Беппо, явно гордый, что у него такая умная лошадь, обернулся, ожидая похвалы и восторгов, но леди почему-то сидели с каменными, смертельно бледными лицами.
И вот наконец на вершине холма показались дома: да, скалы закончились, и начались дома, низкая стена тоже закончилась. Море отступило, звук прибоя стих, ночное путешествие наконец-то подошло к концу. Света, конечно, нигде не было: никто не видел, как они едут, – однако, едва заметив дома, Беппо громко объявил через плечо:
– Кастаньедо! – Затем снова привстал, щелкнул хлыстом и пустил лошадь галопом.
– Через минуту будем на месте, – шепотом пробормотала миссис Арбутнот, изо всех сил вцепившись в борт.
– Скоро остановимся, – заверила себя миссис Уилкинс, тоже крепко вцепившись в борт.
Друг друга они не услышали, потому что громко щелкал кнут, стучали колеса и звучали бодрые обращения Беппо к лошади.
Обе леди с тревогой всматривались в пространство в надежде увидеть средневековый замок. Они ждали и верили, что, миновав деревенскую улицу, окажутся перед высоким величественным арочным порталом, а затем по обрамленной деревьями подъездной дороге подъедут к приветливо распахнутой двери и войдут в ярко освещенный холл, где, согласно объявлению, их встретят прекрасно обученные гостеприимные слуги. Но вместо этого пролетка внезапно остановилась. Выглянув, путешественницы увидели все ту же деревенскую улицу с неказистыми темными домами по обе стороны. Беппо бросил поводья на спину лошади с таким видом, будто не собирался ехать дальше, и спрыгнул с козел. В тот же миг неизвестно откуда возле пролетки появились люди: мужчина и несколько подростков принялись живо стаскивать чемоданы.
– Нет-нет! Сан-Сальваторе, Сан-Сальваторе! – возмущенно воскликнула миссис Уилкинс, отчаянно пытаясь удержать оставшийся багаж.
– Si, si! San-Salvatore! – дружно ответили незнакомцы, продолжая похищать чемоданы.
– Но это не может быть Сан-Сальваторе! – обратилась миссис Уилкинс к миссис Арбутнот, которая сидела неподвижно, наблюдая за изъятием чемоданов с тем же терпением, с каким относилась к неприятностям меньшего масштаба. Она точно знала, что, если эти мужчины окажутся злодеями и захотят завладеть багажом, все равно не сумеет помешать преступным намерениям.
– Да, пока что-то непохоже на старинный замок, – согласилась миссис Арбутнот и не удержалась от мгновенного недоумения относительно неисповедимости путей Господних. Неужели она действительно явилась сюда вместе с бедной миссис Уилкинс после долгих хлопот, множества тревог и трудностей, по окольным путям отклонения от правды и прямого обмана только для того, чтобы быть…
Миссис Арбутнот пресекла опасные мысли и, в то время как оборванцы-подростки скрылись в темноте вместе с чемоданами, а человек с фонарем помог Беппо снять укрывавший пассажирок фартук, обратилась к спутнице и тихо напомнила, что обе они находятся в руках Господа. Впервые в жизни, услышав эти слова, миссис Уилкинс испугалась.
Не оставалось ничего другого, кроме как спуститься на землю. Бесполезно продолжать сидеть в пролетке и упрямо повторять «Сан-Сальваторе». Всякий раз, когда они произносили это название, причем все менее уверенными голосами, Беппо и другие отвечали громкими дружными криками. Ах, если бы только в детстве они выучили итальянский язык! Если бы могли сказать: «Хотим, чтобы нас подвезли к двери». Но они даже не знали, как по-итальянски будет «дверь». Теперь уже выяснилось, что подобное невежество не просто постыдно, а еще и опасно. Но какой смысл сожалеть об упущенных возможностях? Какой смысл оттягивать то, что должно случиться, и продолжать упрямо сидеть в пролетке? Пришлось выйти.
Два человека передали им в руки их открытые зонты. Галантный поступок немного успокоил: вряд ли разбойники побеспокоились бы о комфорте жертв. Человек с фонарем жестом предложил следовать за ним, что-то очень громко и быстро проговорив, а Беппо остался на месте. Надо ли ему платить? Если их собирались ограбить и убить, то не надо: в таких случаях обычно не платят. К тому же он ведь привез их не в Сан-Сальваторе, это явно какое-то другое место. К счастью, возница не проявил ни малейшего стремления получить оплату, а без единого возражения отпустил пассажирок в темноту. Путешественницы решили, что это плохой знак: Беппо не попросил ничего, поскольку надеялся вскоре получить все.
Из темноты показались какие-то ступени. Дорога неожиданно закончилась возле церкви, а рядом вела вниз старинная лестница. Провожатый опустил фонарь, чтобы осветить стертые множеством ног камни.
– Сан-Сальваторе? – в очередной раз робко спросила миссис Уилкинс, прежде чем сделать первый шаг. Она понимала, что уже бесполезно уточнять направление, однако от страха не могла спуститься молча, поскольку была уверена, что ни один средневековый замок никогда не строился у подножия лестницы.
Однако в ответ снова раздался громкий ободряющий крик:
– Si, si! San-Salvatore!
Путешественницы шагали осторожно, приподняв юбки, как будто надеялись когда-нибудь снова их надеть, а не думали о близком конце.
Ступени привели к ведущей еще ниже дорожке, выложенной плоскими каменными плитами. Утомленные, дамы то и дело поскальзывались на мокрых плитах, но человек с фонарем, не переставая громко и быстро говорить, всякий раз их поддерживал, причем делал это очень ловко и деликатно.
– Может, ничего страшного не произойдет и все закончится благополучно, – с надеждой в голосе проговорила миссис Уилкинс.
– Мы в руках Господа, – повторила миссис Арбутнот, и спутница опять испугалась.
Они спустились по склону, и фонарь осветил открытое пространство, с трех сторон ограниченное домами. Четвертой стороной оказалось лениво перекатывавшееся по гальке море.
– Сан-Сальваторе, – произнес провожатый, указывая фонарем на огибавшую воду бесформенную темную глыбу.
Путешественницы всмотрелись и, увидев массивное сооружение, на вершине которого горел свет, не веря собственным глазам, переспросили:
– Сан-Сальваторе?
В таком случае, где же чемоданы и почему их заставили выйти из пролетки?
– Si, si, San-Salvatore.
Вслед за человеком с фонарем они покорно зашагали по отдаленному подобию набережной, справа от воды. Здесь не было даже низкой стены, ничего, что могло бы помешать кому-то при желании столкнуть их в море.
– Может, все еще обойдется, – опять прошептала миссис Уилкинс.
Миссис Арбутнот теперь уже и сама начала так думать, а потому не упомянула о руках Господа.
Свет фонаря танцевал, отражаясь в мокрых камнях набережной. Слева в темноте, явно в конце мола, маячил красный огонек. Они подошли к арке с тяжелыми железными воротами. Человек с фонарем распахнул створки. В этот раз лестница повела не вниз, а вверх, и закончилась вьющейся среди цветов тропинкой. В темноте не удалось рассмотреть, какие именно цветы здесь росли, но одно было ясно: их очень много.
В этот момент миссис Уилкинс предположила, что пролетка не довезла их до ворот по той простой причине, что сюда вела не дорога, а тропинка. Тем же обстоятельством объяснялось и исчезновение чемоданов. Родилось утешительное предчувствие: когда они поднимутся на вершину, чемоданы уже будут их ждать. Судя по всему, как и положено уважающему себя средневековому замку, Сан-Сальваторе все-таки располагался на холме. Когда тропинка повернула, они увидели над головой, теперь уже намного ближе и ярче, тот самый свет, который заметили с набережной. Миссис Уилкинс поделилась с миссис Арбутнот посетившей ее мыслью, и та согласилась, что, скорее всего, предположение справедливо.
Указывая на черный силуэт на фоне чуть менее черного неба, миссис Уилкинс снова произнесла, в этот раз почти утвердительно:
– Сан-Сальваторе?
И снова, еще более уверенно, не оставляя сомнений, прозвучал хорошо знакомый ответ:
– Si, si, San-Salvatore.
Не отставая от невозмутимого предводителя, компаньонки прошли по маленькому мосту через обязательный для каждого средневекового замка ров и ступили на плоскую поляну с высокой травой, отчего чулки сразу намокли. Судя по наполнявшему воздух аромату, невидимые цветы присутствовали повсюду. Извилистая дорожка повела между деревьями. Теплый дождь раскрывал бесконечное разнообразие и сладость садовых запахов. Чем выше в душистую тьму взбиралась тропинка, тем дальше и ниже оставался красный огонек мола.
Вскоре путники перешли на противоположную сторону небольшого полуострова, и красный свет окончательно пропал, но взамен слева, в отдалении, показалось множество ярких огней.
– Меццаго, – пояснил провожатый, качнув в ту сторону фонарем.
– Si, si, – дружно ответили путешественницы, к этому моменту хорошо выучив легкое и полезное слово.
В ответ галантный кавалер рассыпался в любезных комплиментах по поводу великолепного владения итальянским языком, но, к сожалению, ни одного слова хвалебного монолога понять не удалось. Это и был Доменико: предусмотрительный и обходительный садовник Сан-Сальваторе, надежда и опора владельца замка, – изобретательный, одаренный, красноречивый, вежливый, интеллигентный Доменико. Но только леди пока об этом не догадывались, потому что в темноте, а порой даже на свету, с резкими чертами смуглого лица и быстрыми, легкими движениями пантеры незнакомец подозрительно напоминал разбойника.
Путь продолжился по следующему плоскому участку, где справа нависала темная стена, и привел к шпалерам, густо заросшим пахучими лианами, ронявшими сладкую капель. Луч фонаря высветил лилии и остановился на старинных, истертых веками каменных ступенях. Раскрылись еще одни железные ворота, и вот наконец путешественницы оказались внутри замка, хотя по-прежнему взбирались по винтовой каменной лестнице с похожими на донжоны древними стенами по обе стороны и сводчатой крышей.
На верхней площадке лестницы перед усталыми взорами предстала кованая дверь, из-под которой щедро лился электрический свет.
– Ecco![4] – провозгласил Доменико, бодро взбежав по последним ступенькам и гостеприимно распахнув дверь.
Да, они прибыли на место, в самый настоящий средневековый замок Сан-Сальваторе! По пути их не убили, и вот их чемоданы в холле.
Леди переглянулись, и каждая увидела бледное лицо и прищуренные от яркого света глаза.
Настал великий, знаменательный момент. Наконец-то мечта сбылась: они оказались в вожделенном средневековом замке, на самых настоящих средневековых каменных плитах.
Миссис Уилкинс обняла миссис Арбутнот и, поцеловав в щеку, тихо, но торжественно объявила:
– Первое, что должно случиться в этом доме, это поцелуй.
– Милая Лотти, – проворковала миссис Арбутнот.
– Милая Роуз, – отозвалась миссис Уилкинс с сияющими радостью глазами.
Доменико пришел в восторг. Ему понравилось, как целуются эти английские леди. Он приветствовал обеих пламенной, вдохновенной речью, а они стояли рука об руку, поддерживая друг друга, потому что очень устали и боялись упасть, улыбались, моргали, хотя и не понимали ни слова.
Глава 6
Проснувшись наутро, прежде чем встать и распахнуть ставни, миссис Уилкинс несколько минут лежала с закрытыми глазами. Интересно, что ждет там, за окном: сияющий солнечный мир или пелена дождя? Так или иначе, день будет прекрасным при любой погоде.
Спальня представляла собой маленькую комнату с пустыми белыми стенами, каменным полом и самой необходимой старинной мебелью. Покрытые черным лаком кровати – здесь их оказалось две – украшали нарисованные яркими красками букеты. Лотти лежала, предвкушая грандиозный миг открытия ставен. Точно так же порой, наслаждаясь ожиданием радости, мы не спешим распечатать долгожданное, дорогое сердцу письмо. Она понятия не имела о времени, потому что в последний раз завела часы много веков назад, ложась спать еще в Хемпстеде. В доме не раздавалось ни звука, так что, скорее всего, было еще очень рано. И все-таки она так замечательно отдохнула и набралась сил, как будто проспала долго. Лежа с закинутыми за голову руками, она улыбалась и думала о том, что счастлива. Одна в постели: восхитительное ощущение. В течение долгих пяти лет она ни разу не спала без Меллерша. Ощущение прохладного простора и свободы движений, чувство безмятежной отваги, возможность натянуть одеяло так, как хочется, или по-своему положить подушку – все это напоминало открытие новой радости.
Миссис Уилкинс понимала, что надо встать и распахнуть ставни, но ленилась: так тоже было очень-очень хорошо, – поэтому умиротворенно вздохнула и посмотрела по сторонам, наслаждаясь видом своей чудесной маленькой комнаты, где можно на целый благословенный месяц все устроить так, как хочется. Она арендовала эту комнату на собственные сбережения, во многом себе отказывая, и теперь при желании могла запереть дверь и никого сюда не впускать. Такая странная комната, ни на что не похожая, и все же такая милая, почти монашеская келья. Если не считать двух кроватей, здесь царил безмятежный аскетизм. «Название комнаты было Мир»[5], – вспомнила она и улыбнулась.
Да, лежать вот так и размышлять о счастье было бы восхитительно, но там, за ставнями, скрывался еще более чудесный мир. Она вскочила, сунула ноги в тапочки, потому что каменный пол прикрывал единственный маленький коврик, подбежала к окну и распахнула ставни.
– О! – воскликнула миссис Уилкинс.
Потрясенному взору открылось бесконечное великолепие итальянского апреля. Сияло солнце. Мягко вздыхая, в ласковых лучах нежилось море. На другой стороне бухты дремали изысканно окрашенные в нежные цвета прелестные горы, а под окном, у подножия поросшего травой и цветами склона, подобно огромному черному мечу пронзая голубые, сиреневые, розовые оттенки моря и гор, красовался высокий кипарис.
Лотти смотрела, затаив дыхание. Что за волшебная красота! И вот она здесь, чтобы все увидеть собственными глазами. Волшебная красота, и она способна ее чувствовать. Лицо купалось в свете солнца. Цветы дарили прелестные запахи. Легкий ветерок ласково играл волосами. Далеко в бухте, словно стайка белых птиц на морской глади, замерли рыбацкие лодки. Ах как чудесно! Как чудесно! Нужно продолжать жить, чтобы получить возможность видеть это снова и снова, вдыхать напоенный свежестью воздух, ощущать необыкновенный, божественный мир… Она смотрела, изумленно приоткрыв рот. Счастье? Бедное, скудное, затертое слово. Но что еще можно сказать, как еще описать невероятное впечатление? Душа рвалась на свободу, не в силах удержаться в теле. Тело оказалось слишком тесным, чтобы вместить такое количество радости и насквозь пропитаться светом. До чего же удивительно познать чистое блаженство: вот она здесь, не совершает и не собирается совершать ни единого бескорыстного, лишенного эгоизма поступка; не делает ничего из того, что не хочет делать. Если верить всем, кого Лотти встретила в жизни, в эту минуту необходимо испытывать угрызения совести. А ее совесть даже не напоминала о себе. Очевидно, что-то где-то не так. Удивительно, что дома она неизменно оставалась хорошей, слишком хорошей, однако при этом постоянно терпела самые разные, но всегда жестокие угрызения совести, выслушивала упреки и осуждения, хотя вела себя абсолютно правильно и вовсе не эгоистично. А вот сейчас отбросила всю добродетель, как снимают и бросают промокшую под дождем одежду, и испытала чистое блаженство: осталась нагой и обрадовалась наготе, освободилась и возликовала. И пусть где-то далеко, в сумрачной сырости Хемпстеда, злился Меллерш.
Она попыталась представить супруга, увидеть, как он завтракает и одновременно очень плохо думает о ней, но вдруг даже муж начал как-то странно мерцать, стал бледно-розовым, потом нежно-сиреневым, очаровательно-голубым, бесформенным, радужным, а потом, продержавшись не дольше минуты, растворился в свете.
Странно, подумала миссис Уилкинс, глядя вслед мужу. Очень непривычно не иметь возможности представить Меллерша, ведь она знает наизусть каждую его черту, каждое выражение лица, и все же не видит его таким, какой он есть, а представляет растворившимся в красоте и гармонии окружающего мира. В голову легко и естественно пришли слова благодарственной молитвы, и незаметно для себя самой она принялась вслух горячо благодарить Господа за создание мира, сохранение дарованной жизни и все доступные радости, но в первую очередь за его бесконечную любовь. А в это самое время Меллерш сердито натягивал ботинки, собираясь выйти на мокрую улицу, и действительно с горечью вспоминал о жене.
Миссис Уилкинс начала одеваться. Распаковав чемоданы и аккуратно разложив вещи по местам, она привела в порядок маленькую комнатку и в честь ясного летнего дня надела чисто-белое платье. Она двигалась быстро, легко, целеустремленно. Высокая тонкая фигура держалась прямо, обычно напряженное, хмурое маленькое личико разгладилось и расцвело. Все, что она делала прежде, до наступления этого утра, все, о чем думала и беспокоилась, исчезло. Тревоги повели себя точно так же, как недавно поступил образ Меллерша: бесследно растворились в свете и цвете. И вдруг она заметила то, чего не замечала годами: причесываясь перед зеркалом, обратила внимание на свои волосы и подумала, до чего же красивы густые волнистые локоны. Она давным-давно забыла, что у нее вообще есть волосы. Торопливо, механически заплетала их в косу по вечерам и расплетала по утрам с таким же безразличием, с каким завязывала и развязывала шнурки. А сейчас внезапно увидела собственное отражение в зеркале, намотала на палец длинную прядь и обрадовалась красоте. Меллерш, должно быть, тоже не замечал ее волос, потому что ни разу не сказал о них ни слова. Лотти решила, что, вернувшись домой, непременно привлечет его внимание. «Меллерш, – скажет она, – посмотри на мои волосы. Разве тебе не приятно, что у твоей жены волосы похожи на кудрявый мед?»
Миссис Уилкинс рассмеялась. Она еще ни разу не говорила Меллершу подобных слов, и мысль показалась забавной. Но почему же не говорила? Ах да, потому что боялась, хоть это и смешно. Как можно бояться собственного мужа, которого видишь в самые уязвимые моменты: например, во сне, когда он храпит?
Закончив приятные утренние процедуры, Лотти открыла дверь, чтобы узнать, встала ли Роуз, которую ночью сонная горничная поместила в комнату напротив. Сейчас можно просто сказать ей «доброе утро», чтобы не задерживаться, и сразу побежать вниз и до завтрака постоять возле кипариса. Потом надо будет снова немного посмотреть в окно и помочь Роуз подготовиться к приезду леди Кэролайн Дестер и миссис Фишер. Предстояло многое сделать: по-настоящему устроиться, привести в порядок комнаты. Нельзя сваливать все на Роуз. Вдвоем они смогут так чудесно украсить маленькие кельи цветами, что гостьи придут в восторг! Миссис Уилкинс вспомнила, что не хотела принимать в компанию леди Кэролайн. Подумать только: из страха и смущения изгнать кого-то из рая! Как будто страх и смущение что-то значат, как будто она действительно будет бояться и смущаться! Что за нелепая причина! Да, трудно обвинить себя в добродетели. Она вспомнила, что не хотела принимать и миссис Фишер, потому что та показалась высокомерной. До чего смешно тревожиться из-за пустяков, придавая им излишнюю важность.
Спальни и одна из гостиных Сан-Сальваторе располагались на верхнем этаже и выходили в просторный холл с большим окном в северном конце. Замок был окружен множеством крошечных палисадников, заботливо устроенных с разных сторон и на разных уровнях. Тот, на который выходило это окно, приютился на самой высокой части стены, куда можно было попасть из такого же просторного холла нижнего этажа. Когда миссис Уилкинс вышла из своей комнаты, окно оказалось открытым, а за ним нежилась на солнце цветущая розовая акация. Вокруг никого не было, стояла полная тишина. В просторных кадках красовались высокие белые лилии, а в вазе на столе пламенел огромный букет алых настурций. Простор, цветы, тишина, широкое окно с освещенной солнцем великолепной розовой акацией за ним – все это показалось нереальным, слишком прекрасным, чтобы существовать в действительности. Неужели они и правда проведут в этом раю целый месяц? До сих пор приходилось довольствоваться малым и радоваться доступным, случайно попавшимся на глаза крохам красоты: пучку маргариток на лугу в Хемпстеде в ясный день, проблеску золотого заката между двумя черными колпаками дымовых труб. Еще ни разу не доводилось бывать в безусловно, абсолютно прекрасных местах, даже в почтенных домах бывать не приходилось, поэтому обилие цветов вокруг казалось непостижимой роскошью. Весной, не в силах устоять, она иногда покупала в магазине Шулбреда полдюжины тюльпанов, хотя понимала, что если бы Меллерш знал, сколько они стоят, то счел бы трату непростительной. Но тюльпаны скоро увядали, а новые уже не появлялись. Что же касается розовой акации, то миссис Уилкинс даже не представляла, что это за чудо, и смотрела на цветущее на фоне голубого неба дерево, как на райское видение.
Миссис Арбутнот вышла из своей комнаты и, застав компаньонку застывшей посреди холла, подумала: интересно, что ее так заинтересовало?
А миссис Уилкинс обернулась и с непоколебимой убежденностью произнесла:
– Мы в руках Господа.
– О! Что случилось? – встревожилась миссис Арбутнот, и улыбка мгновенно покинула ее лицо.
Дело в том, что она проснулась с восхитительным ощущением облегчения, свободы и безопасности, и вовсе не желала обнаружить, что не сумела избавиться от необходимости спасения. Она даже не увидела во сне Фредерика. Впервые за много лет ей не казалось, что муж с ней, что сердца их рядом и бьются в унисон. Впервые пробуждение не принесло разочарования. Она спала словно младенец, и проснулась с уверенностью, что в утренней молитве не хочет сказать Господу ничего, кроме «спасибо», а потому напоминание о том, что они с Лотти все-таки пребывают в руках Бога, вызвало замешательство.
– Надеюсь, ничего страшного не произошло?
Миссис Уилкинс посмотрела на подругу с удивлением и рассмеялась.
– Это же смешно!
– Что именно? – уточнила миссис Арбутнот, подставив щеку для поцелуя.
– Мы смешные. Все вокруг смешное. Здесь просто чудесно! Так смешно и замечательно, что мы здесь оказались. Думаю, что если мы когда-нибудь попадем в рай, о котором все так много рассуждают, то не удивимся его красоте.
Миссис Арбутнот окончательно успокоилась, заулыбалась и воскликнула:
– Разве здесь не божественно?
– Ты когда-нибудь была так счастлива? – спросила миссис Уилкинс, взяв подругу за руку.
– Нет, – призналась миссис Арбутнот.
Она действительно ни разу не переживала столь безоблачного счастья, никогда, даже в первые, лучшие дни с Фредериком, потому что в том, другом счастье рядом всегда стояла боль, готовая растерзать сомнениями, замучить чрезмерностью любви к мужу. А здесь жило простое счастье полной гармонии с окружающим миром; счастье, которое ничего не просит, а все принимает, просто дышит, просто существует.
– Пойдем посмотрим на это дерево вблизи, – предложила миссис Уилкинс. – Не верю, что это всего-навсего дерево.
Взявшись за руки, они пошли по холлу. Мужья не узнали бы своих жен: до такой степени лица их помолодели от радости. Они остановились у распахнутого окна, а когда, налюбовавшись необыкновенным розовым цветением, перевели взгляд чуть дальше, чтобы насладиться красотой сада, то в восточном его конце увидели леди Кэролайн Дестер, сидевшую на низкой стене, в окружении лилий, и смотревшую на гавань.
Пораженные до глубины души, подруги стояли молча, по-прежнему держась за руки, и недоверчиво разглядывали неведомо откуда взявшуюся особу.
Леди Кэролайн Дестер тоже вышла в сад в белом платье и с непокрытой головой. В ненастный лондонский день, когда поля шляпы закрывали глаза и спускались почти до носа, а меховой воротник поднимался до ушей, Лотти и Роуз даже представить не смогли, насколько будущая компаньонка хороша собой: просто сочли ее непохожей на других посетительниц клуба. Да и сами посетительницы подумали о том же, как и проходившие мимо того угла, где обитала леди Кэролайн, искоса поглядывавшие официантки. Тогда никто не предполагал, что она настолько красива. В ярком солнечном свете каждая черта точеного лица предстала безупречной, каждая линия достигла высшей степени совершенства. Светлые волосы оказались едва ли не серебристыми; серые глаза – глубокими, с оттенками мха; темные ресницы – очень пушистыми и почти черными, гладкая светлая кожа как будто светилась и напоминала жемчуг, сочные яркие губы походили на сердечко. Девушка была экстравагантно тонкой, как тростинка, однако не без изящных плавных изгибов в тех местах, где им и положено быть. Глядя на залив, леди Кэролайн отчетливо выделялась на фоне голубого пространства. Насквозь пронизанная солнцем, она сидела на стене и беспечно болтала ногами, задевая лилии, но ничуть не жалея, что цветы, страдают и погибают.
– Опасно долго сидеть на ярком солнце, да еще без шляпы, – наконец прошептала миссис Арбутнот. – Голова заболит.
– Надо было надеть шляпу, – тоже шепотом согласилась с ней миссис Уилкинс.
– Ломает лилии.
– Но они принадлежат ей точно так же, как и нам.
– Только четверть.
Леди Кэролайн обернулась и, увидев дам, удивилась: обе выглядели значительно моложе и привлекательнее, чем в феврале, во время встречи в Лондоне. Можно даже сказать, что этим утром они даже казались вполне симпатичными – конечно, если можно быть таковыми в безвкусных нарядах. Прежде чем улыбнуться, помахать и крикнуть «доброе утро», она за полсекунды успела осмотреть соседок и оценить каждый дюйм их внешности, сразу заметив, что в отношении одежды надеяться на что-то интересное не приходится. Она не подумала об этом сознательно, поскольку терпеть не могла красивые наряды: считала, что они порабощают личность, и точно знала, что едва появившись в гардеробе, претендующая на значительность вещь захватывает хозяйку в плен и не отпускает до тех пор, пока не выйдет в свет и не предстанет перед всеми, перед кем следует предстать. Не вы идете на вечеринку в нарядном платье: платье само ведет вас в очередную гостиную. Было бы ошибкой думать, что дама – по-настоящему хорошо одетая дама – изнашивает одежду. На самом деле это одежда истощает свою владелицу, таская ее повсюду в любое время дня и ночи. Стоит ли удивляться, что мужчины дольше остаются молодыми? Новые брюки не приводят их в трепет. Леди Кэролайн ни разу не замечала, чтобы даже самые новые брюки вели себя так, словно закусили удила. Ее образы порой выглядели чересчур вольными, но, по крайней мере, она выбирала их по собственному усмотрению. Встав со стены и подойдя к окну, она с удовольствием отметила, что предстоит провести целый месяц в компании дам, платья которых, по смутным воспоминаниям, соответствовали моде еще пять лет назад.
– Приехала вчера утром, – глядя снизу вверх, пояснила леди Кэролайн с очаровательной, поистине колдовской улыбкой. В этой улыбке сосредоточилась вся прелесть мира, включая ямочки на щеках.
– Очень жаль, – ответила миссис Арбутнот, – потому что мы собирались найти для вас самую красивую комнату.
– Но я сама о себе позаботилась. По крайней мере, выбрала ту, которая показалась мне лучше других. Окна выходят на две стороны. Обожаю такие комнаты! А вы? Сквозь западное окно видно море, а из северного можно любоваться вот этой сказочной розовой акацией.











