Читать онлайн Книжный на левом берегу Сены
- Автор: Керри Мейер
- Жанр: Современная зарубежная литература
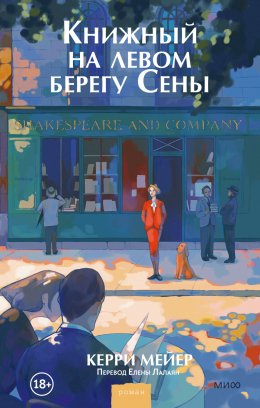
Информация от издательства
Оригинальное название:
The Paris Bookseller
На русском языке публикуется впервые
Мейер, Керри
Книжный на левом берегу Сены / Керри Мейер; пер. с англ. Е. Лалаян. — Москва: Манн, Иванов и Фербер, 2023.
ISBN 978-5-00195-711-9
Все права защищены. Никакая часть данной книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме без письменного разрешения владельцев авторских прав.
THE PARIS BOOKSELLER — Copyright © 2022 by Kerri Maher
This edition published by arrangement with Taryn Fagerness Agency and Synopsis Literary Agency
© Издание на русском языке, перевод, оформление. ООО «Манн, Иванов и Фербер», 2023
Pour mes amis[1] — близким и дальним, старинным и новым.
Вашими стараниями состоялась эта книга.
Париж так прекрасен, что утоляет тот голод, который никогда не покидает тебя в Америке.
Эрнест Хемингуэй
Часть 1. 1917–1920
…знаменитости, они ведь таковыми не родились.
Все и всегда начинают с безвестности.
Адриенна Монье
Глава 1
Тут вряд ли обманешься, Париж и был тем самым местом.
Уже пятнадцать лет, как Сильвия стремилась вернуться сюда, еще с той далекой поры, когда семейство Бич покинуло город, — тогда ее отец, Сильвестр, был пастором Американской церкви в Латинском квартале, а сама она — полной грез девчонкой-подростком, которая никак не могла пресытиться Бальзаком и кассуле. Что запомнилось ей вернее всего и что она хранила в сердце, когда семье пришлось вернуться в Соединенные Штаты, так это ощущение, будто французская столица способна затмить своим блеском любой из городов, какие она повидала или повидает в будущем. Но не сверкающий свет газовых фонарей, которые город зажигал с наступлением темноты, был тому причиной, и не сияние белого камня, одевающего стены городских зданий, — нет, блеск Парижу придавало кипение его жизни, она журчала в каждом его фонтане, искрилась в каждой студенческой пирушке, в каждом кукольном представлении в Люксембургском саду и в каждой опере на сцене театра «Одеон». И еще то, как искрилась жизнью мать Сильвии, как увлеченно она читала книги, принимала у себя профессоров, политиков и актеров, подавая им дорогие блюда, блистающие при свете свечей, на званых обедах, за которыми не иссякали оживленные споры о литературе и мировых событиях. Недаром Элеанора Бич говорила своим трем дочерям — Киприан, Сильвии и Холли, — что они живут в самом редкостном и восхитительном из всех мест на свете и что этот город непременно и навсегда изменит их судьбы.
Ничто прежнее не шло в сравнение с парижской жизнью: ни как они с сестрами и матерью рисовали плакаты, обзванивали и обходили нью-йоркские дома с агитацией за Национальную женскую партию[2] в Нью-Йорке; ни путешествия Сильвии в одиночку по Европе, где она упивалась красотой шпилей и брусчатых мостовых; ни ее первый долгожданный поцелуй с одноклассницей Джеммой Бредфорд; ни похвалы из уст любимых учителей.
Но теперь она здесь и наяву живет в городе, давно уже пленившем ее душу.
Из комнат, что она делила с Киприан в потрясающем великолепием, пускай и осыпавшемся Пале-Рояле, Сильвия спустилась к мосту Пон-Нёф и перешла на тот берег Сены, вдыхая ветер с реки, хлеставший остриженными прядями ее волос по лицу и норовивший затушить ее сигарету. Посередине моста она остановилась, чтобы оглянуться на восток и восхититься громадой собора Нотр-Дам-де-Пари с его симметричными готическими башнями по обе стороны от витражного окна-розы и изящными, такими непрочными на вид контрфорсами, чья мощь по-прежнему ошеломляла ее, — умудряются же они на протяжении веков поддерживать эти исполинские стены.
Вскоре она углубилась в узенькие улочки Латинского квартала, знакомые ей со времен, когда она бродила здесь в нежном отрочестве. Теперь она немного заблудилась, но так было даже лучше, потому что у нее появился повод полюбоваться церковью Сен-Жермен-де-Пре и спросить дорогу у миловидной студентки-француженки, попивающей кофе со сливками за столиком на тротуаре перед кафе «Дё маго». Наконец Сильвия остановилась у дома 7 по улице Одеон, где располагалась книжная лавка А. Монье.
Фасад магазинчика мадам — или, peut être[3], мадемуазель? — Монье был выкрашен в приятный глазу оттенок серого, над большими витринными окнами бледными буквами было выведено имя владелицы. Сильвия толкнула дверь, и над нею приветливо звякнул колокольчик. Горстка посетителей терялась среди полок, высившихся от пола до самого потолка и плотно уставленных книгами; люди читали их или просматривали корешки, но никто не разговаривал, поэтому здесь царило безмолвие, какое бывает в пустой церкви. Вдруг почувствовав смущение и не решившись задать вопрос, Сильвия огляделась по сторонам и решила с ним повременить.
И очень хорошо сделала, потому что обнаружила на полках чудесные издания своих любимых французских романов и почти целиком прочитала короткий рассказ в последнем выпуске «Вер э проз»[4] к тому моменту, как атмосфера лавки ожила. Посетителям со звоном и лязгом пробивали покупки, в магазин зашли две-три пары пословоохотливее, и помещение наполнилось звуками.
Вытащив с полки книгу, которую она решила купить вместе с заинтересовавшим ее номером журнала, Сильвия подошла к столу, где громоздился латунный кассовый аппарат, а за ним стояла необыкновенная молодая женщина примерно ее лет. Улыбчивые, изящной формы губы, средиземноморской голубизны глаза и разительный контраст белейшей кожи с волосами цвета воронова крыла невольно приковывали взгляд. В голове у Сильвии тут же зазвучал едкий голосок Киприан, которая непременно раскритиковала бы старомодный наряд этой женщины: юбку до пят и застегнутую на все пуговицы блузу, нарочито скромную, едва скрывающую спрятанную под ними соблазнительную фигуру, — ну и пускай, зато Сильвии в ней нравилось все. Она казалась той, с кем можно поговорить. Правда, было в ней и что-то такое особенное, отчего Сильвию охватило сильнейшее желание погладить ее бархатистую щеку.
— Ну что, нашли вы… предмет своих желаний? — спросила она Сильвию, выговаривая английские слова с сильным акцентом.
— Предмет моих желаний? — Сильвия улыбнулась истинно французской пылкости в простом вопросе молодой женщины и ответила ей по-французски: — Да, нашла, хотя я огорчена, ведь вы сразу распознали, что я не француженка.
Сильвия обладала хорошими способностями к языкам и бегло изъяснялась на трех. И была вознаграждена тем, какое впечатление ее французское произношение, судя по всему, произвело на женщину.
— Откуда вы? — спросила та, на сей раз по-французски, употребив церемонное vous.
— Из Соединенных Штатов. Если точнее, из Принстона в штате Нью-Джерси, это недалеко от Нью-Йорка. И кстати, меня зовут Сильвия. Сильвия Бич.
Молодая женщина захлопала в ладоши и воскликнула:
— О, Les États-Unis![5] Родина Бенджамина Франклина! А ведь он мой любимчик! Я Адриенна Монье.
Сильвия даже рассмеялась от того, как идеально дополняло образ этой прелестной девушки в старомодных одежках восхищение отцом-основателем, которого так высоко ставила и она сама. И конечно же, перед ней мадемуазель, а совсем не мадам.
— Рада знакомству, мадемуазель Монье. У вас замечательный магазин, особенный. И да, я тоже поклонница Бена Франклина, — призналась Сильвия. — А из Готорна вы что-нибудь читали? Или Торо?[6] А «Моби Дика»? Это один из моих любимых романов.
И они разговорились. Сильвия узнала много всего об американских авторах — как переведенных на французский язык, так и не переведенных, и о том, как трудно раздобыть англоязычные книги даже в космополитическом Париже.
— К тому же, — признала Адриенна, на миг скромно опустив пушистые ресницы, — мой английский недостаточно хорош для чтения великой литературы в подлинниках.
— Ну, всё впереди, — заверила Сильвия, ощущая, как растет и плавится ее сердце. Какие-то искорки проскакивали между ними двумя, и она не сомневалась, что дело было не только в интересе к книгам. От этой мысли у нее вспотели ладони.
— Вот ты где, Адриенна, — пропел из-за спины Сильвии восхитительно-мелодичный голос.
Обернувшись, она оказалась лицом к лицу с чарующей болезненно хрупкой красавицей с копной густых, отдающих в рыжину светлых локонов, собранных на макушке; ее наряд был таким же бесхитростным, как у Адриенны, разве что долгополая юбка и аккуратно застегнутая блуза совсем по-другому смотрелись на ее почти бесплотной фигурке. Ее пальцы, длинные и тонкие, казалось, порхали в воздухе сами по себе, как будто не до конца подчиняясь своей хозяйке. А когда они легли на более короткую и широкую руку Адриенны, Сильвия уловила намеренность этого жеста и мгновенно поняла, что двух женщин связывают любовные отношения.
А она-то было решила, что между ними с Адриенной завязался флирт. Во всяком случае, они уже перешли с чопорного vous на более непринужденное tu.
Теплота и обожание, с какими Адриенна улыбалась Сюзанне, стоявшей теперь рядом с ней, больно царапнули сердце Сильвии. Да, этих двух женщин связывало нечто особенное, друг с другом и с лавкой. Нечто, чего так долго искала она сама, не понимая, что ей оно желанно — и нужно, — пока с ним не столкнулась. Могла ли Сильвия сделать так, чтобы оно случилось и с ней? И что оно вообще такое? Сильвия вдруг почувствовала, что почва уходит у нее из-под ног, что все окружающее выбивает ее из колеи: и эта лавка, и эти женщины, и полчища книг на полках, и баритоном звучащий гомон покупателей.
— Сюзанна, — сказала Адриенна, — знакомься с нашим новым другом Сильвией Бич из Соединенных Штатов. Сильвия, это Сюзанна Бонньер, мой деловой партнер.
Сильвия с излишним энтузиазмом выбросила вперед руку, которую Сюзанна пожала, кажется, слегка тому позабавившись.
— Рада знакомству, мадемуазель Бич.
— Лучше просто Сильвия, — отозвалась та и прибавила: — Что за чудесный у вас магазин, здесь так уютно и располагающе, и книги только самые лучшие.
Правда, Сильвию немало удивляло, отчего на вывеске не указано имя Сюзанны. С другой стороны, размышляла она, как ни обворожительны Монье и Бонньер, как ни созвучны они друг другу, поставь они рядом свои имена, это выглядело бы чересчур откровенно и вольно, как Париж и смотрит на подобные вещи. Не далее как позапрошлым вечером Киприан засунула Сильвию в брючный костюм, а сама обрядилась в платье с блестками, и, на время поездки в метро спрятав наряды под долгополыми плащами, они отправились в новый бар на бульваре Эдгара Кине, посещаемый исключительно женщинами, половина из которых носили монокли и гетры. Снаружи заведение выглядело как обычная местная забегаловка, на маленьком козырьке над входом значилось просто «БАР». Но когда они оказались внутри, кричащая откровенность атмосферы сейчас же заставила Сильвию почувствовать себя не в своей тарелке. Она постаралась расслабиться и насладиться тем, что живет в стране, где могут процветать подобные заведения, где можно честно и откровенно признаться себе в собственных влечениях, где женщина в твидовом костюме и кепи смело распевает песни Билла Мюррея[7]; такое право даже защищалось законом, потому что еще Французская революция отменила уголовное наказание за однополые отношения. Но Сильвии претило ощущать себя частицей большинства, одной из многих. Ее внутренний читатель явно предпочитал изысканную недосказанность неброского А. Монье.
— О, спасибо на добром слове, — ответила Сюзанна. — Мне не доводилось бывать в вашей стране, зато я слышала и читала о ней столько всего замечательного. Что ни говори, она всегда вдохновляла Францию своим примером.
— Возможно, в моей стране и правда много всего прекрасного, но я рада, что живу во Франции, — отозвалась Сильвия, вспоминая цензуру, введенную законами Комстока и Законом о шпионаже[8], и утомительную тяжелую борьбу за избирательные права женщин, и возмутительную идею запретить алкоголь, захватывающую штат за штатом со скоростью лесного пожара. Казалось, в Америке теперь приживаются инициативы, еще недавно казавшиеся слишком нелепыми, чтобы воспринимать их всерьез, тогда как все здравое и разумное, что способствовало бы прогрессу страны в новом веке, наоборот, чахнет и сходит на нет.
— Мы тоже рады, что вы здесь, — просияла Адриенна.
— Вы просто обязаны прийти к нам сегодня на чтения! — воскликнула Сюзанна. — Будут наши дорогие друзья Валери Ларбо и Леон-Поль Фарг. И Жюль Ромен тоже. Вы же знаете этих писателей, верно?
— Конечно, приду! Сочту за честь. — От захватывающей перспективы у Сильвии похолодело в животе. Неужели Жюль Ромен? Vraiment?[9] Нашлась бы она, что ему сказать?
— Подходите к восьми. Мы больше не обращаем внимания на воздушные налеты.
Что ж. Позже, в Пале, Сильвия от переполнявших ее впечатлений никак не могла усидеть за маленьким письменным столом и сосредоточиться на испанском эссе. Ее постоянно дразнил легкий запах пыли и лаванды, напоминающий ей об А. Монье — и о самой лавке, и о ее владелице, — но всякий раз, зарываясь носом в рукав, чтобы отыскать источник аромата, Сильвия только убеждалась, что он ей почудился.
Она не могла отделаться от мысли, будто ее нынешняя рассеянность лишний раз подтверждала, что ей не суждено быть писателем, несмотря на огромное количество прочитанных ею книг и твердую уверенность окружающих — от родителей и сестер до старинной подруги Карлотты Уэллс, — что она им непременно станет.
— В тебе сидит Уолт Уитмен, — говаривал ее отец, когда она приносила очередную высокую оценку за школьное сочинение. — Я это знаю, и всё тут.
Но куда там сочинениям до стихов или романов. Сколько ни пробовала себя Сильвия в поэзии и прозе, всегда получалось что-то не то. А великого Уитмена она обожала. Помышлять о том, чтобы даже отдаленно сравниться с ним, или, если на то пошло, с Кейт Шопен[10], или кем-то из сестер Бронте, — казалось ей чуть ли не кощунством. С годами не становилось легче: повзрослев, Сильвия увлеклась литераторами, которые, как она видела, успешно продолжали и приумножали наследие Уитмена, воспевали себя и мир с такой поразительной откровенностью, что, дочитав очередное произведение, она, бывало, по полночи ворочалась в постели, мучаясь вопросами: «Как они это делают? Как проникают в сокровенные глубины моего существа, берут меня за душу, бередят ее, томящуюся взаперти телесной клетки?» Так было в особенности с «Пробуждением» Шопен и еще — с «Портретом художника в юности» Джеймса Джойса. Господи, даже при мысли об этих романах она ощущала, как внутри закипает лава вожделения, восторга и зависти. Вся в поту, Сильвия металась среди простыней, ошеломленная откровенной прямотой, с какой они описывали человеческое тело и его потаенные вожделения, чувство вины и последствия этих вожделений, складывая слова в смущающие душу предложения, обнажавшие такой, как она есть, природу душевной сумятицы их персонажей.
Сумеет ли она когда-нибудь писать столь же смело, зная, что ее нежно любимый отец-священник прочтет каждое написанное ею слово? Одно дело, что он молча мирился с ее положением старой девы и, возможно, даже с ее эпизодическими вспышками сапфизма. Что ни говори, а он никогда не толкал ее к замужеству и не задавался вопросами по поводу ее дружб с женщинами, хотя они обычно охватывали весь спектр — от чисто платонических до, хотя и изредка, душещипательно интимных. Но совсем другое дело было бы, отважься она описывать собственные желания с такой же прямотой, какая восхищала ее в новых вещах, с недавнего времени появлявшихся в литературных журналах более прогрессивного толка.
Хватило бы ей духу описывать собственные сокровенные желания со всей страстностью, но при этом не предавая себя? Годились бы ее сочинения, чтобы заполнить страницы ее любимого журнала «Литтл ревью»[11], редактор которого, Маргарет Андерсон, в 1916 году дерзнула выпустить его в виде двадцати с чем-то полосной тетрадки из девственно-чистых страниц с единственным собственным примечанием, что она более не желает печатать более-менее добротную литературу, ибо все напечатанное ею обязано быть истинным Искусством? Искусством, способным преобразить мир. Сильвия всей душой и всем сердцем верила, что в этом и есть предназначение Искусства — быть новым, вызывать перемены, изменять умы.
Помнится, ее мама в ответ на очередное высказывание отца по поводу сидящего в Сильвии Уитмена заметила: «Или, может, она станет новой Элизабет Кэди Стэнтон[12]». И почему это ее родители вечно норовили рядить ее в ей тоги великих, явно ей не по размеру? Не их ли невольными стараниями Сильвия всегда втайне ревновала к актерскому успеху Киприан?
Именно Киприан она в некотором смысле обязана тем, что сейчас они живут в Париже, так что Сильвии больше пристало бы испытывать к ней благодарность. Ее сестра играла персонажа, периодически появлявшегося в популярном еженедельном фильме-сериале «Жюдекс»[13], который настолько полюбился зрителям, что Киприан частенько останавливали на улице с просьбами об автографе, а иногда даже просили его и у Сильвии, принимая ее за подающую надежды восходящую звездочку, ошивающуюся в лучах славы и великолепия истинной кинозвезды. Сильвия послушно расписывалась, вздыхая про себя, что так уж оно повелось между ней и ее младшей сестрой. Она и в свои тридцать лет втайне возмущалась, что Киприан довольно лишь ее красоты и эффектных нарядов, чтобы приковать к себе всеобщее внимание, тогда как сама Сильвия упорно трудилась в библиотеках и за письменным столом, лелея надежду, что когда-нибудь ее слова и идеи, возможно, будут замечены публикой.
— Да ну их, вечно одни молокососы и девчонки, — жаловалась Киприан, в очередной раз расписавшись на салфетках и картонных подставках под кружки. — Где, спрашивается, герцоги, где другие состоятельные поклонники?
— Ты и так знаешь, что они существуют в природе, милая сестричка. Иначе кто присылает тебе в «Ритц» все эти бутыли «Перно» и «Вдовы»? И вообще, мужского внимания ты добиваешься только ради положения в обществе.
Киприан с большей охотой связала бы себя замужеством, чем Сильвия, которая давно уже зареклась от брака, даже фиктивного, что мог бы обеспечить ей какие-никакие средства к существованию и послужить ширмой. Но идея соединить свою личность с личностью мужчины, пускай даже предпочитающего в постели другого мужчину, нисколько не привлекала ее. Подобный союз, как она замечала, почти всегда означал поглощение одного другим. И пускай Сильвия была одной из очень немногих посвященных, знавших, что ее сестре куда милее внимание женщин, Киприан любила выставлять себя перед мужчинами в самом выигрышном свете, а это позволяло ей одеваться у «Шанель» и скупать итальянскую обувь, потакая страсти к изящным вещам, унаследованной от матери.
— Вот бы мне получить роль на сцене, — нередко вздыхала Киприан. — Тогда они могли бы заваливать цветами мою гримерную.
Наконец подошло время возвращаться на улицу Одеон, куда Сильвия поехала на метро, а затем еще с полчаса прогуливалась по брусчатке перед расположенным здесь же театром «Одеон», курила одну за другой сигареты и перебирала, на какие темы можно поговорить со знаменитыми писателями, но потом сказала себе, что поступает глупо, и решительным шагом направилась в лавку Адриенны.
В летних сумерках светильники источали тусклый свет, зато разговор в лавке искрился блеском. Адриенна с Сюзанной фланировали среди гостей, подливали напитки, легонько касались спин и шутили. В особенности Адриенна — гости прямо-таки соревновались за шанс перехватить ее. Истинная Гестия своего книжного очага, она была поглощена серьезной и глубокой беседой с небольшой группкой гостей, когда Сюзанна представила Сильвию Валери Ларбо и Жюлю Ромену. Те, словно давние знакомые, непринужденно расцеловали ее каждый в свою щеку.
— О, Монье уже много чего рассказала нам о вас, — сообщил Сильвии Ромен. — Что вы увлеченный читатель, а еще поклонница американских трансценденталистов[14]. Скажите же скорее, нравится вам Бодлер? Я имею в виду того же периода здесь, во Франции?
— О, конечно. Его «Цветы зла» оказали огромное влияние по обе стороны океана, — ответила Сильвия, чувствуя, как согревается в лучах его одобрения. Потом они некоторое время говорили о литературе девятнадцатого века, и разговор плавно перетекал с предмета на предмет, от недавно вышедших романов и поэзии к окончанию войны и перспективам развития литературы во Франции.
Здорово. Все прочитанное, как я вижу, начинает приносить свои плоды.
Легкое щекочущее прикосновение чьей-то руки, которое Сильвия ощутила на своем локте, заставило ее так вздрогнуть, что из ее бокала выплеснулось немного вина. Адриенна. Сильвия повернулась от Ларбо и Ромена к хозяйке вечера, та с улыбкой расцеловала ее в обе щеки, и она вернула Адриенне приветствие, хотя и сжатыми от смущения губами.
— Как тебе здесь, друг мой, хорошо проводишь время? — спросила Адриенна и, не дожидаясь ответа Сильвии, перевела взгляд на двоих мужчин. — Надеюсь, вы оказали достойный прием нашему новому американскому другу?
— Очень даже достойное, — поспешила заверить всех Сильвия.
— И как водится, Монье, — заметил Лабро, — ты добавила в эту сокровищницу еще один алмаз.
Казалось невероятным, что такое говорят о ней. Или что какой-то час назад она так нервничала. Сейчас Сильвия чувствовала себя здесь как дома, словно всю жизнь захаживала в этот магазинчик. И все же она вся трепетала будто в предвкушении нового приключения, погружения в омут неизвестного.
— Ну же, нечего краснеть, милая Сильвия! — засмеялась Адриенна. — Уже в тот миг, когда я впервые увидела тебя, я знала, что ты сокровище.
— Видишь ли, моя сестра — актриса, так что я привыкла, что все считают сокровищем ее, а не меня.
— Актриса? — вопросительно изогнул бровь Ромен. — Мы могли где-то ее видеть?
— «Жюдекс». Выходит каждую неделю.
Оба мужчины раскатисто захохотали, от вина их щеки еще сильнее раскраснелись.
— Ну их, не обращай внимания, — сказала Адриенна, игриво похлопывая Ромена по руке, пока он пытался совладать с собой. — Они же отъявленные снобы, и притом наихудшего сорта. Лично я люблю кино, и даже некоторые драмы с продолжением. А «Жюдекс» еще не смотрела. Думаю, нам надо на него сходить.
Вот оно, снова. Сильвию пробрала frisson — нервная дрожь. И почему французский язык так выразителен во всем, что касается влечения?
— Обязательно сходим. Киприан наверняка будет в восторге.
— Сюзанне тоже понравится.
Сюзанне. И как это я о ней забыла?
А вот и она, словно услышав их разговор, появилась рядом, громко чмокнула Адриенну в щеку и сердечно, как старинных знакомых, поприветствовала мужчин — напомнив Сильвии, что та здесь новичок, посторонняя, что как бы тепло ее здесь ни приняли, ничто здесь в действительности ей не принадлежало.
Глава 2
И все же день за днем Сильвию тянуло к Адриенне, точно пением сирен.
Французские писатели проявляли глубокий интерес к творчеству своих американских и английских коллег, которых она читала, и вскоре Сильвия уже одалживала им свои экземпляры Вордсворта и Уитмена, а также старые выпуски журналов «Дайел», «Эгоист»[15] и «Литтл ревью», привезенные ею из недавних поездок в Лондон и Нью-Йорк. Она написала матери с просьбой прислать еще книг из библиотеки, которую собирала в доме своего детства в Принстоне.
Случалось, что Киприан составляла ей компанию, и они вдвоем курили и перешептывались где-нибудь в уголке лавки, что прибавляло Сильвии уверенности перед Сюзанной, которую Киприан нарекла — втихую и только для ушей сестры — la crapaudette, особой формой французского слова, обозначающего пресмыкающееся. По сути, Киприан называла ее приживалкой.
— Но она не такая, — возражала Сильвия, хотя незаслуженная критика была бальзамом на ранах ее ревнивой души. — Идея открыть лавку в той же мере принадлежит ей, как и Адриенне.
— Тогда почему ее имя не значится на вывеске?
— Наверное, потому, что именно родители Адриенны дали им денег на открытие лавки.
Но Киприан упрямо мотала головой.
— Да говорю же тебе, Сильвия, не только в этом дело.
Даже если и так, вслух об этом не говорилось. Звучала история, что две женщины дружили еще со школы, которую окончили в Париже, потом вместе уехали в Лондон и там вынашивали мысль открыть книжную лавку, что и сделали в 1915 году. Сильвия даже не знала, чему в отношениях этих двоих она завидовала больше: непринужденному ежедневному партнерству в делах, книжному сестринству или очевидной физической близости. А сколько времени минуло с тех пор, как самой Сильвии выпадала радость целовать кого-нибудь? И хотя за ней числились один-два коротеньких романа, она не решилась бы утверждать, что когда-либо по-настоящему влюблялась. И она определенно никогда не бывала так близка с кем-либо, как были Адриенна с Сюзанной; по существу, они почти состояли в браке. Во всяком случае, в той мере, в какой могут состоять друг с другом в браке две женщины. В лавке они не целовались, но если одну из них приглашали в гости, то подразумевалось, что они придут вдвоем.
Сильвия ненавидела себя за свою ревность, особенно потому, что Сюзанна проявляла к ней лишь доброту. Это Сюзанна в одно из воскресений собрала их вчетвером и предложила: «Сегодня тут поблизости показывают старые серии “Жюдекса”, давайте сходим, а?» И вот, набив полные карманы лакричных конфеток и бутылочек бренди, они с Адриенной и Сильвия с Киприан уже сидели в темном зале кинотеатра и потихоньку пьянели, восхитительно погружаясь в мелодраматические перипетии на экране.
В антракте Сюзанна и Киприан отлучились в уборную, и Адриенна, наклонившись к самому уху Сильвии, прошептала:
— Твоя сестра почти так же великолепна, как ты.
Боже милостивый, каким жаром отдались эти слова у нее в груди.
— Конечно, очень мило с твоей стороны, но, право же, совершенно абсурдно.
— Не всякая звезда сияет ярко, как étoile polaire, chérie[16]. Есть и более эфемерные, более утонченные, но они ничуть не менее прекрасны и ничуть не меньше значат.
— Спасибо, — только и прошептала Сильвия, но как же ей хотелось сказать больше — что сама Адриенна подобна Солнцу, что среди них она ярчайшая звезда, согревающая всех своим теплым светом. Хотя подобные излияния вряд ли были бы к месту, учитывая, что Сюзанна могла вот-вот вернуться. Уверенная, что чудовищно, предательски покраснела, Сильвия заметила направляющуюся к своему месту Киприан и промямлила Адриенне, что теперь ее очередь воспользоваться дамской комнатой.
Уже совсем стемнело, когда спустя четыре часа их четверка вышла из кинотеатра и Киприан сказала:
— Да уж, зрелище, конечно, жуткое, но спасибо вам, что купили билеты и внесли свой вклад в мою зарплату.
— Вы были восхитительны! — хором воскликнули Адриенна с Сюзанной и принялись вспоминать понравившиеся им сцены, в которых блеснула сестра Сильвии.
— Какие вы милые, что так лестно отзываетесь о моей игре, однако мне срочно требуется выпивка. Как насчет бара на Эдгара Кине?
У Сильвии перехватило дыхание от того, сколько всего вдруг открылось ей: пускай она предполагала, что Адриенна с Сюзанной уже догадались о ее лесбийских наклонностях, но сама она ни словом не подтверждала этой догадки; сестрица же ее определенно считала, что тут нужно внести ясность. Все они были одеты совсем несоответствующе для заведения, куда посетительницы неизменно являлись в костюмах или платьях с блестками, так что все четверо явно поняли, куда клонит Киприан.
Впрочем, ни Адриенна, ни Сюзанна и глазом не моргнули. Сюзанна, деланно зевнув, заметила:
— Я и сама люблю пропустить аперитивчик у Лулу, несмотря на всю тамошнюю театральщину, но сейчас мне что-то совсем неохота переодеваться, а вам?
— И мне, — поспешила ответить Сильвия. — Я тоже слишком устала.
Словом, уловка Киприан сработала, и если между ними еще оставались какие-либо недомолвки насчет сексуальной ориентации друг друга, то теперь они устранились.
Все еще находясь в образе, Киприан капризно выпятила нижнюю губу и сообщила:
— Вы зануды.
— Как-нибудь в другой раз сходим, chérie, — сказала Адриенна. — Я знаю тут неподалеку одно местечко, там роскошно готовят sole meunière[17].
— Ловлю на слове, — отозвалась Киприан.
Пока они шли вниз по улице к бистро, Киприан с Сюзанной оказались чуть впереди, и, когда Адриенна продела руку под локоть Сильвии, та не преминула чуть крепче необходимого прижаться к пышным мягким формам владелицы книжной лавки.
Как-то раз, одним вечером ранней осени, сирена воздушной тревоги заревела, когда они заканчивали прибираться в лавке, собрав пустые винные бутылки и расставив по местам стулья после литературных чтений Андре Спира[18]. Соблюдая их традицию, с первым сигналом сирены Сюзанна подхватила бутылку с остатками бордо, чокнула ею о соседнюю бутылку и одним глотком весело ее осушила.
Она кашляла. Она кашляла все сильнее и сильнее, по мере того как дни укорачивались, а воздух прихватывали осенние холода.
Сильвия стыдилась чувств, которые вызывал у нее кашель Сюзанны. Кашель и темнеющие под ее глазами багровые тени. Хотя никто о том ни словом не обмолвился, Сильвия подозревала, что Сюзанна больна туберкулезом. Чахоткой. В некотором смысле эта болезнь идеально подходила такой диккенсовской красавице и ее истинно викторианской компаньонке.
Как Сильвия ни стыдилась признаться даже самой себе, она взяла за привычку появляться в лавке у Адриенны, когда наверняка знала, что Сюзанны там не будет, поскольку под вечер кашель укладывал ее в постель, требуя довольно-таки grand “petit somme”[19].
— Пожалуй, я больше живу среди книг, чем среди людей, — заметила Адриенна, пока они с Сильвией расставляли на полках недавно полученную партию новых романов.
— Да, и я тоже! — В знак взаимного признания они обменялись улыбками. Ошеломительное облегчение снизошло на Сильвию, когда она услышала, что эта богиня с улицы Одеон, чьего внимания добивались столькие выдающиеся умы, тоже предпочитает компанию слов обществу людей.
Оглядываясь в поисках свободного места на полках, Адриенна перевела свои аквамариновые глаза на Сильвию и сказала:
— Но даже мне время от времени требуется немного отвлекаться от книг. Все равно уже время закрываться. Как ты насчет того, чтобы пробежаться по залам импрессионистов в музее д’Орсе? Давненько я не проведывала «Олимпию».
Не прошло и часа, как они уже стояли перед «Олимпией» Эдуарда Мане, полной внутреннего величия фигурой обнаженной проститутки, уставившей на них с Адриенной взгляд, полный дерзкой непокорности.
— Она-то и дала начало всему, — заметила Адриенна, — всем другим полотнам, Моризо и Моне, и Ренуарам, и Боннарам с Сезаннами. Ей они всем обязаны.
Сильвия сощурилась, разглядывая алебастровую фигуру и то, как образуют ее легчайшие мазки кисти, как они складываются в облик чернокожей служанки, едва намеченный на темном фоне, и букет цветов, который та подносит своей госпоже, выполненный такими же поразительно чистыми красками. Сильвия полагала, что «Олимпия» покажется ей соблазнительной, раздразнит в ней возбуждение, недаром шестьдесят лет тому назад эта нагота вызвала огромный скандал среди первых зрителей, но нет, сегодня она смотрела на картину скорее оценивающим взглядом Адриенны. Увиденное, как она сейчас понимала, знаменовало самое начало современного искусства, которое и теперь развивали своими работами Пикассо, и Матисс, и Ман Рэй[20], равно как и писатели, экспериментировавшие с литературными вариациями живописной техники: поглощенные раскрытием возможностей языка, подобно художникам, исследующим возможности красок, разделявшие решимость изображать «современную жизнь», как называл ее Бодлер, во всем ее великолепии и во всей же гротескности. Ибо современная жизнь определенно была уделом богов, о чем недвусмысленно говорило имя проститутки, послужившей Мане натурщицей.
— Какое это, должно быть, сказочное счастье — вырасти в городе, где есть подобные произведения живописи, — промолвила Сильвия, — осознавая, что твоя страна дала начало одному из важнейших художественных движений за всю историю искусства.
Адриенна, не отрывая глаз от «Олимпии», выпятила нижнюю губу.
— Не большее, чем осознавать, насколько революция в твоей стране вдохновила других.
Сильвия рассмеялась такому сравнению.
— То дела давно минувших дней. А это… — Она указала на «Олимпию». — Происходит у нас перед глазами, прямо сейчас.
— Давно минувшие дни — это Древний Рим, — возразила Адриенна. — Американская же и Французская революции произошли, можно сказать, только вчера. Во всяком случае, для французов «Олимпию» впервые выставили перед публикой в 1863 году, меньше чем через столетие после вашей Декларации независимости. И в некотором смысле она вашей Декларации кое-чем обязана. Не будь независимости, все такое искусство было бы невозможно, уж в этом я твердо уверена.
Сильвия судорожно вздохнула. Бывали ли у нее когда-либо такие разговоры? Да еще с прекраснейшей женщиной, чьи глаза, кожа и ум так безмерно восхищали ее? Да еще и в обожаемом ею городе? Столько всего сошлось в одном моменте, что оказалось почти выше ее сил. Но как ни давило на нее переживание, ей хотелось, чтобы оно длилось вечно.
Увы, к ним уже шел охранник, чтобы предупредить, что через десять минут музей закроется.
— Адью, Олимпия, — попрощалась с картиной Адриенна. И с трудом оторвавшись от нее, перевела взгляд на Сильвию. — А теперь, думаю, самое время тебе попробовать лучшего во всем Париже горячего шоколада.
Хвала небесам, она тоже хочет, чтобы этот день не кончался.
— Я готова, веди.
— Глубоко же влипла ты, скажу я тебе, — сказала Киприан, когда они неделей позже вместе возвращались из книжной лавки.
— В каком смысле влипла?
— Ах, брось строить из себя идиотку, тебе это не к лицу. Я толкую об Адриенне. И не думаю, что ménage à trois[21] в твоем стиле, сестричка. Как не думаю, что такое в стиле Сюзанны. А вот за Адриенну не поручилась бы. Похоже, она наделена… богатым воображением. Кстати, ее сестра, Ринетт, между прочим, спит и с Фаргом, и со своим мужем.
Сильвия вздохнула. Не было никакого смысла отрицать сказанное Киприан.
— Да знаю я, знаю. Я… — Я влюбляюсь в Адриенну. Но погодите-ка. — Ты и правда думаешь, что Адриенна не имела бы ничего против ménage à trois?
Одна мысль о подобных соитиях вгоняла Сильвию в смущение. Она была наслышана о том, что творится в домах богемного Парижа, но сама ничего такого еще не повидала и не испытала. И решительно не желала думать в таком ключе об Адриенне; Сильвия, как это было ни болезненно для нее, предпочла бы все же, чтобы та оставалась верной Сюзанне.
— По мне, так Адриенна — женщина с аппетитами, такая легко может заскучать.
— Из одного того, что Адриенна потакает своему гурманству, Киприан, ты уже делаешь вывод, что она развратна в любовной жизни. Тут ты приблизилась к опасному образу мышления в духе мадам Бовари.
Сильвия надеялась, что отсылкой к самому нелюбимому обеими роману Флобера, в котором заглавная героиня одинаково примитивно невоздержанна во всем, начиная с денежных трат и заканчивая сексуальным поведением, только потому, что она женщина, поможет сестре раскрыть глаза на то, как она заблуждается на счет Адриенны.
Но та лишь пожала плечами.
— Может, и нет.
Умеет же Киприан разозлить.
И всё же. Сильвия радовалась неизменной компании сестры теперь, когда мучительно раздумывала, что же делать дальше. Ее испанское эссе зашло в тупик, а между тем ей уже тридцать. Ей нужна цель. Не может же она бесконечно состоять в помощницах, и притом бесплатных, в лавке у Адриенны. В особенности учитывая, как разрастались ее чувства.
Но лишь когда Сильвия начала всерьез терзаться бесцельностью своего существования, в ее мозгу забрезжила и начала принимать конкретные очертания некая мысль.
Собственная книжная лавка.
Ее заведение будет привлекать такую же публику, как у Адриенны. Но вдали от магазинчика, который она так полюбила, и от его хозяйки, которую она полюбила слишком сильно. Нью-Йорк достаточно далеко от Парижа, чтобы защитить ее несчастное сердце.
Да! Книжная лавка! Ее собственное заведение. Идея все сильнее захватывала Сильвию, и она уже не могла удержать ее в себе, не могла не поделиться с Адриенной и Сюзанной, когда они вечером готовились к очередным чтениям, заставляя магазин рядами стульев, а стол — бутылками с вином. Вообще-то Сильвия караулила момент, чтобы обсудить свою идею наедине с Адриенной, но Сюзанна как на грех все время крутилась рядом.
— Я, между прочим, подумываю открыть в Америке магазин книг на французском языке, — обронила Сильвия, изо всех сил стараясь не выдать переполнявшего ее энтузиазма.
— Какая чудесная мысль! — воскликнула Сюзанна, что стоило ей приступа кашля.
Адриенна бросилась к ней, схватила одной рукой за локоть, а второй стала круговыми движениями поглаживать ее спину между выступающих острых лопаток.
Вот бы почувствовать, каково это.
— Мысль и правда замечательная, — согласилась Адриенна, не спуская глаз с Сюзанны, пока та отходила от приступа. — А мы что будем делать без тебя здесь в Париже?
У Сильвии сердце чуть не выскочило из груди при мысли, что по ней могут, по ней будут скучать.
— Мне тоже будет вас очень не хватать.
— Но все же твой дом Америка, — продолжала Адриенна, и в ее тоне проскользнули — неужели правда? — нотки сожаления.
— В этом я как раз не уверена. В последние месяцы я чувствовала себя здесь счастливее, чем могу выразить словами.
— Мы не меньше твоего счастливы, что ты с нами.
Снова кашель, снова поглаживания.
У Сильвии заныло сердце. Нью-Йорк. Достаточно ли он далеко?
Она понимала, что должна уехать из Парижа, иначе ее сердце разобьется, но еще не была готова насовсем оставить Европу и заняться книжным магазином в Нью-Йорке, и потому, когда ей на глаза попался плакат Красного Креста о наборе добровольцев в Сербию, возбуждение затопило ее с головы до пят. Она никогда не бывала в Белграде, и она хотела хоть чем-то помочь военным действиям. «Призыв на службу — дело столь же благородное, как и призыв к служению Богу», — часто повторял ее отец, а Сильвии уже доводилось быть волонтером — в 1916 году, когда она отправилась в сельскую глушь Франции помогать крестьянам пахать земли. Нет, она не перевязывала раны и не сидела за рулем кареты скорой помощи, но и ее работа была тяжелой и благодарной, и позже Сильвия тосковала по такой цели и по очищающему физическому труду.
Так что конец 1918 года застал ее почти в двух тысячах километров к югу от Парижа, одетой в брюки цвета хаки и с рюкзаком, набитым консервами и стопкой дорогих ее сердцу книг, включая «Портрет» Джойса, который в последнее время она страстно жаждала перечитать; она нашла утешение в том, как герой стремится прийти к более самобытному образу жизни в этом мире. Она узнавала себя в попытках Стивена Дедала обрести смысл через интеллектуальный поиск, ей приносили искупительное освобождение его описания похоти, в милосердные моменты заглушавшей чрезмерное кипение его разума. Каково это — отдаваться страсти настолько, чтобы забылись все прочие беды?
Сейчас забыться у нее получалось, только когда она сосредоточивалась на нуждах селян под Белградом и подвергала свое тело тяжелому многочасовому труду.
Хотя Перемирие[22] объявили совсем вскоре после ее приезда, противопехотные мины по-прежнему оставались в земле, а вражда между недавними противниками никуда не делась. В итоге то и дело вспыхивали отдельные стычки со стрельбой, в результате которых люди получали ранения от шрапнели, требовавшие ухода, к тому же местному населению от мала до велика не хватало одеял, одежды и обуви, средств гигиены и, конечно, продовольствия. Сильвия была и сиделкой, и заботливой тетушкой, и амбулаторной медсестрой; она штопала носки, читала вслух, писала под диктовку письма, держала за руку и делала все прочее, в чем нуждались вверенные ее попечению люди.
Всякую минуту раздавался какой-нибудь громкий звук, и, хотя ее ухо тотчас распознавало безобидный скрип двери или чих автомобильного мотора, Сильвия замечала, что молодые мужчины вокруг нее — на лазаретных койках ли, в тавернах, на рынках — вздрагивали, съеживались, а то и пытались спрятаться, вжимались в землю или, скорчившись, норовили заползти под перевернутый мусорный бак, если позволяли его размеры. Поразительно, куда только ни могли вместиться несчастные контуженые мальчишки, складываясь в три погибели.
Сильвия старалась не замечать, как трескается и кровоточит от работы на улице кожа ее вечно окоченелых пальцев и кистей, но потом одна молодая венгерка, добрая душа, поделилась с ней баночкой целебного бальзама, и тот, хотя и вонял овечьей мочой, прекрасно защищал ее руки даже в самые суровые зимние холода. Она и оглянуться не успела, как ее работа превратилась в тяжелый труд, от которого по спине все время струился пот. Однако физические усилия действовали на нее благотворно. В конце тяжелого дня она зажигала свечку и немного читала на своей жесткой койке. И «Портрет» тоже, да, но именно Уитмен почти каждый вечер убаюкивал ее. Томик обожаемых ею «Листьев травы», разбухший и потрепанный, стал для нее чем-то вроде молитвенника, приносил утешение и скрашивал одиночество. При этом слова Уитмена еще и растравляли в ней тоску, когда ее глаза задерживались на строках стихотворения «Запружены реки мои»:
Только бы нам ускользнуть ото всех, убежать беззаконными, вольными,
Два ястреба в небе, две рыбы в волнах не так беззаконны, как мы[23].
Как жаждала ее душа своего беззаконного ястреба, хотя она знала, что у самого Уитмена пары не было. Никогда он не женился, никогда не заводил ни с кем близких отношений наподобие тех, что связывали Адриенну с Сюзанной. Он определенно знавал близость и испытывал влечения плоти. Но именно поэзия — его работа — была семенами, что он посеял.
Чем дальше, тем сильнее Сильвия убеждалась, что работа могла бы стать главнейшим свершением в жизни. Она обдумывала эту мысль, пока пришивала пуговицы и тряслась в грузовике по пыльным дорогам, развозя консервы, она приспособилась выметать ею, как метелкой, романтические воспоминания об Адриенне, которые нет-нет да и прокрадывались в ее сознание. Однако сколь ни ценила она свое волонтерство в Сербии, такая работа никак не отвечала ее жизненным чаяниям. Слишком многое унаследовала Сильвия от своей матери, слишком глубоко сидела в ней привязанность к Парижу, к искрометному разговору, к утонченным деликатесам; ох и позлорадствовала бы Киприан, решись Сильвия сделать ей подобное признание, и она не могла не улыбаться, представляя, какое оно произвело бы впечатление на сестру.
Французская книжная лавка в Нью-Йорке. Да, это подойдет как нельзя лучше. Как показал ей пример А. Монье, жизнь ради книг и среди книг не только возможна, но и достойна. В моменты затишья или за простой механической работой Сильвия мысленно расставляла книжные полки и мебель в помещении своего будущего магазинчика. Маленькая лавка на усыпанной листьями улице в даунтауне, вероятно, в особнячке из бурого песчаника с небольшой квартирой наверху, где она станет жить. Внутри будет теплый свет, а зимой она сможет предлагать посетителям горячий чай. Она будет устраивать обеды для преподавателей Колумбийского университета и Принстона, а также для местных литераторов, знакомых с творчеством Флобера и Пруста; она будет подавать им соль меньер и бёф бургиньон, и они будут запивать их бургундским и бордо под беседы о новой литературе и положении в мире после войны. К ней в лавку будут захаживать видные литераторы, а может быть, и редактор «Литтл ревью» Маргарет Андерсон станет ее завсегдатаем. Кто знает, вдруг она встретит свою Сюзанну в Нью-Йорке, где женщины-«компаньонки» смогут мирно жить вместе на Вашингтон-сквер, не привлекая косых взглядов соседей. И возможно, ей не придется томиться по своей черноволосой безнадежно потерянной любви из Латинского квартала.
Но увы, мать Сильвии, которая очень вдохновилась ее планами открыть французскую книжную лавку и принялась с энтузиазмом подыскивать на Манхэттене подходящее помещение, сетовала в письмах, что это столь же безнадежно, как искать вчерашний день. В одном из них она писала:
Уже чуть не проклинаешь Перемирие, потому что война определенно сдерживала арендную плату. Теперь же все и каждый преисполнились оптимизма, деньги в этом городе утекают так же стремительно, как остатки беззапретного джина, взвинчивая цены буквально на все, что ни возьми.
Пессимизм матери хоть и отложил на время планы Сильвии, но не заставил отказаться от них. Ей суждено было обзавестись собственной книжной лавкой. Не выгорит с Нью-Йорком, так получится в Бостоне. Или в Вашингтоне. Сильвия не желала сдаваться.
Она получила письмо от своей сестры Холли, напомнившее, что в мире существуют и добрые вести и что настойчивость приносит плоды:
Избирательные права женщин теперь законодательно закреплены в нашей стране! Наши старания увенчались успехом! Жду не дождусь, чтобы впервые проголосовать. И плевать мне, что там болтают другие, все равно я считаю, что дело стоило той цены, что мы за него заплатили, — Сухого закона, за который, как ты знаешь, ратовали многие наши сестры-суфражистки. Иногда мне даже казалось, особенно под конец, что они больше жаждут отвратить своих мужчин от пьянства, чем с помощью выборов изменить свою страну. Похоже, кухня по-прежнему заправляет жизнями представительниц нашего пола.
Лишь одно письмо расстроило Сильвию, и оно пришло от Адриенны.
Сюзанна вышла замуж за сына друга своего отца, тот много лет был влюблен в нее. Да и как можно не любить Сюзанну? Они счастливы, правда, во время их свадебного путешествия я очень по ней скучала. К моей радости, как только они вернулись в Париж, она вернулась в лавку, и все нынче вроде бы вернулось на круги своя.
Сильвия перечитала этот абзац столько раз, что слова поплыли у нее перед глазами. Замужество, должно быть, дало определенные удобства, потому что она не думала, чтобы Сюзанна, подобно Киприан, наслаждалась радостями близости с мужчиной; из уст красавицы Сюзанны она и намека такого ни разу не слышала. Сильвия просто не могла взять в толк, кому и какую пользу оно бы принесло. Что брак давал жениху и невесте — не говоря уже о возлюбленной невесты? Или тут замешано здоровье Сюзанны? Адриенна на этот счет ничего не писала, а Сильвия не спрашивала.
Когда закончился ее контракт с Красным Крестом, Сильвия уже знала, что пришло время открыть новую главу своей жизни. Но сначала ей требовалось еще раз навестить Париж. Он приманивал ее чарующим зовом очередной сладкоголосой сирены, норовившей сбить Сильвию с ее стези.
Определенно, то была сирена.
Но тогда почему этот зов больше напоминал мольбу Пенелопы к Одиссею — отчаянный любовный призыв вернуться домой, преодолев всю огромность разделяющего их расстояния?
Глава 3
В июле 1919 года она спустилась на перрон в духоту и суматоху Восточного вокзала и подняла голову к застекленному потолку, сквозь который голубело ясное небо. Ряды высоких арочных окон пропускали во вместительное замкнутое пространство вокзала еще больше солнечного света, и, пока Сильвия пристраивала на плечи свои дорожные сумки, слух ее заполнился раздраженными объявлениями кондукторов, пронзительным визгом детей и возгласами радости от встречи с вновь обретенными дорогими людьми — от всего этого Сильвия растрогалась чуть не до слез. Какое громадное облегчение ощущала она, и к нему примешивалось пьянящее предвкушение тайны и приключений. Впереди меня ждет столько всего.
Не потрудившись закинуть свои скромные пожитки в отель, забронированный ею поблизости от школы, поскольку с отъездом Сильвии в Сербию Киприан покинула их прежнее жилье в Пале, Сильвия направилась прямиком в лавку А. Монье. Адриенна выглядела осунувшейся, но искренне ей обрадовалась, всплеснула руками, кинулась навстречу с приветственными возгласами и заключила ее в крепкое объятие прямо на пороге.
— Mon amie! Sylvia, bienvenue! Dieu merci!
Сильвия обняла ее в ответ, но счастливый смех Адриенны почти тотчас перешел в горькие рыдания. Трое посетителей лавки, которых Сильвия видела впервые, хотя знала всех постоянных покупателей, тактично отводили от них взгляды.
— Отойдем на минутку, — прошептала Сильвия на ухо Адриенне.
Адриенна только кивнула, смахивая слезы тыльной стороной ладони и всхлипывая, потом выудила из кармана в складках длинной юбки скомканный платок и промокнула нос.
В тесной задней комнатке молоденькая девчушка распаковывала коробку с журналами. Адриенна отправила ее в переднюю часть магазина к покупателям, плотно закрыла дверь и, рухнув без сил на коробку, спрятала лицо в ладонях.
Сильвия присела перед Адриенной и положила руки ей на колени, ощущая огрубевшими ладонями плотное переплетение муслиновой ткани юбки.
— Скажи, что стряслось, — попросила она.
Адриенна подняла на Сильвию все еще мокрые от слез глаза с покрасневшими веками и, стараясь унять дрожь нижней губы, выдавила:
— Сюзанна умерла. На прошлой неделе. — Адриенна выдохнула и тут же сделала вдох, такой глубокий и быстрый, что закашлялась.
Сильвия крепко сжала ее руки.
— Мне бесконечно, бесконечно жаль. Я знаю, как ты любила ее.
Адриенна зажмурилась и только кивала, стараясь восстановить дыхание.
Они еще долго сидели, молча держась за руки, только Адриенна время от времени судорожно всхлипывала. У Сильвии и самой сжималось сердце, но она решила, что ради Адриенны должна сохранять присутствие духа. А в голове ее неотвязно крутился вопрос: что все это должно значить? Возможно ли, что услышанный ею голос, на призыв которого она ринулась в Париж, был вовсе не зовом города, а мольбой угасавшей Сюзанны, что она на смертном одре призывала Сильвию вернуться, чтобы позаботиться об Адриенне?
«Господь Всевышний, — взмолилась Сильвия богу своего отца, хотя ничуть в него не верила, объятая чувством немного сродни тому, что у Джойса толкало к покаянным исканиям Стивена Дедала. — Пусть это будет так».
Что, если вместо французской книжной лавки в Америке я открою американскую книжную лавку тут, в Париже? Думается, многие здесь только приветствовали бы возможность читать в оригинале, а ни один магазин или библиотека таких изданий не предлагает. Сегодня утром Сильвия проснулась с этой мыслью, которая озарила ее, как если бы была ниспослана самими небесами, и целый день набиралась мужества, чтобы поделиться ею с Адриенной.
И вот, насладившись бесподобно приготовленной Адриенной жареной курицей с картофелем и розмарином, Сильвия почувствовала, что час настал.
Адриенна моргнула и расплылась в широкой улыбке.
— Oui! Великолепная мысль. К тому же ты сможешь остаться в Париже, — взволнованно воскликнула она.
От этих слов у Сильвии полегчало на душе, точно ее паруса вдруг наполнились попутным ветром.
— В Париже я как дома, — ответила она.
Шел август, и Адриенна уже не плакала каждый день по своей потере, более того, она снова посвящала всю себя лавке и своей обожаемой кухне и почти каждый вечер приглашала Сильвию на ужин. Они ели и читали, часами вели разговоры на серьезные художественные темы, как тогда, в музее д’Орсе, но временами сбивались на предметы более легкомысленные вроде недавно открывшейся в квартале confiserie[24].
— A я до сих пор больше всего люблю pâtes de fruit[25], — сказала Адриенна, вонзая зубы в вязкий желеобразный квадратик. И тут же, улыбаясь с полным ртом мармелада, прибавила: — Этот просто пальчики оближешь.
Сильвия надкусила пламенно-красный квадратик.
— Cerise[26]. — Она пожала плечами. — А по мне, так самая вкусная из сластей — сахарная вата. А еще лучше шоколад.
— Кстати, у Эйфелевой башни продают сахарную вату, вкуснее которой ты еще не пробовала!
Под вечер следующего дня, заперев лавку, они уже стояли у зеленой тележки продавца сладостей и вместе лакомились накрученным на палочку розовым облаком, размерами превосходившим голову любой из них, и, пока сахар таял у них на языках, разглядывали поразительное творение Гюстава Эйфеля.
— Она открылась за три года до моего рождения, — сказала Адриенна.
— А на верхушку ты когда-нибудь поднималась?
— Еще чего, по всем этим ступенькам? Благодарю покорно. Мое сердце сдастся уже к десятому этажу.
Сильвия не была уверена, намекает ли Адриенна на кое-какой лишний вес, набранный ею со дня их знакомства. Сильвии нравилось, как он округлил ее лицо и сделал пышнее роскошную грудь, к тому же ей приходилось по душе, что Адриенна так беззастенчиво наслаждается едой, в отличие от ее матери и многих других женщин, питавшихся точно птички, но ничего этого говорить она не собиралась.
— Брось, твое сердце наверняка куда крепче.
— Нет, я правда люблю долгие прогулки вроде тех, что мы совершали вокруг деревенского дома родителей, но там подъем был очень пологий. И посреди цветущих полей. Я всякий раз вынуждена присаживаться, когда поднимаюсь по той длинной лестнице к Сакре-Кёр на Монмартре.
— Долгие прогулки, да еще и вблизи родительского дома, как заманчиво это звучит.
— Когда-нибудь я обязательно свожу тебя туда. Вот увидишь, родителям ты понравишься. А ты полюбишь нашу собаку. Его зовут Мусс, и он, хоть размером и с медведя, добрейшая душа.
— Конечно, полюблю, — отозвалась Сильвия и поскорее набила рот следующей порцией воздушного лакомства, чтобы не ляпнуть лишнего или не расплыться в слишком радостной улыбке. Она еще не была до конца уверена в ответном чувстве Адриенны, но ощущала, что разумнее всего не торопить события и дать ей столько времени, сколько понадобится, чтобы оплакать Сюзанну.
Казалось, каждый вечер, который они проводили вместе, пролетал незаметно — он начинался в восемь, и, не успевали они и оглянуться, как уже была глубокая ночь. Возвращаясь с улицы Одеон, 7, Сильвия проходила несколько пустынных кварталов до своего отеля и всю дорогу курила, иногда до нее долетал звучный голос колокола церкви Сент-Этьен-дю-Мон, и Сильвия никогда не чувствовала одиночества — напротив, ее тело и душу до краев заполняли блюда Адриенны, ее идеи, ее голос, ее неповторимый аромат лаванды и оливкового масла. Она была полна Адриенной.
Она никогда не понимала, как Адриенне это удается, но та, как бы поздно ни легла накануне, неизменно появлялась у себя в лавке к девяти утра, бодрая и улыбающаяся. Сильвия же иногда притаскивалась не раньше одиннадцати, а Адриенна, укоризненно цокая языком, тут же нагружала ее какой-нибудь работой: написать пригласительные на очередные литературные чтения, расставить по порядку книги, подбить баланс банковского счета, распределить место на полках.
— Ты должна уже уметь все это, когда откроешь собственную лавку, — говорила она, а Сильвия в который раз дивилась, что все это умеет и делает женщина моложе ее на пять лет. Что бы там ни говорила Адриенна об одышке на лестницах, энергия в ней так и била ключом. Вдобавок ей было не занимать отваги. И стойкости духа. Бог ты мой, она же открыла свою лавку на второй год мировой войны и умудрилась до самого ее окончания продержаться на плаву. В свои-то двадцать три года!
Чем дальше, тем больше у Сильвии крепло чувство, что их дружба перерастет в нечто большее. Ей показалось, или их руки в последнее время соприкасались чаще, чем прежде? И правда ли, Адриенна прошлым вечером подсела еще ближе к ней, когда они устроились на кушетке?
Сильвия гнала от себя подобные мысли и чувства. Наберись терпения. Она по-прежнему в трауре. И все же печальный туман, остававшийся после смерти Сюзанны, потихоньку рассеивался. В их воспоминаниях подруга Адриенны постепенно принимала облик доброй феи-покровительницы, чьи вкусы и идеи они нередко с почтением упоминали и брали за пример, а иногда посвящали памяти Сюзанны чашечку чая или ее любимый десерт — macarons[27] из кондитерской в соседнем квартале.
А в какой-то день, даже не произнеся имени Сюзанны, Адриенна отыскала для новой лавки Сильвии идеальное помещение на улице Дюпюитрена, 8, за углом от перекрестка Одеон. Десятилетиями арендовавшая его прачка удалилась на покой и переехала в деревню.
— Оно великолепно, — сказала Сильвии Адриенна, выяснив, что помещение сдается. — Более великолепным оно было бы лишь в одном случае — если бы располагалось в том же квартале, что и моя лавка.
— Кто знает, может, когда-нибудь и такое найдется, — ответила Сильвия, окрыленная тем, что это сбывается: ее собственная книжная лавка в любимейшем из всех городов мира.
— У меня тоже появилась одна задумка, — сказала Адриенна с удивившим Сильвию смущением в голосе.
— Продолжай.
— Я тут подумала, наверное, стоит поменять название моей лавки. Так сказать, ознаменовать новое начинание.
Сильвия заулыбалась, стараясь не слишком выдавать сердечную надежду, которую всколыхнули в ней эти слова.
— Считаешь, так будет правильно?
Адриенна решительно кивнула.
— Уверена. Я подумываю вот о каком: La Maison des Amis des Livres. — Она проговорила название медленно, торжественно и двигала руками над головой, словно определяя ему место над дверями и витринами лавки.
— «Дом друзей книг», — перевела Сильвия, а потом продолжила по-французски: — Что верно, то верно. Meilleurs amis[28].
— Bon[29]. Приглашу художника, пускай изобразит новое название, tout de suite[30].
От широченной улыбки у Сильвии заломило щеки. Новое начинание.
— Восхищаюсь твоей решительностью.
— Не вижу смысла ходить вокруг да около.
— И то правда, всегда проще, когда знаешь, чего хочешь.
Позже, тем вечером, Сильвия присела за письменный стол подруги, чтобы написать матери, что появилась возможность снять помещение под магазинчик ее мечты, и прибавила, что будет вовеки благодарна, если ее семейство сумеет помочь ей чем-либо еще, помимо отправки всех книг, какие только есть в ее комнате в Принстоне. Сильвии претила необходимость о чем-то просить, но она не знала никого во Франции, кто мог бы располагать свободными деньгами, к тому же ее вдохновлял пример Адриенны: та уже полностью выплатила родителям сумму, одолженную ими на ее лавку в 1915 году. Сильвия рассчитывала, что ей удастся сделать то же самое.
Мать немедленно написала в ответ, что совсем скоро отправит морем книги и еще кое-какие литературные сюрпризы и что деньги тоже уже в пути:
Я всегда знала, что ты найдешь свое призвание. А в доказательство моей веры в тебя, в твою затею и в твой здравый смысл я пошлю тебе все средства с моего собственного сберегательного счета, которые я начала откладывать еще до замужества. И втайне от всех я страшно радуюсь, что вместо возвращения в Нью-Йорк ты остаешься в Париже, ведь это дает мне благовидный повод наведываться туда, чтобы повидаться с тобой. Радуйся жизни, дорогая моя. Я страшно горжусь тобой, как и твой папа. Выберусь к тебе при первой же возможности.
Сильвия смахнула слезы и почувствовала, что еще никогда так не скучала по матери.
Едва осень позолотила первые листья, Сильвия заказала билеты в Лондон, где планировала обойти лучшие издательства и книжные магазины и попытаться договориться о поставках для своей лавки.
— Как я тебе завидую, — сказала Адриенна накануне отъезда Сильвии. — Я вообще люблю Лондон, а книжные там выше всяких похвал.
Сильвия предпочла бы не расслышать в тоне подруги ностальгических ноток по ее лондонским дням с Сюзанной, хотя, вспоминая первую любовь, Адриенна не выказала и тени грусти.
— Я буду скучать по тебе, — сказала Сильвия. — Но скоро вернусь, раньше, чем ты успеешь произнести «Шекспир».
— Шекспир, — повторила Адриенна и хихикнула.
Сильвия вскинула бровь, и обе рассмеялись.
— Скорее возвращайся домой, mon amie.
Что это? Уж не румянец ли на щеках Адриенны? Она покраснела? И что заставило внезапно охрипнуть ее голос — не желание ли?
— Конечно. Обещаю тебе.
Возможно, оттого, что в поезде и на пароме на пути в Лондон Сильвия столько раз проигрывала в памяти тот разговор, а может, ее ум особенно занимали названия книжных магазинов с тех самых пор, как Адриенна переименовала свой, но случилось так, что в первый вечер же в Англии, ложась спать, она придумала превосходное название для своей лавки: «Шекспир и компания».
В конце концов, старина Уильям, насколько ей было известно, никогда не выходил из моды.
Лондон поливал ее дождями и изматывал. Она посетила прославленный книжный магазин Элкина Мэтьюса[31] на Корк-стрит и, изо всех сил стараясь не забрызгать его тома каплями с волос и платья, попросила у него новейшие произведения Эзры Паунда, Джеймса Джойса и Уильяма Йейтса; про последнего она слышала, что он квартирует где-то по соседству. Мэтьюс, причудливо старомодный в своей потрепанной куртке и со встопорщенными бакенбардами, оказал Сильвии прием в высшей степени дружелюбный.
— Так вы, как я погляжу, любите новую литературу, — заметил он, выкладывая на стол перед ней десяток томов.
— О да. Мои друзья в Париже просто мечтают прочитать и другие произведения этих авторов, так что в своей новой лавке я намерена предлагать все лучшее и самое новое из американской и английской литературы.
Морща лоб, он пристроил монокль между щекой и лохматой бровью.
— Магазин англоязычной книги, говорите? Во Франции-то?
Сильвия энергично кивнула.
— Бог ты мой.
— Знаю. В этом я буду первой.
— Надеюсь, у вас имеется запасной план.
— Думаю, мои дела пойдут гладко.
Но старик по-прежнему смотрел на Сильвию озадаченно, и столько отеческой тревоги светилось в его взоре, что она поспешила прибавить:
— Но я собираюсь предлагать и кое-что из классики. Правда, одни только новые издания мне не по карману, и я собираю книги по букинистам.
— Очень мудро.
— Впрочем, мое сокровенное желание — найти несколько рисунков Уильяма Блейка[32]. Знаете, из тех, что он подготовил для издания своих «Песен невинности и опыта».
Мэтьюс торжественно воздел к потолку указательный палец и, ни слова не говоря, скрылся в подсобной комнате.
«Ах, эта подсобная комнатка при книжной лавке, — в радостном предвкушении думала Сильвия. — Скоро и у меня появится такая, собственная!»
Между тем вслед за явственными звуками возни и одним звонким — КЛАЦ! — послышалось шарканье ног, и Элкин Мэтьюс снова появился в поле зрении Сильвии, держа в руках два небольших рисунка в гладких деревянных рамках, выкрашенных в черный цвет. Он медленно развернул их к Сильвии, и она тотчас же безошибочно распознала руку Блейка. Краски сохранились превосходно, даже нисколько не выцвели.
От волнения Сильвию замутило.
— Они великолепны, — выдохнула она. — Но увы, боюсь, я не могу позволить себе такой роскоши.
— Блейк нынче не в моде. — Пожал плечами Мэтьюс и назвал цену, за которую был готов уступить Сильвии рисунки.
О, это не случайная удача, так предначертано. «Шекспира и компанию» ожидает успех — иначе и быть не может при таком-то счастливом начале. К тому моменту, когда она вышла из «Элкин Мэтьюс лимитед», нагруженная сумками и связками книг, дождь уже перестал — не иначе как под действием той же магии, что принесла ей рисунки Блейка, — и мокрый город заблистал в ярких солнечных лучах. А спустя неделю, в Париже, когда она распаковала посылку от матери и обнаружила там три бесценных листка рукописи самого Уитмена, хранившихся на их семейном чердаке, Сильвия уверилась, что изливающийся на нее поток волшебных щедрот не иссякает.
Пока столяр делал книжные полки по указанным ею размерам, они с Адриенной обходили все, какие были, парижские букинистические лавки и возвращались, неизменно сгибаясь под тяжестью сумок и связок книг, призванных пополнить запасы на улице Дюпюитрена, 8, и с каждым разом их руки и ноги протестовали всё болезненнее. Но их мучения того стоили, а вино, которое они позволяли себе выпить по случаю окончания очередного тяжелого дня, без остатка изгоняло боль и ломоту в мышцах. По примеру лавки Адриенны Сильвия решила организовать из подержанных книг небольшой библиотечный фонд. Продавать она будет новые книги, пока не разойдется вся партия, а последний экземпляр будет выдавать с возвратом, пока не приедет новая поставка. Что до обстановки, то Сильвия не собиралась слишком привередничать, хотя твердо решила навести у себя в лавке такой же уют, создать атмосферу ненавязчивого гостеприимства и изящной простоты, какие царили у Адриенны.
Настоящая антикварная мебель стоила слишком дорого, чтобы Сильвия могла себе ее позволить, зато на церковных распродажах, блошиных рынках и развалах у старьевщиков удалось разжиться очаровательными, пускай и чуточку хромоногими, столами и стульями.
Вскоре обеих книжниц до невозможности утомили бесконечные хождения туда-сюда через перекресток Одеон, нередкие топтания у запертых дверей и вечные попытки согласовать время, чтобы застать на месте одну, когда другой всего-то и требовалось, что свалить новую груду томов. И в один прекрасный день Адриенна вручила Сильвии пару ключей на красной бархатной ленточке.
— Серебристый — от «Ля мезон», а латунный — от моей квартиры. Приходи и уходи, когда душа пожелает.
— Ты… ты уверена?
— Отчего бы нет?
Едва ли за открытостью Адриенны стояло одно только простодушие, что делало ее щедрый жест еще более значительным в глазах Сильвии.
— Спасибо. И погоди-ка. — Она пошла к письменному столу и вынула из ящика ключ, подходивший одновременно и к ее лавке, и к квартире.
Она просто ожидала подходящего момента передать его Адриенне. Вложив ключ в гладкую, сильную ладонь Адриенны, Сильвия почувствовала, что все делает правильно, и это ощущение ее наэлектризовало: она почувствовала жар в бедрах, коленях и в груди. Вот и Адриенна задержала свою руку в ее руке чуть дольше, чем нужно, давая понять, что испытывает такие же чувства. То было нечто большее, чем просто обмен полезными вещами, теперь Сильвия уверилась в этом.
Когда они после закрытия «Ля мезон» расставляли книги на полках, Адриенна сказала:
— Я вижу благоприятный знак в том, что «Шекспир и компания» откроются в канун нового десятилетия. — Они стояли спиной друг к дружке, Адриенна возилась в разделе поэзии библиотечной секции, а Сильвия — в разделе с романами.
— Бог мой, новое название твоей лавки, новое десятилетие, — отозвалась Сильвия, оглядываясь по сторонам. — Вижу, тебя в последнее время тянет ко всему новому.
— Не то чтобы к новому. Скорее, к заново рожденному. Именно это и требуется по окончании войны; 1920-е дадут всему новые начала после голода и разрушений последних лет.
Адриенна втиснула последнюю книгу между другими, стоящими на полке, то же сделала Сильвия, и обе одновременно повернулись друг к другу.
— Есть чувство, что все вокруг уже готовы испытать что-то другое, какой-то иной опыт, который поможет забыть прошлое, — сказала Сильвия. Ей вспомнились популярные в те дни жизнеутверждающие мелодии «Ориджинал диксиленд джаз-банда», и она добавила: — По радио, например, передают бодрую, веселую музыку.
— Юбки и платья приобрели более игривую длину.
— А всякие прихотливые вышивки на пальто и шляпках? Боже мой, а перья-то — каких только цветов не встретишь!
— Появляются всё более и более необычные коктейли. И какие вкусные!
Взволнованная подтверждением, что они с Адриенной отмечают вокруг себя одни и те же новшества, Сильвия добавила:
— И как пестрят всем новым журналы, и здесь, и в Нью-Йорке, и в Лондоне. Уж теперь-то Маргарет Андерсон было бы трудно выпустить «Литтл ревью» из одних пустых страниц, учитывая, какую лавину выдающейся прозы обрушивают на нас новые амбициозные писатели — вон их сколько появляется.
— То-то и оно, что новые. — Подмигнула Сильвии Адриенна. — Так что я, пожалуй, не одинока в своей, как ты говоришь, тяге.
Сильвия рассмеялась.
— Да, новые. Интересно бы узнать, что мы будем говорить в 1929-м?
— Ну а я рада, что нам не дано знать. Так сохраняется дух приключения.
— Согласна полностью.
Еще бы, «Шекспир и компания», наступающий 1920-й, Париж — все это вместе и воспринималось как увлекательнейшее приключение, а стремительное сближение с Адриенной добавляло еще больше радостного волнения. И напряжения тоже. Уверенная в собственных чувствах, Сильвия предоставила Адриенне сначала самой разобраться в своих. Она всем сердцем жаждала знать, что Адриенна выбрала ее.
И потому она выжидала.
Почти каждый день доброжелатели по пути из лавки Адриенны заглядывали к Сильвии полюбоваться ее прогрессом в делах.
— Жду не дождусь, когда наконец заведу у вас читательский билет, — говорил Жюль Ромен.
— Тут я вас точно обскачу, — отвечал Андре Жид.
Сильвии до сих пор все не верилось, что эти великие французские литераторы стали ее друзьями. А вскоре будут и ее первыми клиентами.
Как-то днем в начале ноября к ней зашел Валери Ларбо, отпустивший усы, впрочем мало изменившие его детские черты лица. Он принес Сильвии драгоценный дар — горстку солдатиков из своей обожаемой коллекции, которую он с величайшим тщанием расставлял среди изготовленных вручную строений, деревьев и прочего ландшафтного антуража в своей холостяцкой квартире на улице Кардинала Лемуана, в десяти минутах ходьбы от лавки Сильвии.
— Вот, будут вам защитниками, — сказал он, вручая Сильвии солдатиков. — А если думаете, что вам они ни к чему, считайте, что они стоят на страже ваших книг.
— Такая честь для меня, Ларбо! Шекспир тоже признателен вам за такой достойный караул.
Оба рассмеялись, и Ларбо остался помочь Сильвии расставлять по полкам книги и выпить чаю.
Киприан по мере возможности навещала Сильвию, хотя напряженный съемочный график теперь оставлял ей мало свободного времени, впрочем, как и флирт с женщиной-редактором одного из еженедельных таблоидов, носившей монокль, — с ней Киприан свело знакомство в баре на бульваре Эдгара Кине.
— Не будь ее, я б еще больше злилась, что ты избегаешь меня, сестренка, — сказала она Сильвии.
Та только улыбнулась, хотя в душе стыдилась, что со своего возвращения в Париж так мало видится с Киприан, по уши занятая подготовкой к открытию своей лавки.
— Смотри-ка, ваша дружба сотворила чудо с твоим нравом, дорогая сестричка.
Чем ближе был день открытия, тем большее беспокойство снедало Сильвию. Она просыпалась до рассвета, что казалось абсурдным, ведь они с Адриенной вечно засиживались до ночи, но бушевавший в ее жилах огонь не давал ей рано ложиться и поздно вставать. Сильвия вскакивала и рыскала по улицам, изучая витрины магазинов, беспрестанно куря и делая пометки на страничках маленького блокнота в кожаном переплете. Когда открывались пекарни, она оказывалась первой в очереди, поэтому, когда Адриенна просыпалась, ее уже поджидал свежайший багет, еще теплый, с хрустящей корочкой, источавший аромат выпечки. И хотя Сильвия по-прежнему проводила ночи в крохотной студии за подсобным помещением лавки — комнатке, вмещавшей узкую кровать, пару посудных шкафчиков, газовую плиту и ящик со льдом, — теперь, когда у них с Адриенной были ключи от квартир и магазинчиков друг друга, они свободно расхаживали туда-сюда и, по сути, жили одновременно в трех местах: в доме 8 по улице Дюпюитрена и домах 7 и 18 по улице Одеон.
В одно такое утро на второй неделе ноября Сильвия вдобавок к традиционному багету прихватила парочку круассанов с абрикосами — маленькое угощение в честь того, что до открытия ее книжного магазинчика оставалось всего несколько дней.
Когда она, взбежав по лестнице, толкнула дверь в квартиру Адриенны, ее встретил запах свежезаваренного кофе и вскипяченного, как она любила, молока.
— Bon[33], — сказала Адриенна, принимая из рук Сильвии багет. Их пальцы почти сплелись вокруг него, и трепет взбежал вверх по руке Сильвии. — Наш маленький ритуал продолжается.
— И еще вот, не смогла удержаться. — Сильвия передала Адриенне пакет из вощеной бумаги со свежеиспеченными круассанами. Адриенна тут же заглянула внутрь и довольно заулыбалась:
— Мои любимые!
Я знаю.
— У меня тоже припасен для тебя маленький подарок, — сказала Адриенна и поспешила из кухни в свою спальню.
Сильвия разволновалась. Круассаны вряд ли тянули на подарок — она и сама мечтала сделать подруге достойный petit cadeau[34] в благодарность за все ее заботы и помощь, но ничего хотя бы отдаленно подходящего пока не придумала.
Адриенна влетела в кухню, держа в руке предмет размером с книгу, завернутый в коричневую оберточную бумагу и перехваченный белой ленточкой.
— Это я должна дарить тебе подарки, — смущенно пробормотала Сильвия.
Адриенна только отмахнулась:
— Тут кое-что, что обязательно тебе понадобится.
Сильвия взяла сверток и заметила на оберточной бумаге штамп Мориса Даррантьера — так звали дижонского типографа, которому Адриенна время от времени заказывала печать тоненьких брошюр под названием «Записки друзей книг», где она публиковала лекции Ларбо, поэзию Поля Валери и другие короткие произведения нескольких любимых ею писателей.
Бант легко развязался: стоило только потянуть за ленту, и та заструилась под пальцами Сильвии, пока она разворачивала бумагу. Внутри оказалась стопка увесистых карточек, на которых значилось: «Сильвия Бич», а чуть ниже — «Шекспир и компания, Париж».
Сильвия открыла рот, не в силах вымолвить ни слова, и почувствовала, как глаза защипало от подступивших слез.
— Даррантьер был любимым типографом Сюзанны, и уверена, она бы желала для тебя всего лучшего.
— Она бы желала? — прошептала Сильвия, словно вознося молитву их фее-покровительнице.
— Не сомневайся, — решительно кивнула Адриенна и улыбнулась, светясь удивительным благодушием при воспоминании о своей потерянной любви.
— Спасибо, — поблагодарила Сильвия сколько Сюзанну, столько и стоящую перед ней молодую женщину. Она сжимала гладкую на ощупь карточку, надеясь, что ее взмокшие ладони не запятнают безупречный глянец.
Адриенна положила руки поверх рук Сильвии и, подавшись к ней, коснулась ее губ своими губами. Сильвия не глядя отложила карточки на кухонный стол и правой рукой ласково провела по щеке Адриенны, о чем мечтала с первой минуты их знакомства и при всех их бесчисленных последующих встречах. От прикосновения та закрыла глаза, а Сильвия запустила руку в ее густые волосы и тесно придвинулась к ней, ощутив, как соприкоснулись их груди. Залитая желанием, Сильвия крепче поцеловала Адриенну и почувствовала на губах вкус молока, кофе, джема. Язык Адриенны проскользнул между губ Сильвии, и та отозвалась на поцелуй, все ниже опуская руку вдоль спины Адриенны.
Сильвии уже показалось, что обе они вот-вот потеряют голову в пылу момента ровно так, как это описывают в книгах, — она много раз читала о подобном, но не верила, что такое когда-нибудь случится с ней. Но Адриенна тихонько застонала и отстранилась.
— Не сейчас, Сильвия. Я хочу тебя, но… уже скоро.
Сильвии казалось, что все ее нервы обнажены и трутся о ее одежду, о воздух, требуя выплеснуть зашкаливающее напряжение громким криком, но она только сказала:
— Хорошо.
Скоро. Скоро. Она и сама это знала, как иногда, бывало, угадывала, что случится на следующей странице книги, и ожидание оборачивалось изощренной пыткой.
Адриенна подхватила руку Сильвии, крепко сжала.
— Для меня огромная радость, что ты здесь. Ты словно феникс, восставший из пепла. Ты даешь мне столько надежды.
Сильвия не сдержала смех.
— Ты мне льстишь, Адриенна.
— Порой миру сначала нужно прийти к концу, чтобы потом начаться заново, — произнесла Адриенна, и теперь Сильвия была уверена, что подруга имеет в виду нечто намного большее: и свой длительный роман с Сюзанной, и войну, а теперь еще две их книжные лавки и весь простор будущего, которое открывалось перед ними здесь, в двух маленьких парижских кварталах.
Глава 4
— Надень красные, — сказала Киприан, впихивая в руки Сильвии пару алых кожаных лодочек на каблуке.
— Слишком они… красные.
Киприан со вздохом закатила глаза.
— Ради всего святого, Сильвия, ты открываешь первый и единственный в Париже английский книжный магазин. Ты столько недель терзалась сомнениями, вдруг туда никто не будет ходить. А теперь прикидываешься, будто не хочешь, чтобы люди тебя заметили?
— Иронично, да? — Сильвии еще как хотелось, чтобы ее заметили. Но не из-за туфель же.
— Одежда, сестренка, — это наши латы, броня. Сегодня они очень даже могут тебе пригодиться.
Сильвия уставилась на туфли, которыми Киприан соблазняла ее, и вспомнила, что всегда восхищалась, как шикарно они смотрятся на ногах сестры. Интересно, каково ходить в такой роскоши?
Изобразив театральный вздох, Сильвия взяла туфли и скользнула в них ногами. Они оказались удивительно мягкими и удобными, и Сильвия даже пожалела, что в ее студии нет зеркала, так ей захотелось посмотреть, как они сидят на ней.
Закурив еще одну сигарету, Киприан удовлетворенно выдохнула:
— Теперь совсем другое дело.
— Ты завтра заглянешь сюда ко мне? На вечеринку?
— Ну сколько можно об одном и том же? Мы уже все сто раз обговорили. Перестань нервничать. Увидимся, и очень скоро. А теперь ляг и постарайся хоть немного поспать.
Что за нелепый совет. Сильвия ворочалась всю ночь, крутилась с боку на бок, едва ли в силах продремать хотя бы два часа кряду. Наконец, в шесть утра она сдалась, оделась потеплее и, надев свои верные прогулочные туфли, вышла на мороз ноябрьского утра, надеясь найти где-нибудь круассан и кофе со сливками. Едва она уселась за столик и закурила, перед ней словно бы из ниоткуда выросла Адриенна. Щеки Сильвии вспыхнули; с их первого поцелуя прошло три дня, и с тех пор она испытывала неловкость в ее обществе, пока вопрос «Когда же?» навязчивой мантрой пульсировал в голове, сбивая с толку, рассеивая внимание.
— Так и думала, что найду тебя здесь, — сказала Адриенна.
Сильвия улыбнулась.
— Не хотела будить тебя в такую рань.
— Мне не спалось.
— Мне тоже. — Когда же?
— Я напекла сразу с полсотни macarons, — сказала Адриенна, усаживаясь на деревянный стул напротив.
Сильвия открыла рот от изумления.
— За эту ночь?
Адриенна кивнула. Сильвия подвинула свой кофе подруге.
— Пей, тебе он нужнее, чем мне. Я лишь без толку металась и крутилась в постели.
— Надо же было куда-то девать нервную энергию. Вот я и подумала, что мы могли бы предложить их на вечеринке.
Адриенна и так уже приготовила тучу угощений для их маленького приема; Сильвия и представить не могла, как их гости справятся со всеми этими муссами, крекерами, фруктовыми десертами, пирожными и прочей выпечкой.
— Спасибо тебе, — только и сумела вымолвить она.
Взяв еще по кофе и круассану, они принялись, наверное, в сотый раз обговаривать распорядок грядущего дня и как раз заканчивали, когда к их столику направился высокий плотно сбитый молодой человек. Его бледные гладкие щеки покрылись красными пятнами, то ли от мороза, то ли от смущения, Сильвия пока не понимала.
Зато Адриенна, едва его завидев, встала, крепко его обняла и по своему обыкновению расцеловала.
— Мишель! Как чудесно видеть тебя не за прилавком твоей boucherie![35]
— А я частенько захожу сюда, прежде чем самому открыться. И уж меньше всего ожидал встретить здесь тебя, Адриенна, в такую-то рань, — отозвался он низким, как будто заржавевшим голосом, совсем неподходящим для его возраста. Сильвия решила, что ему двадцать с небольшим, хотя голос был как у старика.
— Мишель, знакомься, это мой друг Сильвия Бич из Америки. Она сегодня открывает магазин английской книги на улице Дюпюитрена, а к вечеру у нас намечается маленький праздник. Ты должен прийти.
Он покраснел еще сильнее и широко улыбнулся, так тепло и искренне, что почти разбил Сильвии сердце.
— Вот как? Я тоже немного говорю и читаю по-английски, — сказал он Сильвии en anglais[36].
— Как же чудесно, — ответила она на своем родном языке, дивясь про себя, где этот молодой человек мог выучиться английскому. О, как много разных тайн еще предстоит раскрыть в «Шекспире и компании»! — Конечно же, приходите. Буду очень рада видеть вас у себя.
— У вас найдутся книги Зигфрида Сассуна?[37]
— Конечно, — ответила Сильвия, сгорая от любопытства, почему это молодой мясник Мишель вдруг интересуется знаменитым английским окопным поэтом.
— Я лично знал Уилфреда Оуэна[38], — тихо прибавил Мишель.
И Сильвия поняла: Оуэн был учеником Сассуна. И хотя многие из его стихотворений публиковались в журналах, отдельным сборником они никогда не выходили, потому что Оуэн погиб в сражении всего за неделю до Перемирия. Погиб здесь, во Франции, всего двадцати пяти лет от роду. Сильвия благоговейно кивнула.
— Он был хорошим человеком, — добавил Мишель, опустив взгляд.
В этот момент за углом раздался резкий звон, как будто кто-то уронил поднос с чашками и блюдцами. Мишель мгновенно накрыл голову полами пальто и бросился на пол, съежившись у колен Адриенны. Будь стол побольше, он залез бы под него.
Глаза Адриенны увлажнились, она мягко положила руку ему на спину.
— Всё в порядке. Это всего лишь посуда.
Мишель медленно распрямлялся, и, хоть в нем было, как думала Сильвия, не меньше ста восьмидесяти сантиметров роста, он выглядел сейчас смущенным, потерянным мальчишкой.
— Извините, — проговорил Мишель, — привычка.
— Я оставлю вам экземпляр «Контратаки» Сассуна, обещаю, — сказала ему Сильвия. — И у меня есть соображения насчет кое-чего еще.
Мишель кивнул в знак благодарности и тихо ретировался.
— Чудесный парень, один из лучших, кого я знаю, — заметила Адриенна севшим от переживаний голосом.
— Да, я вижу.
— Мы вместе росли, недалеко отсюда. Но то место, тот мир больше не существуют. Ему было куда труднее смириться с их потерей, чем мне. Там он чувствовал себя как рыба в воде, в отличие от меня.
— Тебе, как я вижу, очень уютно в нынешнем мире, — заметила Сильвия, размышляя про себя, что ей пришлось уехать в Париж, за тридевять земель от дома, чтобы найти тот непринужденный уют и ту терпимость, которыми наслаждается Адриенна.
— Я сама его построила, так что хотелось бы надеяться. И конечно, мне помогли. И Ринетт, и Сюзанна, и мои родители всегда поддерживали мои сумасбродные идеи.
Сумасбродные идеи.
— Ты имеешь в виду…?
Развернув ладони вверх, Адриенна покачала ими, как чашами весов.
— Мое книгочейство, мой отъезд в Лондон, книжную лавку и, между прочим, даже мой… — Она обвела публику в кафе осторожным взглядом, прежде чем шепотом продолжила: — мой сапфизм.
Тоже понизив голос, Сильвия спросила:
— Ты когда-нибудь обсуждала это с ними?
— Нет. — Адриенна даже выставила вперед ладони, точно отгоняла подобную мысль. — Но, я так думаю, Мишель тоже не очень-то стал бы обсуждать с родителями своих подружек.
Сильвия засмеялась.
— Тут ты права. И почти то же я могу сказать о себе. Я имею в виду разговоры в семье. Ни родители, ни моя старшая сестра Холли не задают мне щекотливых вопросов насчет мужчин, и они никогда не предлагали мне выйти замуж. То же и с Киприан. Но Америка в этом смысле куда менее терпима, чем Франция. В Нью-Йорке считалось бы преступлением, отважься я полюбить… — Тебя, едва не проговорила она, но вовремя спохватилась. А впрочем, ей и не нужно было продолжать, Адриенна поняла все без слов.
Кивнув, она ответила:
— Франция принимает все это на бумаге, на уровне законов. И многие семьи вроде моей принимают особых друзей своих сыновей и дочерей. Но в остальном…
Адриенна выразительно покачала рукой, что значило: не так, чтобы очень.
— В Соединенных Штатах сегодня и на бумаге-то никакого просвета не наблюдается.
— Стыд и позор.
— Oui.
Сильвия тряхнула головой, отгоняя внезапно накрывшую ее мрачность.
— Что ж, спасибо, что делишь со мной свой мир.
Адриенна засмеялась:
— Ты строишь его вместе со мной, chérie.
Когда же?
В ней закипало нетерпение.
Сильвия знала, что навсегда запомнит момент, когда они с Адриенной после сытного завтрака за минуты до девяти утра пришли к дверям «Шекспира и компании» с ключами в руках, готовые отпереть лавку и впервые распахнуть тяжелые ставни на ее окнах.
— Знаю, ты не собиралась открываться раньше десяти, но…
— Знаю, мне тоже не терпится.
В первый час после открытия в лавке царила торжественная тишина. Сильвия оглядывала рисунки Блейка и драгоценные листки с автографом Уитмена, теперь обрамленные и развешанные на узком участке стены между полками, которые были плотно уставлены книгами. Наслаждаясь запахами кожи, бумаги и типографской краски, Сильвия с грудью, полной воздуха, табачного дыма и гордости, сказала себе: «Это все мое. Я это сделала».
Она еще не успела занервничать, зайдет ли к ней кто-нибудь, как на пороге лавки явились те самые «кто-нибудь»: сестра Адриенны Ринетт, ее муж Поль-Эмиль Бека и ее любовник Леон-Поль Фарг, поэт, с нежностью называвший завсегдатаев лавки Адриенны potassons (нашими студиозусами), обыгрывая глагол potasser (штудировать) в первом лице множественного числа — nous potassons, — чтобы подчеркнуть их принадлежность к общему дружескому кругу. А поскольку этот глагол куда менее употребителен, чем его более нейтральный синоним étudier (изучать), прозвище явно подразумевало избранность. Сильвия гордилась, что единственной из американцев была причислена к числу potassons.
Остаток дня сохранился в ее памяти размытой картинкой прибывавших и убывавших людей. Они приходили в магазин «Шекспир и компания», в ее магазин! По большей части то были potassons, заглянувшие поздороваться, приобрести библиотечный абонемент, купить одну-две книги и пообещать вернуться на вечеринку в честь открытия. При этом среди посетителей оказалось немало привлеченных любопытством жителей соседних кварталов. «Походил тут, поглядел, интересно же, что может называться “Шекспиром и компанией”», — так выразился живший поблизости доктор, месье Дезотель.
Как только зашло солнце и темнота раннего ноябрьского вечера вступила в свои права, Адриенна с Ринетт начали вносить блюда с приготовленными Адриенной угощениями. И снова Сильвия восхитилась их количеством и изобилием, про себя задаваясь вопросом, неужели их пиршество в той же мере, что и срыв Мишеля, невольными свидетелями которого они стали утром в кафе, были своего рода реакцией на войну — сочувственное oui, merci, благодарность тому, что после всех этих лет они снова наслаждаются вакханалией еды и питья.
Прибывающих на вечеринку гостей Сильвия встречала в алых лодочках Киприан и с зажженной сигаретой в руке. Позже подошел Мишель и, тепло поприветствовав Сильвию поцелуем в щеку, словно они сто лет знакомы, извинился за опоздание.
— Я бы пришел раньше, но подумал, что надо бы заскочить домой и смыть с себя потроха.
— К нам никогда не поздно, добро пожаловать! Да, и у меня есть для вас Сассун. Но для начала вот вам бокал вина.
На вечеринку чудесным образом собралось столько народу, что толпа угощавшихся и выпивающих гостей вскоре выплеснулась из тесных пределов лавки на улицу.
— И когда ты собираешься выступить с речью? — спросила Сильвию Киприан, когда в небе взошла яркая луна, а веселье достигло апогея.
— Не говори ерунды, какая еще речь?
— Сильвия, ты просто обязана сказать что-нибудь, — поддержала ее сестру Адриенна.
Сильвия попыталась сглотнуть неизвестно откуда взявшийся болезненный ком в горле. Не оставляя ей времени на раздумья, Киприан постучала серебряной ложечкой по своему бокалу, и получившийся звук чем-то напоминал отдаленный перезвон церковного колокола; волнами разносился он по помещению, пока гости не притихли и не наступила полная тишина.
Слишком миниатюрная, чтобы увидеть кого-либо дальше первого ряда, Сильвия нервно смотрела по сторонам в поисках чего-то, на что можно встать. Куда же запропастилась чертова лесенка, на которую она взбиралась, чтобы доставать до самых верхних полок?
Вперед выступила Адриенна и эффектным движением поставила ее прямо перед Сильвией. Как только та поднялась на ступеньку, толпа оживилась приветственными возгласами. Но вместо радостного возбуждения Сильвию охватила паника. Потупившись, она уставилась на свои ноги в алых лодочках, потом подняла глаза и встретила твердый ободряющий взгляд Адриенны. Сильвия набрала в грудь побольше воздуха и сказала:
— Спасибо вам всем, что пришли сюда сегодня. Вы даже не можете представить, как много для меня значит видеть здесь стольких старых друзей и познакомиться со столькими новыми друзьями… — Почему, ну почему я не подготовилась?
Через мгновение она увидела в толпе Мишеля и поняла, о чем будет говорить.
— Год назад, почти день в день, Америка, Британия и Франция подписали соглашение, завершая войну, ужаснее которой не видывали наши народы. Но liberté, égalité et fraternité[39] возобладали, и здесь, в месте, предназначенном для обмена французскими и английскими умонастроениями, мы можем сполна насладиться благами мира: литературой, дружбой, разговором, спорами. Пускай же мы будем долго ими наслаждаться, и пускай они — вместо винтовок и гранат — послужат оружием для новых восстаний.
Со всех сторон зазвучало «Согласны, согласны!», «Ваше здоровье!», «Поздравляю!», и Сильвия сошла со своего возвышения, сияя робкой гордостью и радуясь, что может снова раствориться в толпе гостей.
Как только выдалась свободная минутка, она тронула Мишеля за рукав и вручила ему две книги.
— Это Сассун, в подарок, — сказала она. — А Уитмена даю вам по библиотечному абонементу. Вернете, когда прочитаете. Любопытно, понравится ли он вам.
Улыбка Мишеля растопила бы любую сосульку на крыше в Нью-Джерси.
— Спасибо, мадемуазель Бич.
— Для вас просто Сильвия.
— Сильвия, — кивнул он, — только, s’il te plaît[40], не раздавайте так запросто слишком много книг, не хотелось бы, чтобы ваш бизнес прогорел.
— Не буду. Мне бы тоже этого не хотелось.
Если бы не удовольствие взахлеб делиться с Адриенной, Киприан и Ринетт впечатлениями от вечеринки, Сильвии показалось бы, что уборка в лавке после ухода гостей никогда не закончится.
— Я же говорила, что всё съедят, — гордо заметила Адриенна, пока они заворачивали себе жалкие остатки щедрого пиршества.
— Неужели ты рискнула усомниться в кулинарных изысках моей сестрицы? — засмеялась Ринетт. — Удивляюсь, что ты еще жива после такого!
Киприан от души расхохоталась.
— К твоему сведению, у нашей Сильвии второе имя Почемучка.
— Если я в чем и сомневалась, — парировала Сильвия, — то точно не в достоинствах угощения. Я и представить не могла, что набежит столько народу.
— Зато я могла, — сказала Адриенна, одарив Сильвию долгим взглядом, от которого у той зашлось волнением сердце.
Полночь застала обеих посреди аккуратно прибранной лавки, наконец-то наедине.
— Спасибо тебе, Адриенна, — сказала Сильвия. — Всех слов мира не хватит, чтобы выразить, как я тебе признательна за все.
Адриенна сжала руку Сильвии и посмотрела на нее — ах, эти бледно-голубые глаза под черными бровями, этот восхитительный изгиб губ, темнеющий на идеально бархатной сливочно-белой коже. Сколько контрастов. Сильвия была готова бесконечно любоваться лицом Адриенны, и ей бы оно никогда не наскучило. Интересно, что Адриенна видела в ее собственном лице?
Сильвию ошеломило, когда Адриенна подняла ее руку к губам и поцеловала ладонь, а потом каждый ее палец, прикрыв глаза, словно она наслаждалась любимым лакомством. Сильвия тоже закрыла глаза, она трепетала от каждого прикосновения губ и языка Адриенны к коже. Сильвия и не подозревала, что в ее руках столько чувственности. Кто бы мог подумать! Ее руки. Когда она отважилась открыть глаза, то, нежно скользнув рукой, коснулась щеки Адриенны. Она позволила своим пальцам зарыться в ее копну темных волос. Тоже открыв глаза, Адриенна потянулась к Сильвии, и они поцеловались. Поцелуй поначалу был медленным, ищущим, и Сильвия чувствовала, как от прикосновения губ Адриенны каждый нерв вспыхивал огнем. Вскоре обе снова закрыли глаза, сплетясь в тесном объятии, их поцелуи стали глубже, требовательнее, словно этим вечером они торопились узнать друг о друге все, что до сих пор оставалось неузнанным. Их зубы то и дело сталкивались, их стоны слились в один, их пальцы в нетерпении расстегивали пуговицы и крючки.
В пальто нараспашку, чтобы охладить жар своих тел воздухом ноябрьской ночи, они преодолели квартал от книжной лавки до постели в квартире Адриенны и на много часов отдались познанию того, что вгоняло Сильвию в жар, опустошало и оглушало. Адриенна была восхитительна — упругая под гладкой нежной кожей, уверенная в каждом движении пальцев и языка. С ней Сильвия действовала смелее, чем когда-либо, позволяя своим рукам скользить под ее одеждой, по изгибам ее тела, утоляя голод, который она годами копила в себе, но всю жизнь не желала признавать.
Она и представить не могла, сколько наслаждения таится в ее собственном теле. Так вот о чем она столько читала. Сильвия не сумела вспомнить, когда в последний раз книги, при всем их очаровании, виделись ей лишь бледным подобием реальной жизни. Да и бывало ли такое? Теперь она познала истинное блаженство, и ей не было возврата к унылому прошлому.
Глава 5
Часы, которые Сильвия проводила в объятиях Адриенны после того, как они вечером закрывали свои лавки, убеждали ее, что мир — по крайней мере, ее личный мир — бесповоротно изменился. Киприан, и та заметила перемену. В начале 1920 года она возвращалась в Штаты, поскольку ее контракт закончился, и перед отъездом сказала Сильвии:
— Никогда еще не видела тебя такой поглощенной.
Влюбившись в Адриенну, Сильвия даже читала теперь с совсем иным настроением. Раньше описания постельных сцен и плотских вожделений вызывали в ней смятение и душевную боль, сейчас же она воспринимала себя частью волшебного мира, в который посвятила ее Адриенна. Она и сама ощущала в жилах пламя желания, такого пугающего, но такого желанного для героя «Портрета» Стивена Дедала. С новообретенным аппетитом Сильвия взялась читать и перечитывать эпизоды нового романа Джойса «Улисс», с которыми она в том году уже внимательно ознакомилась в журнале «Литтл ревью», публиковавшем произведение частями. И снова отметила для себя, что действие «Улисса» разворачивалось в Дублине, хотя Сильвия читала, что Джойс уже много лет как оставил родину и, в сущности, был изгнанником подобно герою гомеровской «Одиссеи», схему которой он блестяще обыграл, выстроив на ней структуру своего романа[41].
Джойс привел в «Улисса» Стивена из «Портрета художника в юности», но дал ему друга, старшего, более жизнелюбивого, полнокровного Леопольда Блума. В мельчайших подробностях описывая каждое слово, каждую мысль и каждое движение Стивена и Леопольда, пока они проживали в ирландской столице один-единственный день — 16 июня 1904 года, Джойс, судя по всему, намеревался новым романом взорвать все до единого защитные покровы современной жизни с той же неотвратимостью, с какой гранаты недавней войны взрывали города, веси и окопы по всей Европе. Сидели ли его герои в уборной, рассуждали ли о «Гамлете», Джойс не жалел подробностей, уравнивая вульгарное и возвышенное. Воистину то была книга, не терпевшая компромиссов в своей железной решимости трезво и без малейших прикрас изобразить сознания и тела Стивена и Леопольда.
Настойчивость, с какой роман вводил читателя в исчерпывающие, правдивые подробности, вызвала жестокие цензурные нападки в Англии и Америке, где выпуски журналов с эпизодами «Улисса» конфисковывались нью-йоркским обществом подавления порока Джона Самнера как попирающие общественную нравственность. Маргарет Андерсон недавно жаловалась на это в редакционных статьях своего «Литтл ревью», и Сильвия полностью разделяла ее возмущение. Она еще могла понять нежелание читателей последовать за Блумом в уборную, но цензура, законодательный запрет? Напротив, читателей следовало заставить осознать ошеломляющую честность романа, как и смелость самого текста, ибо в вызовах, которые он бросал обществу, заключалась его величайшая правда: мир, каким мы его знали, закончился, пришло время для чего-то совершенно нового. Упразднить одни только кавычки Джеймсу Джойсу казалось мало, местами он откровенно пренебрегал общепринятыми правилами построения предложений и разбиения текста на абзацы с единственной целью — пробиться как можно глубже в сознание своих персонажей, ведь, в сущности, сознание не подчиняется правилам грамматики. Что ни говори, а «Улисс» был истинно созвучен их времени. Сильвия гадала, что мог бы вынести из него читатель вроде Мишеля, найдет ли у него отклик тот способ, каким «Улисс» переиначивает смыслы?
Отрываясь от выпусков «Литтл ревью», Сильвия всякий раз ощущала, как захватывает у нее дух и как переполняется ее жизнь, и письма, которые она получала из Америки, еще больше укрепляли ее во мнении, что книга Джойса необходима. Ее подруга детства Карлотта Уэллс писала:
ПОВЕРИТЬ не могу, что закон Волстеда вступит в силу с первого месяца нового года. Совершенная пародия и чистейший абсурд. Господи, да все наши знакомые уже запасли в своих подвалах столько спиртного, что и их внукам хватит. А некоторые, чтобы все уместить, копали себе подвальные помещения. И чем это улучшит ситуацию? Когда же они хоть чему-нибудь научатся?
А вот что писала ей мать:
К сожалению, дорогая моя, и речи не идет, чтобы я навестила тебя в Париже. Боюсь, в нашей стране окончательно возобладали низменные инстинкты. Жадность не знает удержу. Твой отец без конца осуждает ее в своих проповедях, а что толку? Мне даже кажется, что, наслушавшись в воскресенье его проповедей, прихожане с женами затем только возвращаются из церкви домой, чтобы в понедельник на работе продолжить служить Плутосу. Лучше бы закон этого Волстеда обуздывал алчность, чем боролся с пьянством.
Киприан, как выяснялось, тревожили примерно те же проблемы:
Очень скучаю по тебе, дорогая сестра, и по Парижу тоже. Нью-Йорк захлестывают враждебность и страх. Ирландские политики во власти прикидываются, будто сами никогда не были иммигрантами, и знай себе пропихивают еще пущие строгости в отношении многоквартирных домов, люди всё еще боятся подхватить испанку, а Почтовое ведомство выкрадывает из посылок журналы и романы и швыряет их в печь. Наши сограждане, учуяв что-то, представляющее хотя бы малейший интерес, тут же хватаются строчить жалобы, и это душит все виды искусства, включая и кино.
Казалось, правящий класс Америки вознамерился объявить вне закона всё задевающее его чувство благопристойности. Всему и вся, что намекало на порок или шло вразрез с благостными иллюстрациями добродетельной жизни на страницах «Сатердей ивнинг пост»[42], грозила опасность навсегда умолкнуть — будь то книга, пьеса, фильм, организация, деятельность или человек. Но как ни парадоксально, своими стараниями подавлять и затыкать рты власть только плодила то, чего так опасалась: анархию и марксизм, протесты и беспорядки, — а книги вроде «Улисса», напротив, старались раскрыть современникам глаза, а не закупорить умы.
Что до Сильвии, то она уже решила, что непременно будет продавать «Улисса», когда он выйдет отдельным изданием, а пока агитировала всех читать роман в журналах.
«И вообще, — поклялась себе Сильвия, — я сделаю все от меня зависящее и, как только смогу, стану содействовать всем писателям современной волны честной литературы.
Благо их ряды, судя по всему, ширились».
Всякий на Левом берегу слышал об эксцентричной писательнице и коллекционере живописи из Калифорнии Гертруде Стайн; широкой известностью пользовалось ее художественное собрание, куда входили картины Сезанна, Матисса, Гогена и других мастеров, ярко заявивших о себе в последние десятилетия. Всякий, кто хоть что-нибудь значил в богемном Париже, в конце концов удостаивался приглашения отобедать и побеседовать о новой литературе и перспективах продвижения современного искусства. Сам Пикассо часто гостил в доме Гертруды, как и Жан Кокто, который был своим человеком и в магазинчике Адриенны. Сильвия все гадала, соблаговолит ли мисс Стайн когда-нибудь посетить и ее скромную книжную лавку; американка, много лет живущая в Париже, надо полагать, уже наладила каналы пополнения своей библиотеки на родном языке, и, вероятно, заведение Сильвии было ей без надобности. И все же Сильвия тешилась надеждой, что ее растущая репутация и общие друзья соблазнят Гертруду Стайн к ней заглянуть. Это стало бы для «Шекспира и компании» чем-то вроде крещения.
— Мадам Стайн, — промолвила Адриенна с преувеличенным почтением, когда Сильвия озвучила свою заветную мечту, пока они плечом к плечу скоблили картофелины над кухонной раковиной. Адриенна тем вечером готовила свой gratin dauphinois[43], и у Сильвии от предвкушения текли слюнки. — Она держится особняком, разве нет? Или, точнее, предпочитает принимать у себя? Не очень-то она flâneuse[44]. Так говорил мне Кокто.
— То же слышала и я. Но помечтать-то можно?
— Что верно, то верно, ее одобрение определенно придаст этакой… солидности твоей лавке. А как насчет мадам Уортон?[45] Побудит ли ее пример других американцев захаживать к тебе?
— Peut être. Но она ведь больше не живет в Париже, разве нет? Слышала, у нее поместье в Уазе, а зимы она проводит на Ривьере. Сдается мне, мадам вся из себя слишком фу-ты ну-ты для такой жалкой лавчонки, как моя.
— C’est vrai[46]. Я иногда встречала ее на приемах, когда она еще жила на улице Варенн, и с виду, скажу я тебе, буржуазности в ней было куда больше, чем богемности.
Сильвия чокнула своим бокалом сансерского о бокал Адриенны и возгласила:
— Vive la bohème[47].
Они поцеловались, и Сильвия прочувствовала это каждым атомом своего существования.
Теплым июньским днем 1920 года гранд-дама Стайн под руку с Элис Токлас тяжелой поступью вошла в лавку Сильвии. Та тотчас же заметила, что Элис почти во всем была противоположностью своей подруги: ее живость контрастировала с томностью Гертруды, тонкость — с корпулентностью, уложенная по моде темная копна — с короткими седыми волосами, напоминающими шлем. Гертруда выглядела величественно не только из-за своего роста и дородности, которая ей очень шла. Впечатление усиливали строгое темно-серое платье и румяные скулы, казалось навечно сведенные неодобрением, не исчезавшим, даже когда их хозяйка улыбалась. Она уставила на Сильвию орлиный взор темных глаз.
— Добрый день, — сказала мисс Стайн, держа курс прямо к письменному столу, за которым Сильвия разбирала дневную почту, в то же время судорожно придумывая, как бы так поприветствовать гостью, чтобы это не прозвучало подобострастно. Хотя не меньше ее интересовало, догадывается ли мисс Стайн, что она, Сильвия, тоже встречается с женщиной.
Как раз на такой случай Киприан когда-то выдала Сильвии монокль, поскольку ее обычный образ из жакета с юбкой ничего не говорил о ее склонностях, а разве что о невозможности позволить себе наряды по моде и о желании одеваться разумно. Но Сильвия не помнила, куда засунула это стеклышко. И теперь ничего не поделаешь.
Сильвия подалась вперед, склонившись над своей тлеющей в пепельнице сигаретой, чтобы протянуть мисс Стайн руку для пожатия.
— Здравствуйте. Я Сильвия Бич. Пожалуйста, зовите меня просто Сильвией.
— А я Гертруда Стайн. Можно просто Гертруда. — Она крепко пожала руку Сильвии. — А это — Элис Токлас. Элис.
Сильвия с Элис обменялись рукопожатием и учтивыми улыбками.
— Наслышана о вашем магазине, — сказала Гертруда, оглядываясь по сторонам. — У вас тут и правда полно книг. Куда больше, чем я ожидала.
Сильвия не совсем поняла, что Гертруда ожидала увидеть в «Шекспире и компании», но на всякий случай кивнула и ответила:
— Спасибо. Мы прикладываем все усилия, чтобы наши полки никогда не пустели.
Точно притянутая магнитом, Гертруда пошла вдоль стеллажей к дальнему концу алфавита. Сильвия видела, как писательница пробегает глазами по корешкам книг в поисках собственных произведений, и у нее отлегло от сердца, потому что в продаже имелись все книги мисс Стайн за исключением одной.
— На прошлой неделе я продала последний экземпляр «Нежных кнопок»[48] и сейчас ожидаю новой поставки.
Гертруда только молча кивнула, затем переместилась к буквам в начале алфавита. Элис перебирала журналы на стойке у витрины и выудила последний выпуск «Дайела»[49]. Внимательно изучив полки, Гертруда сказала:
— Не вижу у вас ничего из Джона Фокса[50]. А ведь его «След одинокой сосны» — выдающийся роман.
Сильвия не могла поверить своим ушам. Неужели Гертруда всерьез имеет в виду аппалачский бестселлер? Востребованного в ее собственной стране крайне авангардного городского писателя? Сильвии подумалось было, что ее разыгрывают. Не потому ли, что сама Гертруда родилась на западе Соединенных Штатов, который казался Сильвии диким, неосвоенным краем, таким же далеким для нее, как какой-нибудь Мадагаскар? Решив, что такой ответ будет самым безопасным, Сильвия сказала:
— Непременно закажу его.
— Отлично, — тепло отозвалась Гертруда и сложила перед собой руки в знак, что довольна вниманием Сильвии к ее рекомендации. — А скажите мне, пожалуйста, Сильвия, что побудило вас открыть этот магазин в Париже? Полагаю, нечто большее, чем наша ночная жизнь.
Вот оно как, никакой монокль и не понадобился. Сильвия давно подметила, что женщины, упоминая в разговорах ночную жизнь города, чаще всего имели в виду сценки, которые можно было увидеть на Эдгара Кине, в Пигале или на Монмартре.
Сильвия заулыбалась.
— А что, я очень даже не против ночной жизни, — сказала она, — но вы правы, мною двигали мотивы более серьезные. Я увидела, что в городе есть такая потребность, и решила удовлетворить ее.
Сильвия и сама удивилась, каким простым оказалось объяснение, хотя на деле за ним стояли сотни разговоров с Адриенной, Сюзанной, Киприан, матерью, а также ее извечная тяга к чтению и год ее детства, проведенный в Париже и навсегда ее изменивший.
Гертруда кивнула.
— Признаться, я и сама одно время подумывала о чем-то подобном. Но я предпочитаю составлять предложения на бумаге, а не продавать их.
— Держать книжный магазин означает большее, чем продавать предложения. Главное здесь — отдавать нужные предложения в нужные руки.
Так было с Мишелем, который увлекся Уитменом и приходил за новыми и новыми его произведениями. Сильвия же потихоньку подталкивала его к Джойсу, Элиоту, Уильямсу[51] и другим значительным новым авторам.
— Точно, — ответила Гертруда с сомнением.
Тут Сильвия заметила, как Элис, все это время молча листавшая журналы, чутко вслушиваясь в каждое слово, спрятала усмешку.
Напуганная скупым ответом Гертруды, Сильвия решила, что зашла слишком далеко, и поскорее прибавила:
— И я бесконечно признательна писателям, которые составляют предложения. Предложения изменили мою жизнь.
Нет, ну до чего странно, Сильвия впервые поняла, что открытие «Шекспира и компании» отбило у нее юношеское желание стать писательницей. И очень хорошо, что родители полностью поддерживали ее начинание; оба сообщали, что очень гордятся ею, и засыпали ее бесчисленными вопросами о том, как она управляется с делами в лавке.
— Предложение сейчас претерпевает великие перемены.
Сильвия едва не расхохоталась. Нет, она всем сердцем была согласна с Гертрудой, но не ожидала из ее уст такого профессорского апломба.
— За это я тоже признательна. — Сильвия постаралась придать своему тону как можно больше почтительного внимания. — Я огромная поклонница вашего творчества, мисс Стайн… Гертруда, и верю, что ваш проект с английским языком чрезвычайно важен.
— А у вас, как я посмотрю, имеются все журналы, на которые я подписана.
— Стараюсь идти в ногу со временем.
— И какой же ваш любимый?
Вот она, проверка.
— Ну, я затруднилась бы назвать какой-то один. Но должна признаться, что питаю особую симпатию к «Литтл ревью».
Гертруда насупилась.
— Ах вот как, — протянула она. — Мисс Андерсон помогла многим людям искусства, которыми я восхищаюсь, а фотографии Ман Рэя, что она публикует, особенно хороши. Правда, сейчас она взялась печатать того ирландца, Джеймса Джойса.
— О да, «Улисс». Ужасно, что в Соединенных Штатах Почтовое ведомство перехватывает выпуски с его главами. Все время боюсь, вдруг не получу следующий номер.
Хотя Сильвия уже поняла, что Гертруда Стайн придерживается иного мнения о произведении того ирландца, она не сдержала собственного воодушевления; это щекотало ей нервы, как в школе, когда она тайком передавала записки.
— Пускай я не в восторге от работ Джойса, но полностью согласна с вами, что Почтовая служба Америки перешла все границы. Цензура никак не вяжется с демократией. Или с искусством.
— Да уж, какое там, — заулыбалась Сильвия, довольная, что они хоть в чем-то полностью согласны.
— Думаю, мне сейчас самое время записаться в вашу библиотеку, — сказала Гертруда.
Сильвия оформила абонемент только на Гертруду, «позабыв» об Элис, и ее новая читательница тут же взяла «Письма» Джорджа Мередита[52].
— Известно ли вам, что его семь раз выдвигали на Нобелевскую премию, но ни разу ее не присудили? — спросила Гертруда.
— Бог мой, нет. Неужели семь?
Гертруда постучала по «Письмам» костяшками пальцев.
— Интересно, нашлось ли у него что сказать по этому поводу здесь.
— О, пожалуйста, расскажите, как узнаете.
Когда Гертруда с Элис ушли, Сильвия ощутила, как на нее накатывает приятное возбуждение. Великая литературная знаменитость посетила ее лавку! Какой знаменательный день! Сильвия до самого вечера будто летала на крыльях.
— У меня было такое же чувство, когда в магазин впервые пришел Ромен. Точно мне удача привалила! — воскликнула Адриенна, когда они тем вечером ужинали очередным ее кулинарным творением: каре ягненка с гарниром из риса и моркови. В качестве второй и третьей перемен блюд их ожидали салат из маринованных овощей и сыры с испанскими апельсинами. Сильвия радовалась, что за день не успевает нагулять большого аппетита, ведь она не могла позволить себе новую одежду, которая явно понадобится, если с утра до ночи так объедаться.
— Мне стыдно признаваться, сколько счастья доставил мне ее визит, — сказала Сильвия.
— Да почему же?
— Понимаешь, в нашей семье звездой всегда была Киприан, она желала внимания и получала его. Иногда я даже ревновала к ней, но, прямо скажем, ничего такого выдающегося, что в ней было, я предъявить не могла. Вот и купалась время от времени в лучах ее славы, но, честно говоря, на заднем плане мне как-то спокойнее. Зато лавка дает мне и то и другое — здесь я держусь в тени, но ведь вместе с тем кое-чего достигла, и все это видят. — Сильвия еще ни разу в жизни не осмеливалась признаться в таком вслух и вдруг испугалась, что Адриенна не так ее поймет.
Адриенна ласково заправила прядь коротких волос Сильвии ей за ухо, и ту как током прошибло.
— Не бойся показать свои таланты. Ты столько можешь дать миру.
Почему сама Сильвия всегда так сомневалась в себе? Она-то была уверена, что Адриенна куда более талантлива, точно дерево, у которого и крона поветвистее, и корни поглубже. Она управляла «Ля мезон», а еще время от времени выпускала журнал, сама писала эссе. И потом, Адриенна уже сейчас искусна в кулинарии, как шеф-повар хорошего ресторана. А у Сильвии ко всему прочему так и крутилась в голове брошенная год назад Киприан фраза: «По мне, так Адриенна — женщина с аппетитами, такая легко может заскучать».
«Ерунда», — сказала себе Сильвия. Адриенна годами хранила верность Сюзанне, и своей лавке, и своим друзьям. Ах, как бы самой Сильвии отбросить мучительные страхи, что Адриенна пресытится ею.
Глава 6
Горячие лучи раннего июльского солнца припекали спину Сильвии, пока она отпирала главный вход и распахивала ставни, чтобы явить миру книги и журналы, выставленные в широких витринных окнах лавки. Она заулыбалась, глядя на устойчивую стопку «Листьев травы» Элиота, новое издание «Сна в летнюю ночь», сборник новелл Шервуда Андерсона[53] «Уайнсбург, Огайо» и литературные журналы. Ну что ж, лавка открыта, и теперь Сильвия заварила себе еще один кофе — первый она выпила за завтраком с Адриенной — в тесной задней комнатке лавки. Потом, взяв в руку дымящуюся чашку и закурив сигарету, она опустилась в одно из добытых на церковной распродаже кресел, чья обивка, некогда нефритово-зеленая, теперь почти полностью выцвела и изрядно протерлась как раз там, куда уселась с раскрытым на коленях гроссбухом Сильвия.
Ох и ненавидела же она это счетоводство. Оно явно не было ее сильной стороной — к тому же если совсем начистоту, то дела у Сильвии не так чтобы процветали. Она кое-как держалась на плаву, но ни на йоту не приближалась к возможности вернуть долг матери. Адриенна все время призывала ее набраться терпения и помнить, что с открытия не прошло еще и года, а мать, со своей стороны, снова и снова убеждала ее в письмах, что и думать не думает ни о каких выплатах, но Сильвия не находила себе места от тревоги. Она-то думала, что «Шекспир и компания» — заведение первое и единственное в своем роде! — одним махом покорит Париж. Нет, поначалу ее лавка произвела определенный фурор, недаром о ней написали почти все парижские газеты и даже некоторые нью-йоркские и бостонские издания, однако вместо ожидаемого урагана продажи моросили мелким дождиком.
Она кое-как продиралась сквозь немногочисленные колонки цифр, обещая себя, что если все будет тихо, когда она закончит, то на часок закроет лавочку и сбегает в «Ля мезон» навестить Адриенну. Как ни соблазнительно выглядел план, Сильвия вовсе не расстроилась, когда он сорвался из-за внезапного вторжения Валери Ларбо. От неожиданности она вскочила с кресла, едва не сбив на пол пустую чашку и полную пепельницу, и воскликнула:
— Ларбо! Вот так сюрприз! Я-то думала, вы до самого сентября в Виши!
Когда они обнялись и расцеловались в обе щеки, Ларбо объяснил:
— Мне нужно было справиться дома о кое-каких делах и я подумал, почему бы не заглянуть, вдруг у вас найдутся новинки Миллей[54] или Уильямса?
— Сейчас у меня нет ничего, что вы еще не читали, — сказала Сильвия, испытывая уже знакомое ей удовлетворение тем, что хорошо знает свое дело, и гордость оттого, что интеллектуалы вроде Ларбо руководствуются ее советами. Притом что Сильвии нравилось вручать идеально подходящий роман новому посетителю и затем обращать его в друга, снова и снова возвращающегося к ней за новыми книгами, особенное, несравненное удовольствие доставляло ей служить парижским привратником англоязычного чтения, как недавно отозвался о ней Эзра Паунд. Милый Эзра. Он протоптал дорожку к «Шекспиру и компании» сразу, как приехал из Лондона, всего несколько недель назад.
— Нет, новый сборник Миллей еще не пришел, — продолжала Сильвия, — я имею в виду «Плоды чертополоха». Но рассчитываю вскоре его получить.
— Обязательно оставьте мне экземпляр, — попросил Ларбо и взял полистать последний выпуск «Чепбука»[55]. Он остановился, чтобы прочитать одно из стихотворений, затем вздохнул и положил журнал на место. — Кстати, о зарубежных писателях, я слышал, Джеймс Джойс теперь в Париже.
— Как вам удалось прознать об этом раньше меня?! — Сильвия изобразила на лице ужас. Хотя и правда почувствовала некоторый укол ревности. Как получилось, что она не в курсе? Почему же Джойс не зашел к ней в лавку? Хотя, с другой стороны, Сильвия слышала, что он владеет несколькими языками. Возможно, во Франции ему больше нравится читать на французском. Но в магазине Адриенны он тоже не появлялся.
Сильвии вдруг подумалось: «Что мне ему сказать, если он и правда переступит мой порог?»
— Ну же, имейте терпение. Сами знаете, это просто вопрос времени, и как только ему понадобится экземпляр «Листьев травы»… — блеснув глазами, поддразнил Сильвию Ларбо. Она уже знала, что мало кто понимает, почему поэт прошлого века Уитмена любим ею так же, как и очень современные авторы вроде Джойса, Элиота или того же Паунда, чьи стихи нравились ей всё больше благодаря его частым визитам к ней в лавку. Однако Ларбо понимал Уитмена. А если подумать, то и Паунд тоже.
— Может, стоило бы послать ему экземпляр в подарок от «Шекспира и компании»?
— Не думаю, пускай лучше «Шекспир и компания» сама привлекает его своим путеводным светом, — возразил Ларбо, и оба рассмеялись.
В этот момент, точно и правда следуя за путеводным светом солнца, в помещение вошли трое новых посетителей и разбрелись вдоль полок, а значит, Сильвии настало время вернуться к роли хозяйки книжной лавки и помочь им найти то, что они ищут, конкретную книгу, о которой они пока, пожалуй, и не догадываются, но которая могла бы изменить их жизни.
Была знойная летняя пятница, когда к Сильвии заглянул Мишель и застал ее изнемогающей в душной лавке в мечтах о глотке чая со льдом и о завтрашнем дне, когда она собиралась закрыться пораньше и поехать в Рокфуэн, где жили в очаровательном домике с соломенной крышей родители Адриенны. Там, вдали от шума и жары города, они с Адриенной будут плавать в пруду, бродить в полях среди цветов и читать вечерами в шезлонгах, прежде чем приняться за ужин, который чаще всего включал свежесобранные ягоды, местный fromage blanc[56], багет, saucisson sec[57] и крепкое красное вино, произведенное одним из соседей. Maman и Papa Монье привечали Сильвию как вторую дочь, а она была очень им благодарна за возможность отдохнуть душой в семейном кругу, где чувствовала себя так уютно и непринужденно.
— Bonjour[58], — сказал Мишель с широкой улыбкой на блестящем от пота лице. Закатанные рукава рубашки открывали его загорелые волосатые руки. Он выложил на стол Сильвии сверток в коричневой бумаге. — Вот вам сладкое мяско.
Мишель частенько приносил им продукты для кулинарных изысков Адриенны.
— Давайте-ка я сразу закину его в ледник, — откликнулась Сильвия, надеясь, что в ящике осталось достаточно замороженных блоков, чтобы мясо дотянуло до закрытия лавки. К счастью, так и было, и Сильвия прижала руку к глыбе льда, на короткий миг испытав облегчение, а потом поспешила к Мишелю, который рассеянно листал последний остававшийся у нее экземпляр «По эту сторону рая» Фрэнсиса Скотта Фицджеральда. Роман буквально улетал с полок; с тех пор как он в марте вышел в свет, Сильвия едва успевала заказывать новые партии, чтобы он всегда оставался в продаже.
— Хорошая вещь? — спросил Мишель. — Сестра попросила купить ей экземпляр, если у вас найдется.
— Хорошая, — ответила Сильвия задумчиво.
— Я слышу сомнение в вашем голосе, — заметил он.
— Так оно и есть. Нет, вещь замечательная, первый многообещающий роман автора, — принялась уверять Сильвия с чуть большим, чем требовалось, воодушевлением, хотя ничуть не покривила душой. — Мне любопытно узнать ваши с Женевьевой впечатления.
Что тоже было правдой. Но. Сильвия направилась к полке с Джойсом и, достав экземпляр «Портрета художника в юности», вручила его Мишелю.
— Мне не менее любопытно, что вы скажете вот об этом. Роман Фицджеральда кое-чем обязан Джойсу.
Мишель закивал.
— Ваши рекомендации всегда превосходны, так что я и сейчас доверюсь им.
Потом они немного поболтали о том, что планируют на выходные, и в ответ на его уклончивое rien[59] Сильвия, не успев подумать, опрометчиво воскликнула:
— Неужели ничего не делаете? Мишель, вы просто обязаны гулять с каждой симпатичной девчушкой в нашей округе!
При этих словах вечные красные пятна на лице Мишеля вовсю заалели смущением.
— А, понимаю… Вы и так с ними гуляете!
— Ну, не с каждой. Только с одной. С Жюли. Она балерина, которой я давно восхищаюсь, сестра моего старого товарища. Недавно я наконец-то осмелился пригласить ее пообедать.
Сильвия просияла.
— Вот и замечательно. Если вы ей не приглянетесь, значит, она глупышка.
Все еще пунцовый, Мишель выдавил:
— Сами знаете, как это нелегко. В смысле, найти то же, что есть у вас с Адриенной.
Тут уже настала очередь Сильвии смутиться. Его слова застали ее врасплох, и она почувствовала, как по ее шее бегут мурашки. Все в их окружении молча принимали их с Адриенной отношения — во всяком случае, насколько знала Сильвия. Как и в том, что касалось Гертруды и Элис, никто не отпускал комментарии в их адрес. Сильвия понимала, что посторонний, увидев их обедающими вместе, скорее всего, решил бы, что они подруги или сестры, но и среди их друзей и постоянных покупателей, которые были более или менее в курсе, до сих пор ни разу еще не прозвучало ни одного, даже брошенного вскользь намека.
И все же такие отношения редко признавали. Ее родители, и те не задали ей ни единого вопроса, когда она написала, что переселилась к Адриенне на улицу Одеон «за компанию и ради экономии на квартирной плате». Но смущение от слов Мишеля доставило ей удовольствие. Сильвия почувствовала, что ее видят.
— Это большая редкость, — согласилась она, — а кажется, что такое происходит чуть не каждый день. От души желаю удачи с вашей балериной, Мишель.
Следующее воскресенье застало их с Адриенной в Шестнадцатом округе: с бутылкой сладкого белого бордо они ожидали, когда им откроет дверь хозяин дома Андре Спир или его жена. Перед этим подруги долго и утомительно тряслись в душном вагоне метро, и Сильвия чувствовала, как по спине под льняной блузкой сбегают ручейки пота. Вот бы нам сейчас оказаться в Рокфуэне — мечтала она.
Андре распахнул перед ними дверь, сердечно поприветствовал их потоками baisers[60] и bienvenues[61] и повел их в просторную залитую светом квартиру.
— Заходите, заходите. У нас Паунды, и Поль Валери, и Ромен, и… — его голос упал до шепота, — Джеймс Джойс с семейством тоже здесь.
Сильвия нервно сглотнула. С Джойсом она рассчитывала познакомиться вовсе не здесь, а у себя в лавке.
Адриенна сейчас же почувствовала ее напряжение и одобряюще положила руку ей на плечо с возгласом «Merveilleux!»[62]
Кучка детей шумно пронеслись по коридору друг за дружкой и за котом; и прежде чем Сильвия успела открыть рот, ей уже вручили бокал белого взамен бутылки, которую она сжимала в руках, и проводили в гостиную, где на диванах и стульях уже сидели несколько женщин, обмахиваясь веерами и попивая охлажденное вино. По пути из прихожей в гостиную, где сидели жены писателей, они миновали библиотеку, и Сильвия краем глаза углядела Эзру, Ромена и — неужели? — Джеймса Джойса собственной персоной, хотя в потоках яркого дневного солнца она разглядела разве что темные силуэты литераторов. Сильвию всегда раздражало, когда гости разделялись по признаку пола, но сегодня она этому только порадовалась, рассчитывая, что успеет собраться с мыслями. Жена Эзры Дороти представила их с Адриенной жене Джойса, даме, чувственные формы которой сейчас же напомнили Сильвии одну из мраморных обнаженных фигур Родена. Но на ее лице было больше красок, ее голову венчал ареол рыжеватых блестящих волос, небрежно заколотых над влажной шеей, а в чуть прикрытых томных глазах сквозило легкое распутство.
— Миссис Джойс, — представила ее Дороти.
«Ах, значит, сегодня мы на официальной ноге», — отметила Сильвия, закуривая. Она знала, что эта дама все еще зовется Норой Барнакл и что они с Джойсом официально не женаты. Всем давно известно, что они уже многие годы живут как муж и жена, но инакомыслие, весьма созвучное творчеству Джойса, побуждало их отказываться от капитуляции перед требованиями общественных норм. И это нравилось Сильвии в Джойсе, в них обоих. Они с Адриенной все равно не могли бы сочетаться браком, даже если бы захотели; те же двое, что очень импонировало Сильвии, не имели никаких препятствий, но продолжали попирать приличия.
Сильвия молча курила, слушая, как миссис Джойс, со своим ирландским акцентом, выражает радость снова быть в кругу англоговорящих.
— Я счастлива оказаться в Париже, но, конечно, наш итальянский куда как лучше французского, — произносила она хрипловатым, но в то же время полном женственности голосом. — С тех пор как мы сюда приехали, я только и общалась, что с детьми. Ну, вы понимаете, что это за разговоры. Идите чистить зубы, причешитесь, вы уже довольно набегались по саду. Хорошо, хоть научилась кое-как объясняться на рынках, хотя, сказать по чести, не думаю, что мне стоит благодарить свои жалкие потуги на французский за то, что продавцы за прилавками всегда выбирали мне самые спелые персики и яблоки.
«Нет, — подумала Сильвия, невольно посмотрев на роскошный бюст миссис Джойс, ее молочно-белую кожу и изящные пальцы, — вот уж точно». Ей казалось любопытным и свежим то, что женщина с такой охотой готова признать силу своих чар. Сильвия припомнила кое-какие особенно смелые пассажи в произведениях Джойса, и она задумалась, насколько миссис Джойс вдохновила его на эти откровения.
— Но я слышала, что вы прекрасно говорите по-итальянски, — воскликнула Дороти.
Миссис Джойс вспыхнула:
— Какое там, так, выучила всего несколько слов. — Затем, громко прокашлявшись, та сменила тему: — Умоляю, расскажите скорее, чем интересным можно занять себя, пока мы в городе. Но ради бога, никаких окололитературных сборищ. Хочу, чтобы Лючия и Джорджо узнали, что жизнь состоит не из одних только книг.
«Всё чудесатее и чудесатее», — подумала Сильвия.
Дороти с Адриенной принялись наперебой перечислять всевозможные увеселения: кукольные спектакли, концерты, катания на пони, — а в гостиную между тем потянулись мужчины, по всей видимости привлеченные распространявшимися из кухни ароматами специй и трав грядущей трапезы. В соседней комнате уже поджидал обеденный стол, изысканно сервированный серебром и хрусталем и украшенный живыми цветами в низких вазах.
Сильвия видела Андре, Жиля и других мужчин, но Джойса среди них не было, и она решила, что настал удобный момент познакомиться с ним вдали от любопытных взглядов. Она уже направилась в библиотеку, когда ее перехватил всклокоченный Эзра Паунд; он поприветствовал ее крепким хмельным объятием и довольно ухмыльнулся ее заверениям, что его «Дайел» пользуется успехом в «Шекспире и компании».
— Радостно слышать, что все наши усилия не пошли коту под хвост, — произнес он своим грубоватым голосом. — А последний выпуск журнала Андерсон до вас дошел? Признаться, буду удивлен, если хоть сколько-нибудь экземпляров доберутся сюда из Штатов в целости и сохранности.
Сильвия энергично закивала.
— А как же, десять экземпляров, если точнее.
— Великолепно, — сказал Эзра, и макиавеллиевская улыбка тронула его губы. Понизив голос и наклонившись к Сильвии, чтобы их никто не услышал, Паунд зашептал: — А знаете, я ведь выбрасываю из рукописей Джойса самые щекотливые места, но сделать большее для него я не в силах. Нельзя же в угоду Джону Самнеру выпустить всю живую кровь из этого нового веяния. Тем более уже ясно, что это никак не получится.
Вот что Сильвия очень любила в Паунде: подобно пророку он был готов провозглашать, что они с друзьями стоят в авангарде нового веяния, которое дотла спалит всех и вся, что было до них, и возродит из пепла новый смысл.
— Самнер и правда кажется чудовищем, — согласилась Сильвия, — как и Комсток до него. Остается только радоваться, что здесь мерзкий закон его имени мне нипочем.
Да, но в самом ли деле? До Сильвии только сейчас дошло, что даже в Париже до нее дотягивался этот Энтони Комсток со своим печально известным законом, из-за которого столько важных и нужных книг подвергаются цензуре, начиная с Маргарет Сэнгер[63] и ее книги о контрацепции и заканчивая великим романом Джеймса Джойса. Если Почтовое ведомство Соединенных Штатов, избранное Самнером главным инструментом искоренения порока, превратит «Литтл ревью» в пепел до того, как выпуск попадет в Париж, разве она и ее клиенты не пострадают от цензуры в той же мере, что ньюйоркцы? Боже святый. Неужели его никто не остановит?
— Хотелось бы надеяться, что в следующий раз он не засунет Андерсон и Хип[64] за решетку, — добавил Эзра.
За решетку? Такого Сильвия и представить не могла. Разумеется, она знала, что теоретически нарушение Закона Комстока это предусматривает, но тюремное заключение представлялось ей чудовищной крайностью.
— Да уж, на сей раз Самнер как с цепи сорвался, но пусть не надеется нас запугать, мы не сдадимся, — заявил Эзра весело и зло одновременно, однако в его голосе не прозвучало и тени настоящего страха. Скорее, то был тон полководца, призывающего свои войска сплотить ряды.
— Bien sûr[65], — согласилась Сильвия. — Но тюремное заключение?
Паунд решительно замотал головой.
— Нет, до такого не дойдет. На нашей стороне один из лучших адвокатов Нью-Йорка. Помните Арсенальную выставку?[66] Так вот, он помогал готовить ее. В его коллекции больше Сезаннов и Пикассо, чем у самой Стайн, и это не может не впечатлять, тем более что он адвокат, а не художник. Джон Куинн. Его родители — ирландцы. Он обожает Джойса.
— Судя по всему, ваше счастье, что он с вами, — согласилась Сильвия.
— Наше счастье, что с нами вы, Сильвия, — с улыбкой сказал Паунд, и она снова заметила, как блестят от вина его глаза. — Вы, главное, копите запас спиртного. У меня такое чувство, что вскоре к вам косяками потянутся американские писатели, и чем дальше, тем больше. Нынче в Америке чертовски хреново заниматься истинным искусством.
Как ни увлекала Сильвию бравада Паунда, ей страшно хотелось еще до обеда познакомиться с Джойсом, и, извинившись, она сбежала от Эзры под тем предлогом, что спешит посетить дамскую комнату, пока их не позвали за стол.
А Джойс чудесным образом оказался именно там, где она и рассчитывала его застать, — он сидел в библиотеке, странно застыв в деревянном кресле и скрестив длинные ноги; крупные кисти его рук свисали с подлокотников кресла.
«Интересно, — подумала про себя Сильвия, — играет ли он на фортепиано этими своими длинными пальцами, два из которых, на разных руках, поблескивали ободками колец». Голова Джойса, почти идеально яйцевидной формы, была повернута к окну; он с таким пристальным вниманием изучал двух щеглов в кудрявой кроне дерева за окном, словно в их щебете заключался весь смысл жизни.
Хотя сердце от волнения едва не выпрыгивало из ее груди, Сильвия остановилась в стороне от окна, решительно прочистила горло и громко произнесла:
— Насколько я понимаю, вы и есть великий Джеймс Джойс?
От ее слов он встрепенулся, и она поймала на себе взгляд ярко-голубых глаз за круглыми стеклами очков в латунной оправе; правда, его левую радужку затягивала молочная пелена. Однако он не сощурился и не подался вперед, чтобы лучше разглядеть Сильвию, но чуть не лишил ее последних остатков мужества, вперившись в нее таким же внимательным взглядом, каким только что взирал на птиц за окном.
— Насчет великого не знаю, — заговорил он, — но с Джеймсом Джойсом все более или менее верно. А вы?..
— Сильвия Бич, — откликнулась она. — Я владелица книжной лавки и библиотеки англоязычной литературы в Шестом округе. «Шекспир и компания».
Взрыв смеха, донесшийся из соседней комнаты, заставил Сильвию вздрогнуть.
Она протянула руку для приветствия и, когда он, привстав, протянул свою в ответ, удивилась, как мало силы оказалось в его такой мощной с виду руке.
— Рад знакомству с вами, мисс Бич. Ваша репутация бежит впереди вас, знаете ли. — Он жестом пригласил ее сесть точь-в-точь в такое же, как у него, кресло, стоявшее рядом.
Сердце Сильвии все еще неистово билось, когда она опустилась на самый краешек сиденья.
— Прошу вас, просто Сильвия. Для меня большая честь, что вы наслышаны о моей лавке. Надеюсь, вы вскоре посетите ее.
— Я стараюсь подавать детям пример учтивого обхождения, мисс Бич. Надеюсь, вы ничего не имеете против?
Сильвия улыбнулась. Так вот почему Нору представили как миссис Джойс. Учтивость. У Сильвии отчего-то не получалось представить себе, что этот изнеженный апатичный джентльмен состоит в браке с грубоватой, очень земной фигуристой женщиной в соседней комнате и — уж если на то пошло — еще и пишет скандально откровенные пассажи, столько ночей лишавшие ее сна. Тайна такого разительного контраста заинтриговала Сильвию, она даже удивилась, почему невозможно не представить себе, что это непредставимо. И все же мистер и миссис Джойс как-то совсем не сочетались друг с другом.
— Расскажите же мне о своей лавке. Я, видите ли, как раз и собирался заглянуть туда, — сказал Джойс, в чьем теноре восхитительно сочетались интонации хорошего ирландского языка и континентальная утонченность. Sotto voce[67].
— В общем, — Сильвия не представляла, с чего начать свой рассказ и что больше всего заинтересует собеседника, — мы открылись прошлой осенью, в конце 1919 года, и…
— Мы? — перебил ее Джойс.
— Ну, или я, так, пожалуй, вернее, — поправилась она, удивленная, что он обратил внимание на это местоимение. — Знаете Адриенну Монье? Ее магазин, «Ля мезон», вдохновил меня, и она так много помогает мне, что я воспринимаю «Шекспира и компанию» скорее как нашу лавку, чем только свою.
Мистер Джойс понимающе кивнул.
— Я еще не имел удовольствия посетить ее магазин, но месье Спир и месье Паунд уже осведомили меня, что я прямо-таки обязан побывать там.
— Обязаны.
— Раз так, деваться некуда, пойду, — сказал он, озорно улыбнувшись. Еще один сюрприз.
— Знаете, Эзра… м-м, мистер Паунд… был моим первым англоязычным посетителем и все еще остается одним из немногих. Он сделал для меня много больше, чем просто покупал книги и оформил читательский абонемент. Он также взял на себя труд починить кое-какие занедужившие стулья, которые я держу в лавке для посетителей. Сейчас в «Шекспире и компании» ничто не шатается, и этим я целиком обязана Эзре Паунду, — сказала Сильвия с радостной улыбкой, уж очень ей нравилось представлять себе Эзру с молотком в умелых руках.
— Славный мистер Паунд, все-то он что-нибудь исправляет.
— Он и вам что-то исправил?
— Мою жизнь.
— Бог мой, вот это заявление.
— Оно интересно тем, что являет собой чистую правду. Я публикуюсь благодаря Эзре Паунду. И в Париже я сейчас тоже благодаря Эзре Паунду. И читательской поддержкой я тоже обязан Эзре Паунду. Большая жалость, что миссис Джойс не переносит его, потому что он писатель. Вероятно, мне следовало представить его ей как плотника.
— Эта характеристика интересна тем, что являла бы собой чистую правду, — подхватила Сильвия, и они оба заулыбались, будто обменявшись давней шуткой, известной обоим с малолетства.
Джойс уже начал было что-то отвечать, но тут на улице залаяла собака и возбужденно-радостное гавканье полилось в открытое окно, заполняя библиотеку. Джойс заметно вздрогнул.
— С вами все в порядке? — озабоченно спросила Сильвия.
Он прижал вялую руку к груди и ответил:
— Вроде бы да, пока эта зверюга где-то далеко снаружи. Меня, знаете ли, покусала одна такая, когда я еще был мальчишкой.
«А ты этого так и не пережил», — изумилась про себя Сильвия. Такая деталь сказала ей нечто важное о нем как о писателе.
В дверном проеме обрисовался силуэт Эзры Паунда:
— Меня отрядили пригласить вас к столу, но я чрезвычайно рад видеть, что вы двое уже познакомились.
— Moi aussi, Monsieur Pound, moi aussi[68], — сказал Джойс и встал с кресла, опираясь на ясеневую трость, словно был много старше, чем Стивен Дедал, герой его «Портрета» и «Улисса», тоже ходивший с подобной тросточкой. Правда, по пути из библиотеки в столовую Джойс едва ли хоть раз оперся на нее.
Сильвия с трудом заставила себя последовать за ним к столу. Джеймс Джойс. Коротенький разговор с одним из ее любимейших писателей оставил у нее странное впечатление, будто они знакомы уже многие годы. «Ладно, будем считать, что это я знаю его многие годы, — поправила себя Сильвия, — в некотором смысле».
За столом не иссякал живой разговор, а Эзра Паунд, ко всеобщему веселью, не оставлял попыток налить вина в стакан Джойса, на что тот неизменно ответствовал «Не раньше восьми вечера» и бросал взгляд на Нору, а та в знак бесповоротного одобрения кивала головой и отпивала из своей чашки простую воду.
Как и всегда в гостях у друзей Адриенны, то было шумное сборище равных, состоявшее сплошь из писателей разных национальностей, ни один из которых не желал уступить слово другим, но как-то так получалось, что все имели случай высказаться о поэзии, рассказах и эссе, напечатанных в свежих выпусках литературных журналов. Сильвия по своему обыкновению восхищалась про себя, как уверенно Адриенна вплетает свой голос в общий разговор и с каким почтительным вниманием все ее слушают. В последние месяцы Сильвия уяснила себе, что куда как свободнее обсуждает любую тему в небольшой компании, даже если речь шла о книгах и литературе, и потому ее вполне устраивал узкий круг друзей, посещавших лавку; Адриенна же, в противоположность ей, с такой же уверенностью держалась на шумных многоголосых сборищах. Вот почему они по молчаливому согласию по-прежнему проводили литературные чтения в «Ля мезон», а не в «Шекспире».
Сильвия, однако, разглядела частичку себя в Джойсе — в том, как отстраненно он держался, только слушая, что говорят другие, пока его не просили высказать собственное мнение. В эти моменты он оказывался в центре всеобщего внимания, чем явно наслаждался; Сильвия заподозрила даже, что он не без умысла говорит так медленно, точно желает убедиться, что каждое вымолвленное им слово услышано и понято. Ей такое было совсем не свойственно — напротив, она так тараторила, что ее нередко просили сбавить темп.
Когда Джойс отпустил особенно меткое замечание в адрес последних стихотворений Йейтса[69], Эзра в шутку заявил: «Вот ведь какой учености наберешься, если не набираться под дичь». Сказано это было вполне добродушно, однако Сильвия уловила в тоне Паунда нотки пьяного раздражения. Она обменялась с Адриенной удивленными взглядами через стол и задумалась, что предвещают сегодняшний званый обед и официальное введение Джеймса Джойса в литературный круг Одеон. Если судить по тому, как возбужденно гудела в ее венах кровь, все это могло привести к очень даже значительным последствиям.
Вечером, когда они у себя дома устроились на кушетке, переплетя ноги, и читали под бренди с фруктами, Адриенна вдруг опустила книгу и заметила:
— Он корявый Иисус, тебе не кажется?
— Кто? — В удивлении подняла глаза Сильвия, совершенно сбитая с толку, поскольку Эзра — а именно его она частенько величала пророком — ни в каком смысле корявым не был. Он был ясен и понятен, как белый день.
— Monsieur Джойс, вот кто.
— Ты о чем?
— Ну как же, о его пьянстве ходят легенды, non? Но при этом до восьми вечера он, видите ли, не пьет ни капли? В его романах полно непристойностей, а держится он как добропорядочный буржуа. Зато его женушка oh là là! Просто восхитительна.
— Адриенна! — Кровь бросилась к щекам Сильвии от мысли, что ее любовницу посетили те же мысли при виде роскошной фигуры жены Джойса, какие возникли и у нее самой. В этом определенно виделось что-то недозволенное.
— Не вздумай ревновать, Сильвия, chérie. Ты ведь знаешь, как я люблю твою petit corps[70]. И при всем при том мадам Джойс терпеть не может книг. Вот тебе еще одна странность, какая-то корявость в нем. Как человек литературы, писатель такого уровня, может быть женат на женщине, которая не прочла ни строчки его произведений?
— Не все желают иметь то общее, что есть у нас с тобой, — заметила Сильвия.
Адриенна перевернулась на четвереньках и, словно кошка, подалась к Сильвии, нависая над ней в сантиметрах от ее лица. Понизив голос, она сказала:
— А вроде Иисуса он потому, что жаждет собственных апостолов. Ты вспомни, как он упивался, когда за столом ловили каждое его слово.
В этом Адриенна попала в самую точку, только вот Сильвии уже расхотелось разговаривать; она желала только одного — чтобы разгоравшийся между ними жар изгнал из головы ее любовницы мысли о формах всех других женщин на свете. Сильвия приложила ладони к грудям Адриенны, таким пышным, в отличие от ее собственных, и через ткань блузки нежно погладила подушечками пальцев ее соски. Адриенна закрыла глаза и поцеловала ее крепко и испытующе, тесно прижимая свои бедра к ее. Теперь они были одни во всем мире.
Глава 7
Ты не представляешь, Сильвия, какой это был ужас, самый настоящий ужас. По всему Нью-Йорку хаос, кругом неразбериха и паника, люди бегут кто куда, толкая перед собой детские коляски, прижимая к себе детей, выкрикивая имена своих жен и матерей. Кто-то неизвестно зачем ринулся в самое пекло опасности — уму непостижимо. А ведь еще за секунды ничто не предвещало кошмара, стоял такой ясный, бодрящий сентябрьский денек.
И хотя взрыв произошел на Уолл-стрит в даунтауне[71], грохот долетел даже до Юнион-сквер, где была я. Газеты строят предположения, что это дело анархистов, но точно никто ничего не знает. Если и так, то, говоря по правде, разве можно их винить? Они в основном иммигранты, а на иммигрантов и так вешают собак, хотя виновны они не больше, чем те людишки наверху, которые им никак не помогают и преотлично делают их козлами отпущения, а сами как ни в чем не бывало жируют в Уолдорфе, как будто нет реальных проблем, требующих решений, — тут-то и помогли бы их деньги. Остается лишь надеяться, что теракт привлечет все же внимание кого-нибудь важного, кто может положить конец раздорам в городе…
Письмо Карлотты страшно взволновало Сильвию. Несколько недель назад она уже читала в газетах о сентябрьском взрыве и тогда еще поразилась, что ее первой реакцией была сильнейшая тоска по родине, что где-то в глубине души она желала оказаться рядом со своими американскими друзьями, пока они оправлялись от ужаса и неприглядности этого вопиющего факта насилия. Ей не хотелось отягощать французских друзей своими переживаниями, ведь что такое тридцать восемь оборванных в Нью-Йорке жизней в сравнении с миллионами жертв, которые понесла за годы войны Франция? К тому же Нью-Йорк находился на таком огромном расстоянии от улицы Дюпюитрена, 8, что ее горестные мысли со временем рассеялись.
Теперь же, когда она читала размышления своей подруги, чьи убеждения и политические взгляды были так близки к ее собственным, то вновь ощутила, что теракт коснулся ее лично. Опять же, письмо Карлотты вызывало то же чувство несправедливости, что и конфискация выпусков «Литтл ревью», то же, что жгло ее в молодости, когда кипела борьба за права женщин, — не потому ли, что с начала 1920 года подобные жалобы высказывали в письмах к ней ее родные и друзья, а сейчас она своими ушами слышала их из уст приходивших в «Шекспира и компанию» американских эмигрантов? И со временем она начала узнавать в их недовольстве отголоски и предвестия все той же темы.
Теперь Сильвию точила беспокойная потребность что-нибудь сделать, восстать против властвующих в Америке косности и цензуры. Запреты, самнеровские блюстители нравственности, ксенофобия по отношению к иммигрантам, подавление анархии и прочих «заграничных» идей — во всем этом Сильвии виделась часть общей беды, поразившей Америку. «Проблемным» писателям вроде Паунда не оставалось иного выхода, кроме как бежать из страны. «Америка нынче чертовски хреновое место для занятий истинным искусством», — так он выразился.
Но чем она может помочь из Парижа? Она распространяет запрещенные выпуски провокационных журналов вроде «Литтл ревью», если, конечно, они доходят до нее в целости и невредимости. Но это лишь начало, и наверняка она способна на большее.
— Почему бы тебе самой не написать что-нибудь? — предлагала ей Адриенна.
— Не думаю, что смогу сказать что-то новое или более убедительное, чем все то, что уже высказали Маргарет Андерсон, и Эзра, и Ларбо, и Спир. А я хочу что-то делать.
Действие — вот чем ей удавалось приносить пользу: когда она ходила по домам с агитацией, когда раздавала одеяла, когда пахала землю.
— Чем больше людей поднимают свой голос против несправедливости, тем больше пользы для дела. В подобных случаях чем больше, тем лучше. И ты, я уверена, сумеешь сказать свое слово. Ты — это ты, а не Паунд и не Спир.
Вера Адриенны в ее способности наполняла Сильвию одновременно и гордостью, и страхом. Адриенна сама сочиняла эссе и стихи; прекрасно написанные, ее работы всегда встречали хороший прием. И кроме того, она публиковала в своих «Записках» произведения малых форм авторства ее приятелей. Она частенько оставляла свой «Ля мезон» на попечение помощницы, а сама проводила многие часы за книгами и печатной машинкой: писала эссе, в которых выступала за равноправие женщин в старшей школе, или рецензии на вышедшие в свет романы. Чтобы поспевать и там, и тут, требовалось постоянно держать баланс, чего Сильвия себе никак не желала. Ей больше нравилось день-деньской проводить в лавке среди книг и книжных людей. Но ей не хотелось показывать Адриенне, что она не одобряет ее выбор.
— Знаю, — проговорила Сильвия медленно и осторожно, — как знаю, что ты могла бы написать о том самое убедительное эссе, тут уж я уверена. А меня… ну, не привлекает идея писать на эту тему самой. А вот улучшить положение вещей — да… вот чего я очень хочу.
Адриенна одарила ее долгим взглядом, заставив Сильвию задуматься, уж не сравнивает ли подруга ее с Сюзанной. Впрочем, Сюзанна тоже не баловалась писательством. Разве Адриенна из-за того огорчалась?
Наконец, она дотронулась до руки Сильвии и крепко ее сжала.
— Вот увидишь, нужный случай обязательно подвернется, — сказала она убежденно, — точно так же, как подвернулась улица Дюпюитрена.
Есть ли что-то, чем она могла бы поторопить этот самый случай?
Где-то через неделю после того, как пришло письмо Карлотты, в лавку заглянул Эзра Паунд. Уже начался октябрь, а Сильвия так и не видела его со дня того примечательного обеда у Андре Спира в июле, хотя с тех пор Джеймс Джойс, к ее немалому удовольствию, сделался почти ежедневным посетителем «Шекспира и компании». О, они могли часами напролет играть словами и беззлобно подтрунивать над путешествиями, книгами и общими друзьями. В обществе Джойса самые, казалось бы, обыденные дела приобретали литературное измерение: сигареты она брала закурительно, macarons Адриенны назывались крупинками небесной манны, а любого, кому она вручала томик «Листьев травы», Джойс умолял молитвенно читать поэзию Уитмена. В общении он был ничуть не менее блистательным, чем в своих произведениях. И даже больше. В иные моменты ей приходилось напоминать себе, что все это не сон, а ее реальная жизнь, что Джеймс Джойс — ее друг и весьма симпатизирует ей, иначе не заходил бы почти каждый день к ней в лавку скоротать часок-другой в ее обществе.
Визит Эзры Паунда представлялся для Сильвии подарком, отчасти потому, что он был в лавке редким гостем. На сей раз вместо расспросов о новых поступлениях он с порога взялся осматривать ее столы и стулья, что пришлось очень кстати, так как на днях Сильвия раздобыла старинный пристенный столик, выброшенный за ненадобностью на обочину сельской дороги, и он нуждался в ремонте. Не прошло и нескольких минут, как Эзра уже распластался на полу и разглядывал антикварную вещицу снизу, пытаясь выявить причины ее колченогости.
— Слышали последние новости об «Улиссе»? — спросил он.
— Нет еще, расскажите. Видимо, они в самом деле свежие: Джойс был у меня пару дней назад и ни о чем таком не упоминал.
— Да? А ведь он не менее недели в курсе.
— В курсе чего?
— Так ведь судебный процесс затевается.
— Что? — И он ни слова мне не сказал? Она почувствовала горькую обиду, точно ребенок, которого не приняли играть в салки.
Эзра вылез из-под столика и уселся, чтобы растолковать ей, в чем дело.
— На следующий день после взрыва на Уолл-стрит Джон Самнер осчастливил посещением книжный магазин на Вашингтон-сквер с единственной целью — приобрести последний выпуск «Литтл ревью», где напечатан эпизод «Навсикая» из «Улисса». И тут же натравил полицию арестовать владелицу магазина Джозефину Белл за продажу порнографии. Так что теперь ее и двух редакторов «Литтл ревью», Джейн и Маргарет, таскают по нью-йоркским судам по обвинению в распространении непристойностей. А Джон Куинн взялся защищать их.
— Нет.
— Да.
И Паунд снова скрылся под столиком, где с величайшим усердием принялся орудовать отверткой.
Сильвия так и осталась стоять с раскрытым ртом и сжатыми кулаками. Когда к ней вернулся дар речи, она спросила:
— Разве Джозефина Белл не замужем за своим деловым партнером? За Эгги Аренсом? Почему тогда его тоже не арестовали?
— Наверное, его просто не было в магазине, когда явилась полиция.
Эзре наконец удалось подтянуть какие-то ослабшие болты, и с торжествующим «Эврика!» он снова показался из-под столика.
Однако Сильвия очень сомневалась, что муж Джозефины по чистой случайности отсутствовал в магазине, когда ее взяли под арест, и что по чистой случайности в подсудимые определили одних женщин — саму Белл, а также Маргарет Андерсон с Джейн Хип. При всей своей просвещенности Эзра Паунд прохладно относился к феминизму, но сейчас Сильвия почла за лучшее не заводить о том споров. Если борьба за права женщин чему и научила ее, так это тому, что есть такие ситуации, когда промолчать не менее важно, чем высказаться напрямоту. И потом, что-то в ее груди все еще саднило при мысли о том, что ее друг Джойс не удосужился сам обо всем ей рассказать. Неужели из-за того, что она женщина?
Закурив, Сильвия затянулась так сильно, что даже немного закашлялась.
— Почему Самнеру вздумалось провернуть все это на следующий день после взрыва? Ни за что не поверю в простое совпадение.
— Согласен. Самнер вообще большой ненавистник всякой иностранщины. Всего настоящего. Всего нового. Он уже давно точит зубы на Джойса, и, если хотите знать, лишь потому, что Джойс, видите ли, ирландец.
Ну а как же. Пускай половина жителей Нью-Йорка ирландцы, то были свои, американские, ирландцы. Ирландцы из Таммани-холла[72]. Теперь, когда они оказались у власти, им ох не хотелось вспоминать, откуда они. «Что ни случись, всех собак вешают на иммигрантов», — писала ей Карлотта. Паунд развил эту мысль в новом направлении, которое Сильвии и в голову не приходило:
— И все равно Джойс куда больше выглядит европейцем, нежели ирландцем. Или даже русским. Троцкистом. Тьфу ты! Не приведи Господь. А между прочим, его сочинения куда как выше разумения таких субъектов, как Самнер, и уверяю вас, это не может не бесить его, ведь даже ему хватает умишка понять, что он ни бельмеса не смыслит в том, что пишет Джойс.
Паунд вбил в столик новый гвоздь, а после со вздохом сказал:
— А еще больше портит дело то, что Маргарет с Джейн одно время поддерживали Эмму Гольдман[73].
Ну да, ту печально известную анархистку. Впрочем, во взрыве на Уолл-стрит ее не винили, эта честь отошла Луиджи Галлеани[74].
— Значит, Маргарет и Джейн под прицелом у тех, кто все еще поддерживает Закон о подстрекательстве[75], как Самнер, — заметила Сильвия. Господи боже, сколько же законов напринимали, чтобы заставить всех ходить по струнке: Закон Волстеда, Закон о подстрекательстве, Комсток…
Эзра согласно кивнул.
— Прибавьте сюда, что в «Навсикае», помимо прочего, говорится о мастурбации, и мы получим полный набор дремучих мещанских предрассудков нашего отечества, так сказать, в одном флаконе.
Мастурбация? Произнесенное вслух, да еще так походя, это слово повергло Сильвию в шок. Нет, сама она ни за что бы не осмелилась вымолвить его. Но мелькнула следующая мысль: «Как же старомодно с моей стороны». Между тем одним из достоинств новой литературы было то, что она в открытую называла вещи, долгое время остававшиеся табу. Джойс свободно использовал это слово в своем произведении. Мастурбация. И Сильвия решила возразить Паунду, сочтя, что их дружба переживает ее выпад:
— А я подозреваю, что корень проблемы не столько в Леопольде, сколько в Герти, в ее готовности показать ему свои панталоны. Женщин же всегда винят в таких случаях, сами знаете. «Мадам Бовари». «Анна Каренина». «Алая буква». «Сестра Керри».
— Ну да, — не глядя на нее, буркнул Эзра.
Не смутившись этим и надеясь, что сумеет преодолеть его внезапную сдержанность, Сильвия надавила настойчивее:
— А может быть, тот эпизод как раз потому так задевает некоторых читателей, что наш Джойс и не думает винить Герти за похоть Леопольда?
— Не сомневаюсь, — сказал Паунд как отрезал.
Какой позор. Он не желал вдаваться в тему, она это ясно видела. Точно такая же уклончивая молчаливость нападала при подобных разговорах на других ее друзей мужского пола, по-настоящему дороживших отношениями с ней. Определенно, они считали, что никакая дружба не выдержит открытых споров по гендерным вопросам.
Как ни задело Сильвию поведение Эзры, она подавила раздражение и, пока докуривала сигарету, попробовала зайти с другой стороны, чтобы вернуть их к общему согласию.
— Во что же превращается наша страна, Эзра?
— Она провалилась в глубокий сон, и, похоже, никому не под силу разбудить ее, — ответил он, выкатываясь из-под столика.
Паунд встал и попробовал его опрокинуть. Тот опрокидываться не желал.
— Спасибо, — сказала Сильвия, скрестив на груди руки и опустив взгляд на столик. — Как думаете, поможет Джон Куинн растормошить этого спящего зверя?
— Очень на то надеюсь, хотя он горько жалуется, потому что у него на руках есть еще платное дело, по которому предстоит выступать в Верховном суде.
— Господи, я и не представляла, что он пользуется таким спросом. А что обо всем об этом думает наш мистер Джойс? — Он ведь не пожелал сам рассказать мне.
— Он гений, но в таких делах слеп как младенец. Он и не пошевелится, пока есть возможность кое-как кормить семью и каждый божий день часами просиживать за письменным столом.
— Да, но откуда же он берет деньги? — Ей уже некоторое время до смерти хотелось спросить об этом, но она сдерживалась, считая подобный вопрос бестактностью; а сегодня, уязвленная молчанием Джойса, решила забыть о вежливости.
— Кое-что ему посылает Куинн в обмен на первые черновики его сочинений. И не стоит забывать о Гарриет Уивер.
— Миссис Уивер? Гарриет? Из «Эгоиста»?
Сильвия знала ее — англичанку, которая частями публиковала «Улисса» в своем лондонском журнале так же, как это делали Маргарет с Джейн в Нью-Йорке, правда, что-то в словах Эзры намекало на то, что поддержка Уивер простиралась за пределы собственно публикации.
— Та самая. Я свел их много лет назад. Она покровительствует ему еще со времен «Портрета». Гарриет унаследовала кучу денег, куда больше, чем в силах потратить, но вбила себе в голову, что ее предки заработали свое богатство на людской крови, вот и поставила себе целью жизни раздать столько денег, сколько сможет.
Сильвия лукаво улыбнулась Паунду.
— Хорошо еще, что у нее есть вы — человек, который помогает ей находить деньгам достойное применение.
— А разве нет?
В этот момент звякнул дверной колокольчик, и кто бы, вы думали, явился на пороге вместе с порывом студеного октябрьского ветра? Мистер Джойс собственной персоной.
— Помяни дьявола, и он тут как тут! — воскликнула Сильвия.
Этим холодным утром на Джойсе было его привычное пальто из плотной шерсти с поднятым воротником; на длинных тонких ногах блестели свежие начищенные туфли; волосы и усы, как всегда, были аккуратно подстрижены. Он привлекательный мужчина, частенько думала себе Сильвия. И куда более рафинированный, чем вечно всклокоченный Эзра, хотя непокорная шевелюра Паунда и его мужественная челюсть с хорошо если трехдневной щетиной как магнитом притягивали сердца обитательниц Латинского квартала. По доходившим до Сильвии слухам, Эзра спал со многими женщинами помимо Дороти, а вот о Джойсе ей ничего такого слышать не приходилось.
— Не вижу здесь ни одного дьявола, — сказал Джойс, рассеянно оглядываясь. — Или с тех пор, как я был здесь в последний раз, мисс Бич успела завести пса?
— И в мыслях не держу, — засмеялась Сильвия, хотя вообще-то совсем не отказалась бы от маленькой собачки. Правда, у «Шекспира и компании» уже завелся пугливый черный кот по имени Лаки, которого Джойс любил поглаживать, когда тот соблаговолял под вечер свернуться у него на коленях.
Прислонив трость к книжной полке, Джойс начал расстегивать пуговицы пальто. Сильвия подбросила углей в маленькую печку в глубине лавки, чувствуя, как в горле саднит, просясь наружу, вопрос: почему вы мне ничего не сказали о суде?
— Не горели ли у вас, часом, уши, сэр? — поинтересовался Эзра, усаживаясь в кресло, которое он починил собственными руками примерно год назад, перед самым открытием лавки.
— Как охваченный пожаром дом, — тут же ответил Джойс.
— Вашингтон Ирвинг?[76] — осведомился Эзра, имея в виду приведенную цитату, которая, как догадалась и Сильвия, была из «Истории Нью-Йорка».
— Томас Карлейль[77], сказал бы я.
— В своем репертуаре, — отозвался Эзра, качая головой.
— Да неважно, а вот что у меня и правда горит, так это глаза, — заявил Джойс. — Я с четырех утра на ногах.
— Бог мой, когда же вы спите? — воскликнула Сильвия.
— Одиссей попадал в наихудшие переделки, именно когда засыпал, — задумчиво произнес Джойс, пока его взгляд бродил по книжным полкам.
Эзра, взглянув на Сильвию, пожал плечами, словно говоря: «Видите? А что я говорил?» Потом он завел с Джойсом разговор на итальянском, чем сильно задел Сильвию, которая знала этот язык посредственно и не могла уследить за разговором. Когда же она поняла, что они обсуждают судебный процесс над «Улиссом», то все же решилась вмешаться:
— Будьте любезны, по-английски. Или хотя бы по-французски. Меня не меньше вашего беспокоит судьба «Литтл ревью», как-никак он у меня один из самых востребованных.
Прижав руку к груди, Джойс склонил голову в знак согласия.
— Ваша правда, мисс Бич. Mie scuse[78]. Вы совершенно правы. Мистер Паунд, in inglese, per favore[79].
— Жаль, редко удается попрактиковаться в итальянском, — вздохнул Паунд, — но будь по-вашему. Я как раз говорил Джойсу, что он должен написать Куинну и подробно растолковать, как следует защищать роман.
— Не думаю, что это мое дело. Я же не юрист.
— Зато вы творец. А кто лучше творца знает, как рассуждать об искусстве?
— Куинн в очень прозрачных выражениях сообщил мне, что американские суды интересуются не искусством, а только тем, не толкают ли мои сочинения читателя на путь греха и погибели. И я доверяю ему убедить судью, что не толкают.
Эзра досадливо выдохнул и покачал головой.
— Распрекрасно. Тогда напишу я. Йейтс, кстати, уже пишет. Хотелось бы мне, чтоб вы порешительнее отстаивали свои позиции.
— Первым делом мы перебьем всех законников[80].
— Черт подери, Джойс, я не имею ничего против Генриха VI, я лишь пытаюсь помочь вам.
Сильвия оценила иронию того, что Джойс с Паундом пикировались известнейшими строками старины Уильяма в стенах лавки его имени, но при этом она четко понимала позиции обеих сторон: Джойс желал предоставить судебные дела законникам-адвокатам, а Эзра — удостовериться, что их поверенный Куинн правильно строит защиту, упирая на то, что «Улисс» — это искусство. Но как же горько ей было наблюдать раздор между двумя ее любимейшими клиентами.
— Меня вот что поражает, — рискнула встрять в перепалку Сильвия. — Маргарет с Джейн ведь прекрасно разбираются в вопросе, почему «Улисс» заслуживает публикации. Обе уже написали, и весьма убедительно, даже проникновенно, почему он может зваться искусством. А искусство не может быть порнографией.
— Хорошо бы еще сам Куинн воспринимал этих дам не только как парочку грязных сквернавок с Вашингтон-сквер, — обронил Эзра.
У Сильвии появилось странное чувство внутри, будто кто-то швырнул в нее камень, потревожив мирную гладь ее души. И как только его клеймо, грязные сквернавки с Вашингтон-сквер, дотянулось до нее, проделав путь до самого Парижа? Потому что именно так называли бы и их с Адриенной, живи они не на улице Одеон, а на Бликер-стрит. Конечно, Эзра просто цитировал высказывание Куинна в адрес Андерсон и Хип, но оттого, что он так легко повторил эту хамскую фразу в ее присутствии, Сильвия заскрежетала зубами.
— Если он так их презирает, отчего же взялся защищать?
— Да просто из великого уважения вон к нему. — Эзра ткнул большим пальцем в сторону Джойса.
Сильвия закурила новую сигарету.
— Ну-ну, — только и сказала она, вдруг осознав, что в ее представлениях об Эзре Паунде еще масса пробелов. — Будем надеяться, он преуспеет.
Она отвернулась от гостей, делая вид, что занята перестановкой книг на полке, а Эзра с Джойсом, снова перейдя на итальянский, проговорили еще какое-то время, прежде чем Паунд откланялся.
Прошло несколько минут, прежде чем Джойс нарушил тишину, удивив Сильвию:
— Надеюсь, мы ничем не оскорбили вас, мисс Бич. Я бы этого не вынес. Ваша доброта ко мне и неизменное желание помочь заслуживают лишь самых добрых моих чувств.
— О, я в порядке, но… должна признать, удивлена, что вы не рассказали мне про судебное разбирательство.
— Не хотелось огорчать вас. Я и сам нахожу все это безмерно огорчительным.
— Ничего, я не фарфоровая.
Джойс улыбнулся.
— Конечно нет, вы у нас из чистой бронзы.
Она вспыхнула, хотя и понимала, что это откровенная лесть.
— Спасибо за такой красивый комплимент, но если по сути, то я хочу быть полезной вам, мистер Джойс. И… — И что? Я думала, мы с вами друзья, а вы? Слишком наивно, точно она десятилетняя девчонка. — И всё тут. Я хочу помогать.
— Вы помогаете уже тем, что дарите мне наиприятнейшее времяпрепровождение в Париже.
Ей бы и хотелось удовольствоваться его лестью, но она желала большего. Сильвия желала что-то делать, желала, чтобы «Шекспира и компанию» воспринимали не только как приятное времяпрепровождение. Желала, чтобы в Маргарет и Джейн видели большее, чем грязных сквернавок. Желала, чтобы у «Улисса» появилось настолько много читателей, насколько вообще возможно.
Надо же, сколько всего она желает. Еще два года назад она хотела всего лишь книжную лавку. А теперь, когда лавка у нее есть, ей хочется большего.
Что это, жадность или честолюбие?
И сильно ли одно отличается от другого?
— Когда тебя зовут на улицу Флёрюс, выбора нет — идешь как миленькая, — сказала Адриенна, помахав перед Сильвией открыткой, на которой Гертруда Стайн небрежно нацарапала приглашение на обед, и с тяжелым вздохом положила карточку на стол. — И все же хотелось бы, чтобы она хоть немного говорила по-французски. В конце концов, она же здесь живет.
— Да уж, Париж для нее не более чем декорация, не правда ли?
Но Сильвию в этом приглашении тревожила совсем не убежденная «американскость» Гертруды. Они уже не раз бывали в салоне мадам Стайн, и Сильвия всякий раз отмечала для себя красноречивое отсутствие в разговорах упоминаний об этом ирландце. Каждый удостоившийся приглашения Гертруды писатель, фотограф, ученый и интеллектуал, похоже, знал ее достаточно хорошо, чтобы не обронить ни слова о Джойсе в ее присутствии.
Определенно, в одном Адриенна была права: приглашение на улицу Флёрюс, 27, представлялось не меньшей честью, чем приглашение на чай к Марии-Антуанетте, с той только разницей, что Гертруда с Элис обитали не в grand palais, а в непритязательном здании периода османизации, одетом тем же известняковым камнем, что лавки Адриенны и Сильвии, дом, где они жили, равно как и дома почти всех их парижских знакомых. Нет, истинный блеск богемного Версаля обиталищу мадам Стайн придавал его интерьер. Ее гостиную отличало уникальное разделение стилей: от паркетного пола почти до уровня глаз комната была выкрашена темной краской и уставлена массивной антикварной мебелью, которая словно давала опору произведениям искусства, парившим вверху. Над головой вошедшего на сияющих белизной стенах были развешаны полотна, что когда-нибудь украсят собой самые крупные музейные коллекции мира, если судить по карьерному взлету Пикассо. Гертруда и сама любила напомнить окружающим о своем умении ставить на победителей. «Кто-то делает ставки на лошадей. Я — на художников», — сказала она однажды.
Так что они как миленькие отправились на званый обед под нудным субботним дождиком, и Сильвию немало удивило, что на этот раз они с Адриенной были единственными приглашенными. Право же, две владелицы скромных книжных лавок плюс Элис никак не тянули на великосветское сборище, какие любила устраивать для свиты своих почитателей Гертруда.
За шерри с засахаренными сливами и ломтиками острого солоноватого козьего сыра они непринужденно обсуждали положение дел в их лавках и книги, потом перешли на новые фильмы и пьесы, а причину, по которой их позвали, по-прежнему скрывала густая завеса тайны. К тому моменту, как подали суп, Сильвия физически ощущала, как заныли мышцы плеч от нараставшего напряжения, и она все гадала, когда же Гертруда соизволит раскрыть карты.
— Учитывая, что некий мистер Джойс, очевидно, намеревается осесть в нашем городе, — начала Гертруда, не донеся до рта ложку жидкого лукового супа, и затылок Сильвии защекотали мурашки, — думаю, нам следует поговорить без обиняков. Как женщинам. И… как попечительницам.
Сильвия подавила смешок, поймав взгляд Адриенны, сидевшей по другую сторону массивного обеденного стола, и обе оценили тонкую насмешку в словах хозяйки дома: присутствуй на их обеде писательские пары, большую часть женщин спровадили бы в дамскую гостиную, оставляя Гертруду властвовать среди мужчин, и этой практикой Сильвия немало возмущалась от лица других дам. Они с Адриенной, не подпадая под категорию «жены», допускались ко двору Гертруды, но Сильвия временами пренебрегала такой милостью и перебегала в «женский» лагерь, усвоив однажды, что супруги писателей зачастую куда больше знают о своих мужьях, чем те сами. Большое упущение Гертруды в том, что она не снисходит до общения с ними.
— Признаю, вы раздразнили мое любопытство, — сказала Сильвия.
— Moi aussi[81], — согласилась Адриенна.
А Элис пристально разглядывала их из-под черных бровей.
— Вы знакомы с ним? — спросила Гертруда.
Сильвия почуяла опасность: мисс Стайн наверняка осведомлена, что Джойс — постоянный посетитель «Шекспира», ведь жизненные перипетии творческой богемы Парижа никогда не составляли для нее секрета.
— Так, заходил несколько раз, — отвечала Сильвия.
— И каков он? — Гертруда оперлась подбородком на сложенные пальцы, явно показывая, что не позволит ей отделаться всего четырьмя словами.
Сильвия мгновение помедлила, прежде чем выдать собеседнице весьма правдивое, хотя и намеренно блеклое описание, потому что меньше всего она хотела нажить своей лавке врага в лице Гертруды.
— Насколько я могу судить, он с головой поглощен работой. Как не вредит его глазам писать по многу часов подряд! И потом, он бросает все свои силы на то, чтобы прокормить детей и жену.
— И вместе с тем, говорят, он неспособен усидеть на месте? Что ни месяц, меняет квартиру. И в Италии, я слышала, тоже?
Бог мой, а ты и сама неплохо осведомлена о его делах, не так ли?
— Разве он в этом так уж отличается от других приезжих художников и писателей?
— Еще как, — проворчала Гертруда раздраженно.
Сильвия решила перевести все в шутку.
— В таком случае мне остается только удивляться, отчего я убиваю столько времени на поиски квартир новоприбывшим из Америки литераторам, которым не по карману местные гостиницы. Не далее как вчера я с трудом отыскала квартиру в Шестом округе для одного друга Шервуда Андерсона.
— Восхищена, что у вас хватает на это времени.
— Дни у нас очень насыщенные, — вступила Адриенна.
А Элис лукаво улыбнулась.
— Должна признать, — наконец изрекла Гертруда тоном, каким отец Сильвии давал пасторское наставление беспутному прихожанину, — что ничего особенно нового в этом «Улиссе», о котором все сейчас только и говорят, я не вижу. Я прочитала все опубликованные части, и, хотя мне видны аллюзии в каждом его словоизвержении, никакого истинного гения или оригинальности я не наблюдаю.
Ах вот оно что. Теперь Сильвия поняла. Тщательно подбирая слова, она сказала:
— Очевидно, что ваши произведения, Гертруда, оказали на него значительное влияние. Но вы наверняка видите, где ваши с ним стили расходятся.
— Где он заходит дальше, чем я, хотите вы сказать?
— Не совсем. Он просто идет дорогой, которую вы проторили.
Интересно, удовлетворит ли ее эта лишь отчасти правдивая лесть?
Гертруда засопела, потом подняла взгляд на свой портрет кисти Пикассо, чей каждый размашистый мазок дышал безмерной признательностью ей за щедрое покровительство.
— Я знаю, многим в нашем кругу кажется странным, что я не приглашаю его к себе, — промолвила она, переводя глаза с картины на Сильвию. — Вам тоже?
Потрясенная внезапной прямотой Гертруды, Сильвия не нашла в себе сил юлить.
— Да, — ответила она честно.
Писательница кивнула.
— Что ж, возможно, случай нас когда-нибудь и сведет. В «Шекспире и компании». Возможно, я пойму, что ошибалась на его счет. Возможно, он великий гений, глубоко достойный семьянин, натура честная и стойкая. Личность образцово-показательная.
Намеки Гертруды задевали чувствительную струнку, вызывая в душе Сильвии неприятное ощущение. Она бы до последнего отстаивала его самобытность, даже в сравнении с сочинениями самой Стайн, и его визиты доставляли ей огромное удовольствие, но… но почему он не сказал ей о суде? Было что-то неприятное и даже бесчестное в том, как он темнил, в его недомолвках, и это изводило Сильвию.
— А до тех пор, — продолжала Гертруда, — я не намерена искать его компании.
Сильвии показалось, она слышит, как вздохнула Элис.
Вечером, лежа в постели после нескольких бокалов вина, Сильвия с Адриенной покатывались со смеху.
— Ты представь, как они где-нибудь сталкиваются друг с другом, — давясь икотой, еле выговорила Адриенна, — и как Гертруда выхватывает свой хлыст, чтобы тут же привести его к покорности.
— Да ладно, она тут же поймет, что его и так уже укротила другая женщина.
Адриенна смахнула выступившие от смеха слезы.
— Нет, ты только вообрази, что она скажет бедняжке Норе?
— Миссис Джойс, — смеясь, поправила Сильвия.
— Ах! Excuse-moi![82]
— И вообще, не думаю, что Гертруда удостоит Нору хотя бы небрежным «здрасьте».
И Сильвия с Адриенной снова захохотали, хотя Сильвия чувствовала, как в правом боку начинает покалывать. Когда они немного успокоились, Адриенна заметила:
— Мне жаль ее. Она слепа и не видит, что способны дать ей настоящие партнерства.
— Она больше привыкла окружать себя своими протеже. — Дернула плечом Сильвия.
— Я рада, что наши лавки — приют, где могут встречаться равные, — сказала Адриенна, повернувшись на бок и кладя руку чуть ниже пупка Сильвии, на мягкий живот, слегка округлившийся после обеда из трех перемен. — Ни за что бы не променяла наши подержанные книжечки ни на одну картину с ее стен.
Сильвия поцеловала Адриенну и почувствовала, как крепнет связь между ними.
— Я бы тоже.
Глава 8
— Ну вот, считайте, книга теперь под запретом, — кипел яростью Эзра. — Прямо не знаю, на кого я больше зол, на Куинна или на Джойса.
— Не стоит, право же, злиться на Джойса, — рассудительно сказал Ларбо. — Он еще не закончил. И подгонять его нельзя.
— Да он годами корпит над этой чертовой книгой. И больше вообще не сможет написать ни одной, если не позволит кому-нибудь опубликовать ее самостоятельно еще до суда, как предлагает Куинн.
— Я думала, вы злитесь на Куинна тоже? — спросила Сильвия, зажигая новую сигарету от той, которую докуривала, потому что это ее успокаивало. Официально «Шекспир» уже закрылся, но никто не думал расходиться, и, хотя Сильвия не меньше Паунда чувствовала злость за Джойса и его книгу, ее с ног до головы переполнял тайный восторг, что в Париже подобный разговор происходит не где-нибудь, а в ее лавке — в ее лавке! Адриенна тоже прибежала сюда, как только закрыла «Ля мезон».
— А как же, — ответил Эзра. — За безмозглый аргумент, который он выдвинул на слушании. Джон Йейтс неделями писал ему письма, стараясь растолковать, что если «Улиссу» что-то и нужно, как нужно и всем нам, так это чтобы защита строилась на основаниях правдивости и красоты романа. Что книгу Джойса нельзя считать непристойной, потому что в определенном смысле она то же, что и потолок Сикстинской капеллы. «Ад» Данте. «Сад» Босха. Что перед ее сложностью следует благоговеть, а не валить ее в одну кучу с подглядыванием в замочную щелку и грязными книжонками, потому как она показывает человеческое тело с совершенным, до боли откровенным реализмом.
— Прочь фиговые листки с пенисов в шедеврах! — весело провозгласил Роберт Макалмон[83], которого называли просто Бобом. Американский новеллист и поэт, он недавно объявился в Париже со своей женой Брайхер, английской писательницей. И очень скоро стал самым популярным человеком в столице во многом, как подозревала Сильвия, благодаря щедрому карману и острому, нередко вульгарному, юмору, парадоксально не вязавшемуся с его славным мальчишеским лицом.
— Точно так! — воскликнул Эзра, вскинув сжатый кулак. — А вместо этого мы слышим филистерские блеяния защиты, что «Ах, роман настолько отталкивающий, что растлевать неспособен». Кстати, его мысль о самостоятельном издании романа целиком была хороша, но это потому лишь, что он не верил в возможность спасти книгу.
— Не пойму, — вступил Ларбо, — Каким образом издание ее спасет?
Эзра раздраженно выдохнул и запустил пальцы в густую шевелюру над высоким морщинистым лбом.
— Куинн пытался уговорить Бена Хюбша напечатать книгу до начала судебного разбирательства, потому что так она стала бы свершившимся фактом, fait accompli. Книга существовала бы в качестве книги, что сделало бы спорным иск к ее части, напечатанной в журнале. Куинн также придерживается аргумента, что в книге допустимы определенного сорта сцены, невозможные в периодических изданиях, распространяемых почтовой службой, так как законы Комстока действуют только на непристойности, распространяемые по почте. Но у Хюбша большие сомнения в этой логике, и он отказался публиковать роман. Боится, как бы его не упрятали за решетку.
— Бен Хюбш? Не тот ли, кто издал «Сыновей и любовников» Лоуренса?[84] И он испугался «Улисса»? — не веря своим ушам, спросил Боб.
Эзра в смятении кивнул.
— Он же издавал «Портрет» и «Дублинцев».
— Выходит, апостолы предают теперь нашего корявого Иисуса? — шепнула на ухо Сильвии Адриенна. Та скрепя сердце все же приняла это данное Джойсу прозвище. Она едва ли могла поспорить с ним по существу, к тому же ей нравилось, что у них с Адриенной есть свой тайный язык.
— Слышно ли что-нибудь от миссис Уивер из Англии? — громко вопросила Сильвия, хватаясь за последнюю соломинку.
— Она уже обошла всех печатников, какие только живут на острове, и все они слишком опасаются брать текст, где говорится о сранье и траханье, даже притом что говорится постольку-поскольку, а книга совсем о другом, — ответил Эзра.
— Да уж, если сформулировать все так, я бы на их месте тоже засомневался, — пошутил Боб.
— А в «Хогарт-пресс» кто-нибудь обращался? — задумчиво поинтересовался Ларбо.
В сердце Сильвии расцвела робкая надежда при мысли о маленьком издательстве Леонарда и Вирджинии Вулф в Ричмонде. Книги, которые она заказывала у «Хогарт-пресс», представляли собой достойнейшие образцы новаторских литературных форм. Нет, авторы и издатели «Двух рассказов» не могут не пойти навстречу дерзкому роману Джойса, недаром они так же тесно общались с прогрессивными мыслителями вроде Литтона Стрейчи и Клайва Белла[85] — во всяком случае, так слышала Сильвия, — как и ее маленькая братия экспатов здесь, в Париже.
С гордостью, к которой примешивалась изрядная горечь разочарования, Сильвия отметила про себя, что последней надеждой романа оказались сплошь женщины: Маргарет и Джейн, Гарриет, а теперь, возможно, и Вирджиния Вулф.
— Гарриет собирается навести справки в «Хогарт-пресс», — ответил Эзра. — Правда, Элиот советует не слишком обольщаться. Он всегда считал, что Беллы и Вулфы до невозможности консервативны.
Сильвия упала духом. Вот и Гертруда такая же.
— Тьфу ты! — воскликнула Адриенна. — Терпеть не могу этого ханжества! Почему люди, задумавшие две самые значительные художественные выставки последних десяти лет в Лондоне и Нью-Йорке, мыслят так узко, когда дело касается литературных произведений, которые, по сути, добиваются того же, что и их драгоценные художники?
— Не забывайте, моя дорогая Монье, — промолвил Ларбо, — что Лондон и Нью-Йорк медленнее принимают новые формы. Те картины эпатировали нас уже много лет и успели превратиться чуть ли не в банальность к тому времени, как повергли в такой шок англичан. Мы должны дать время им и американцам дозреть до восприятия нового искусства.
Ларбо высказался учтиво и даже философически, но Сильвия поняла, отчего Эзра взъелся.
— Нечего считать нас дикарями, Ларбо.
— Я и не считаю, — невозмутимо ответил тот. — В конце концов, это ваша Американская революция пробудила нашу, которая, кстати говоря, созревала гораздо дольше. Я только хочу сказать, что подобные вещи происходят в своем темпе. Бунты не зависят от чьей-то воли, их невозможно ускорить или поторопить. Они возникают в свое время.
— Вы это Ленину скажите, — ввернул Боб и, выхватив зажженную сигарету из пальцев Сильвии, глубоко затянулся.
— Искусство — более тонкая материя, чем политика, — заметил Ларбо.
— И очень напрасно, — рыкнул Эзра.
В разгар перепалки на пороге возник Мишель с книгами под мышкой, всем своим видом излучая радость. Он расцеловался с Адриенной, Сильвией и всеми писателями, с кем был знаком, и торжественно водрузил свою стопку на стол Сильвии.
— Я помолвлен! Мы с Жюли поженимся уже в этом году! — провозгласил он. Сильвия заключила его в объятия, смеясь и осыпая его пожеланиями счастья.
Эзра пожал Мишелю руку.
— С балериной? Браво!
— Ну да, она очень хотела прийти со мной, но у нее, как назло, репетиция.
Со дня первого свидания Мишеля с Жюли, солисткой балетной труппы, Сильвия часто встречала их вместе; та плохо говорила по-английски и в лавке очень тушевалась, но у нее были чудесные длинные белокурые волосы с рыжинкой, придававшие ей милую старомодность во времена повальной моды на короткую стрижку не ниже подбородка. Жюли говорила, что в театре от них требуют оставлять достаточно длины, чтобы локоны можно было собирать в пучок на затылке.
Боб трижды хлопнул в ладоши, призывая ко всеобщему вниманию, словно городской глашатай.
— Примите благодарности, Мишель, ибо вы подарили нам славный повод сменить тему и покутить. Всем по первой за мой счет в «Лё дом»![86]
Лавка взорвалась ликующим гомоном, а фиговые листки, судебные иски и прочие революции тут же выветрились из голов, уступив место сердечным поздравлениям, безудержной радости и оптимизму. Сильвия с Адриенной редко участвовали в богемных ночных пирушках с абсентом и перно, но этим вечером с легкой душой присоединились к большинству. Под мягким светом люстр кафе «Лё дом» их веселая компания раз за разом наполняла бокалы, сначала шампанским, а затем красными винами, передавая туда-сюда блюда с масляной камбалой и хрустящим картофелем под веселый стук вилок и ножей о тарелки, который эхом отражался от высоких окон и напольной плитки. Тем вечером Сильвия ощущала себя частью чего-то могучего, вроде широкой реки, устремляющей свои воды вперед, все дальше от прошлого, и уже подхватившей своим потоком великих вроде Бена Франклина, Бодлера, Пикассо, Эдит Уортон, а теперь и Блейка с Уитменом, и Ларбо с Кокто, и Джойса, и Адриенну, и ее саму вместе с ее лавкой. Они все были частью этого могучего потока, который набирал силу, как разбушевавшийся паводок, ворочал камни, подмывал корни деревьев и нередко сметал на своем пути все препятствия, грозившие замедлить его неудержимый бег.
Джойс своей тоскливой безысходностью мог бы поспорить с парижскими сумерками, слишком рано опускавшимися и слишком темными в эти декабрьские вечера.
— Просто еще не все готово, — произнес он, имея в виду свой роман, словно повторял сказанное Ларбо, пока за окном «Шекспира и компании» кружили снежинки. В кои-то веки Сильвия с Джойсом оказались одни в лавке, должно быть, по милости неласковой погоды. Она заварила чаю, и теперь они держали в руках приятно горячие чашки. Сильвия опустила нос к самому ободку, позволяя пару отогреть подмерзшее лицо.
— Как можно осудить еще не законченную книгу? — жалобно вопросил Джойс.
— Уму непостижимо, — согласилась Сильвия.
— Пускай даже и так, — вскинулся вдруг он в приливе дерзкой отваги, — все равно им не остановить меня. Я допишу роман, а там кто-нибудь да и опубликует его.
В первый раз судьба Джойса повисла на волоске, и Сильвия очень тревожилась за него. Вирджиния Вулф отказалась печатать «Улисса» в своем издательстве, что фактически поставило крест на возможности публикации в Англии, а американские издательства дожидались суда, чтобы уже после определиться с учетом щекотливых обстоятельств.
— По чести говоря, меня куда больше удручают угрозы миссис Джойс бросить меня и увезти детей, — продолжал он.
Сильвию поразило столь откровенное признание, однако естественное любопытство, которое вызывал у нее союз писателя с женщиной, редко сопровождавшей его на чтениях и званых обедах, заставило ее поинтересоваться:
— И куда же она уедет?
— Назад в Ирландию. — Мрачность в тоне Джойса сочеталась с его поникшей фигурой и безвольно повисшими длинными руками.
— У вас там есть кто-то из родных? Ну, кто-то, кто мог бы… помочь вам?
— Ни единого, от кого я принял бы хоть фартинг, — не то горделиво, не то гневно ответил он.
Сильвия знала, что писатель участил свои просьбы Гарриет Уивер о денежных переводах. И эта святая женщина всегда шла ему навстречу. Сильвии пришлось сделать вывод, что миссис Уивер не очень-то представляет, как Джойс тратит ее деньги, а примечательный момент, когда на обеде у Андре Спира он категорически отказывался притронуться к спиртному раньше восьми, остался далеким воспоминанием. Джойс пристрастился просиживать вечера с Бобом и другими писателями в кафе «Лё дом» или в ресторане «Луп», и до нее уже дошла веселенькая история, как Боб с Фаргом ранним утром доставили бесчувственного Джойса домой на больничной каталке. Хотя не исключено, что его кутежи и правда начинались после восьми.
Сильвия гордилась тем, что никогда не осуждала Джойса или еще кого-нибудь, и ценила, что и ее никто не осуждает за то, кто она есть. Каким бы медленным ни казалось продвижение с «Улиссом», Джойс посвящал работе над романом бесчисленные часы. В «Шекспире и компании» он обычно появлялся к вечеру, уже просидев за столом целую вечность в ущерб здоровью. Он был очень бледен и сильно потерял в весе, зрение ухудшилось, к тому же всю зиму он не мог избавиться от кашля, звучавшего пугающе похоже на туберкулезный. Его пальцы вечно были холодны, как ледышки. Сильвии иногда казалось, что он приходит к ней в лавку просто отогреться, как многие другие нуждающиеся студенты и начинающие художники, которые прибивались к «Шекспиру» и «Ля мезон», где подолгу глазели по сторонам и смущенно извинялись, что ничего не покупают. Сильвия переняла у Адриенны благородное великодушие к этим беднягам. Никогда не знаешь, кто из них станет следующим Кокто. Следующим Прустом.
— Знаете, что мне написала Маргарет Андерсон? — спросил Джойс.
— Нет, расскажите.
— Что художник не несет какой бы то ни было ответственности перед публикой.
— В этом я с ней полностью согласна, — сказала Сильвия, — и согласна с поистине блестящим очерком Джейн, в котором она пишет, что к «Улиссу» может быть единственный вопрос — искусство ли это? И да, это искусство. И притом великое.
— Вот как, — промолвил Джойс, явно наслаждаясь ее словами, но почему-то глядя в сторону. — Спасибо на добром слове.
Сильвия посмотрела на полную пепельницу, размышляя, стоит ли закурить еще; не так давно она подметила у себя налет на зубах и желтизну на указательном и среднем пальцах, которыми обычно держала сигарету. Так и быть, но только одну. Наступившее в лавке молчание продолжалось все время, пока Сильвия курила, а Лаки, неслышно появившись из-под стола, где грел бока у печки, терся о ноги Джойса.
— Иногда я думаю, — произнес Джойс так тихо, что Сильвия едва расслышала его, — что обречен прожить изгнанником, которому вовек суждено писать о своей родной стране.
— Тогда вы сами себе Одиссей, — откликнулась Сильвия, — и никак не можете добраться до родины. Препятствия подкарауливают вас на каждом шагу.
— И наверное, собственная блажь, — улыбнулся Джойс.
— Таким и должен быть любой великий писатель.
— Я не заслуживаю вас. Как и Гарриет.
— Что ж. — Сильвия постаралась придать голосу обнадеживающий тон, уж очень ей хотелось немного разрядить гнетущее напряжение между ними. — Очень надеюсь, что ваш «Улисс» обретет свой дом. Родной и наилучший. Держите меня, пожалуйста, в курсе событий.
— Хорошо, буду, — пообещал он.
Ах если бы удалось избавить «Улисса» от клейма порнографии и провозгласить высокой литературой, тогда в ее личной судьбе на родине тоже что-нибудь да улучшилось бы. Она напишет отцу с просьбой помолиться об этом, и пускай она не возлагала особых надежд на мужчину в облаках, управляющего безмерно тяжелыми людскими драмами, отцовская вера дарила ей спокойствие. Когда она ребенком делилась с ним своими сомнениями и горестями, он неизменно велел ей молиться за лучший исход и обещал, что то же сделает и он. Их единение придавало ей сил и уверенности, и даже если выходило не так, как ей хотелось, то она чувствовала себя чуть лучше при мысли, что в своем стремлении к желаемому была не одинока. Это напоминало ей то утешение, что она всегда получала от чтения.
Между тем Джойсу и его бесприютному роману требовалась вся помощь, на какую только он мог рассчитывать. Сильвия поклялась, что войдет в число людей — по сути говоря, женщин, — кто поможет роману увидеть свет. «Улисс» стоил того, чтобы вступить в бой.
Часть 2. 1921–1922
Томас Стернз Элиот. Песнь любви Дж. Альфреда Пруфрока (перевод Виктора Топорова)
- Ибо воистину приспеет время
- …
- На блюдечке — и время Вам, и время мне.
- И время все же тысячи сомнений,
- Решений и затем перерешений —
- Испить ли чашку чаю или нет.
Глава 9
Верный своему слову, заунывной зимой 1921 года Джойс приносил Сильвии все новости о приключениях «Улисса» в Нью-Йорке, какие только доходили до него, — а иначе говоря, не приносил никаких. Разве что временами — короткое письмецо или телеграмму от Куинна с уверениями, что он делает все возможное и что вердикт будет вынесен уже скоро.
Тем не менее судьба романа сделалась темой каждодневных разговоров в «Шекспире и компании»; и вскоре книжная лавка Сильвии превратилась в подобие штаба, куда стекались все сведения об «Улиссе». Стоило кому-нибудь что-нибудь узнать — пускай бы и слухи, которые почти всегда оказывались вздором, — и он сразу спешил на улицу Дюпюитрена, 8, чтобы поделиться информацией с Сильвией, а та потом ее распространяла.
Самой важной была новость о том, что ни один американский издатель не рискнет и на пушечный выстрел приблизиться к «Улиссу», и потому вопрос о публикации отпал сам собой. Если в величественной громаде суда Джефферсон-Маркет роман признают непристойным, он превратится в запрещенную книгу с самыми мрачными перспективами.
Джойс взял за моду являться в «Шекспира и компанию» и с преувеличенным возбуждением восклицать: «Угадайте что!»
При первой такой выходке его лицо так сияло предвкушением радости, что сердце Сильвии пустилось вскачь и она вопросила: «Невиновен?»
Когда она услышала в ответ: «Ничего!», то скомкала телеграмму и швырнула в него. В последующие разы, когда он опять раззадоривал ее надежды, она выпускала в его сторону облако дыма, сурово насупливала брови, а он принимался хохотать, пока не закашливался.
Любопытным поворотом событий стало то, что с некоторых пор Сильвия чаще видела у себя в лавке Жюли, невесту Мишеля.
— Мне нравится практиковаться в английском, — объяснила та, когда Сильвия спросила, почему она ходит к ней, а не в «Ля мезон», где все посетители говорят по-французски. — И еще ваша лавка очень нравится Мишелю, ведь вы открыли ему многих поэтов, которые ему полюбились. Так я и сама становлюсь ближе к нему, понимаете?
Сильвия улыбнулась, и сердце ее зашлось от гордости. Как ни симпатизировала она Жюли, ей очень не хватало Мишеля, и она задавалась вопросом, почему он теперь так редко заходит. Теперь Жюли по его просьбе покупала в лавке книги и передавала Сильвии от него пакеты с мясными гостинцами.
К концу февраля Жюли уже ждала ребенка и жаловалась, что скоро ей придется на время расстаться с танцами.
— Я люблю балет, — говорила она, и на ее глаза набегали слезы. — Это единственное, что давало мне силы, когда отца и брата убили на войне, а мама ушла в монастырь. Балет помогал мне прокормить себя и Бабетту.
Жюли трогательно гордилась младшей сестренкой, которая теперь поступила в университет и собиралась стать учителем.
— Разве я могу вот так взять и отказаться от балета?
Лучшее, что сумела придумать Сильвия в утешение Жюли, — это дать ей романы Джейн Остин, в которых, как она считала, привлекательнее всего описываются радости семейной жизни. Она никогда не признавалась ей в том, что думает о детях и балете: «Слава богу, что мне никогда не придется делать подобного выбора». Жюли же она сказала со всей убедительностью, на какую была способна:
— Уверена, что материнство подарит вам много других радостей.
— Уверена, — послушно повторила за ней Жюли. — Но вы же меня понимаете, да?
Девчушка отчаянно нуждалась в том, чтобы ее горести услышали. Сильвия сжала ее и сказала:
— Я очень вас понимаю. И думаю, Мишель тоже поймет.
Любой, кто читает так много, умеет сопереживать другим.
В первые недели нового года в Париж приехала мать Сильвии, и ее восторженным охам и ахам в адрес «Шекспира и компании» не было конца.
— Милая моя Сильвия! Это же чудо что такое! — Беспрестанно всплескивая руками, Элинор Бич веселой колибри порхала по лавке, выхватывала с полки какой-нибудь том и разглядывала его, пока не отвлекалась на что-то другое. Автографы Уитмена смотрятся ну просто великолепно! О, да тут у тебя и Блейк! А что-нибудь из Россетти[87] есть?
Теперь, когда рядом не было ни отца, ни сестер, Сильвия смогла посмотреть на мать совсем другими глазами. Элинор казалась ей более жизнерадостной, воздушной, готовой каждый миг изумляться и совершенно поглощенной своими новыми мыслями и увлечениями. Сильвии подумалось даже, что, вздумай она поцеловать Адриенну на глазах у матери, та бы и не заметила.
— Твоя мама совершенно очаровательна, — сказала Адриенна под конец долгого дня, когда они посетили музеи Родена и д’Орсе. Как ни привыкла Сильвия проводить целый день на ногах в лавке, даже у нее в тот вечер ощутимо ныли мышцы после утомительных хождений по музейным залам и станциям метро.
— Спасибо, что составила нам компанию. Героический поступок с твоей стороны.
— Да что ты, я получила массу удовольствия. Элинор знает кучу всего интересного о Париже и художниках. Я столько нового от нее узнала.
— И любит же она поучительствовать, да? — Элинор удостоила их особенно обстоятельной лекции перед «Мыслителем». Что доставило бы Сильвии большое удовольствие, не будь подобная речь пятой за тот день.
Адриенна засмеялась.
— Что да, то да, зато я люблю учиться.
Как, впрочем, и Сильвия. И она любила свою мать. Но тогда почему ее так тяготило поведение Элинор?
Элинор же тем временем погрузилась в повседневные дела лавки, и Сильвия была в восторге от того, сколько всевозможных дел им удавалось переделать в вихре воодушевления ее матери: они заново расставили книги по алфавиту, подмели, протерли пыль и, кстати, совсем на новый манер переустроили заднее помещение лавки, где в последнее время из-за горы полуоткрытых коробок образовался форменный кавардак.
— Спасибо, мамочка, — сказала Сильвия, одновременно и благодарная, и сердитая на себя за глупость, почему ей не пришло в голову сделать все это еще недели назад. Оглядывая чисто прибранную, аккуратную комнату, она никак не могла понять, отчего сама не додумалась до таких очевидных вещей. Ей всегда казалось, что есть дела поважнее: посетители и разговоры с ними.
— Рада, что ты все еще нуждаешься в своей матери, — прощебетала Элинор, целуя Сильвию в обе щеки, и совсем тихо прибавила: — Так приятно, что кому-то нужна.
Что-то в словах матери тронуло сердце Сильвии, хотя и царапнуло ее. Элинор расцветала в живой суете и неразберихе домашних и светских хлопот, а еще — когда занималась каким-нибудь содержательным, осязаемым делом. Совсем как Адриенна — поняла потрясенная Сильвия.
А сейчас, когда дочери Элинор выросли и не завели собственных детей, которые бы нуждались в заботливой бабушке, она по большей части была предоставлена самой себе. Ее муж, отец Сильвии, всегда отдавал все свое внимание приходу и преподаванию; если не считать светских мероприятий, посещать которые вместе с супругой ему надлежало по долгу службы, он, в сущности, не нуждался в ней, когда предавался размышлениям, читал или писал проповеди. И как бы то ни было, Сильвия всегда подозревала, что Элинор определенно предпочла бы беседы о художниках, нежели о Боге. Это ей в матери нравилось.
Когда через две пролетевшие вихрем недели Элинор садилась на поезд до Флоренции, где хотела навестить перебравшуюся в Италию старинную подругу, она оставляла Сильвию с чистой и опрятной лавкой, но с тяжестью на сердце. Легко было не думать о родителях, когда те за тридевять земель, но после того, как мать погостила у нее, Сильвия вдруг поняла, что ей страшно их не хватает, и посмотрела на них с новой стороны. Какая она, эта вырастившая ее женщина? Видимо, настало время узнать ее получше.
Вскоре нашлась и новая причина для душевной боли. До улицы Дюпюитрена наконец дошли вести из суда, через неделю после того, как было вынесено решение, что привело Сильвию в ярость. Почему этот чертов Джон Куинн не потрудился хоть кому-нибудь послать телеграмму? «Потому что он сам раздавлен поражением», — пришлось ей признать. Вместо вестей от Куинна Сильвия узнала о вердикте из газеты, вышедшей несколько дней назад, которая случайно оказалась у заглянувшего в ее лавку американского туриста. Она была уверена, что Джойс тоже еще ничего не знал, поскольку они только вчера обсуждали подозрительное отсутствие новостей.
А теперь новости были прямо перед ней, пропечатанные черным по белому на газетной странице: «УЛИСС» ПРИЗНАН НЕПРИСТОЙНЫМ. РЕДАКТОРШИ ВЫПУЩЕНЫ ПОД ЗАЛОГ.
Редакторши. Возможно ли было сильнее унизить их своим высокомерием?
Линию, с позволения сказать, защиты Джона Куинна газета представила именно так, как предсказывал Эзра: тот попытался убедить судей, что сочинение Джойса настолько сложное и запутанное, настолько отталкивающее в описании тел и вожделений, что никак не может распалить похоть или толкнуть на путь греха — в особенности самых подверженных разврату среди читателей, о которых больше всего пекся суд.
«А как насчет читателей, сумевших по-настоящему понять роман? — гневно размышляла Сильвия. — Их тоже не развратишь, потому что они видят революционный характер романа, потрясающую красоту его предложений и человечность персонажей».
Сильвию так и подмывало швырнуть газету в печь, но она сдержалась, чтобы показать ее Джойсу.
Повезло еще, что ей не пришлось долго держать у себя эту пакость, поскольку он явился в тот же день, пребывая в приподнятом расположении духа.
— Отлично сегодня поработал.
Все нутро Сильвии восставало против того, что она собиралась сделать, но оставить Джойса в неведении она не могла. И она передала ему газету. Нервно затягиваясь, она наблюдала, как он пробегает глазами статейку, сохраняя на лице стоическое выражение.
— Что ж, — произнес он ровным голосом, возвращая Сильвии газету, — рад, что эта миссис Форчун из Чикаго — вот же говорящая фамилия! — раскошелилась на залог за мисс Андерсон и мисс Хип. Мне было бы куда горше, если бы двум моим важнейшим издательницам пришлось торчать из-за меня за решеткой.
Корявый Иисус — зазвучал в ушах Сильвии голос Адриенны.
— Я безмерно сожалею, — сказала Сильвия. — Это преступление против литературы.
— И все же преступление совершил я, вот что им очевидно, — Джойс сделал вдох через нос, глубокий, медленный и длинный; его плечи поднимались, точно тело распирало от воздуха. Потом выдохнул, почти неслышно. — Бедная моя книга.
— И вы нисколько не сердитесь?
— На кого же?
— Ну как… я страшно сердита на Самнера и на Почтовую службу, на полицию нравов и на этого Джона Куинна, который не смог придумать защиты получше, и на судей за их безнадежную дремучесть.
— Я благодарен вам за ваш гнев, мисс Бич.
— Так вы же должны возмущаться не меньше моего!
— Но зачем? Если вы и так великолепно возмущаетесь за меня?
Сильвия рассмеялась, позабавленная и одновременно разочарованная.
— Что же нам с вами делать, мистер Джойс?
— У меня есть вопрос получше: что нам с вами делать с моей книжкой?
Слова сорвались с губ Сильвии раньше, чем сама идея до конца сложилась у нее в голове:
— Предоставьте это мне. Позвольте «Шекспиру и компании» опубликовать «Улисса».
Словно каждый разговор, каждая книга, прочитанная ею, выставленная на полках и выданная ее библиотекой, каждая страница Уитмена и каждый рисунок Блейка, что в рамках красовались на стенах ее лавки, каждый ее разговор с Адриенной о выпускаемых ею «Записках», каждое слово поддержки от ее родителей — все предопределяло судьбу, подталкивало шедевр Джеймса Джойса в этом самом направлении. В Париж. К ее порогу. В его личную Итаку.
Он вознаградил ее улыбкой безраздельной радости.
— Что за чудесная идея.
— Дайте мне время кое-что подсчитать и определиться по срокам, — сказала Сильвия, изо всех сил стараясь выглядеть спокойной и деловитой, хотя на деле она чувствовала себя школьницей, которой хотелось выскочить из тесной лавки и вприпрыжку побежать по улице. Я, Сильвия Бич, буду издавать Джеймса Джойса! — А детали мы можем обсудить завтра.
И они обменялись рукопожатием под благословляющим взором Уолта Уитмена.
— Я счастлив как никогда, мисс Бич.
Такого волнения Сильвия не испытывала с осени 1919 года, когда готовилась к открытию книжной лавки и понимала, что, вероятно, сблизится с Адриенной. В каждой клеточке ее тела бурлила радость, и не в силах совладать с ней, Сильвия, приплясывая, кружилась по лавке, затем достала чистую записную книжку, пока в другой ее руке дымилась неизменная сигарета. «Шекспир и компания» исправит великую несправедливость, опубликовав великое произведение, которое должно стать востребованной, а никак не запрещенной книгой. О, как права была Адриенна — нужный случай непременно подвернется и поможет хоть что-то в мире изменить к лучшему. И вот он, этот случай, пожалуйста.
А кроме того, и Сильвия не стыдилась в том себе признаться, ее затея пойдет на пользу лавке. Все узнают о «Шекспире и компании», когда она издаст «Улисса». Этим она докажет всем, что ее магазин — заведение успешное, и, возможно, его слава переживет ее саму.
Уже совсем стемнело, когда она подняла глаза от страниц, исписанных чернильными рядами уравнений с вычислениями потенциальных доходов, процентов и издержек и рожденными в ходе мозгового штурма идеями, как продвигать роман даже там, где он запрещен. В особенности там. Невыразимое ликование вызывала у нее возможность поднести кукиш под нос самому Джону Самнеру, равно как и всему мракобесию, которое он олицетворял. Влажные тротуары весело переливались в свете газовых рожков. Шел дождик. Но Сильвия этого даже не замечала. Подняв повыше воротник, она спешила домой, радуясь, что не опаздывает к ужину. Она вспомнила, что по пути есть винный магазинчик, и завернула туда купить fillette de champagne[88].
Дома Адриенна включила радио, и по кухне сквозь легкие потрескивания разносились звуки «Старомодного сада» Коула Портера. Сильвия втянула носом ароматы тимьяна, морковки и тушеной говядины и подумала, что прямо здесь на месте умрет от счастья.
— Дорогая, — сказала она, вручая Адриенне холодную demi-bouteille, — «Шекспир и компания» собирается изменить мир. И ты снова источник моих вдохновений — я хочу знать, как ты издаешь свои «Записки».
Адриенна улыбнулась, с готовностью принимая шампанское из рук Сильвии.
— Теперь рассказывай по порядку.
Пока Адриенна разливала по бокалам золотистое пенящееся вино, Сильвия успела рассказать, как ее обозлил вердикт суда, и коротко объяснила, что подвигло ее предложить Джойсу издать его роман.
— Я должна была это сделать, — почти беззвучно выдохнула она, — как могла я поступить иначе? Подняв бокал, Сильвия предложила: — За «Улисса»?
Глаза Адриенны сияли удивлением, и гордостью, и волнением. Она чокнула свой бокал о бокал Сильвии, и нежный звон поднялся над звуками радио и готовящейся пищи.
— За тебя, моя милая Сильвия.
Они сделали по глотку. Никогда еще шампанское не казалось Сильвии таким восхитительным на вкус.
За обедом Адриенна объясняла, как она ведет издательскую сторону дела, начиная с печати, которой занимался в Дижоне типограф Морис Дарантьер, и затем пройдясь по остальным стадиям: рассказала, как определять тираж, рассчитывать прибыль, собирать базу подписчиков из заинтересованных покупателей и, наконец, как распределять выручку. Сильвия с воодушевлением делала заметки и осыпала Адриенну вопросами. К тому времени, как часы возвестили о начале новых суток, блокнот Сильвии уже был полон испещренных записями страниц, а ее занемевшие пальцы — испятнаны чернилами. Самый прекрасный беспорядок из всех, что она когда-либо устраивала.
Когда они наконец поднялись из-за обеденного стола, потягиваясь и подавляя зевоту, возле раковины Адриенна повернулась к Сильвии и сказала осторожно и мягко:
— Одно очень тревожит меня, chérie.
— Quoi?[89]
— Скажу напрямик, — Адриенна на мгновение запнулась и почти робко продолжила. — Наш корявый Иисус вечно бедствует. И совсем не умеет обращаться с деньгами, с чужими деньгами, если уж на то пошло. Он великий писатель, но… надеюсь… в общем, надо найти способ уберечь тебя и твою лавку. Надеюсь, ты не против, что я все это говорю. И для начала ты должна бы подумать о том, как распределить прибыль. Семьдесят пять процентов — пожалуй, самое большее, что ему следует дать, тем более что ты взваливаешь на себя такую ответственность. Ты должна решить, сколько стоят твои труды.
Радость Сильвии слегка поблекла от предостережений Адриенны, но она понимала, что ее подруга права. Сильвия кивнула.
— Я и сама знаю, что это правда, хотя хотелось бы мне ошибаться. Хорошо, я подумаю про семьдесят пять процентов.
Адриенна легонько поцеловала ее в губы.
— Ты знай, я всегда рядом и готова прийти на помощь, если буду тебе нужна.
— Ты всегда мне нужна.
Сильвия обвила руками ее широкую мягкую талию, желая большего — ее кожи, ее рук, ее складочек, вздохов, ее разрядки. Но Адриенна целомудренно поцеловала ее в щеку и отстранилась.
Глава 10
Вот что случилось сразу после этого: Гертруда открестилась от Сильвии.
Трудно поверить, но они с Элис проделали долгий путь по мартовской слякоти, пройдя от своей уютной квартиры до лавки Сильвии, только для того, чтобы лично ее известить.
— Я отказываюсь от своего абонемента, — заявила Гертруда.
— Горько слышать ваши слова, — ответила Сильвия, чувствуя, как у нее упало сердце.
Это показалось ей плохим знаком, к тому же неожиданным. Но он не поколебал ее твердую уверенность публиковать «Улисса» — то был правильный шаг для нее, для ее книжной лавки, для литературы. Она уже получила массу поздравлений, слов поддержки и благодарностей, начиная от Боба Макалмона и Брайхер и заканчивая самой Маргарет Андерсон, которая отправила Сильвии письмо, где говорилось:
Я безмерно счастлива, что лучший за пределами Нью-Йорка книжный магазин берется за публикацию такого важного произведения. Когда Джойс написал мне о Вашем предложении, мы с Джейн возликовали и откупорили в Вашу честь одну из наших последних бутылок запрещенного игристого.
Их одобрение еще больше укрепляло Сильвию во мнении, что она поступает правильно.
А Гертруда еще вернется. Всенепременно. Что ни говори, а спектакль, который она разыграла, лично явившись отказываться от своего читательского абонемента, хотя, казалось бы, куда проще было бы просто перестать ходить в магазин, навел Сильвию на мысль, что она стала свидетелем скорее вспышки гнева, чем перемены в отношении.
— Думаю, новая Американская библиотека лучше послужит моим потребностям, — прибавила Гертруда.
Ах да, Сильвия вспомнила о своем новом и пока единственном конкуренте в Париже: Американская библиотека открылась годом позже, чем «Шекспир и компания», в более престижном Восьмом округе вблизи Елисейских полей. Правда, она выглядела слишком казенной, бездушной, ей явно не хватало шарма домашней непринужденности, привычного для лавки Сильвии. Это было очевидно. К тому же Гертруде пришлось бы куда дольше добираться до библиотеки, чем до «Шекспира». И все же, было ли то минутной вспышкой или чем другим, но от стычки с ней в сердце Сильвии засел крохотный осколок льда.
Впрочем, долго терзаться и рассусоливать она не могла: ее ждали более неотложные дела, а в первую очередь следовало собрать целиком всю рукопись романа и подготовить ее для Мориса Дарантьера, чтобы поспеть к сроку публикации, назначенному на осень 1921 года. Сильвия и не представляла, что эта часть процесса обернется таким наказанием для нее. Страницы врассыпную валялись и тут, и там, и где только можно, притом почерк Джойса было почти невозможно разобрать. Она даже заподозрила: уж не падающее ли зрение повинно в том, что тот считает свои каракули понятнее, чем они были на самом деле? В любом случае Сильвия тратила бесчисленные часы, продираясь сквозь джунгли его рукописного текста и сравнивая его с тем, что публиковался в выпусках «Литтл ревью» и «Эгоиста», и натыкалась на всякого рода расхождения, к устранению которых следовало привлечь автора, прежде чем она смогла бы перейти к следующей, такой же трудной и кропотливой задаче — набело перепечатать рукопись для Дарантьера.
Положение не облегчало и то, какую важную роль играли в тексте знаки препинания, подзаголовки, разбивка на абзацы и прочее. Между тем, чтобы читатель по достоинству оценил такое произведение, как «Улисс», каждая буковка, каждая запятая и точка с запятой должны были стоять на строго отведенном им автором месте.
— Что за насмешка судьбы, — пожаловалась Адриенне Сильвия одним утром, глядя на подругу воспаленными глазами, пока под неизменную сигарету потягивала крепкий кофе. — То, что больше всего пленяло меня в этой книге, теперь доводит буквально до бешенства.
Адриенна только рассмеялась.
— Ты сильная, ты и не с таким справишься, chérie. — Пододвигая ей тарелку с намазанными домашним джемом тостами, Адриенна добавила: — На вот, подкрепи свои силы.
Бывало, что, когда часы били полночь и ее глаза уже с трудом различали буквы, а Адриенна мирно спала, Сильвию, все еще сидящую над рукописью, посещало сомнение, не продешевила ли она в том, что в конечном итоге ей отходила треть прибыли. Но она тут же гнала крохоборство прочь из своих мыслей. Совсем не прибыль была ее главным стимулом; ей требовалось всего лишь покрыть свои издержки, тем более что все заработанные деньги вернутся прямехонько в «Шекспира и компанию». Она нисколько не стремилась обогатиться, о чем ей напомнило очень своевременное письмо от отца:
Родовспоможение — столь же неотъемлемая часть Божьего замысла, как и сотворение, ибо ничто в мире не могло бы процветать, не будь на свете отважных бескорыстных душ, помогающих новой жизни приходить в мир. Так держать, моя возлюбленная дочь. Мы с твоей матерью очень гордимся тобой.
В момент, когда она уже стояла на грани умопомешательства, в Париж на съемки нового фильма вернулась Киприан. «Боже, как ты вовремя!» — воскликнула Сильвия, крепко обнимая ее на пороге своей лавки. Как же приятно было видеть маленький кусочек родного дома посреди захватившего ее хаоса новой жизни; в сестре ей виделся вовремя брошенный утопающему спасательный круг.
Как только Киприан устроилась в отеле на Монпарнасе, они встретились в «Луп» и за салатом с ранним зеленым горошком Сильвия поделилась с ней своими трудностями.
— Я было взялась сама набело перепечатывать роман, чтобы свести воедино все части рукописи и передать ее печатникам, но у меня просто нет столько времени. Может, ты чем поможешь, дорогая сестричка?
Киприан, которая пребывала в отличном расположении духа и вся светилась от счастья, радостная, что вернулась в Париж, да еще и на съемки нового сногсшибательного фильма, сжала руки Сильвии.
— Да с превеликим удовольствием! Я, к твоему сведению, виртуоз печатной машинки. В Нью-Йорке мне одно время приходилось подрабатывать секретаршей, и, можешь мне поверить, нет почерка хуже, чем у счетовода во время паники на Уолл-стрит.
Сильвия взяла в ладони лицо Киприан и нежно поцеловала ее в лоб.
— Прямо гора с плеч. Спасибо тебе.
— Да, и вот что: тебе следовало бы взять себе в лавку помощника, не в обиду будет сказано. Ты же явно сбиваешься с ног, вон какая замотанная, прямо-таки смотреть больно. Ну-ка вспомни, когда ты в последний раз высыпалась? И когда в последний раз причесывалась, раз уж мы об этом заговорили? Я завтра же поведу тебя по магазинам, новое платье тебе совсем не помешает.
— Я не могу позволить себе нового наряда, Киприан. Особенно если найму помощника в лавку, о чем, признаться, и сама подумывала.
Еще бы — уже много недель как. В работе над изданием «Улисса» обнаружился побочный эффект: в сравнении с ней ежедневное управление лавкой стало казаться пресной рутиной. У Сильвии захватывало дух, когда она окуналась в водоворот нового проекта, ради которого требовалось столько новых знаний: она вдоль и поперек изучила печатный процесс, выяснила, как составлять письма с предложением подписки для книжных магазинов, коллекционеров, других писателей, как писать сообщения для газет, чтобы они держали читателей в курсе, как продвигается работа над книгой, и тем самым обеспечивали ей бесплатную информационную поддержку. Что, как с удивлением обнаружила Сильвия, они исправно делали!
Вскоре интерес к роману стали проявлять и местные репортеры, притом именно потому, что он был под запретом. Впрочем, решение Сильвии опубликовать «непристойное» произведение не меньше заинтриговало их тем, что оно должно было стать первым самостоятельным изданием «Шекспира и компании». Затея Сильвии даже привлекла интерес американской журналистки Джанет Фланнер, писавшей из Парижа статьи для журнала «Нью-йоркер».
— Даже жаль, что ты у нас такая птичка-невеличка, а то я бы поделилась с тобой нарядами из своего гардероба, — посетовала Киприан.
Сильвия улыбнулась.
— У меня еще остались твои алые лодочки, в которых я блеснула на торжественном открытии лавки.
— Ты их с тех пор хоть раз надевала?
— А как же. В «Ша нуар».
Киприан покачала головой.
— Нет, ты невозможна. Если твоя лавка приобретет всемирную известность, тебе придется позволить мне заняться твоим гардеробом.
— Зачем это? А, чтобы ты не стеснялась старшей сестрицы, когда ту будут фотографировать для «Вэнити фэйр»?
— Вот именно.
— Если ты как положено перепечатаешь «Улисса», мы с тобой закатимся в «Прентам»[90].
Разразившись хохотом водевильного злодея, Киприан подытожила:
— Заметано!
Но стоило ей взяться за перепечатку, как совсем скоро она ворвалась в «Шекспира и компанию» в растрепанных чувствах и отчаянии, всхлипывая и потрясая смятыми в руках страницами.
— Не могу, — простонала она.
Сильвии меньше всего хотелось подыгрывать сестре в мелодраматической сцене, но она напомнила себе, что та оказала ей любезность, взявшись печатать рукопись. Так что она заключила дрожащую Киприан в объятия и проворковала:
— Сестричка, дорогая, чем мне тебе помочь?
— Можешь так и передать этому твоему корявому Иисусу, пускай не удивляется, что теряет зрение. Я сама чуть не ослепла от его писанины и больше такого не вынесу.
Ее нервный тон не предвещал ничего хорошего, и у Сильвии на мгновение перехватило дух. Вот оно, даже ее сестра, и та не может помочь ей. Кто я такая, чтобы издавать «Улисса»? У Сильвии не получалось отделаться от мысли, что она жалкая любительница. Она прыгает выше головы.
В отчаянии она попробовала уговорить Киприан продолжить работу.
— Мне страшно жаль, что это так непросто… Давай я повышу тебе ставку?.. Только подумай, потом тебе будет чем гордиться… Твое имя будет стоять в известной на весь мир книге!
Но Киприан уперлась и продолжать ни в какую не желала.
— Мне требуется сон, Сильвия. А я подскакиваю ни свет ни заря, чтобы сесть за машинку, и посмотри, какие у меня мешки под глазами. Я все-таки актриса, черт подери. Я не могу позволить себе выглядеть вот так.
Сильвия узнала эту непреклонность в голосе и поняла, что от Киприан она больше ничего не добьется.
После ухода сестры она бессильно навалилась на стол, уронив голову на руки. Как она тому ни противилась, не могла унять досады, что в это тяжелое для нее время в Париж приехала Киприан, а не мать.
— Сильвия?
Она вздрогнула и посмотрела вверх. Ей казалось, что они с сестрой одни в лавке, но оказывается, кроме них там была ее подруга Раймонд Линосье, жившая по соседству, одна из первых и самых преданных покупательниц Сильвии. Женщина-врач с собственной практикой, что встречалось в те времена крайне редко, Раймонда вызывала у Сильвии бесконечное восхищение.
— Боже мой, мне очень жаль, что ты все это слышала, — пробормотала Сильвия.
— Я с совершенным пониманием отношусь к перипетиям в отношениях между сестрами, — улыбнулась Раймонда, а Сильвии захотелось плакать.
— И еще я думаю, что могла бы помочь, — продолжала она. — Знаешь, мой отец нездоров, и я по многу часов в день ухаживаю за ним у него дома. А в свободное время только и делаю, что читаю, читаю, читаю, так что не отказалась бы немного разнообразить досуг. Возможно, у меня получится напечатать что-то из книги Джойса. Для меня это стало бы большой честью.
Сильвия распахнула глаза.
— Я бы никогда не осмелилась…
— Давай не будем снобами, Сильвия. Пускай я доктор, но это еще не означает, что я не могу набивать текст.
— Работа очень выматывающая, да ты и сама слышала…
— Я выдержу. В медицинской школе на курсе естествознания учились всего две девушки, и я была одной из них.
Сильвия просияла.
— Чудесно, давай я покажу, что нужно сделать.
Вот и еще одна Флоренс Найтингейл бросается спасать «Улисса».
Зима отступала под напором весны, снег превращался в ручейки, журчавшие в уличных стоках, на тротуарах образовались лужи, и в них весело плескались голуби. В один из первых теплых дней в лавку зашел очень привлекательный молодой человек, в котором безошибочно угадывался уроженец Среднего Запада. Его волосы были цвета ваксы, а аккуратно подстриженные усики, как решила Сильвия, должны были придавать больше солидности мягкому, еще совсем юношескому лицу. Массивный, но подтянутый, он своим обликом сразу напомнил Сильвии спортивных мальчишек из ее детства, предпочитавших беготню с мячом чтению книг.
Точно благовоспитанный ребенок, которого привели в церковь, он при входе снял потертую твидовую шляпу и принялся рассматривать полки с романами и журналами. Утро в лавке выдалось хлопотное, и Сильвия наблюдала за незнакомцем краешком глаза, пока пробивала чеки и записывала книги, выбранные постоянными читателями библиотечной секции.
Наконец, только она успела закурить новую сигарету, новый посетитель подошел к ее столу.
— Вы Сильвия Бич?
Сколько бы раз такое ни повторялось, все равно ей не надоедало: для Сильвии было лучшим комплиментом, когда молодой американец вроде этого обращался к ней, уже зная, кто она. Она почувствовала радостное волнение, предвкушая, что сейчас она услышит чудесную историю о том, как новичок узнал о ней и ее лавке.
Приветливо улыбаясь, она глубоко затянулась и, отложив сигарету, протянула руку для пожатия.
— Она самая. Рада познакомиться, мистер?..
— Хемингуэй, — охотно отозвался тот. — Эрнест Хемингуэй.
Имя ни о чем ей не говорило, но Сильвия все равно чувствовала, что юноша заглянул в лавку неспроста.
— Откуда вы прибыли, мистер Хемингуэй?
— Эрнест, прошу вас. Из Чикаго, вместе с женой Хэдли.
— В следующий раз обязательно приводите ее с собой. Да, зовите меня тоже просто Сильвией. Итак, расскажите, что привело вас в Париж и в «Шекспира и компанию»?
— Я уже год как слышу, что писателю не найти лучшего места для работы, чем Париж. Под лучшим я подразумеваю самое дешевое. И потому я убедил «Торонто Стар» взять меня в штат корреспондентом. Но я собираюсь и сам кое-что писать. Может быть, роман. А о вашей лавке мне рассказал Шервуд Андерсон. Если точнее, превозносил ее до небес, но, должен сказать, даже его дифирамбы не вполне отдают ей должное. — Он обвел помещение оценивающим взглядом и явно остался доволен увиденным. — Я и представить не мог, — восхищенно добавил он.
— Всего лишь книги да стулья, — сказала Сильвия, хотя восторги молодого человека ей польстили.
— Вы только посмотрите, рука самого Уолта Уитмена. — Молодой человек подошел к стене, где в рамках висели страницы поэта, и так близко разглядывал написанные карандашом строчки, что почти уткнулся носом в стекло. — Всему, что под эгидой «Шекспира» и Уитмена, сама судьба обещает величие, — сказал он, все еще разглядывая заключенные в рамку строки.
— Между тем многие не понимают, что связывает эти два имени, — заметила Сильвия.
Оторвав наконец взгляд от Уитмена, он повернулся к Сильвии.
— Только не я.
Сильвия чутьем угадала в этом Эрнесте Хемингуэе из Чикаго родственную душу. Она познакомила его с Бобом Макалмоном и еще одним недавно приехавшим в Париж американцем, композитором Джорджем Антейлом[91], и молодые люди тут же подружились. А у самой Сильвии было такое чувство, словно недостающий кусочек мозаики наконец отыскался и встал на свое место.
Она оформила Эрнесту читательский абонемент, хотя у того даже не было при себе достаточно денег для залога.
— Доверяю вам на слово и знаю, вы непременно придете еще, — сказала ему Сильвия.
— Спасибо, — ответил Эрнест так пылко, точно получил от нее на Рождество новый велосипед.
— Да, а если вы еще не нашли себе постоянного жилья, не стану возражать, если вы будете использовать мою лавку как почтовый ящик для своей корреспонденции столько, сколько понадобится.
— Сильвию хлебом не корми, только дай показать французскую дулю американской почт… полиции, — сострил Боб.
Эрнест нахмурился.
— Да уж, — проворчал он, — самнеровскую почту никак не заподозришь в симпатиях к писателям, это точно.
— Вы слышали о мучениях нашего друга Джеймса Джойса?
— Разумеется. Я же газетчик.
— И вы тоже подались в бега из-за смутьянских сочинений?
— Едва ли, — нехотя ответил он, и в его недовольной гримасе Сильвии почудилось желание исправить досадное отсутствие гонений.
— Вы так молоды. У вас впереди еще масса времени, — успокоил его Боб, с миром отпуская очередную мишень для своего ехидства, что было большой редкостью.
— А скажите-ка, — спросил их новый друг Эрнест, явно желая сменить тему, — кто-нибудь из вас был на войне?
— Военно-воздушные силы, — ответил Боб, впрочем безо всякой гордости. — А присутствующий среди нас Джордж был тогда, к сожалению, слишком мал. Он околачивался в Нью-Йорке, подбивая клинья к тому самому редактору, которую осудили за публикацию эпизодов «Улисса».
— Маргарет Андерсон, между прочим, великая поклонница музыки, — благоговейно произнес Джордж, и Сильвия не в первый раз подивилась, что же такое было между этими двумя. Она слышала, что Маргарет живет в таком же счастливом союзе со своим соредактором Джейн Хип, как она сама с Адриенной, но поди знай, как оно принято в их кругу.
— К тому же, — продолжал Джордж с некоторым нажимом, — Маргарет была уже после войны. А во время я еще учился у Эрнеста Блоха.
— А я в Италии крутил баранку скорой помощи, — сообщил Эрнест, тактично не замечая напряжения, возникшего между двумя мужчинами.
— Жуткая, как я слышал, работенка, — тут же отозвался Боб.
— Которая определенно не уберегла меня от ранения. Минометный обстрел. — Эрнест указал на свою ногу.
— Давайте-ка посмотрим, — сказал Боб.
Сильвия хоть и навидалась боевых ранений, но разглядывать одно из них, пусть и затянувшееся, в своей лавке ей выдалось впервые. На ноге Эрнеста едва ли оставалось живое место: от колена и ниже ее покрывали сплошные розовые шрамы, а стежки заштопанных ран были рассыпаны по ступне, лодыжке и икре зловещим конфетти.
— Чудо еще, что вы не хромаете, — заметила Сильвия.
Он только пожал плечами.
— Раны поверхностные. Кость не задели.
Звякнул дверной колокольчик, приветствуя появление в лавке Адриенны.
— Монье! — с великой теплотой воскликнул Боб. — Денек-то, как я погляжу, щедр на радости.
— Моя дорогая, — позвала Сильвия, помахав рукой, чтобы привлечь внимание Адриенны. — Знакомься, это Эрнест Хемингуэй, он только что прибыл в наш прекрасный город из Чикаго. Он нам показывал свои боевые шрамы. Эрнест, знакомьтесь, это Адриенна Монье, хозяйка почти такой же лавки, только франкоязычной, неподалеку отсюда, на улице Одеон. И к слову сказать, ее магазинчик проработал все военные годы, и он же — первая причина, почему существует «Шекспир и компания».
Хемингуэй выпрямился и протянул Адриенне руку, которую та, улыбаясь, энергично потрясла.
— Я наслышан о вашей книжной лавке, — на превосходном французском произнес он. — Следующую остановку сегодня как раз намечаю сделать у вас в «Ля мезон».
— Счастлива слышать это, месье Хемингуэй. Ближе к вечеру милости прошу, я вся к вашим услугам, но сейчас мы закрыты на обед.
Он рассмеялся.
— Закрыты на обед. Обожаю Францию. Очень надеюсь увидеться с вами у вас в лавке. И еще: прошу вас, называйте меня Эрнест. — Он неожиданно засобирался, надел свою твидовую шляпу и сказал: — Прошу извинить, я должен узнать, не нужно ли чего Хэдли. В следующий раз приведу ее с собой, обещаю. Она лучшая читательница из всех, кого я знаю.
Когда он ушел, Сильвия сделала то, чего не делала никогда: выпроводила всех посетителей из лавки, объявив, что для разнообразия должна устроить длинный французский перерыв на обед. После чего, невинно взявшись за руки, они с Адриенной отправились извилистыми переулками в свое любимое бистро, где заказали на двоих бифштекс неприлично огромных размеров и графинчик вина.
— Знаешь, стыдно признаться, но в последнее время мне немного прискучили дела в магазине: ужасно хочется целиком посвящать себя «Улиссу». Но сегодняшний день напомнил мне, сколько удовольствия может доставлять лавка.
— Чего же тут стыдиться? И у меня бывают такие дни, когда я посмотрю на часы и готова поклясться, что прошел целый час, а оказывается, всего три минутки. Обычное дело.
— И как с этим бороться?
Адриенна пожала плечами.
— Самые волнующие моменты нужно планировать самому.
— Но ведь лучшие моменты — те, что случаются спонтанно.
— Со стороны так и может показаться, но поверь, это неправда. Эрнест, например, не просто волей случая забрел в «Шекспира». Он пришел благодаря всему тому хорошему, что ты делаешь для американских писателей в Париже. Он наслышан о тебе. И чем больше приятных впечатлений ты создаешь у своих посетителей, тем больше интересных людей притягиваешь в свою лавку.
— Я все подумываю, не открыть ли над ней маленькую чайную. Такое местечко, где писатели могли бы выпить и в тишине да покое поработать, тем более что у них под боком была бы моя библиотека на случай, если им что-то понадобится.
Адриенна улыбнулась.
— Прелестная идея, мне очень нравится. Ты должна ее осуществить.
Откуда бы у меня взялось на нее время?
— Однажды так и случится, — сказала Сильвия, испытывая одновременно и трепет волнения, и страшную усталость. И она поскорее опустила глаза в тарелку, чтобы не видеть реакции Адриенны на эту ее смешанность чувств.
Глава 11
Отец Раймонд поправился неожиданно быстро, почти чудесным образом, и это означало, что та теперь свободна и может возобновить прием пациентов. Но она просила Сильвию не переживать из-за перепечатки романа, потому что нашла себе замену в лице Мод Филч, англичанки, которая несколько раз приходила с ней в лавку и изъявляла пылкое желание взяться за дело. Не успела Сильвия перевести дух, как разразилась очередная катастрофа. В один из по-настоящему теплых майских дней Мод прибежала в магазинчик, комкая в покрасневших руках платок, насквозь мокрый от слез.
— О Сильвия, я так виновата, не знаю, простите ли вы меня когда-нибудь, — вымолвила она дрожащим голосом.
Хотя от вида бедной женщины у самой Сильвии в страхе сжалось сердце, она отважно сказала:
— Да нет же, я должна испытывать к вам одну только благодарность.
— Вам больше не придется, когда я расскажу, что стряслось.
— Уверена, мы справимся с любой неприятностью.
И Мод, всхлипывая и икая, поведала Сильвии, что произошло:
— Я уже почти… заканчивала… перепечатывать «Цирцею»[92]. И все шло так прекрасно, но… но я оставила листы у себя на столе… мне так… я так виновата, ни в коем случае нельзя было… потому что… потому что… муж вернулся домой и… он прочитал их и сжег. Оба экземпляра.
Сказав это, Мод, не в силах больше сдерживаться, разрыдалась.
— Оба? И перепечатанный, и рукопись Джойса?
Мод сквозь слезы закивала головой.
— О господи! Что же творится с людьми, книга-то в чем виновата? — в гневе вскричала Сильвия.
— Мне так жаль, Сильвия.
— Вы тут ни при чем, не вам следует извиняться.
От этого Мод только громче зарыдала. Не переполняй Сильвию такая ярость, она бы и сама расплакалась — не от горя, а от растерянности и отчаяния. Неужели «Улисс» никогда не увидит свет? Неужели ее собственный провал станет последней каплей и навсегда утопит роман в безвестности?
«А Джойс еще даже не закончил его», — напомнила себе Сильвия. Им и так уже пришлось перенести дату выхода с осени на зиму. Он обещал закончить к середине января, чтобы роман вышел в свет ко дню его рождения — второго февраля. Для него это важная дата, ведь в 1922 году ему исполняется сорок лет. Почему-то Джойс очень загорелся этой идеей, и, судя по всему, она его подстегивала — настолько, что он в последнее время почти перестал показываться в «Шекспире и компании», посвящая все время роману. Сильвия надеялась, что глаза его не подведут и позволят довести дело до конца; он рассказывал, что почти каждый вечер после многочасовой работы он проводит в постели с охлаждающими компрессами на глазах.
Мод продолжала рыдать. Сильвии казалось, что «Улисс» обречен.
Наконец она уговорила несчастную Мод дойти до приемной Раймонд и немного успокоиться. Стоило ей закурить в безнадежном унынии, как в лавку с редким визитом явился Джойс собственной персоной.
— У меня плохие новости, — сообщила ему Сильвия, как только он прислонил свою ясеневую трость к книжной полке и опустился в зеленое кресло. И она рассказала, что приключилось с последним эпизодом романа.
— Что ж, в таком случае вам всего-то и надо, что попросить у Куинна его экземпляр.
Сильвия потрясенно заморгала, не понимая, к чему он клонит.
Экземпляр Джона Куинна?
Ах, конечно. Теперь она вспомнила. Джойс с самого начала отправлял Куинну дубликаты своих черновиков; тот покупал их, точно они были произведениями искусства. Кажется, Эзра говорил ей что-то подобное много месяцев назад? У нее напрочь вылетело из головы. Но сейчас этот факт поставил перед ней больше вопросов, чем ответов. Джойсу хватало времени — не говоря уже о здоровье глаз — делать копии своих черновиков? И насколько страницы Куинна отличаются от тех, которые редактировал Эзра и которые в конечном счете были напечатаны в «Литтл ревью»? Зачем Куинн покупал роман, если сам же, по сути, выставил его перед судом как непристойный? Сильвия не видела смысла спрашивать Джойса; ей часто казалось, что чем меньше она посвящена в его писательскую кухню, тем лучше.
— Вот это отличная новость, — только и сказала она. Когда он ушел, а подсушившую слезы Мод удалось убедить, что положение можно исправить, Сильвия не откладывая села за письмо адвокату.
Уважаемый мистер Куинн!
Меня зовут Сильвия Бич, и я управляю магазином «Шекспир и компания» — книжной лавкой англоязычной литературы и по совместительству библиотекой в Шестом округе Парижа. Для начала позвольте выразить Вам свое восхищение Вашими стараниями обеспечить в Соединенных Штатах будущее «Улиссу» нашего дорогого друга Джеймса Джойса — это моя родина в той же степени, что и Ваша, поскольку я родилась в Мэриленде и выросла в Принстоне, Нью-Джерси.
Как и Вы, я великая поклонница Джеймса Джойса. Он стал своим человеком в «Шекспире и компании», а «Портрет» относится к числу моих любимых романов. «Улисс» имеет все шансы занять его место, вот почему я предложила опубликовать его, когда стало ясно, что американские издатели лишены такой возможности.
Однако мои старания собрать его полную рукопись наталкиваются на изрядные препятствия ввиду конфискаций, а также затруднений в писательском процессе самого Джойса. Мне стало известно, что Вы располагаете полной копией рукописи. Я буду очень Вам обязана, если Вы сможете послать мне свой экземпляр. Разумеется, я возмещу Вам все расходы и отошлю его назад, как только перепечатаю рукопись.
Очень надеюсь, что Вы заглянете ко мне в лавку, если Ваши разъезды приведут Вас в Париж. Было бы замечательно познакомиться с Вами лично.
С благодарностями и пожеланием всего наилучшего,
искренне Ваша,
Сильвия
Прошел месяц, но никакого ответа от Куинна не поступило. С момента утраты эпизода «Цирцея» перепечатывать рукопись брались еще три машинистки, но и те долго не продержались, зато самой Сильвии удалось отправить Дарантьеру в набор первые части романа, даром что в них зияли пустоты, которые она планировала заполнить, когда из Америки прибудут соответствующие страницы. Когда же Дарантьер прислал ей первую порцию гранок для вычитки, Сильвия была настолько взволнована, что, когда она открывала сверток, руки ее ощутимо дрожали. Она стала издателем! Ах, как великолепны эти страницы. Бумага хрусткая, белейшая; типографская краска такая свеженькая, черная и четкая. Сильвия провела по ним рукой; шелковисто гладкие, они приятно холодили пальцы и тихонько поскрипывали, наполняя ее уши самым успокаивающим звуком на свете.
Джойс явился в лавку день или два спустя, и Сильвия с торжествующей улыбкой вручила ему гранки.
— Ну разве они не великолепны?
В те дни у него сильно слезились глаза, но Сильвия могла бы поклясться, что в этот момент они затуманились слезами еще больше.
— Мое, мое, — тихо повторял он, ласково перелистывая гранки.
— Вы же хотите забрать их домой, как я полагаю? Убедиться, что все правильно?
Листы с типографским текстом так заворожили Джойса, что он только через минуту-другую смог сосредоточиться на вопросе Сильвии. Наконец он прокашлялся и ответил:
— Да, спасибо.
Вечер выдался теплый, и Сильвия решила выкурить сигаретку на крыльце лавки. Джойс присоединился к ней, и оба принялись разглядывать прохожих на улице Дюпюитрена.
— Как у нас сегодня с Леопольдами? — спросил он.
— Пока ни одного.
То было одно из их любимых развлечений, Сильвия с Джойсом уже множество раз играли так на пороге лавки и в уличных кафе на перекрестке: они высматривали в потоке прохожих тех, кто внешне напоминал Леопольда Блума, Стивена Дедала, Герти Макдауэлл и прочих персонажей «Улисса». И поскольку Джойс нигде не описывал своих героев в общепринятой манере, в игре они полагались скорее на собственные впечатления и облик незнакомцев. Стивены виделись им в целом молодыми, голодными и напряженными, точно сжатая пружина; Леопольды — ближе к среднему возрасту, более апатичные и упитанные; в Герти годились уверенные в себе девушки, которые не смущались тем, что их рассматривают, а могли и сами бросить дерзкий взгляд в ответ.
— Сегодня по дороге сюда мне возле école[93] попался очень подходящий Леопольд в некогда пристойном, но теперь чуть потрепанном пальто, он шел, похлопывая себя по ноге свернутой газетой.
— Видели вы ясеневые трости у кого-нибудь еще в Париже? Я все жду, когда они войдут в моду.
— Моя дорогая мисс Бич, некоторые пристрастия чересчур уникальны, чтобы их перенимала толпа.
Она захихикала, но вдруг затаила дыхание.
— Взгляните-ка! Вон Молли Блум.
Джойс перевел взгляд туда, куда указывала Сильвия, на рослую женщину с пышными, напоминающими гитару формами; она шла вниз по улице, и — только представьте! — за ее ухом в прядях длинных каштановых волос алела роза.
— Господи, и идет со стороны театра. Возможно, она оперная дива?
— Не иначе.
— Доброе предзнаменование. — Джойс обожал оперу. С Моцартом и Розетти он был знаком так же хорошо, как с Гомером и Теннисоном.
— Очень доброе, — согласилась Сильвия, когда женщина прошествовала мимо них к восьмому дому, едва ли взглянув в их сторону, но оставляя за собой шлейф терпких духов с нотами розы. — Кстати, о добрых знаках: мы с Адриенной получили уже двадцать ответов на письма с предложением подписаться на «Улисса», и это помимо той дюжины, что удалось собрать среди наших любимых клиентов в Париже. И знаете, все в предвкушении, всем хочется поскорее прочитать ваш роман целиком. Включая и Уильяма Батлера Йейтса.
Одна мысль, что она самолично пошлет произведение Джеймса Джойса писателям вроде Йейтса, заставляла Сильвию трепетать.
— Вообще-то, с учетом такого количества откликов на подписку, я не удивлюсь, если нам сразу же потребуется второй тираж.
Они решили первым тиражом напечатать тысячу экземпляров, из них сотню на лучшей голландской бумаге и с автографом автора, по цене 350 франков, еще полторы сотни на хлопковом верже д'Аркез, по 250 франков, а остальной тираж — на обычной бумаге, по 150 франков. Все книги будут в бумажной обложке, которой методом литографии придадут синий цвет, в точности как у греческого флага, — во всяком случае, таков был план. Сильвии с Морисом Дарантьером еще предстояло подобрать краску нужного оттенка.
— А от Шоу что-нибудь слышно?
— Пока нет, но уверена, что он откликнется.
Сильвия не очень понимала, почему Джойса так волнует реакция Джорджа Бернарда Шоу на личное письмо и просьбу о подписке; он вообще не желал, чтобы они обращались к великому драматургу, его же соотечественнику, но Сильвия настояла.
— Он недолюбливает меня, — еще тогда предупреждал Джойс.
— Уверена, он не допустит, чтобы его антипатия влияла на покупку книги.
— Хотите пари? Если он отзовется и будет любезен или выразит желание купить роман, вы выиграли, и с меня обед в ресторане «Максим». Если же он промолчит или выкажет истинные недобрые чувства ко мне, тогда обед с вас.
— Я принимаю ваши условия.
Они скрепили пари рукопожатием.
— Я уже прямо чувствую вкус черепахового супа, — ухмыльнулся Джойс.
Пока они ожидали ответа от Шоу, он проводил время за правкой гранок из Дижона. Спустя несколько дней он вернул в «Шекспира и компанию» вычитанные страницы, все исчерканные каракулями, отметками и крестами, перечеркивавшими целые абзацы.
Когда-то белоснежная, хрустящая бумага под руками писателя стала серой и мягкой. У Сильвии упало сердце.
— Господи, надеюсь, он сможет внести все правки, — только и вымолвила она.
— Я в этом просто уверен. Я и в «Портрет» вносил правки на стадии набора.
И все же Сильвия чувствовала, что должна лично переговорить с Морисом. Он и так сделал ей огромное одолжение, согласившись печатать роман наудачу, даже не попросив никакой платы вперед.
— Ты должна угостить его отличным обедом, — посоветовала Адриенна.
— Мне сейчас только и не хватало, что новых расходов.
Пока от клиентов не поступили деньги за роман, Сильвии не на что было устраивать обеды.
— А оно бы стоило того. Морис обожает хорошую кухню и хорошие вина. Я знаю одно подходящее местечко в Дижоне.
— Ты же поедешь со мной?
Адриенна цокнула языком, затем нежно поцеловала Сильвию.
— Ну конечно.
Всю дорогу в поезде Сильвия нервничала и не выпускала из рук сигарету, прикуривая одну от другой, но, как ни претило ей, что пальцы пропитываются табачным дымом, остановиться не могла. Когда они посреди грохота и лязга типографских машин предстали перед высоким жилистым печатником с набриолиненными иссиня-черными волосами, у Сильвии во рту стало сухо, как в пустыне. Морис приветствовал Адриенну как старого доброго друга, крепко обняв ее и дважды расцеловав в обе щеки; щекам Сильвии, которую печатник видел всего второй раз, досталось по одному поцелую. При их первой встрече несколько месяцев назад, когда Сильвия объяснила, что ему предстоит печатать запрещенный в Соединенных Штатах роман, его глаза озорно загорелись и, к ее великому облегчению, он подытожил:
— Значит, работка предстоит интересная, non? Bon. Меня американскими судами не напугаешь.
Сегодня он встретил их словами:
— Чему я обязан удовольствием лицезреть двух моих любимых libraires rebelles?[94]
— В «Пти кошон» по-прежнему подают лучший бёф бургиньон Франции? — поинтересовалась Адриенна.
— А как же, но на мой вкус их coq au vin[95] уже превзошел его.
— Тогда закажем и то и другое.
Говядина по-бургундски и петух в вине были великолепны, но Сильвия от волнения не могла впихнуть в себя ни кусочка. Наконец она отважилась показать Дарантьеру страницы.
Тот посмотрел на них, нахмурившись.
— Вы поступили очень мудро, что заказали бордо, — проворчал он.
— Мы и сами понимаем, какой это неподъемный труд, и нам ужасно стыдно просить вас внести в набор столько правок, — виновато заворковала Адриенна, а Сильвию затопила благодарность к подруге за ее долгую тесную дружбу с печатником. — Но Джойс, попросту говоря, гений. И его книга прославится. И вы прославитесь вместе с ней как человек, которому хватило мужества и таланта ее напечатать.
Дарантьер внимательно изучил каждый лист, сохраняя на лице угрюмое выражение. Наконец он отложил гранки и заметил:
— Если так пойдет и дальше, стоимость печати возрастет.
— Насколько? — спросила Адриенна. Они с Сильвией уже обсуждали неизбежное удорожание типографских работ и даже наметили предел дополнительных затрат, которые смогли бы выдержать скудные финансы Сильвии.
«Спасибо тебе, Господи, что есть Адриенна», — думала Сильвия, пока та умело вела торг с печатником. Ей не потребовалось много времени, чтобы договориться о приемлемой сумме, и Сильвию наконец стало отпускать напряжение; правда, знаменитый петух в вине к тому моменту безнадежно остыл.
Лучшие передышки от работы над «Улиссом» она получала благодаря Эрнесту и Хэдли Хемингуэям. Оба теперь регулярно посещали «Шекспира и компанию», и чуть ли не первым делом Эрнест убедил Сильвию с Адриенной сходить вместе с ними на боксерский матч в квартале Менильмонтан. Сильвия никогда еще там не бывала, и, когда в безопасном вагоне метро Адриенна на ухо шепнула ей, что они едут в бедный рабочий район, где полно спортсменов и всякого хулиганья, Сильвия ощутила сладкую дрожь предвкушения: ей представилось, что она будет участвовать в новом опасном приключении, где орудуют злодеи и вершатся черные дела. Сжимая локоть Адриенны, наэлектризованная Сильвия шепотом воскликнула:
— Quel frisson![96]
— Tu es terrible[97], — шепнула та, но улыбнулась и теснее прижалась к подруге.
— Бокс — великолепная метафора жизни, — сказал Эрнест, когда они вчетвером, всей дружной компанией, уселись на свои места. В тесный зал набилась самая разношерстная публика, гладковыбритые мужчины в элегантных, пошитых на заказ костюмах соседствовали с простыми парижскими работягами в беретах; болельщики уже о чем-то жарко спорили, размахивая руками, и указывали пальцами на маленький ярко освещенный ринг посередине. Сильвия немало удивилась, что в зале столько женщин, по большей части изысканно одетых и модно причесанных.
Наблюдать за азартно болеющим Эрнестом оказалось для Сильвии не менее захватывающим, чем смотреть собственно поединки. Молодой писатель будто бы управлял боем, словно боксеры были его марионетками: его плечи ходили вверх-вниз, сжатые кулаки имитировали короткие удары; в другие моменты он бубнил под нос или громко выкрикивал команды: «Не раскрывайся!», «Выше кулаки!», «Нырни, идиот!», «Жди! Подпусти его поближе!»
Адриенна временами в ужасе закрывала руками лицо, но сквозь пальцы все равно украдкой подглядывала, как мощные удары разбивают в кровь носы и вышибают вон дух. «Неумехи», — презрительно фыркал Эрнест. Сильвия сама поразилась, насколько захватил ее бокс, неукротимая воля к победе в глазах мужчин, их выставленные перед лицом кулаки в упругих шарах боксерских перчаток, подначки и улюлюканье разгоряченной толпы вокруг ринга. А с какой легкостью и грацией двигались боксеры! Точно танцоры в кабаре, иногда казалось Сильвии.
Хэдли, похоже, бои увлекали не меньше, чем ее мужа. Видя, как Адриенна боязливо прикрывает глаза, не в силах вынести жестокое зрелище, Хэдли сказала Сильвии:
— Я тоже зажмуривалась, когда Тэти только начал брать меня на бокс. А теперь взгляда не могу отвести.
Судя по всему, Эрнест приохотил к рингу и Эзру Паунда, потому что вскоре Сильвии уже рассказывали, что эти двое долгими часами пропадают в гимнастическом зале по соседству, истекая потом, и старший литератор под руководством младшего постигает премудрости бокса. Как жаль, что Гертруда лишает себя развлечений, которым предаются молодые американцы из кружка «Шекспира и компании», иногда думала Сильвия, и только из-за неприязни к сдружившемуся с ними Джойсу, но тут же напоминала себе, что Эрнест и многие другие время от времени посещали салон на улице Флёрюс. Гертруда, видимо, взяла Хемингуэя под свое крыло; выходит, великосветскую даму его дружба с этим ирландцем заботит меньше, чем отношения Сильвии с ним. Ей оставалось лишь гадать, каково в роли протеже приходится самому Эрнесту — горячей голове, бывшему водителю скорой помощи, который не иначе как вознамерился продемонстрировать старшей писательской братии, сколько всего он знает о боксе, журналистике, войне и жизни.
Сильвия же поняла кое-что, отчего душа ее трепетала радостью: она потому узнавала обо всех драмах, какие разыгрывались в кругу американских экспатов, что ее лавка быстро превращалась в их штаб, в хранилище тайн и честолюбивых замыслов, надежд и страхов Латинского квартала. Магазинчик даже начал получать кое-какой доход, что позволило Сильвии послать матери первую часть денег в счет долга. Элинор немедленно отослала их обратно с письмом, где говорила: «Ту сумму я дала тебе вовсе не взаймы, дорогая моя девочка. Это был мой подарок. Жду не дождусь, когда прочитаю “Улисса” всего целиком».
— «Шекспир и компания» так процветает, так преуспевает, — при каждом удобном случае хвасталась Адриенна успехами Сильвии своим родителям в Рокфуэне и всем прочим.
— И все благодаря тебе и твоему «Ля мезон», — неизменно добавляла Сильвия.
— Ерунда.
Сильвия и сама не понимала, почему ей становилось так не по себе от беззаветной веры Адриенны. Она знала, что собственной душой и талантами делает заметный вклад в успех «Шекспира и компании», но при этом всегда помнила об истоках достижений, ни на секунду не забывая, как Адриенна опекала и поддерживала ее каждый божий день. Чем был бы магазин «Шекспир и компания» без «Ля мезон»? Не до конца сбывшейся мечтой, близняшкой, разлученной со своей второй половинкой.
Но.
Пока они с Адриенной вместе, все это, наверное, не имеет никакого значения.
Глава 12
Уважаемая мисс Бич!
Благодарю Вас за Ваше обращение. Я осведомлен о Вашем предложении опубликовать «Улисса», черновики которого я покупал единственно из тех соображений, что когда-нибудь они будут представлять ценность. Сами страницы источают душок в моем комоде.
Должен сказать, что считаю неразумным Вашу попытку с бухты-барахты ввязаться в публикацию романа, как и попытки мисс Андерсон с мисс Хип — а заодно и мисс Уивер, если уж приводить полный список женщин, готовых в глупом ослеплении ради «Улисса» разрушить свои жизни.
Полученные мной от Джойса страницы скорее сувенир, нежели сколько-нибудь годные для дела черновики; однако из Вашего письма я понял, что, несмотря на всю их ущербность, на сегодня это единственная полная рукопись, которой мы располагаем. В таком случае они приобретают больше ценности, чем когда я покупал их. В связи с чем я не могу рисковать, посылая их за рубеж, особенно в нынешней обстановке таможенных досмотров, конфискаций и цензуры.
С сожалениями,
Ваш Джон Куинн, эсквайр
Сильвия была готова выплеснуть душившую ее ярость градом отборных французских эпитетов в адрес Джона Куинна, эсквайра, когда в лавку вихрем ворвалась Адриенна, чье лицо сияло торжеством.
— «Шекспир и Компания» может переехать на улицу Одеон, прямо напротив «Ля мезон»!
— Ты шутишь. — Она не смела и надеяться. Неужели?
— Нет! Месье Буссэ из двенадцатого дома в июле съезжает.
— Буссэ? Тот антиквар?
Адриенна энергично закивала, и, крепко обнявшись, подруги на радостях пустились в пляс. Как часто они обсуждали, что двум их книжным лавкам — половинкам одного целого — сам бог велел располагаться поближе друг к другу не только для того, чтобы их владелицам было удобнее курсировать между ними, но и для удобства клиентов. «Ля мезон» и «Шекспир», по сути, представляли собой единое заведение, и близкое соседство помогло бы им работать слаженнее.
— Чудно, твоя новость определенно подняла мне настроение, а я в этом сейчас ох как нуждаюсь, — сказала Сильвия, передавая Адриенне письмо Джона Куинна.
Та внимательно прочитала его, а потом заметила:
— В глупом ослеплении пребывает разве что сам Джон Куинн, а его письмо смердит хуже всего, что Джойс когда-либо писал о самых неделикатных телесных отправлениях. Не дай этому болвану выбить тебя из седла, chérie.
Сильвия улыбнулась и лукаво изогнула левую бровь, что означало: готова расцеловать тебя прямо сейчас. Но увы, в лавке толклись посетители, и все сплошь им незнакомые.
Они договорились, когда пойдут смотреть новое помещение, и Адриенна отбыла, а Сильвия села составлять ответ Джону Куинну, ибо при всем ее нежелании удостаивать его такой любезностью, ей в самом деле требовались недостающие страницы рукописи — и притом срочно.
Уважаемый мистер Куинн!
Я понимаю Ваши сомнения относительно отправки столь ценного груза за океан по почте и страшно сожалею, что не вижу иного выхода, кроме как настаивать на этом — но Вы могли бы стать спасителем «Улисса»! У меня есть и другое предложение: моя мать живет совсем рядом с Нью-Йорком. Возможно ли, чтобы она приехала и прямо у Вас сняла копии с черновиков?
С признательностью и извинениями,
Сильвия
Бросив письмо в почтовый ящик, Сильвия задержала дыхание, очень надеясь, что и адвокат, и ее мать согласятся на это предложение.
Чем больше летняя жара прогревала воздух, тем сильнее тревожилась Сильвия по поводу переезда на улицу Одеон. Конечно, она не могла дождаться, когда окажется через дорогу от Адриенны, но, ради всего святого, как ей управиться одновременно и с переездом, и с лавкой, и с огромной массой авторских правок Джойса, каждый следующий лист которых грозил переполнить чашу терпения Мориса Дарантьера? Вдруг он вообще откажется печатать роман? Хотя от заинтересованных читателей регулярно поступали подписки и предоплаты, Сильвии постоянно не хватало денег на все, связанное с «Улиссом», в особенности из-за того, что каждая следующая порция правок удорожала печатные работы. В довершение всех бед у Джойса день ото дня все сильнее портилось зрение, и Сильвия опасалась, что сроки публикации придется снова переносить, как ни рвался он поспеть ко дню своего рождения в феврале.
Одним солнечным душным июньским утром в лавку влетели Джорджо и Лючия Джойс, потные и запыхавшиеся, — они явно бежали весь путь от тенистого уголка возле улицы Кардинала Лемуана, где была квартира Валери Ларбо, которую писатель сдавал семейству Джойса, пока проводил летние месяцы на морском побережье.
Не успев отдышаться, дети возбужденно загомонили, наперебой объясняя свое внезапное вторжение в лавку, но Сильвия не могла их понять.
— Пойдемте-ка, — она увлекла их в заднюю комнатку, чтобы их вопли не распугали бродивших среди стеллажей посетителей, которым было невдомек, что это отпрыски великого писателя, притом, возможно, именно того, чьи произведения они как раз сейчас искали на полках.
— Так, Лючия, говори ты первая, — велела Сильвия, сложив руки на бедрах и показывая всем видом, что готова внимательно слушать.
— У папы ужасно болят глаза, мисс Бич. Мама всю ночь не отходила от него, — выпалила девочка, после каждой фразы хватая ртом воздух.
— Папа говорит, что если кто и сумеет ему помочь, так это только мисс Бич, — прибавил Джорджо.
— Удивительно, почему не мистер Паунд.
— Ой, у них с мистером Паундом вышел скандал, — со всей серьезностью промолвила Лючия.
Сильвия подозревала, что их размолвка продлится недолго. По ее наблюдениям, эти двое, точно неуступчивые братья, без конца ссорились и препирались, но в конце концов находили в себе силы отложить разногласия, вспоминая, что они одной крови — правда, в данном случае не родственной, а литературной.
— Мама тоже считает, что мистер Паунд не заботится о папиных интересах, — снова добавил Джорджо.
Кто бы сомневался.
— Я придумала, как мы поступим. — Сильвия щелкнула пальцами. — Бегите домой и скажите родителям, что я скоро буду.
Дети с явным облегчением выдохнули, и она отослала их назад, вручив каждому по печенью «мадлен», хотя и заподозрила, что Джорджо предпочел бы сигаретку.
Теперь следовало решить, как на несколько часов оставить лавку. Она действительно одно время подумывала взять помощницу, как и говорила сестре, а случаи вроде сегодняшнего возвращали этот вопрос в разряд первостепенных. На днях заходила симпатичная молодая гречанка по имени Мюсрин Мосхос, которая сообщила, что ищет работу и будет рада трудиться среди книг и писателей, и показалась Сильвии весьма прилежной. Но она не могла позволить себе такую роскошь и потому тянула с поисками. Но и не взять помощницу тоже не могла. В особенности в свете грядущего переезда. Да и Джойс, она была уверена, воспримет национальность Мюсрин как добрый знак, ниспосланный свыше как раз в момент, когда Сильвия подыскивает для обложки «Улисса» синюю типографскую краску точно такого оттенка, как на греческом флаге.
Самой ей показалось, что все складывается как нельзя удачнее, когда она позвонила Мюсрин с просьбой приглядеть за лавкой на несколько часов, что она будет отсутствовать, и девушка уже через десять минут появилась на пороге.
— Большое тебе спасибо, что выручаешь, — сказала ей Сильвия, вкратце объяснив, как работает библиотечная секция и как пробивать чеки за покупки. — А если кому-нибудь понадобится что-то еще, записывай имена, адреса и телефоны, у кого они есть, и говори, что я сама с ними вскоре свяжусь. Или извиняйся и проси зайти завтра.
— Это вам спасибо за шанс, — ответила девчушка, тряхнув каштановыми волосами, и в ее голосе звучало столько пылкости и уверенности, что Сильвия покидала лавку с жаром благодарности в груди, но, впрочем, и с холодком тревоги в желудке. До сих пор она ни разу не оставляла «Шекспира и компанию» на кого-нибудь, кроме Адриенны, и ей подумалось, что так должна чувствовать себя мать, впервые вверяющая младенца попечению новой няньки.
На ее счастье, окулист доктор Луи Борш был на месте и очень быстро согласился принять ее. Она побывала у него несколько месяцев назад, когда у нее воспалился носо-слёзный проток и ей пришлось искать ближайшую к ним клинику для студентов и других пациентов с таким же тощим карманом, и доктор прописал ей капли, которые одним махом излечили ее. Еще тогда его таланты навели ее на мысль, что он может быть полезен Джойсу с его затуманенным зрением, и она записала имя и адрес кабинета доктора на улице де ля Пэ.
Тем более любопытным и лестным для Сильвии стало то, что доктор Борш тоже узнал ее.
— Еще бы мне не запомнить предприимчивую американку с книжной лавкой, — отозвался он, когда Сильвия вновь представилась. — Жаль, все никак не выдается случай посетить ваше заведение.
— Я к вашим услугам в любое время, когда вам будет угодно заглянуть к нам, — поспешила заверить его Сильвия. — Но сегодня у вас есть возможность помочь одному моему прославленному клиенту. Это Джеймс Джойс, он ирландский писатель и уже пользуется широким признанием.
— Да, я знаю его «Дублинцев», — кивнул доктор.
— Очень рада слышать. Что ж… видите ли, ему причиняют ужасные страдания боли в глазах, он даже писать не может. А сейчас все стало настолько худо, что его дети прибежали ко мне в лавку и позвали на помощь.
— Он наблюдается у кого-нибудь?
— В Европе он лечился у нескольких докторов, и, кажется, один из них сейчас в Париже, но полагаю, есть причина, почему послали не за ним, а за мной.
— К сожалению, я не посещаю на дому пациентов, которые у меня не лечатся. Но если вы приведете его сюда, я тотчас же его осмотрю.
И Сильвия поспешила на улицу Кардинала Лемуана. Взобравшись по узкой деревянной лестнице, она застала полумрак в квартирке Ларбо, обычно такой светлой и полной воздуха; несмотря на распахнутые окна, в ней висел тяжелый дух кислятины и телесных испарений, перебиваемых запахами антисептиков.
Сильвия застала миссис Джойс с покрасневшими щеками у постели мужа, меняющей ему влажный компресс на глазах. Заметив ее в дверях, миссис Джойс ни жестом не отреагировала, но произнесла дрожащим голосом, и ее ирландский акцент усиливал драматичность сцены:
— Благодарение небу, вы пришли, мисс Бич. Он то засыпает, то просыпается, боли мучают его всю ночь и весь день. Просто не знаю, что и делать. Приступ тяжелее обычного.
— Мисс Бич здесь, дорогая? — кротко, почти шепотом спросил Джойс.
— Здесь, дорогой. Пришла, как ты и говорил.
Сильвию тронула эта сценка домашней нежности, и все ее прежние вопросы, что может связывать двоих столь разных людей, внезапно получили исчерпывающий ответ.
Она переступила порог комнаты, чувствуя себя незваной гостьей, хотя ее именно что звали. И произнесла тихим ровным голосом:
— Я только что была у одного первоклассного окулиста, доктора Луи Борша. Он прошел подготовку в Вене у лучших хирургов, а сейчас посвящает много времени пациентам, которые иначе не смогли бы позволить себе лечиться у врача такого уровня. Как, например, я, когда пришла к нему на прием несколько месяцев назад.
Всю дорогу от лавки Сильвия репетировала свою речь, чтобы наверняка затронуть прагматическую жилку миссис Джойс, а самого Джойса убедить, что ему рекомендуют не абы кого, а лучшего специалиста.
— Получится ли у него в ближайшее время посетить нас? — спросила миссис Джойс, ласково держа руку мужа.
— К сожалению, он не может прийти по вызову, пока официально не считается лечащим врачом мистера Джойса. — Сильвия постаралась вложить в свой тон все сожаления, какие сочла уместными для случая. — Но если бы мистеру Джойсу удалось подняться и немного пройтись, мы бы взяли такси и доехали до клиники, здесь совсем недалеко.
Подобно Лазарю — или, скорее, больше, чем когда-либо оправдывая свое тайное прозвище «корявый Иисус» — Джойс поднялся со своего больничного одра, стоило ему только услышать слова Сильвии.
— Нора, любовь моя, не подашь ли ты мне пальто? — спросил он, и миссис Джойс поспешила к вешалке на другом конце комнаты, а потом помогла мужу одеться.
Он двигался, как человек почти или даже полностью незрячий, давно уже приучившийся полагаться на стороннюю помощь.
— А сейчас отдохни, — сказал он, каким-то чутьем точно угадав, куда наклониться, чтобы запечатлеть нежный поцелуй на лбу супруги, который та приняла, устало прикрыв глаза.
Затем она вложила руку мистера Джойса в руку Сильвии, и они вдвоем осторожно спустились по лестнице на улицу, в бледный свет сумерек.
«Господи, хоть бы вы еще не ушли, доктор Борш», — взмолилась про себя Сильвия.
Но им повезло, и доктор все еще был на месте. Сильвия очень сокрушалась, что не додумалась прихватить с собой книгу, — она как раз читала роман «Три солдата» молодого многообещающего американского писателя Джона Дос Пассоса, которого рекомендовал ей Эрнест, и могла бы скрасить себе ожидание, пока сидела на деревянном стуле в чистенькой пустой приемной.
Наконец доктор Борш пригласил ее войти к ним в смотровую, где, в отличие от клиники, куда она обращалась в первый раз, оказалось не в пример больше разнообразных инструментов. Сильвия внимательно слушала, пока он объяснял, чем опасна запущенная глаукома, что была у Джойса, и заключил:
— Хотя операция способна устранить проблему, я бы не рекомендовал ее проводить. Слишком высок риск. Могут возникнуть осложнения, а я хотел бы понаблюдать за развитием вашей болезни — посмотрим, возможно, время и должный уход сделают свое дело, и мистеру Джойсу не понадобятся инвазивные методы вроде хирургии.
— Благодарю вас, доктор, — с сильнейшим ирландским акцентом, какого Сильвия у него еще не слыхала, промолвил Джойс, прижимая к груди вялую руку с длинными тонкими пальцами. — Мой последний окулист в Цюрихе считал, что только операция поможет в случае сильнейшего приступа ирита, как этот. И я премного благодарен вам за более консервативные предписания.
— Разногласия среди врачей — обычное дело, — рассудительно отозвался доктор Борш. — Ничуть не обижусь, если вы захотите проконсультироваться еще у третьего специалиста.
— Мнение врача, рекомендованного мисс Бич, для меня более чем убедительно, — ответил Джойс, и благодарность вновь расцвела у Сильвии в груди.
Из-за чего впервые за последние часы она спохватилась: как там справляется Мюсрин? От тревоги Сильвия покрылась гусиной кожей и решительно отказалась от чая с бисквитами, которые предложила ей Нора, когда она в целости и сохранности доставила мистера Джойса в квартиру Ларбо.
Но Сильвия зря тревожилась. День выдался спокойным, и Мюсрин успевала записывать библиотечные книги и пробивать покупки в точности, как ее научили. Девчушка даже протерла с полок пыль. Сильвия без раздумий ее наняла.
— Жду тебя завтра в десять утра.
Ее первый сотрудник. Вот это достижение!
Но когда Сильвия за ужином поделилась успехами дня с Адриенной, та прищурилась и обронила:
— Я рада, что ты обзавелась помощницей, но…
Сильвия выждала пару мгновений, пока Адриенна безуспешно пыталась подобрать слова, и произнесла:
— Что такое? Ты ведь знаешь, мне можно сказать все что угодно.
— Но я уже это говорила.
— Говорила что?
— Что он, безусловно, выдающийся писатель, а как человек… не слишком-то.
Разве Адриенна говорила что-то подобное? Еще когда они в первый раз обсуждали издание «Улисса»? Насколько запомнилось Сильвии, тогда предостережения подруги звучали… благожелательнее. А сейчас мрачное выражение на лице Адриенны заставило Сильвию встревожиться.
— Кому какое дело, великий он человек или нет?
Адриенна дернула плечами, и с ее идеальных губ сорвался истинно французский фырк.
— Никому, кроме таких, как мы с тобой.
— А нам есть? — Сильвия и правда сомневалась в этом. Равно как и в причинах.
Адриенна опустила глаза и помотала головой, потом перевела взгляд на Сильвию и тихо добавила:
— Необязательно.
Сильвия окончательно запуталась. Возможно ли, чтобы Адриенна ревновала? Но кому же, как не ей, знать, что Сильвию совсем не привлекают мужчины? Ее захлестнуло желание разогнать сомнения Адриенны в своей любви к ней.
Протянув руку, Сильвия заправила густой непослушный локон за ухо подруги и нежно провела большим пальцем по ее щеке:
— Никто не встанет между нами. Только не в моем сердце.
Адриенна, закрыв глаза, поцеловала ее и прошептала:
— Не за твое сердечко я боюсь, chérie.
И хотя Сильвия сомневалась, правильно ли поняла ее слова, у нее отлегло на душе, когда щекотливый разговор не получил продолжения. С большей настойчивостью целуя Адриенну, Сильвия поклялась себе, что еще подумает об этом и сделает все возможное, чтобы никто и никогда не встал между ней и женщиной, которая изменила ее жизнь к лучшему.
Следующее письмо Джона Куинна преподнесло сюрприз: «Я просто не в силах разлучиться с этими страницами, но в конце месяца приеду в Париж на новую выставку Пикассо и захвачу их с собой».
Чудно. Спасибо тебе, Пикассо, подумала Сильвия. Мы с Джойсом в огромном долгу перед вами. Мысли об испанском художнике напомнили Сильвии о Гертруде, и она решила черкнуть приветственную записочку в надеждах размягчить суровость мисс Стайн, сразив ее своей добротой.
Через несколько дней после письма Куинна пришло еще одно — Маргарет Андерсон из «Литтл ревью» в ответ на просьбу Сильвии прислала развернутый список книжных магазинов в Америке, которые не откажутся продавать у себя запрещенный роман Джойса. Все пункты она снабдила остроумными резюме, и, читая их, Сильвия от души веселилась и даже поймала себя на чувстве, будто это сама Андерсон нашептывает ей на ухо сплетни издательского мира Америки, сидя рядышком с ней в «Шекспире и компании». Особенно забавным оказался отзыв Маргарет об одном чикагском книжном:
Владелец — типичный представитель Среднего Запада в своем пристрастии к пережаренным стейкам. Впрочем, на это можно закрыть глаза в свете того факта, что литература в его ассортименте вполне утолит любую кровожадность.
В конце длинного послания Андерсон добавила:
До меня дошли слухи, что Куинн скоро приедет в Париж. Хочу надеяться, ради вашего же собственного блага, что вы с ним не встретитесь, поскольку его представление о вас немногим лучше его мнения обо мне или Джейн. Он ужасный сноб и ненавидит Вашингтон-сквер — мой милый дом! — со страстью, которую приберегает для всего, что не полностью облагорожено и причесано под одну гребенку. Как-то я слышала, что он обозвал мою собственную улицу писсуаром. Писсуаром, подумать только! Надеюсь, он имел в виду туалет, женщины-то не пользуются писсуарами, но не пускаться же в споры с подобным субъектом! Повезло еще, что у меня здоровое чувство юмора. Но боюсь, я все равно выгляжу неблагодарной тварью, ведь он взялся нас защищать pro bono. Оставалось только желать, чтобы он прислушался к нашему мнению, как строить защиту романа Джойса. Впрочем, ладно, я рада, что передала вам эстафету этих трудностей. Надеюсь, вы не против. Все не так плохо, как я тут расписала, и что-то подсказывает мне, что вы тоже наделены недюжинным чувством юмора. Которое вам очень даже понадобится, ха-ха.
Сильвия тут же настрочила Маргарет письмо с благодарностями в ответ и заверила: «Я с великой радостью донесу эстафетную палочку до финиша и безмерно признательна вам и Джейн, что вы с таким блеском преодолели первые этапы».
Остаток июня мелькал перед Сильвией калейдоскопом дел: она следила, чтобы Джойс регулярно посещал доктора Борша, переправляла написанные им страницы машинисткам (последней из которых была взволнованная такой честью и глубоко беременная Жюли) и Дарантьеру, а заодно готовила новое помещение для «Шекспира и компании» на улице Одеон — следовало сколотить полки, все везде оттереть и отскоблить, обновить краску на стенах, перевезти книги и решать возникающие по ходу дела вопросы. За те несколько недель, когда Сильвии приходилось платить аренду обоих помещений, она курила вдвое больше — так пугал ее риск банкротства.
Все это время Адриенна не позволяла Сильвии покупать продукты и тратиться, когда они куда-нибудь ходили. Тем не менее у той оставалось всего несколько сотен франков, и она не представляла, чем через неделю-другую расплачиваться с Мюсрин.
— Мне ужасно стыдно, что я вкладываю в наш быт так мало, — сказала Сильвия за очередным нехитрым обедом из омлетов и салата.
— Всем иногда требуется помощь, — отозвалась Адриенна, — и она стоит того, чтобы ты переехала на Одеон. Вместе мы с тобой сможем помогать еще большему числу писателей, а это принесет твоей лавке успех и финансовую устойчивость. Так что вскоре у тебя получится открыть и ту чайную.
— Очень надеюсь.
— Тогда почему ты так не уверена?
Сильвия откинулась на спинку стула, взглянула на свою недоеденную порцию и спросила:
— Тебе приходилось когда-нибудь сомневаться в правильности того, что делаешь?
— Ты о «Ля мезон»? Нет, ни разу. Лавка дала мне больше счастья, чем что бы то ни было в жизни. Благодаря ей у меня есть друзья, есть литература и есть ты. Я думала, что ты так же воспринимаешь своего «Шекспира». — В голосе Адриенны проскочили обиженные нотки.
— Ну конечно, — поспешила заверить ее Сильвия. — Просто я тревожусь из-за денег, вот и всё.
— Деньги появятся, — ответила та категорично. — А до того перестань переживать, что тебе приходится положиться на меня. Я люблю тебя, chérie. И только счастлива помочь.
Никто на свете, кроме матери, не проявлял к Сильвии подобных чувств, и ее сердце пронзила боль. Матери ей не хватало. И вообще, правильно ли было зависеть от Адриенны в такой степени?
Джон Куинн появился на улице Дюпюитрена, 8, без предупреждения, и Сильвия порадовалась, что в тот день ей пришли помогать с переездом Эрнест и Боб. Они перетаскивали коробки с книгами на улицу Одеон, 12, где чудесно пахло свежеструганными досками, свежей краской, а также розами и лилиями — букеты принесли друзья Сильвии, взволнованные переездом не меньше, чем она сама, в числе которых были Мишель и Жюли, Раймонд Линуасье и Джордж Антейл.
Высокий статный Куинн с аккуратнейшей, волосок к волоску, прической и гладковыбритым лицом вручил Сильвии пачку бумаг со словами:
— Хотелось бы получить их назад до конца недели.
Испытывая огромное облегчение, Сильвия быстро пробежала глазами испещренные строчками листы, пока не нашла то, что искала, — слава богу, потерянная «Цирцея» на месте!
— Конец недели так конец недели, не проблема, — ответила адвокату Сильвия, а он заложил пальцы за ремень и, оглядевшись по сторонам, нахмурился.
— Надеюсь, ваша новая лавка будет попросторнее этой. Вы что, правда продавали здесь книги?
— Так и есть, новое помещение немного больше, — ответила Сильвия, стараясь оставаться дружелюбной, хотя вся злость, накопившаяся в ней от его хамских писем, просилась выплеснуться наружу.
— Хорошо. Нельзя, чтобы Джойса издавало такое крохотное заведеньице.
— Так значит, его книга омерзительная, но все равно великая? — ввернул, не глядя на Куинна, Боб, который в это время составлял коробки друг на друга. Эрнест находился в другом конце лавки, где старался упаковать как можно больше вещей еще в один ящик, но все слышал и лишь усмехнулся бестактной реплике Боба.
— Благодарю, что хотя бы не припомнили мне суд, — сказал Куинн. — Такое горькое разочарование.
— Для всех нас, заметьте, — тут же подхватил Боб и, подняв несколько коробок, понес их к выходу. А Сильвия подавила смешок.
— Учитывая его труды, я пропущу его язвительность мимо ушей, — сказал Куинн.
— О, он всегда язвит, и премило, — сообщила Сильвия.
— Он ходит в любимчиках у наших редактрис, не так ли?
— Вы о мисс Андерсон и мисс Хип? Уверена, что да.
— Здесь они обе чувствовали бы себя как дома, — заметил Куинн. — Удивлен, что они еще не явились проведать вас.
— Надеюсь, когда-нибудь да и проведают, но они, как я понимаю, не слишком много зарабатывают на своем журнале.
— По причине их же собственных абсурдных решений.
Например, взять вас своим поверенным?
— Если серьезно, мисс Бич, — продолжал адвокат, — я очень надеюсь, что вы не совершите тех же ошибок, какие наделали они. Вам следует держать Джойса в узде. Он, насколько я понимаю, весьма досаждает вам своими нескончаемыми правками?
— Что вы, ничего подобного. — Как приятно ей было солгать этому лощеному господину.
— А Эзра говорит другое.
— Милый Эзра, ему нравится приглядывать за мной. В каком-то смысле он мне как брат, что очень приятно, потому что у меня своих братьев нет, только сестры.
— Как мне представляется, Джойсу требуется твердая рука, чтобы не давать ему сбиваться с правильного курса. Я шепну ему пару слов.
— Вы вольны говорить ему все, что вам угодно, но только не от моего имени. Мы вполне хорошо с ним ладим, и я одобряю то, как он работает над «Улиссом». Как его издатель.
Куинн скрестил на груди руки и с высоты немалого роста посмотрел вниз на Сильвию.
— Вы говорите в точности, как Маргарет Андерсон.
Сильвия гордо выпрямилась, стараясь, чтобы ее скромная фигурка выглядела как можно внушительнее, и парировала:
— Приму ваши слова как наивысшую похвалу.
— Уверен, вы вскоре убедитесь, что Сильвия знает, что делает. — Раздался голос Эрнеста; он как раз взваливал на плечо тяжеленную коробку и немало напугал Сильвию, позабывшую, что он тоже в лавке.
— Не желаете ли прогуляться вместе с нами до нового помещения? — как ни в чем не бывало прощебетала Куинну Сильвия, ободренная так кстати подоспевшей поддержкой друга. — Полагаю, при виде него вы измените мнение к лучшему.
И он поплелся вслед за ней и Эрнестом на жгучий летний солнцепек, разглядывая соседние магазинчики. «Здесь тебе не тот Париж, к какому ты привык, — думала Сильвия, здесь не найдешь ни художественных галерей, ни изысканных ресторанов». Латинский квартал в этом смысле был ближе к Вашингтон-сквер, и Сильвия вспомнила послание Маргарет, где та писала, как Куинн называл ту часть Нью-Йорка. Писсуар.
— Гораздо лучше, — оценил Куинн более просторное помещение с новыми полками и чисто отмытыми полами, мятым носовым платком вытирая капельки пота с высокого лба.
Сильвия покачала головой и решила, что должна быть довольна хотя бы тем, что он привез недостающие страницы «Улисса». Она с трудом скрыла смех, когда Эрнест сунул Куинну коробку со словами:
— Хорошо, что у нас появилась еще одна пара крепких рук. Негоже позволять женщинам таскать тяжести, правда же, сэр?
В кассе «Шекспира и компании» осталось едва ли двадцать франков, после того как Сильвия внесла последний платеж за аренду помещения на улице Дюпюитрена и второй взнос за новый магазинчик на улице Одеон.
И как ни сгорала она от стыда, но все же набралась духу сообщить Мюсрин, что не сможет заплатить ей за эту неделю.
— Обещаю, что за следующую заплачу двойную сумму, — выдавила она.
— Я все понимаю, — ответила девушка. — Я же видела бухгалтерскую книгу.
— Спасибо, — промямлила Сильвия виновато, хотя и знала, что ничего плохого не сделала. Ну почти.
Последние недели она отказывалась от всех приглашений на вечеринки и в рестораны, зная, сколько денег пришлось бы потратить на кутежах в «Лё дом» и «Монокле». Все равно у нее едва ли нашлось бы на это время: многие часы она посвящала обустройству новой лавки. Отговорка «Я бы с удовольствием, но, к сожалению, очень занята» стала ее вечным рефреном. Доползая вечером до постели, Сильвия чувствовала, как ноют ее натруженные ноги и спина от бессчетных наклонов, подъемов и перетаскивания тяжестей.
Когда по почте пришел чек от Брайхер, жены Боба, которая путешествовала по Италии в компании Х. Д.[98], Сильвия едва не расплакалась от неловкости и благодарности. Брайхер для вида написала, что вносит плату за три экземпляра «Улисса», но сумма была непомерно огромной, а в сопроводительном письме говорилось:
Сильвия, дорогая, я куда-то подевала записку с указанием цены за экземпляр, так что, если я вам недоплатила, пожалуйста, дайте мне знать. Если же, напротив, я отправила слишком много, то не желаю слышать об этом ни слова.
Когда Боб через несколько дней заглянул в лавку, Сильвия отвела его в сторонку и прошептала:
— Спасибо.
Он ответил, не сдерживая широкую улыбку:
— Мы, издатели, должны держаться друг друга, м? Думаю, вы затеяли потрясающую штуку. И я верю в карму.
Сильвия потянулась к нему и крепко обняла, глотая грозившие вырваться наружу всхлипы. А он так же крепко прижал ее к себе.
— Дозволено ли мне порекомендовать вам брак по расчету вроде моего? Супруга с солидным трастовым фондом — сама по себе капитал, если можно так выразиться.
Сильвия только засмеялась и смахнула несколько набежавших слезинок.
— Вам, Боб, все дозволено. Вы вольны говорить все, что только захотите. — Хотя мне довелось случайно узнать, что ваш брак создает больше сложностей, чем выгод. Сильвия уже запуталась в соперничестве Боба, Брайхер и Х. Д.: они так часто менялись постелями, что это становилось уже ни на что не похоже.
— Я всегда так делаю, разве нет?
Еще больше рассмеявшись и снова обнимая его, Сильвия сказала:
— И слава богу. Уверена, ваш «Контакт эдишнс» ожидает огромный успех.
Дела у издательства, которое Боб открыл на деньги Брайхер, и правда шли очень хорошо; Уильям Карлос Уильямс уже пообещал ему свой следующий стихотворный сборник, а Хемингуэй подумывал отдать свой сборник рассказов.
Хотя большинство подписчиков на «Улисса» платили только аванс, а не всю стоимость, сердце Сильвии радовалось, когда от их местных французских и американских друзей поступали всё новые заказы, а также — неожиданно — от писателей и других видных персон из-за рубежа, в том числе от Т. С. Элиота, Т. Е. Лоуренса[99], У. Б. Йейтса, Уинстона Черчилля и Уоллеса Стивенса. Даже американские издатели Бен Хюбш и Альфред Кнопф, отказавшиеся выпускать «Улисса», захотели приобрести по экземпляру в свои частные библиотеки.
А потом пришел долгожданный ответ от Бернарда Шоу, который написал Сильвии длинное письмо с подробными объяснениями, почему не будет покупать «Улисса»: он уже прочитал часть романа в журналах и пришел к выводу, что перед ним «отталкивающая картина отвратительной фазы цивилизации», несмотря на то что он «сам исходил те улицы и знаю те лавки… я еще в двадцатилетнем возрасте бежал от всего этого в Англию». В его с Джойсом родной Ирландии, заявлял он, «стараются отмыть кота, тыкая носом в его собственное дерьмо», в чем, собственно, и состоял замысел Джойса в его романе. Но Сильвии больше всего нравилась концовка письма: «Я уже пожилой ирландский джентльмен, и, если вы воображаете, что какой-нибудь ирландец, а тем более пожилой, выложит за подобную книжку сто пятьдесят франков, значит, вы плохо знаете моих соотечественников».
Джойс читал и перечитывал письмо посреди кучи коробок с книгами и всяческими безделушками, которые Сильвия с Мюсрин целый день распаковывали и расставляли в новой лавке по улице Одеон.
— Похоже, вы должны мне обед, — сказал Джойс.
— Ничего не знаю, — тут же ответила Сильвия. — Может, его письмо и полно критики, но он явно считает вас писателем, заслуживающим внимания, если он потратил столько времени на объяснения, почему не купит вашу книгу. И потом, само письмо уморительно.
Она все утро хихикала над оборотами речи Шоу. Сейчас она встала в театральную позу и, приложив руку ко лбу, произнесла грубым голосом, старательно имитируя сильный ирландский акцент:
— Я ирландский джентльмен. Кхе-кхе. Джентльмен, говорю.
Кот Лаки выпрыгнул из коробки и стал тереться о ноги Сильвии, а она, смеясь, взяла его на руки и ткнулась своим носом в его, приговаривая:
— Ну-с, Лаки, а ты что скажешь мистеру Бернарду Шоу, ирландскому джентльмену?
Джойс улыбнулся.
— Вы очень похоже его изображаете.
— Однако мы никогда не встречались.
Поглаживая мягкую шерстку Лаки между ушами, она продолжала:
— Обед, как я догадываюсь, в «Максиме», верно? Разве что придется подождать, пока я залатаю дыру в кошельке.
— Я само терпение.
— У нас есть и другие победы, которые тоже можно отпраздновать, — сказала Сильвия, впервые за последние недели чувствуя легкость на сердце. Помогало и то, что Джойс собственной персоной стоял у нее в лавке, напоминая ей, что он реален, и его книга реальна, и она великолепна, и Сильвия ее издаст.
— Ларбо написал, что он с головой в работе над французским переводом и рассчитывает осенью устроить чтения у Адриенны в лавке, и… — для пущего эффекта Сильвия сделала паузу, — месье Дарантьер напал на след превосходной типографской краски для обложки! Один его германский партнер написал, что нашел оттенок точь-в-точь как на греческом флаге, а Дарантьер все равно собирался туда по рабочим делам, так что он на месте оценит, то ли это, что нам надо.
— Каэтан Тиенский улыбается нам с небес.
— Боюсь, я подзабыла, кто есть кто из святых. Меня растили пресвитерианкой.
— Он покровитель доброй удачи. И Аргентины.
Она засмеялась.
— Хотите сказать, в Аргентине полно везучих счастливчиков?
— Почему бы и нет? Надо бы нам с миссис Джойс съездить и лично проверить. Я читал, что там очень красиво.
Как это ни претило Сильвии, но пришлось продолжить:
— Так вот, возвращаясь к Дарантьеру, думаю, мой долг предупредить вас, что все исправления, которые вы вносите, существенно увеличат затраты на печать. Я-то сама не против, но вам, думаю, надо иметь в виду, что вы не сможете рассчитывать на прибыль, если все деньги за подписку уйдут на правку печатных форм.
Он вздохнул — в последнее время Сильвия замечала, что он большой любитель повздыхать, — и ответил, пожав плечами:
— Мне важнее, чтобы в книге было все правильно, чем чтобы мы обогатились.
Сильвия и сама так считала.
Но в этом случае чего же он поспорил на обед в «Максиме»?
Глава 13
В июле, на неделе между Днем независимости и Днем взятия Бастилии, прежде чем летний зной успел выгнать всех парижских друзей на поиски прохлады, кого в горы, а кого на побережье, состоялось официальное открытие «Шекспира и компании» в новом помещении через дорогу от «Ля мезон».
Валери Ларбо по такому случаю приехал из Виши, и под вечер, когда тени начали удлиняться, а со стороны театра «Одеон» дул легкий бриз, все ближайшие друзья Сильвии и Адриенны собрались в лавке поднять бокалы шампанского и пожелать ее хозяйке всего наилучшего. При виде заполонившей улицу оживленной толпы писателей, французских и американских, читателей, музыкантов, художников, эмигрантов и любопытствующих жителей квартала Адриенна весело прощебетала:
— Не удивлюсь, если подумают, что здесь открывается выставка сокровищ Лувра.
Они чокнулись бокалами с Сильвией.
— Ты превзошла себя, — сказала Андриенна, любуясь роскошным столом, который ломился от изобилия летних фруктов, искусно вырезанных в форме забавных зверушек или уложенных в виде диковинных цветков; здесь были и разнообразные сыры, хлеба, saucissons[100] и салаты, а посреди всего этого великолепия гордо возвышался pièce de résistance[101] — испеченный Адриенной огромных размеров двухъярусный торт в форме двух книг: «Автобиографии» Бенджамина Франклина и «Листьев травы» Уолта Уитмена. За последние пару дней Сильвия не раз слышала, как Адриенна ругается на помадку для торта, а готовые «книги» пришлось держать в леднике у Мишеля, чтобы не подтаяли, но выглядели они сногсшибательно.
— Спасибо тебе, — прошептала Сильвия на ухо подруге, стараясь, чтобы слова прозвучали как можно более значительно.
Киприан была в своей стихии, удостаивая взглядами из-под длинных ресниц и вниманием только самых именитых гостей. Эрнест с Хэдли держались за руки, смеялись и болтали со всеми подряд. Эрнест, то и дело подливая в бокалы золотистое вино из охлажденных бутылок, сообщал всем и каждому:
— На той неделе я закончил еще один рассказ!
Жюли переваливалась как утка, держась за поясницу в попытке немного уравновесить сильно выпирающий живот, Мишель же бродил как в воду опущенный, его усталые глаза и понурые плечи говорили о глубокой тоске. Сильвия не хотела приставать к нему с вопросами, а понадеялась на днях увидеть их обоих или кого-то одного в лавке и тогда-то выяснить, что у них стряслось и чем она может помочь.
Боб довольно быстро набрался, тогда как Брайхер, специально приехавшая в город на открытие «Шекспира и компании», едва потягивала свое шампанское. И оба они не отрывали ревнивых глаз от жизнерадостной черноволосой Х. Д. — та как ни в чем не бывало напропалую флиртовала с другими гостями, не обращая ни малейшего внимания на мрачные взгляды своих уязвленных любовников, как и на взгляд Эзры Паунда, который по молодости тоже не устоял перед чарами поэтессы. Наблюдая эту игру страстей, Сильвия вновь возблагодарила судьбу, что их любовь с Адриенной прочна и неизменна. Они больше не засиживались до часу ночи, но по-прежнему могли без конца болтать и смеяться, и каждая в точности знала, как лучше всего ублажить подругу в постели; Сильвия особенно дорожила моментами, когда дыхание Адриенны сбивалось, становясь все более отрывистым, а ее пальцы вплетались в волосы Сильвии, пока по телу прокатывались волны наслаждения.
Миссис Джойс вручила Сильвии чудесный горшочек с геранью кораллового цвета.
— Вам на крылечко, — пояснила она и прибавила. — И огромное вам спасибо за доктора Борша. Воистину он наш спаситель. От его лечения мистеру Джойсу намного, намного полегчало.
— Счастлива помочь. И тоже радуюсь, что ему легче.
— Вот бы мне еще удалось вернуть его к преподаванию.
— Надеюсь, как только «Улисс» выйдет в свет, всякая нужда преподавать отпадет сама собой, — ответила Сильвия.
Миссис Джойс покачала головой.
— Преподавание — респектабельное занятие.
Сильвия только посмеялась про себя, углядев ее сходство с Джоном Куинном в их незыблемой приверженности условностям — а между тем поразительно, как прочно вплелись судьбы обоих в жизнь писателя, более других попирающего эти самые условности.
Подошедший Джойс, обняв жену за талию, предложил ей стакан воды со льдом, и то, как она прижалась к нему в ответ, убедило Сильвию, что, вопреки любым словам Норы, ее любовь к мужу крепка и непоколебима.
— Мои поздравления, мисс Бич, — сказал он, оглядывая веселое сборище, — по случаю обретения вашего собственного Стратфорда-на-Одеоне.
Сильвия захлопала в ладоши.
— Что за чудесное название!
И даже миссис Джойс с одобрительным кивком добавила:
— Есть в нем что-то от «Глобуса».
Если уж это не было крещением, то Сильвия затруднилась бы сказать, что считать таковым.
Адриенна предложила свое, не менее очаровательное название для их кусочка Парижа: Одеония. Сильвии одинаково нравились оба: и то, что придумала ее возлюбленная, и то, как окрестил магазин ее писатель, приятно было и слышать, и произносить.
Стратфорд-на-Одеоне.
Одеония.
Достоинством названия Адриенны было то, что оно звучало одинаково на французском и на английском языках и несло вневременные мифические смыслы; зато вариант Джойса объединял в одну упряжку оба их магазина и явно указывал на нечто, столь же знаменательное для истории литературы, как и сам Шекспир, чье имя носил один из них.
Правда, Сильвия заметила, что, если сама она использовала оба названия как взаимозаменяемые и упивалась ими, Адриенна никогда не произносила того, что придумал Джойс. А тот, в свою очередь, никогда не употреблял предложенного Адриенной.
Вскоре после торжественного открытия лавки Париж ожидаемо опустел, а ответы на предложение подписаться на «Улисса» стали постепенно иссякать — временно, надеялась Сильвия, — пока будущие читатели наслаждались летними каникулами. Во всяком случае, сама она решила посвятить летний отпуск поездке к родителям Адриенны в Рокфуэн, где они собирались оставаться до сентября, а лавку закрыть до своего возвращения, чтобы сэкономить на расходах; Мюсрин будет время от времени проверять, как дела, разбирать почту и выполнять обычные заявки, а Сильвии пересылать только то важное, что потребует ее внимания. У нее оставались кое-какие деньги от щедрого дара Брайхер, да и продажи на открытии лавки принесли достаточно средств, чтобы хватило продержаться на плаву несколько недель.
Свою загородную жизнь Сильвия старалась как можно больше насыщать физической активностью: совершала длительные прогулки по лесам и холмам, колола дрова и таскала воду, осматривала близлежащие городки и с особенным интересом — развалины времен Рима и Средневековья, а вечерами читала, читала, читала, по многу часов. Она заметила, что если она за день недостаточно устала, то обязательно просыпалась посреди темной ночи вся в испарине, с бешено колотящимся сердцем, и лежала без сна на сырых от пота простынях, одолеваемая сонмом мыслей и тревог. В порядке ли Джойс? Как там его глаза? Точно ли доктор Борш или миссис Джойс сообщат мне, если ему вдруг станет хуже? Успеет ли он дописать роман, чтобы выпустить тот в феврале? Что мне делать, если я вдруг останусь совсем без денег? А может, уже осталась — вдруг в моих расчетах ошибки? Что, если Гертруда никогда больше не вернется в лавку? Подойдет ли эта синяя краска из Германии? А что, если нет? И прочее в том же духе. Она часами ворочалась без сна, размышляя и выдумывая себе всё новые поводы для тревог, а на следующий день чувствовала себя разбитой, словно совершила марш-бросок, и незаметно засыпала еще до обеда, сидя в тени с книгой на коленях, а затем весь сценарий повторялся.
— Сильвия, нельзя же так тревожиться, — не выдержала однажды утром Адриенна, пока они лежали в постели, слушая утренние трели птиц.
— Да, но я поставила все на книгу Джойса. А вдруг она провалится?
— Ну и что с того? У тебя все равно останется «Шекспир и компания», а «Одеония», позволь заметить, — нечто намного большее, чем «Улисс».
— Просто я не хочу провала.
— Он тебе не грозит, я знаю. И книге тоже. Но если все-таки так случится, провал будет не твой, а его.
Самой Сильвии уверенности в этом не хватало.
Когда Сильвия в сентябре вернулась в Париж, ей показалось, что она впервые за многие недели дышит полной грудью, зная, что скоро соберутся ее друзья и уж они-то помогут не допустить провала «Улисса». Утром в понедельник она распахнула скрипучие ставни своей новой лавки, и ее мысленному взору тут же представился совсем новый вариант выкладки книг и журналов в витрине. Сильвия почувствовала, как расправляются ее плечи.
Она как раз по-новому расставляла книги в витрине, стараясь не стряхнуть на них пепел со своей сигареты, когда в лавку прибыл Джойс, поигрывая своей ясеневой тростью и выглядя свежее, чем когда-либо. Они тепло поздоровались и обнялись, и он принялся расспрашивать ее об отпуске, а она старалась отвечать как можно подробнее, пока желание задать вертевшийся у нее на языке вопрос не пересилило ее учтивость.
— А теперь вы должны рассказать мне, как продвигаются дела с «Улиссом».
— Что сказать, почти весь август я провалялся в постели — мозоли от ручки, и те почти сошли с пальцев. Но вы не беспокойтесь, моя дорогая мисс Бич, все это время я только и думал, что об «Улиссе», прокручивал в голове эпизод за эпизодом и раздумывал, как его закончить. А с неделю назад случилось чудо, и я вдруг увидел его всего целиком, я прозрел, точно глотнул чудодейственной лурдской воды. Я взял чистый лист бумаги, заправил ручку чернилами и начал писать. Даже не знаю, бывало ли, чтобы я писал так много или так быстро.
— Вы что, работали на солнце? У вас такой сильный загар, и кожа выглядит прекрасно.
— Ну конечно. В садике у Ларбо есть одна прелестная скамейка, и я выяснил, что она как нельзя лучше дает мне рабочий настрой, пока меня не сгоняет эта чертова собачища. По счастью, ее выгуливают точно по расписанию, и я приспособился к трем часам ретироваться в «Лё дом», чтобы закончить, а часам к шести ко мне обычно присоединялись мистер Хемингуэй и мистер Макалмон.
— Прямо не неделя, а загляденье.
— А сегодня я ради вас отказался от «Лё дом», потому что расслышал в воздухе звон колокольчиков, возвестивших о вашем возвращении.
— Ах, так значит, ваш визит никак не связан с письмом, которое я отправила вам на прошлой неделе?
— Ни в малейшей степени.
Они улыбнулись друг другу, и Сильвия почувствовала, как ее заполняют легкость и счастье.
— Я скучала по вам. Давайте посмотрим, не порадуют ли нас своим появлением Молли или Леопольд?
— Давайте, — согласился он, и они вышли на улицу.
Напротив Адриенна намывала крыльцо своей лавки и радостно помахала им.
— Только что видела, как мимо прошел Бык Маллиган!
— Старина Бык! Давненько он нам не попадался, бедный дружище, — подхватил Джойс.
— Рада видеть вас в добром здравии! — крикнула через улицу Адриенна.
— Никогда еще я не чувствовал себя лучше.
Склонив набок голову, Адриенна послала Сильвии взгляд, говоривший: «Вот видишь? Всё в порядке», а Сильвия поцеловала указательный и средний пальцы и послала Адриенне baiser[102] с одного края Одеонии на другой.
Осенью жизнь закапризничала, как погода, причем не только у Сильвии. Огромная загруженность заставила Ларбо приостановить перевод «Улисса», но он клятвенно обещался закончить посвященное роману эссе для знаменитого «Нувель ревю франсез», влиятельнейшего в те поры литературного журнала; часть своего сочинения он собирался прочитать в «Ля мезон» в виде лекции, назначенной той же осенью, — и, как ни иронично, этот крайний срок теперь не давал Ларбо продолжать перевод самого «Улисса».
— Простите меня, пожалуйста. Слишком я ценю произведение Джойса, чтобы не уделять ему своего всецелого внимания. Да, на такой случай у меня есть идея. Как считаете, не предложить ли перевод Жаку Бенуа-Мешену?
— Он, конечно, не вы, но действительно прекрасно знает свое дело, — ответила Сильвия, испытывая облегчение, что Ларбо сам предложил решение проблемы и ей не пришлось искать его самой.
Бенуа-Мешен относился к числу завсегдатаев лавки Адриенны и почетных potassons, так что Сильвия давно водила с ним знакомство. Он был довольно молод, но очень способен к языкам: свободно читал и говорил на французском, английском и немецком, словно все три языка ему были родными. В некоторых отношениях он лучше подходил в переводчики «Улисса», чем Ларбо, хотя Сильвия ни за что не призналась бы в том своему другу.
— Для меня честь, что вы рассматриваете мою кандидатуру, — сказал ей Бенуа-Мешен, комкая берет в нервных руках. — Произведение Джойса революционно.
А Сильвия с сердечным американским рукопожатием ответила:
— Не передать, как я счастлива, что вы хотите взяться за это дело. Не буду лгать, оно непростое.
— Тем лучше.
Боже, какое счастье. Вот человек, желающий с честью выдержать испытание!
Почти вся тысяча экземпляров первого тиража Дарантьера была распродана частным читателям и мятежным американским книготорговцам, и в последнее время Сильвия переключила все внимание на рецензии и — она сама с трудом верила! — провоз контрабанды.
— Еще чуть-чуть, и я стану бутлегером, — сказала Сильвия Адриенне, Ларбо, Ринетт и Фаргу в октябре на одном званом обеде. — Хотя мне больше подошло бы называться буклегером!
Она громко рассмеялась, но ее французские друзья не последовали ее примеру, и она сообразила, что им просто не понятна игра слов.
— Бутлегер, — принялась объяснять Сильвия, — в Соединенных Штатах продает запрещенное спиртное, а буклегер — запрещенные книги.
— Ах во-о-от оно что, — выдохнули они и одобрительно рассмеялись.
— Пересылка почтой отпадает, — задумчиво произнесла Сильвия, — правда, отдельным покупателям я смогу послать их экземпляры частной почтовой компанией, как только книги пересекут границу. Вопрос, как отправлять партии в «Книжный на Вашингтон-сквер» и остальным книготорговцам? Это совсем другое дело.
— Ну хорошо, допустим, они получат книги, но как они будут их продавать? Их не очень-то выставишь на полках, — спросил Фарг.
— Подозреваю, у них есть какой-нибудь негласный способ известить избранных клиентов, что в подсобке тех дожидаются заказанные экземпляры. А вообще, они говорят, что это не моя проблема.
Фарг энергично потер руки и с лукавой улыбкой воскликнул:
— История сама по себе примечательная: Banned Book and the Bathtub Gin[103]. — Название, к вящему веселью компании, он произнес по-английски с сильнейшим французским прононсом.
Даже с помощью Мюсрин Сильвия зашивалась с делами в новой лавке, и у нее не оставалось времени всерьез обдумать проблему контрабанды. А дела эти не ограничивались лишь книжной торговлей и библиотекой — «Шекспир и компания» окончательно превратилась в центр всех туристических и эмигрантских сведений о Париже для сотен американцев, приезжавших сюда на любой срок, от недели до целого года и больше. Каждый день друзья Сильвии приводили к ней лавку новых друзей, заходили также незнакомцы с рекомендательными письмами или просто с адресом «Шекспира и компании», нацарапанным на салфетке или клочке бумаги. Цели их были самыми разными: от просьб воспользоваться адресом лавки для почты и справиться, где можно недорого снять жилье, до вопросов, что идет на балетных и оперных сценах Парижа и какие музеи посетить.
И еще некоторые приходили шпионить. Сильвия уже знала их вороватую манеру: делая вид, что просматривают книгу или журнал, американские соглядатаи слишком надолго отрывали глаза от страницы, рассматривая лица посетителей лавки в надежде углядеть Джеймса Джойса, — они уже знали, что он часто появляется здесь, знали наверняка из многочисленных заметок во французской и американской прессе, где рассказывалось, как продвигается работа ирландского писателя над запрещенным романом.
К личной радости Сильвии, Джойс частенько появлялся в поле ее зрения, восседая в зеленом кресле или в уголке библиотечной секции. Сильвия никого и никогда не подводила к нему знакомиться и строго-настрого наказала Мюсрин не здороваться с ним по имени, когда в лавке толпились посетители. Сам Джойс знал о хитрости Сильвии и, появляясь на пороге, едва кивал в ее сторону и лишь ухмылялся в усы, слыша, как очередная парочка обсуждает: «Интересно, не здесь ли сейчас Джеймс Джойс?» Сильвии очень хотелось, чтобы они поменьше глазели по сторонам и побольше покупали, но продажи и так шли достаточно бойко, чтобы избавить ее от волнений еще и по этому поводу. «Но до тех только пор, пока у него остается возможность завершить роман к январю», — сказала себе Сильвия.
Жюли, несмотря на то что у нее теперь была малышка, чудесным образом сохраняла темп работы над перепечаткой черновиков Джойса, которые он, все вычитав и проверив, передавал ей. И все же Сильвия по-прежнему тревожилась за нее с Мишелем. Его угрюмость, замеченная ею еще в июле, так и не исчезла. Вот и Адриенна говорила, что, хотя Мишель, как прежде, улыбается и балагурит у себя в мясной лавке, дается это ему через силу, словно его что-то гнетет. Сильвия пробовала подступать к Жюли с расспросами, все ли у них в порядке, и даже предлагала сделать перерыв в работе, на что та отвечала только одно:
— Мне нужно это занятие, Сильвия. Мишель так много работает, а спит так плохо. Впрочем, думаю, мы оба спим плохо, когда малышка Амели начинает плакать среди ночи, но его к тому же мучают плохие сны, и он часто просыпается.
— Плохие сны? — Сильвия очень надеялась, что вопрос не покажется бесцеремонным.
— О войне, — ответила Жюли.
— Мне так жаль. Он еще читает Оуэна и Сассуна? Их поэзия помогает почувствовать себя не таким одиноким.
— Все время читает, — ответила Жюли, которая выглядела теперь печально и потерянно.
— Вы ведь скажете мне, если я чем-то могу помочь вам, ладно? — Такие казенные слова, но увы, других у нее не было.
— Можете, загружайте меня работой, — с удивившей Сильвию горячностью сказала Жюли.
— Хорошо, раз такое дело, — пообещала Сильвия. Она отошла к полкам, достала «Маленьких женщин» Луизы Мэй Олкотт и протянула Жюли. — Это в подарок. Вам, Жюли. Олкотт — первая из появившихся в Америке выдающихся писательниц, а ее роман — чудесная история о жизни и взрослении четырех сестер.
— Спасибо, — поблагодарила та чуть охрипшим голосом, и крошка Амели сейчас же расплакалась в своей плетеной колясочке. Вздрогнув от неожиданности, Жюли наклонилась над дочкой и заворковала, нежно поглаживая ее маленькую круглую щечку. — Спасибо, — снова прошептала Жюли и торопливо покатила коляску к выходу, оставив Сильвию наедине с сожалением: ах, если бы она только могла помочь молодой семье чем-нибудь еще.
Глава 14
— Это действительно было что-то. — Так восьмого декабря в «Шекспире и компании» Эрнест описывал предшествующий вечер. Писатель выглядел слегка помятым, но похмелье не слишком портило его красивое смуглое лицо. Сильвия тоже чувствовала себя уставшей, хотя накануне не так засиделась, как он.
Вчера они всей компанией закатились в «Лё дом» после двух волнительных часов в «Ля мезон», где двести пятьдесят друзей и поклонников собрались послушать сначала Джимми Лайта, одного из американских экспатриантов, читавшего отрывки из «Улисса», а потом — Валери Ларбо, объяснившего, в чем заключается гениальность романа и каков его вклад во французскую и американскую литературу.
Событие прошло на ура, что вскружило головы всем друзьям, старым и новым, кто присутствовал при французском дебюте романа Джойса. Сильвия с Адриенной покинули компанию около полуночи, оставив самого Джойса, Эрнеста и еще с дюжину человек кутить до рассвета.
— Подумать только, а ведь кто-то сомневался насчет того вечера, говорил, это безумие. — Сильвия любила подтрунивать над Эрнестом. Для нее он стал теперь вроде брата или кузена. И она никогда не обижалась на его поддразнивания.
— Разве можно меня винить? Ничего себе, устроить дебют роману, который написан на английском, причем даже не самому роману, а малюсенькому его кусочку в переводе на французский, да еще в лавке франкоязычных книг, притом что английская лавка, как и сам издатель романа, не где-нибудь, а всего-то через улицу. А безумец при этом я?!
— Но получилось же, разве нет?
— Получилось. Вашими с Адриенной трудами.
— В общем, мы хотели отдать дань тому, что Джойс влился в местное литературное сообщество. Вы с ним здесь редкие птицы, сами знаете, вы оба говорите по-французски и у вас в друзьях Ларбо, и Жид, и Бенуа-Мешен. А сколько американцев и британцев говорят только на своем языке и держатся сами по себе.
— Им же хуже.
— Oui.
Он нахмурился.
— Прошлым вечером, должен признаться, я чертовски завидовал.
Сильвия только рассмеялась.
— Помилуйте, Эрнест, Джойс старше вас почти на двадцать лет.
— Да, и был старше лет на десять, когда опубликовал своих «Дублинцев», — тут же выпалил Эрнест, и Сильвия поняла: он не в первый раз задумался об этом и уже какое-то время оценивает свои достижения относительно успеха других писателей — что напомнило Сильвии строку Элиота о Пруфроке, который «жизнь притерпелся ложечкой цедить»[104]. Ну а почему бы и нет? В Эрнесте пылает дух соперничества; и возможно, сравнения подстегивают его работать еще усерднее.
— На днях Хэдли говорила мне, что теперь у вас получаются великолепные рассказы. По-настоящему свежие и волнующие. И это дорогого стоит.
— Надеюсь, что так. Но знаете, нелегко, когда рядом с тобой Стайн, и Джойс, и Паунд. Я жажду писать хорошо и сказать что-то новое, но на их фоне с трудом верится, что это вообще возможно.
— Думаю, лучше, чтобы вы делали что-то другое, свое и непохожее на то, что делают Джойс и другие. — Вот чего я никак не пойму — как быть Сильвией Бич перед лицом Шопен, Уитмена и Джойса.
— Что ж, раз вы так считаете… Вы одна из немногих, чье мнение мне действительно важно.
— Ваши слова для меня много значат.
Каждый из них занялся своими делами в лавке, но через несколько минут Сильвию вдруг осенило, что этот молодой боксер, журналист, бывший водитель скорой помощи, человек, не по годам хорошо узнавший мир, мог бы чем-нибудь помочь ей с проблемой, которая все больше занимала и тревожила ее.
— Эрнест, — тихо позвала Сильвия, хотя в лавке топтались посетители, — я все думаю, вдруг вы могли бы пособить мне с одним делом.
— Если это в моих силах, то обязательно.
— Видите ли, мне надо придумать, как нелегально переправить в Соединенные Штаты экземпляры книги Джойса. Сначала их нужно перевезти через границу, а потом в целости и сохранности доставить в руки людям, которые немало за них заплатили. На карту поставлена репутация «Шекспира и компании».
— Интересно, почему вы не скажете, что на кону ваша репутация, Сильвия?
— Ах, да что там я. Моя лавка — вот что имеет значение.
— От всего сердца с вами не согласен, — улыбнулся Эрнест. — И как раз поэтому сделаю все, что в моих силах, чтобы помочь вам. Думаю, я знаю кое-кого, кто мог бы пригодиться. Дайте мне время до конца праздников, хорошо?
— Спасибо вам большое.
— Счастливого Рождества, Сильвия.
— Счастливого Рождества, Эрнест.
Подходил к концу 1921 год. Пока Киприан со своими друзьями из театра и с киносъемок вовсю развлекалась на парижских вечеринках, Сильвия тихо проводила праздники с Адриенной и ее родителями в деревне, и каждый зимний вечер их согревали рычавший в камине огонь и ароматный глинтвейн. Они с Адриенной покоряли гору книг, которые привезли с собой, на кушетке под ворохом одеял, а иногда у них в ногах устраивался Мусс, добродушный пастуший пес, согревая их своим тяжелым шерстяным телом.
— Как бы мне хотелось завести собаку в «Шекспире и компании», — мечтательно произнесла Сильвия, лениво перебирая завитки на голове Мусса.
— А кто тебе мешает? Заведи, — ответила Адриенна.
— Ты забываешь, что наш корявый Иисус их до смерти боится.
— И лучшее, что помогло бы ему победить свой страх, так это подружиться с собакой.
— Может, и так… но только после того, как «Улисс» выйдет в свет.
— С’est vrai[105]. Не хотелось бы спугнуть его финальный взрыв вдохновения. Ради твоего же блага.
«Взрыв», пожалуй, был подходящим словом, поскольку теперь пометки Джойса на гранках Дарантьера и правда походили на разметанные взрывной волной клочки слов и символов. Даже кроткая Жюли, и та уже теряла терпение: «С таким же успехом он мог бы писать на древнегреческом!» — и в первые недели 1922 года Сильвии пришлось еще раз сменить машинистку, что довело число тех, кто брался перепечатать роман, до девяти.
Сам Джойс был так поглощен работой, что в январе почти не показывался в лавке, а когда Сильвия заходила к нему домой забрать написанное и передать гранки, каждый раз заставала его в одиночестве.
— А где миссис Джойс? Где Лючия? И Джорджо?
— Понятия не имею, — неизменно отвечал писатель.
— Вы что-нибудь ели?
— По-моему… кажется… вчера.
После чего Сильвия со вздохом отправлялась в ближайшие boulangerie[106] и fromagerie[107] и возвращалась с парой багетов и куском твердого сыра, что точно не испортился бы, забудь писатель положить его в ледник; как сказала Сильвии Жюли, Мишель из тех же соображений отправлял домой Джойсу только вяленое мясо. Однажды Сильвия специально стояла над ним, пока он обедал, чтобы убедиться, что он доест сэндвич, который она ему дала, и допьет воду из высокого стакана, который она перед ним поставила.
Глаза у Джойса были красными от воспаления и постоянно слезились, но, невзирая ни на что, он продолжал работать как одержимый. Насколько могла судить Сильвия, эти недели Джойс только писал и спал. Эрнест с Бобом ни разу не видели его в кафе и ресторанах с того самого дня, когда в «Ля мезон» состоялось первое чтение «Улисса».
— Чертовски впечатляет, — заметил Боб. — За него-то я рад, зато с моими пятьюдесятью франками, похоже, придется распрощаться.
— Пардон?
— Мы заключили пари, закончит ли он роман к своему сорокалетию, — объяснил Сильвии Эрнест.
— Ах вот оно что. — При всех своих тревогах о книге и ее авторе Сильвия сочла это в высшей степени забавным. — А вы на что ставили?
— Я изменил свою ставку после литературного чтения, что Боб милостиво позволил мне сделать, но только один-единственный раз. Я вообще не думал, что Джойс когда-нибудь закончит книгу, пока не увидел выражение его лица после того, как Ларбо раз семьдесят назвал его гением.
— Ничто не подстегивает сильнее, чем лесть, — заметил Боб.
Сильвия засмеялась и замотала головой.
— Думаю, это не просто лесть.
— Лесть еще никому не вредила, — сказал Эрнест. — И кстати, Сильвия, мне есть что сообщить вам по поводу дельца, о котором вы говорили до праздников.
— Отлично! Заглянете ко мне завтра?
— Непременно.
— Прошу прощения, мистер Джойс, но я никак не могу позволить вам добавить больше ни слова, — решительно заявила Сильвия меньше чем за неделю до его дня рождения.
Он проделал весь путь до «Шекспира и компании», чтобы лично озвучить Сильвии свою просьбу, что, как она сначала думала, указывало на жгучее желание внести изменение в текст, однако теперь она заподозрила, что правки продиктованы не столько его писательским гением, сколько манией, одержимостью и даже страхом поставить финальную точку.
Кто знает, может быть, Боб в конечном счете выиграет пари. В общем, Сильвия чувствовала, что кто-то должен встать между Джойсом и его писательским ражем.
— Если сейчас что-то менять, издание уже наверняка не принесет никакой прибыли, а может, даже вынудит Дарантьера отказаться от работы. Пожалуйста, пожалуйста, даже не думайте просить меня об этом. — Голос Сильвии дрожал от гнева и страха. Как ей было тошно, что дело дошло до такого.
— Только на последней странице, — умолял Джойс, и его голос срывался от усталости и отчаяния. — И ничего, совсем ничего перенабирать не придется.
Сердце Сильвии билось уже где-то у нее в горле, голова шла кругом.
Она закрыла глаза и вздохнула, потом, не поднимая век, спросила:
— Сколько слов вы хотите поменять?
— Три. Три последних словечка. Ну пожалуйста. Сильвия.
Она лишь глубоко вздохнула.
— Ладно. Я спрошу. Но ничего обещать не буду.
— Спасибо вам, — выдохнул он, чуть не плача от наплыва чувств.
Нет, никогда она больше не возьмется что-то издавать. Ни за что. Слишком это болезненно.
Второго февраля 1922 года, сидя в первом поезде, отправлявшемся из Парижа в Дижон, Сильвия прижимала лоб к холодному стеклу. Учитывая, как взволнована она была поездкой, Сильвия и сама удивилась, насколько вымотанной чувствовала себя сейчас. Пожилой даме, что сидела в соседнем кресле, пришлось даже легонько потрясти ее за плечо, чтобы разбудить за несколько минут до прибытия в Дижон.
Первым делом Сильвия, оказавшись в печатном цехе Мориса, вручила ему корзинку с лучшим бордо, какое только могла себе позволить, двумя банками джема Адриенны и самыми восхитительными колбасками, какие смог пожертвовать Мишель.
— Вы были так добры к Жюли, когда меня самого на это не хватало, — сказал он ей сконфуженно и признательно. — Вот самое малое, чем я в силах отблагодарить вас.
Печатник заулыбался при виде Сильвии еще до того, как она вручила ему гостинцы.
— Дело сделано, — сказал он.
Сильвию затопило огромное облегчение, и в следующий момент оказалось, что она рыдает в объятиях Мориса. Его руки были крепкими и надежными, и он не разжал их до тех пор, пока у нее не иссякли слезы.
— Простите, — проговорила Сильвия.
— Ну что вы! Вы все сердце вложили в книгу, как и месье Джойс. А над своими сердцами мы не всегда властны.
— Я так счастлива, что проделала с вами весь этот путь. — Эту Одиссею.
— Как и я, — просто ответил он. — Пойдемте же, позвольте мне показать вам первые экземпляры.
Он вложил ей в руки том, тяжеленный, как кирпич. Толстая кремовая голландская бумага была вручную обрезана по краям, а синий переплет имел в точности такой оттенок, как флаг Греции, что напоминало одновременно о лазури иллюминированных средневековых книг, Средиземном море и pâte de fruits[108]. Сильвия держала в руках один из тех лучших ста пятидесяти экземпляров, и он был совершенно великолепен. Когда она открыла его, книга издала приятный приветственный хруст, а при виде строчек, чистых, четких, не исчерканных карандашом, глаза Сильвии снова наполнились слезами.
— Взгляните на титульный лист, — приглушенным голосом сказал Морис.
Бережно, точно держа в руках новорожденного, Сильвия открыла титульный лист и увидела надпись: «Шекспир и компания», напечатанную ниже названия «УЛИСС» и имени Джойса. Сильвия смогла выдержать это зрелище лишь секунду. Столько счастья не вмещалось в ее душе.
Закрыв книгу и прижимая ее к груди, она с трудом выговорила:
— Даже не знаю, смогу ли когда-нибудь сполна отблагодарить вас.
— Ну, — ответил он, — потому-то вы мне щедро заплатили.
И оба рассмеялись нелепости этой мысли.
Если в Дижон Сильвия ехала без сил, то весь обратный путь она пребывала в возбуждении. Она не могла дождаться, когда вручит книгу Джойсу, потому что возвращалась в Париж с единственными двумя на тот момент существовавшими экземплярами, одному из которых суждено было стать самым драгоценным подарком ко дню рождения за всю историю.
Почти вприпрыжку выбежав из здания Лионского вокзала под серое, готовое разродиться снегопадом небо, Сильвия позволила себе взять такси, чтобы как можно быстрее добраться до улицы де ль'Университе, и всю дорогу поглаживала переплет пальцами.
Миссис Джойс встретила ее в дверях, и Сильвия, ни слова не говоря, но широко улыбаясь, показала ей книгу, на что миссис Джойс с глубоким вздохом промолвила:
— Ох. Что ж, входите.
— Кто там? — Донесся голос Джойса откуда-то из кухни, как догадалась Сильвия.
Джорджо, увидев у входной двери Сильвию с книгой, крикнул отцу:
— Твой подарок ко дню рождения!
Дрожь прокатилась по телу Сильвии до самых кончиков пальцев и мочек ушей. Пряча за спиной книгу, она переступила порог квартиры.
Джойс вышел в коридор и при виде Сильвии прижал руку к сердцу и вопросительно поднял брови за круглыми стеклышками очков.
Медленно, насколько позволяло еле сдерживаемое возбуждение, Сильвия вынула книгу из-за спины и выставила перед собой.
Джорджо испустил возглас радости, а Лючия, высунувшая голову из-за двери спальни, в восторге разинула рот.
— Как она прекрасна, папа!
Когда Джойс брал у Сильвии увесистый том, его руки заметно дрожали. Он благоговейно обозревал обложку с белевшими на ней названием романа и собственным именем.
— Это… в самом деле?..
Сильвия положила руку ему на локоть и легонько сжала.
— Ваш «Улисс» наконец-то дома.
Он судорожно вздохнул, и в том тихом звуке она услышала всю гамму бушевавших в нем эмоций, которые Джойс с трудом держал в себе.
— Спасибо вам, Сильвия.
— Вы оказали мне огромную честь и доставили удовольствие, — ответила она совершенно искренне.
Ради «Улисса» Сильвия пошла на риск, и он оправдался. Ей стоило рискнуть — ради этого момента, ради этой книги, этого писателя, этого города. Ради ее Стратфорда-на-Одеоне.
Ради Одеонии.
Ее собственной мифической Итаки.
Книга принесла ее лавке Сильвии даже больше славы, чем она отваживалась надеяться в самых смелых мечтах.
Третьего февраля, в пятницу, всегда бывшую самым напряженным днем даже в самые вялые недели, Сильвия выставила в витрине «Шекспира и компании» свой экземпляр «Улисса», и весть об этом, как лесной пожар, распространилась по всему Левому берегу. Каждый ее постоянный покупатель счел своим долгом явиться в лавку и лично восхититься книгой; десятки других людей, кого она прежде не видела, толкались возле витрины, желая получше разглядеть запрещенный роман Джойса, и потом в большинстве своем заходили внутрь, чтобы открыть читательский абонемент или совершить другие покупки.
Заметки о выходе «Улисса» в свет напечатали по крайней мере три воскресные газеты, что в следующую неделю привлекло в лавку Сильвии толпы американцев, англичан, парижан и даже нескольких итальянцев и немцев. Джойс появлялся здесь каждое утро; в первый день, когда пришли Ларбо, Фарг, чета Паундов и чета Хемингуэев, в лавке воцарилась атмосфера праздника в честь их доброго друга Джойса; в какой-то момент Сильвия подивилась, насколько его откуда ни возьмись взявшийся важный вид напомнил ей Гертруду, которая вместе с Элис демонстративно и ожидаемо проигнорировала событие.
Мало того что новые покупатели что ни день толпами валили в лавку, так еще и Сильвию забрасывали кучами писем как обожатели, так и хулители романа; она научилась уже по первому предложению угадывать, к какой категории относится письмо, и те, что относились к последней, сразу отправляла в корзину, не утруждаясь чтением, если только автором не был кто-то из известных писателей. Больше всего в этом жанре ее порадовало послание, полученное через Паунда, по всей видимости не оставлявшего попыток убедить Джорджа Бернарда Шоу приобрести роман. В конце концов тот решил, что с него хватит, и отправил Эзре открытку, на которой изображалось, как Иисуса кладут во гроб, а Пречистая Дева Мария и Мария Магдалина рыдают над ним. Открытку Шоу снабдил следующим текстом: «Положение Дж. Дж. во гроб его издательницами после отказа Дж. Б. Ш. купить “Улисса”». Открытку принес в «Шекспира и компанию» Джойс, и они с Сильвией и Мюсрин до слез хохотали над ней, а Сильвия еще держалась за бок, который закололо от смеха.
Иные особо рьяные писатели даже слали Сильвии просьбы издать их непонятые публикой романы, а она неизменно отвечала, что, как ни хотела бы ознакомиться с их рукописями, дела «Улисса» и магазина не оставляют ей ни одной свободной минутки. Ее и саму удивляло, что она не испытывает и тени желания издавать чьи-то другие книги. Нет, ее «Шекспир и компания» должна прежде всего оставаться книжной лавкой, а во вторую очередь — издателем Джеймса Джойса. Этого и так более чем достаточно.
Глава 15
Когда от Мориса на улицу Одеон, 12, начали поступать отпечатанные экземпляры, в том числе и недорогие, на обычной бумаге, Сильвия привела в действие разработанный вместе с Эрнестом план нелегальной переправки «Улисса» в Соединенные Штаты. Их схема брала начало в Канаде, где Сильвия оплатила аренду скромной квартирки в Торонто для некоего Бернарда Брейвермана, старого фронтового друга и земляка Эрнеста, одно время служившего редактором журнала «Прогрессив вумен»[109].
— Так я с ним знакома! — воскликнула Сильвия, когда они с Эрнестом шепотом обсуждали детали операции в задней комнатке «Шекспира и компании».
— В самом деле?
— Ну, мы как-то раз обменялись письмами. Его журнал благосклонно относился к статьям о женских правах и эмансипации, а я в то время занималась агитацией в столичном округе и писала очерки на прогрессивные темы, вот и послала ему один для публикации. Он, правда, отказал, но в исключительно учтивых выражениях. И как нельзя лучше, что сейчас он поможет нам с «Улиссом».
— Как тесен этот чертов мир. А почему вы, Сильвия, перестали писать?
Она только пожала плечами.
— Писательство не для меня.
— Думаю, так оно и есть, раз вы так легко его забросили.
— Вы-то уж точно не забросите.
— Никогда. Писательство — мое всё.
— Ну а мое всё — «Шекспир и компания». — Произнесенная вслух фраза показалась Сильвии правильной и глубоко верной. Это и правда ее всё. И это именно ее всё.
— К счастью для всех нас.
И вот сырой холодной весной 1922 года в Канаду, где роман не был вне закона, к святому Барни, как окрестил его Джойс, стали поступать по почте коробки с сотнями экземпляров «Улисса» — их собственноручно паковали Сильвия и Мюсрин, а иногда им помогал и сам Джойс, который был безнадежен в обращении с упаковочной бумагой и клеем и оставлял все вокруг в лавке заляпанным липкой гадостью, но божился, что ему доставит великое удовольствие вечерком всю ее отскоблить.
Каждый день Бернард прятал в штаны или под куртку том «Улисса» и на пароме переправлялся в штат Мичиган, где оставлял книгу в номере гостиницы Детройта. Когда их набиралось достаточно, он рассылал их по адресам подписчиков через частную почтовую компанию «Американ экспресс».
Операция продвигалась черепашьими темпами и требовала кропотливости, и самые нетерпеливые из подписчиков начали забрасывать Сильвию сердитыми письмами: «Миссис Уилкокс получила свой экземпляр еще на прошлой неделе, а раз мои деньги ничуть не хуже, чем ее, вынужден поинтересоваться, куда запропастился мой» — и прочее в том же роде. Потом настал день, когда пришла телеграмма от самого Бернарда:
ПОГРАНИЧНЫЕ ЧИНОВНИКИ НАСТОРОЖИЛИСЬ ДОЛЖЕН ПОТОРОПИТЬСЯ ВЗЯЛ ПОМОЩНИКА НЕ БЕСПОКОЙТЕСЬ БУДУ ДЕРЖАТЬ В КУРСЕ
Сильвия от волнения выкурила лишние полпачки, отчего вечером беспрерывно кашляла, когда они с Адриенной сидели за холодным ужином из сыра, хлеба и фруктов — Сильвия приходила домой слишком поздно, а Адриенна писала очередной очерк и готовила к публикации в своих «Записках» стихотворения Уитмена на французском в переводе Ларбо. Сильвия уже позабыла, когда они в последний раз вечером отдыхали, а не работали.
— Chérie, — промолвила Адриенна, и Сильвия уловила нотки нерешительности в ее голосе, — возможно, тебе пошло бы на пользу поменьше увлекаться «Голуазом»?[110]
— Моим зубам так уж точно, — со вздохом отозвалась Сильвия. — Но это очень трудно. Я старалась курить поменьше, но…
— Похоже на навязчивую привычку.
— Ох, дело не только в ней.
Адриенна нахмурилась, а Сильвия задумалась, давно ли подруга копила недовольство. Почти все в их окружении курили, включая и Адриенну от случая к случаю, но многие явно перебарщивали с сигаретами, как перебарщивали с коктейлями или абсентом. «Голуаз» были ее грешком, ее слабостью, как вино было слабостью Джойса, и Сильвия отдавала себе в этом отчет — но только себе. Она стала замечать, что, когда за день выкуривает больше своей обычной пачки, вечером у нее противно болит голова и, сколько бы воды она ни выпила, перед сном ее мучит жажда, что тоже выходило ей боком, поскольку приходилось по семь раз за ночь вскакивать в туалет.
Не представляя, как побороть пагубную привычку или хотя бы продолжать разговор о ней с Адриенной, Сильвия собрала со стола тарелки и сменила тему:
— Как думаешь, все книги благополучно доберутся до своих подписчиков?
— Очень надеюсь, но кто даст гарантию? Ты сделала абсолютно все, что в твоих силах. Остается разве что молиться, более ничего.
Сильвия подняла бровь.
— Ну тогда попроси помолиться своего отца.
Они засмеялись, и Сильвия заварила им чаю и открыла их заветную жестяную банку, в которой Адриенна припасала плитки только самого отборного, самого темного шоколада, чтобы побаловать себя после ужина.
— Еще меня беспокоит пиратство, — сказала Сильвия, обкусывая квадратик шоколада, но вместо ожидаемой сладости почувствовала на языке привкус табачного дыма. — «Улисс», похоже, будет легкой добычей для них, как в свое время «Сыновья и любовники». Не знаю, удалось ли Лоуренсу хоть что-нибудь заработать на этом. Я писала Джону Куинну с просьбой удостовериться, что наш роман защищен законом, и он ответил, что, раз «Улисс» опубликован в «Литтл ревью», значит, на него распространяется авторское право, что меня не очень-то убеждает. Если «Улисса» будут копировать и пустят в продажу без разрешения, а у нас не будет юридической защиты, мы потом не сможем по суду потребовать компенсацию.
— Давай решать проблемы по мере поступления. Сначала убедимся, что наши экземпляры без проблем достигнут пунктов назначения. И потом, почему мы не должны верить словам Джона Куинна насчет авторского права?
— Понимаешь, Эзра говорит, что не уверен в его правоте. Он сказал, книга должна быть включена в каталог Библиотеки Конгресса. — Сильвия отпила ромашкового чаю и почувствовала, как вымывается из горла мерзкий табачный привкус.
— А запрещенную книгу можно туда вносить?
— Понятия не имею. Я уже спрашивала Куинна, но он не потрудился ответить.
— Есть какой-нибудь способ остановить пиратские продажи, если роман защищен авторским правом?
— Наверное, нет. — Сильвия сложила руки на столе и бессильно навалилась на них.
Адриенна ласково запустила пальцы в ее волосы.
— Если грянет буря, мы придумаем, как пережить ее. А пока незачем терзаться тем, что еще может и не случиться.
Адриенна с требовательной нежностью повела руку вниз по шее Сильвии и забралась под ее воротник, свободно поглаживая напряженные мышцы ее шеи и плеч. Они уже давно не занимались любовью, и от этих полных заботы прикосновений все клеточки тела Сильвии вспыхнули жаром. Вскоре Сильвия и Адриенна уже целовались, лихорадочно расстегивая пуговицы, освобождаясь от блузок и прочей одежды. Когда они уже нагие оказались в постели, Адриенна велела:
— Закрой глаза и не вздумай открывать их, что бы ни почувствовала.
Сильвия слышала, как та встала с постели и вышла из спальни. Сердце ее неслось вскачь, глаза сами собой распахнулись. Что она там делает? Из кухни донеслась череда таинственных звуков, потом шаги возвращающейся на цыпочках Адриенны, и Сильвия снова зажмурилась, стараясь расслабиться среди подушек.
— Ты куда ходила?
— Тс-с-с. И не подглядывай.
Сильвия почувствовала у себя на груди что-то прохладное и нежное. Как будто это был палец, но… нет. Ее ноздрей коснулся сладкий аромат. Ваниль?
— Что?..
— Тс-с-с. — Прохладный, скользкий, сладкий палец рисовал что-то на ее грудях и торсе, отчего потрясенную Сильвию охватило невероятное возбуждение. Что она делает? Это что… заварной крем?
Затем она кожей почувствовала прикосновение рта Адриенны, ее теплых губ и языка, повторяющих рисунок на ее грудях и теле, и все те ощущения… ах, Сильвии уже было все равно, что там делает Адриенна. Главное, чтобы она не останавливалась.
Сильвия мысленно зареклась вести дела с Джоном Куинном, когда он, следуя своей натуре и неистребимому недоверию помогавшим Джойсу женщинам, изыскал альтернативный способ нелегально передать в Соединенные Штаты свои четырнадцать экземпляров «Улисса». Он отправил в «Шекспира и компанию» посыльного забрать свое тайное сокровище и уложить его, как сыр с ветчиной, между двумя приобретенными в галерее полотнами Сезанна. Получившийся книжный «сэндвич» было велено плотно завернуть, туго перевязать и доставить морем в Нью-Йорк. Как только посыльный забрал его и покинул лавку, Сильвия с грохотом захлопнула за ним дверь и крикнула: «Вот и катись! Скатертью дорога!», немало удивив пятерых посетителей, по счастью не знавших ни ее лично, ни обстоятельств дела.
Между тем святой Барни продолжал мало-помалу заниматься контрабандой «Улисса», и вскоре Сильвии стало приходить больше писем с благодарностями и поздравлениями, нежели с вопросами «Где мой экземпляр?» и критикой. От друзей в Англии, например от Элиота, она получала почти сплошь похвалы и благоговейные восторги:
Куда дальше пойдет литература?
Какая смелость! Отныне целые поколения будут вести отсчет от этого финального монолога Молли…
Смятение в умах Стивена и Леопольда тронуло меня до слез и вызвало бурю других менее достойных упоминания чувств…
Искусство — это не только слова Джойса. Изданная вами книга и сама заслуживает места в музее! Поистине прекраснейший образчик книгоиздания. Примите поздравления, Сильвия!
Ни за какие свои достижения она никогда еще не получала ничего большего, чем горсточка похвалы от близких друзей и родных. А теперь на нее обрушивалась целая лавина восхвалений и благодарностей… Конечно, ничто не могло сравниться с незабываемым моментом, когда она впервые ощутила книгу в своих руках, но накопившийся эффект рукоплесканий помогал ей чувствовать себя свободнее, искушеннее и даже выше ростом, и притом одновременно. Если добавить сюда новый этап в их с Адриенной сексуальных экспериментах, то Сильвия теперь ловила себя на том, что половину времени витает в облаках, а вторую половину ломает голову. Как это Адриенне угораздило додуматься до такого? А я сама достаточно ли изобретательна для нее? Хватает ли ей меня одной? Достаточно ли я делаю для «Улисса»? А для «Шекспира»?
Часть своих тревог Сильвия озвучила Киприан, на что та ответила:
— Господи, Сильвия, ты и так с утра до ночи трудишься в своей лавке, вон даже ни разу никуда со мной не сходила, и еще спрашиваешь? Разве возможно делать больше?
Теперь ей со всей Европы стали поступать запросы на перевод и публикацию «Улисса», и сейчас они вместе с Гарриет Уивер готовили издание для Англии, которое планировалось напечатать в том же Дижоне и сделать вторым официальным — потому что типографии «на этом крошечном провинциальном островке», как выразилась Гарриет, все как одна отказались от «величайшего романа нашего времени». К концу марта все семьсот пятьдесят экземпляров, напечатанных на обычной бумаге, были уже распроданы.
Стали появляться и рецензии. Самую первую опубликовали в лондонской «Обсервер» через месяц после выхода книги в свет, и Сислей Хаддлстон провозгласил, что «сама ее непристойность по-своему прекрасна и взывает душу к состраданию». Сначала Сильвия тревожилась по поводу реакции Джойса на обзоры, но выяснилось, что напрасно, — он воспринимал их все с одинаковым спокойствием. На самом деле у них с Сильвией завязалась игра, особенно после того, как роман резко раскритиковали в лондонской — кто бы мог подумать! — «Спортинг таймс», а самого Джойса обозвали «чокнутым извращенцем», хотя и признали, что «как писатель он не лишен таланта». Далее под набранным огромными буквами заголовком «СКАНДАЛ С УЛИССОМ ДЖЕЙМСА ДЖОЙСА» газета поместила список всех скаковых лошадей текущего сезона.
— Ну что ж, — сказал Джойс, — приятно узнать, что в представлении англичан моя книга стоит в одном ряду с дерби.
С тех пор у них с Сильвией так и пошло:
— Ну-с, мисс Бич, в какую колонку нас включили сегодня? Жокеев или Творцов?
Они вели счет Жокеям (неблагожелательным рецензиям) и Творцам (рецензиям более благосклонным), и очень часто отзыв, задумывавшийся как критика, воспринимали как похвалу.
— Эта рецензия объявляет «Улисса» «настольной книгой изгнанников и изгоев», — говорила Сильвия.
— Точно, точно! — восклицал Джойс, салютуя своей ясеневой тростью.
— Аминь, — соглашалась Адриенна.
— В точку, — добавлял Ларбо.
Впрочем, не реже в рецензиях присутствовали одновременно и хвала, и осуждение.
— Эдмунд Уилсон[111] в «Нью рипаблик» сначала пространно сравнивает вас с Флобером и приходит к выводу, что чего-то вам недостает, а потом заключает, что «“Улисс” при всей его ужасающей затянутости написан рукой большого гения». И что «эффект его в том, что все остальное он единым махом выставляет вульгарным. С тех пор как я прочитал его, ткань повествования всех прочих романистов кажется мне невыносимо рыхлой и неряшливой».
— Выставляет остальное вульгарным, значит? Пожалуй, этот аргумент перевешивает, — сказал Боб, заглянувший посоветоваться по поводу своего «Контакт эдишнс».
— Хорошо, тогда в целом, думаю, Уилсону место в колонке Творцов, — заключила Сильвия, добавляя мелом крестик на грифельную доску, которую она для подсчета рецензий повесила сбоку над столом. — Кто у нас там следующий?
Однажды в апреле, когда Сильвия пришла открывать «Шекспира и компанию» в мягком свете утреннего солнца, то обнаружила на ступеньках Джойса — всклокоченный и печальный, он сидел, держась руками за голову и уперев локти в колени; ясеневая тросточка небрежно валялась сбоку.
— Господи, и давно вы тут дожидаетесь? Утро-то какое холодное, — обратилась к нему Сильвия, помогая встать и отпирая дверь. Как только они зашли в лавку, Джойс опустился в свое любимое зеленое кресло и залился слезами.
Не желая, чтобы в такой момент в лавку зашел кто-то из посетителей, Сильвия снова заперла дверь и, убедившись, что ставни плотно закрывают окна, опустилась на колени перед своим другом.
— Что бы ни стряслось, уверена, мы найдем, как помочь вашей беде, — заговорила она.
Джойс вытер лицо влажным скомканным носовым платком и выдавил:
— Нора ушла.
— Что?!
— Вчера уехала в Ирландию. И детей забрала.
Господи боже. Сильвия знала, что жена давно грозилась его бросить, но всегда считала это всего лишь словами. Словами, которыми миссис Джойс нередко удавалось напомнить мужу, что по-настоящему важно в его жизни, и он на время кое-как обуздывал свои пьяные выходки. Казалось как-то несуразно, что именно сейчас — когда публика так хорошо принимает «Улисса» и карьера Джойса в кои-то веки пошла вверх — Нора привела свою угрозу в действие.
— Не передать, как мне жаль, — сказала Сильвия, не найдя, что еще сказать. — Но она обязательно вернется, ведь правда?
— Сказала, что нет. А я просто не могу снова жить там. И она это знает.
— Дайте ей немного времени, — предложила Сильвия, чей жизненный опыт соприкосновения с переменчивыми настроениями Киприан и скорбью Адриенны по умершей возлюбленной научил ее, что время — лучший исцелитель. Правда, горестям Мишеля и Жюли оно не помогло, с тревогой возразила сама себе Сильвия. Прошедшие с войны годы, казалось, истощили Мишеля, и появление малышки почему-то вынесло на поверхность все худшее, что в нем таилось. Жюли по-прежнему не желала делиться с ней подробностями, так что Сильвия не могла представить себе, что у них происходит; она знала только, что прошлый Мишель — улыбчивый ненасытный читатель, усердно боровшийся со своими демонами в компании Сассуна, Гомера и Уитмена, — бесследно исчез.
Однако, успокоила себя Сильвия, Нора все же не получала контузий, как Мишель, и, скорее всего, у Джойсов разыгралась одна из семейных драм, которые поддаются лечению временем и даже расстоянием.
— Она скоро соскучится по вам, — добавила Сильвия со всем сочувствием, на какое была способна.
— А тут еще доктор Борш считает, что мне все же может понадобиться операция, — простонал Джойс. — Оказывается, мои больные зубы скверно влияют на проблему с глазами.
— Господи, помилуй, — вздохнула Сильвия, чувствуя, как ее собственным рукам-ногам передается дрожь переполняющего писателя великого смятения.
Зубы? Какие еще больные зубы? Не в том ли причина, почему он все время заказывает на обед супы?
— Позвольте-ка я приготовлю нам чаю, — сказала Сильвия как из соображений, что горячий чай пойдет ему на пользу, так и чтобы дать себе время собраться с мыслями и придумать, чем помочь ее бедному дорогому Джойсу, чья жизнь, похоже, полетела кувырком.
Но когда она вернулась с подносом, уставленным чашками с крепким чаем, сахарницей, молочником и пачкой имбирного печенья, которое, как она знала, особенно любил Джойс и которое она специально для него припасла в буфете, единственным утешением, какое ей пришло на ум, было:
— Давайте подождем месяц, и если она к тому времени не вернется в Париж, то мы сядем и обсудим, как ее к этому побудить. А пока давайте вместе заботиться о том, чтобы к ее приезду насколько возможно улучшить состояние вашего здоровья.
Он продолжал горестно вздыхать, пока сдабривал чай сахаром и молоком, делал глоток и размачивал имбирное печенье, спровоцировав Сильвию уточнить:
— Так что у вас не так с зубами?
— Абсцессы. Обычное дело при том плачевном положении, в каком находится стоматология в Ирландии. — Название родной страны он произнес резко.
Сильвия покивала, наблюдая, с каким трудом он ест размоченное имбирное печенье, сначала долго перекатывая во рту кусочек, даже не пытаясь жевать его, а потом медленно проглатывая. Он съел так еще пару штучек и выпил три чашки чаю, а Сильвия тем временем чувствовала, как ее собственное сердце бьется все быстрее, плечи каменеют, а пальцы и ладони делаются липкими не только от сладкого, но и от пота. Она не понимала, почему ее должна заставлять страдать его трагедия, но она заставляла.
Зная, что разговоры имеют свойство умерять тревогу, по крайней мере ее собственную, Сильвия принялась рассказывать о своих планах на следующее издание «Улисса», правда разговор выходил односторонний: она что-то лепетала, а он только кивал и время от времени благодарил ее. Поняв, что его не разговорить, Сильвия открыла ставни и переключила внимание на первых посетителей. Работа тоже успокаивала ее, заставляя сосредоточиваться на книгах, цифрах и других осязаемых предметах. Джойс ушел перед самым обедом вместе с Джорджем Антейлом, который рассказал ему, что в Люксембургском саду будет играть квартет.
— Музыка — моя первая любовь, — заметил Джойс. — В свое время я очень недурно пел.
— А сейчас? — поинтересовался Джордж.
Джойс покачал головой так, словно речь о чем-то бесконечно печальном.
— Ну тогда хотя бы порадуем себя старомодными концертами, — сказал Джордж.
Джойс покивал и тяжело оперся на свою ясеневую трость, а Джордж послал Сильвии взгляд, говоривший «Я заберу его с собой». Когда они вышли на улицу Одеон и скрылись из виду, Сильвия испытала огромное облегчение.
Уже вечером, рассеянно ковыряя вилкой в тарелке, Сильвия рассказывала Адриенне про Джойса и Нору.
— Для него это очень печально, — заметила Адриенна, — но я бы ее не винила.
Хотя Сильвия и сама иногда раздумывала, как трудно, наверное, живется с таким человеком, как Джойс, ее все равно удивила реакция Адриенны.
— Но почему?
— Он твердит, что предан ей, но, как мне кажется, они живут каждый своей жизнью. Ей нет дела до книг. Он же одержим собственными сочинениями. И они редко бывают где-нибудь вместе.
Ее наблюдение задело болезненную струнку в душе Сильвии.
— Как это должно быть ужасно любить кого-то так сильно, как Джойс любит Нору, и не чувствовать взаимности.
— А вот и наоборот, я думаю, что ее любовь к нему очень глубока. И что ей не нравится чувствовать, что ее оставляют без внимания.
Сильвия медленно кивнула.
— Но он так гениален.
— Гении не всегда хорошие мужья.
Сильвия закурила сигарету и сделала долгую затяжку.
— Надеюсь, она вернется.
— Moi aussi[112]. — Адриенна чуть помедлила в нерешительности, а потом все же добавила: — А если не вернется, помни, что это не твоя печаль и не твоя вина.
— Как тебе удается? — спросила Сильвия.
— Удается что?
— Ну, так разделять… одно с другим.
Адриенна пожала плечами.
— А я все время напоминаю себе, что мои друзья, даже те, кого я люблю всем сердцем… Я напоминаю себе, что они — это они, а я — это я. Что я Адриенна, и мне дана собственная жизнь, чтобы ее прожить.
— Мой отец всегда говорил, что мы посланы на землю для служения.
— Вполне возможно служить, не теряя самой себя.
И снова Сильвия закивала, понимая, что Адриенна права, но в душе продолжала гадать: кто есть Сильвия Бич без Джеймса Джойса и «Улисса»? Они так переплелись, что не распутать. Ее лавка приобрела известность и успех благодаря сомнительной славе его книги; вот что в конце концов позволило Сильвии совершить нечто самостоятельное, отдельное от Адриенны и ее «Ля мезон». Сильвии нравилось видеть себя спасительницей романа, пускай она и признавала, что ее чувство не такое уж кристально-беспорочное. Зато оно было истинным. И что все это говорило о ней? И что она от этого теряла?
Часть 3. 1925–1931
Художник, как Бог-творец, остается внутри, или позади, или поверх, или вне своего создания, невидимый, утончившийся до небытия, равнодушно подпиливающий себе ногти.
Джеймс Джойс. Портрет художника в юности (перевод Марии Богословской-Бобровой)
Глава 16
— С днем Блума, — прощебетала Сильвия первому посетителю своей лавки 16 июня 1925 года — этот праздник она придумала год назад, чтобы увековечить ту самую дату, когда происходили мириады событий «Улисса». Серый терьер Тедди, который прибился к лавке и к которому, в свою очередь, очень привязалась Сильвия, радостным тявканьем вторил приветствию хозяйки.
Так уж случилось, что первым посетителем в это жаркое летнее утро оказался не кто иной, как Эрнест, чисто выбритый и ясноглазый. От него пахло солнечным светом, туалетным мылом и водяным паром над тротуарами, политыми дворниками несколько часов назад.
— И вас с днем Блума, — ответил Эрнест, наклонившись почесать Тедди за ушами. — А я сегодня уже написал почти целый рассказ.
— Ну надо же, какой вы плодовитый.
— Будешь тут плодовитым, когда на носу поездка в Испанию.
— Ах да, Памплона. Бои быков. Леди Макдафф? — Сильвия хихикнула. На самом деле даму звали леди Дафф Твисден, но, сколько бы раз ни услышала Сильвия это имя, оно ассоциировалось у нее с «Макбетом», вот и сейчас она не смогла удержаться от шутки. Тедди побежал на поиски Лаки, который постоянно обитал в лавке, тогда как пес каждый вечер отправлялся с Сильвией домой и укладывался спать на их с Адриенной постели. В часы работы магазина пес и кот вполне мирно ладили, а Лаки взял на себя грандиозный труд не подпускать Тедди к Джойсу, когда тот заглядывал в «Шекспира и компанию», за что премного благодарный ему писатель окрестил доблестного кота Ланселотом.
— Они самые, — подтвердил Эрнест, присевший на корточки, чтобы лучше разглядеть книги на полке с буквой W.
— На вечеринку сегодня придете? — поинтересовалась Сильвия, имея в виду первый — и, как она надеялась, в будущем ежегодный — праздник по случаю дня Блума, который должен был состояться тем вечером в новых хоромах Джойса на площади Робийяк возле Эйфелевой башни.
Вскоре после неохотного возвращения Норы из Ирландии он нашел им чудесное просторное жилье с огромными окнами и восхитительным фасадом времен Прекрасной эпохи. Джойс признался Сильвии:
— Я должен был предпринять что-то, чтобы на сей раз она наверняка осталась. Придать нашим жизням больше респектабельности. Довольно бесконечных переездов с места на место.
От этих его слов Сильвия и сама неожиданно почувствовала огромное облегчение.
Два предыдущих года, казалось, прошли под знаком Одеонии. Сильвия выпустила третье издание «Улисса», вместе с Адриенной взялась вместе переводить поэзию, а недавно они сели за французскую версию «Пруфрока» Элиота для нового литературного журнала «Навир д’аржан», который собралась издавать в «Ля мезон» Адриенна. И они обнаружили новое чудесное место для отдыха в Ле Дезере, где упивались солнцем, долгими прогулками, полевыми цветами и возможностью перевести дух от безжалостного ритма жизни Парижа, куда перебиралось все больше и больше американцев. Будь то молодые полные амбиций писатели или новоиспеченные семьи, желавшие начать все с чистого листа, они, едва сойдя на берег, непременно заходили в «Шекспира и компанию», принося с собой дух радостного возбуждения, тревог и дешевого обеда в поезде. Сильвии так надоело без конца повторять одно и то же, что она составила трехстраничный путеводитель для новоприбывших, куда включила все рекомендации по части ресторанов, отелей, церквей и театров, и американские гости ее лавки впопыхах и с благодарностью переписывали из него советы сведущей парижанки. Издательство Боба «Контакт эдишнс» взяло хороший старт, опубликовав в 1923 году первую книгу Эрнеста «Три рассказа и десять стихотворений», встреченную публикой на ура. А Джойсы тем временем обустраивали новое жилье с невиданным для них пылом и старанием — с обоями, персидскими коврами и тяжелыми пафосными портьерами. Все это влетало в такую копеечку, что Гарриет Уивер в одном из писем, рассказывая Сильвии об английском издании «Улисса» и других делах Джойса, не могла не заметить: «Мне казалось, Париж не слишком дорогой город для жизни, что и делает его привлекательным для начинающих деятелей искусства, — но как это может быть правдой, если судить по недавним тратам Джойса на жилье!»
Вот и Эрнест заговорил сейчас о том же, через стол подталкивая Сильвии последний томик стихов Уильямса.
— Не думаете ли вы, что Джойс слишком уж задирает нос со своим Седьмым округом?[113] С этим его видом на Эйфелеву башню и всем прочим?
— Все равно нам до него рукой подать, — заметила Сильвия, закуривая сигарету. — И все его друзья рядом, в Пятом и Шестом округах. Будем ходить к нему в гости, как в другую страну.
Засмеявшись, Эрнест ответил:
— Кто еще мог бы похвастаться таким другом, какого Джойс нашел в вашем, Сильвия, лице.
— Надеюсь, многие мои друзья сказали бы обо мне то же.
— А мы и говорим. По секрету сказать, Хэдли задумала испечь к вечеринке ваш любимый шоколадный торт в знак нашей признательности вам.
— А вот это в самом деле повод для праздника.
— Скажите, Скотт уже познакомился с Джойсом?
— Насколько я знаю, нет, а что?
— Да так, просто любопытно.
Как же, как же. Хемингуэй и Фицджеральд познакомились прошлой весной в каком-то модном баре на Монпарнасе, скорее всего в «Динго»[114], и, как потом рассказывали те, кто при этом присутствовал, писатели тут же сцепились в спорах обо всем на свете: о книгах, о барах, о городах Среднего Запада. Что не удивительно. Хотя Фицджеральд был всего тремя годами старше Эрнеста, в его активе имелось уже три опубликованных романа — к тому же благосклонно принятых, — чего тот никак не мог пережить. Сильвия и сама видела, что он старательно не замечает всё новые и новые стопки романов Фицджеральда на ее полках — «По эту сторону рая», «Прекрасные и проклятые», а теперь еще и «Великий Гэтсби»; их стремительно раскупали, тогда как его собственный тоненький сборник рассказов и стихов пользовался приличным спросом, но не более.
Мало того, всего несколько месяцев назад Эрнест, на свою беду, пропустил письмо от Макса Перкинса, редактора Фицджеральда в издательстве «Скрибнерс», — оно ожидало в пачке корреспонденции, которую Сильвия держала для него в «Шекспире и компании», пока он с женой и их сынишкой Бэмби отдыхал в Австрии, где уже успел подписать контракт с менее крупным издательством «Бони и Ливрайт». Конечно, оно честь по чести издаст Эрнеста, в этом Сильвия не сомневалась, однако от нее не укрылось, как потемнел он лицом при виде письма от Перкинса, как в досаде скомкал конверт, громогласно осыпая себя проклятиями:
— А все мое чертово нетерпение. Права была Хэдли, права, как всегда.
— Во всяком случае, я слышала, они с Зельдой собираются на Южное побережье, — заметила Сильвия, ничуть не заботясь, что новость еще больше укрепит ее друга в не слишком доброжелательном мнении о Фицджеральдах как о людях избалованных и поверхностных. Не сказать, чтобы Эрнест полностью ошибался на их счет, однако Сильвия все равно считала Скотта с Зельдой парой жизнерадостной и интересной в общении, а вот отдельно от нее Скотт был очаровательно неловок и стеснителен: впервые явившись в лавку, он не менее десяти минут собирался с духом, чтобы представиться Сильвии, а когда наконец решился, сказал, глядя на нее широко распахнутыми глазами, как у мальчишки: «Поверить не могу, что знакомлюсь со знаменитой Сильвией Бич».
— Кто бы сомневался, — пробурчал Эрнест.
Им на голову обрушились мощные фортепианные аккорды из квартиры сверху, которую снимал Джордж Антейл. В последнее время дел в лавке стало совсем невпроворот, и Сильвия забросила свою идею с чайной, а вместо этого сдала пустовавшее помещение этажом выше американскому композитору, благодаря чему ее ежемесячный доход вырос, не требуя от нее лишних хлопот и времени.
— Опять за свое взялся, а? — со смесью изумления и недовольства воскликнул Эрнест.
— Е-же-днев-но! — пропела Сильвия, стараясь перекричать музыку. — Не исключаю, что когда-нибудь «Шекспира и компанию» будут больше помнить как раз за то, что здесь квартировал композитор «Механического балета».
В Париже прошли предварительные исполнения его симфонии, и у молодого и привлекательного Антейла уже завелась своя свита поклонников, а самым ярым из них оказался Джеймс Джойс, чьи глаза по-прежнему доставляли ему бесконечные мучения, но уши, по счастью, нареканий не вызывали и всегда были готовы наполниться музыкой.
— Господь Всемогущий, надеюсь, что нет, — сказал Эрнест. Потом, точно ему казалось, что льющаяся мелодия смягчит его слова, он сообщил Сильвии: — Думаю, в этом году Хэдли не очень-то хочется ехать в Памплону.
— Жаль это слышать… Но она же может передумать, когда там окажется? Я знаю, как нравились ей ваши предыдущие поездки туда.
— Надеюсь, да.
В последний год Сильвия замечала натянутость в отношениях Эрнеста и Хэдли, особенно после их горнолыжного отпуска в Австрии; искренняя сердечность их прежних отношений, их привычка все время держаться за руки, дарить друг другу небрежные поцелуи, днем в щечку, а к ночи в губы, сменились чопорной церемонностью ради соблюдения приличий. Кто-то из них теперь всегда держал на руках или на коленке маленького Бэмби, точно прикрываясь от другого нежным улыбчивым щитом. Сильвия уже и не помнила, когда эти двое в последний раз дружно покатывались со смеху у нее в лавке. От мысли, что их отношения рушатся, ей стало грустно.
Как ни обожала Сильвия свой Стратфорд-на-Одеоне, на брак его атмосфера не оказывала такого же благотворного действия, как на искусство. В их кругу редко встречались крепкие, как у Джойсов, союзы, хотя и такие время от времени могли пошатнуться. Правы, наверное, были Джойсы, когда поселились в Седьмом округе, подальше от богемных вечеринок вроде той, куда неделю назад сводил их с Адриенной неугомонный Боб и где многие гости разгуливали в чем мать родила, нося на себе вместо одежды лишь краску, и даже не трудились найти укромный уголок для своих сексуальных утех, когда их обуревало желание. Сильвию до сих пор тошнило от воспоминания, как глазела Адриенна на двух женщин, прикрывшихся подобием потрепанной простыни, которая ритмично ходила ходуном, пока дамы под ней предавались любви. Саму Сильвию удовлетворяла их с Адриенной интимная жизнь и то, как ее подруга добавляла их близости глубину и смелость, но ее все время смущало, что это Адриенна привносит в их секс разнообразие и новизну. Случалось, что придуманный ею эксперимент заканчивался приступами смеха, но происходило все лишь между ними двумя, вдали от посторонних глаз. Видя, какое впечатление производил на подругу эксгибиционизм вечеринки, Сильвия вдруг испугалась, не одолевает ли ту сексуальный голод такого сорта, удовлетворить какой она, Сильвия, не в состоянии. Ей снова вспомнилось давнее предостережение Киприан об аппетитах Адриенны, которое она высказала, еще когда была жива Сюзанна.
— Хэдли любит вас, Эрнест.
— Иногда мне кажется, что я не заслуживаю ее любви.
— Уверена, вы зря сомневаетесь, — ответила Сильвия, хотя и задумалась, какие грехи так отягощают его совесть, что он решился признаться ей в своих сомнениях.
Сколько желаний борются между собой.
— Я-то скорее надеялась повидаться с мистером Паундом, пока я здесь, — сказала тем душным июльским днем Гарриет Уивер за чаем с меренгами, искусно приготовленными Адриенной. Три женщины сидели на складных стульчиках в мощеном дворике при апартаментах, которые Гарриет сняла на лето в Париже. Легкий ветерок шелестел листвой в ветвях кустарников и обдувал потную шею Сильвии ниже кромки недавно подстриженных волос. Летний зной даже у Тедди отбил охоту играть и клянчить со стола, и он тихо дремал в теньке.
Место было прелестное, всего в нескольких минутах ходьбы от площади Контрэскарп, совсем рядом с квартирой Валери Ларбо на улице Кардинала Лемуана, и Сильвию радовало, что она сумела разыскать здесь апартаменты для той, с кем ощущала тесную связь, настолько жизни обеих переплелись с жизнью Джойса. Любопытно, что Сильвия познакомилась с Гарриет только в этот ее приезд. Она собиралась представить Гарриет Маргарет Андерсон и Джейн Хип, которые переехали в Париж «навсегда!», как провозгласила склонная к театральности Маргарет на исходе первой недели бесконечных вечеринок и кутежей на Монпарнасе; а визит в высшей степени интеллектуальный салон Натали Барни[115] вывел их на орбиту сплошных удовольствий. «И почему я раньше не приезжала сюда?» — Маргарет не переставала задаваться этим вопросом.
— Эзра, похоже, так увлекся Италией, что я даже не уверена, увидим ли мы его здесь когда-нибудь снова, — сказала Сильвия. — Что очень прискорбно. Мне не хватает его и Дороти.
— Видимо, я должна расширить географию своего отпуска и наведаться к ним в Италию, — лениво заметила Гарриет.
Она отпила чай, и Сильвия, хотя провела в ее обществе совсем мало времени, могла бы поклясться, что та подыскивает слова, чтобы высказать, что у нее на уме. Адриенна все еще стеснялась говорить по-английски в присутствии двух женщин, для которых он был родным, и больше молчала; сейчас, откинувшись на спинку стула и прикрыв глаза, она подставляла лицо легким дуновениям ветерка.
Пока Гарриет собиралась с мыслями, Сильвия разглядывала строгое серое платье англичанки — хоть и льняное, но с длинными рукавами и пуговичками, застегнутыми до самой шеи. Сильвия только гадала, как той удается превозмогать жару. Сама она была облачена в белую блузку с короткими рукавчиками и льняную юбку, а вот чулками она пренебрегла, но все равно с трудом переносила зной.
— Вы не думаете, — наконец заговорила Гарриет тоном просительным, если не сказать умоляющим, — что наш мистер Джойс, вероятно, пьет… слишком много?
Губы Адриенны выгнулись в усмешке. Даже ее, признанную гурманку Одеонии, тонкую ценительницу хороших вин и бренди, удивляла эта черта Джойса — как и многих их друзей, включая Эзру. У Сильвии на такой случай имелся дежурный ответ, и она сейчас выдала его Гарриет:
— Очень даже думаю. Только мы ничего не можем с этим поделать. Нора вон чего только не перепробовала, даже сбегала от него в Ирландию.
— Что пошло ей на пользу, — фыркнула Гарриет. — Одобряю. Но все же она вернулась! И что она тем самым ему показала?
— Что жить без него не может. Что любит его таким, какой он есть.
Гарриет нахмурилась.
— Право, Сильвия, что за романтическая чушь!
— Разве мы с вами не продолжаем поддерживать его, невзирая на все его пороки? А ведь мы уж точно не влюблены в него. — Разве что в его произведения, но мое сердце принадлежит Адриенне.
Уголки губ Гарриет опустились еще чуточку ниже. Сильвия знала, сколько раз англичанка умоляла Джойса проявлять больше умеренности — во всем, а не в одном только употреблении алкогольных напитков. В писательстве, увлечении музыкой и в деньгах тоже. В дни, когда он получал от своей патронессы письма с такого рода увещеваниями, он являлся в лавку Сильвии, ворчал и жаловался, а потом вел всех, кому случалось забрести в «Шекспира и компанию» в восемь вечера, угощаться в «Дё маго».
Однако Гарриет никогда не отказывала ему в деньгах.
Она вздохнула и согласилась:
— Да, так оно и есть.
Рот Адриенны превратился в тонкую линию.
— Понимаю, как вы огорчены, Гарриет, — сказала Сильвия, вытаскивая сигарету из изящного серебряного портсигара, преподнесенного ей Джойсом к Рождеству. — Я и сама выдаю ему авансы в счет следующих изданий «Улисса» и даже немного ссужаю из средств лавки.
И хотя она ни за что не созналась бы в том даже Адриенне, Джойс обычно не возвращал ей долги, и она «прощала» их в честь какого-нибудь случая вроде дня Блума или дня рождения самого Джойса.
— Но я глубоко убеждена, — продолжала Сильвия, — что не мое это дело вмешиваться в его жизнь. Моя забота — помогать ему делать его работу, а потом переправлять его сочинения в руки читателей. В конце концов, посмотрите, какой фурор произвел «Улисс»! Никто мимо не проходит. Даже писатели вроде Вирджинии Вулф, у кого роман поначалу вызывал одну только неприязнь, и те подпали под его мощное влияние. Вы читали ее «Миссис Дэллоуэй»? Так там Вулф сама пользуется его приемом внутреннего монолога. «Улисс» — наиважнейшая книга, неотъемлемая от нашего времени.
Сильвия зажгла сигарету и глубоко затянулась, тотчас почувствовав, что горячий дым обжег ей легкие, прежде чем она успела его выдохнуть, и, чтобы охладиться, ей пришлось глотнуть теплого чая.
— Соглашусь, — убежденно заявила Гарриет. — Хотя… я бы очень хотела… получше понять его последнее произведение.
— Вы имеете в виду «Неоконченный труд»?[116] Или его стихотворения?
— Стихотворения выглядят достаточно безобидными. Не самое лучшее из написанного им, но я вижу, что после «Улисса» он хотел написать что-то попроще. Так что я имею в виду именно «Неоконченный труд». Большую часть я едва ли вообще поняла, а то, что я все-таки сумела разобрать, показалось мне низменным. Вот «Улисс», тот был откровенный. Он расширил наши представления об оригинале Гомера, о человеческой натуре как таковой. А его новое сочинение… нет. Я так считаю. А как оно вам?
Адриенна слушала все это, не открывая глаз, но сейчас ее брови сошлись у переносицы. Она еще не читала последнее произведение Джойса, исключительно заумное и труднодоступное для понимания, и Сильвия видела, что подругу интересует мнение Гарриет о нем.
— Думаю, пока написано недостаточно, чтобы судить обо всем произведении, — ответила Сильвия, повторяя то же, что твердила себе с тех пор, как Джойс показал ей первые страницы.
— Что ж, — не стала возражать Гарриет, — меня это успокаивает. И вы, вероятно, правы в том, что не нам судить его.
Но позже, когда они вернулись домой и Адриенна как заведенная сновала по кухне, готовя им ужин, состоявший из вишисуаза с хлебом, а небеса за окном милостиво сменяли безжалостный аквамариновый блеск на прохладный аметистовый, она обратилась к Сильвии по-французски самым своим резким тоном:
— Ты правда веришь в это? Веришь, что судить не наше дело?
— Адриенна, mon amour, я же не критик и не поэт. Не то что ты. Ты сама знаешь.
— Нечего мне льстить, Сильвия. Ты все время недооцениваешь себя. И сейчас, кстати, тоже.
— Я так не думаю. Просто я не претендую на роль критика. В отличие от тебя. Что замечательно и в чем я тебя полностью поддерживаю. И мне очень нравится, как мы с тобой вместе занимаемся переводами, хотя это ничто в сравнении с начинаниями, которые ты смело взваливаешь на себя.
В последнее время Адриенна еще усерднее трудилась над подготовкой к изданию «Навир д’аржан» и даже привлекла Огюста Мореля переводить «Улисса» для следующих выпусков журнала, поскольку юный Жак Бенуа-Мешен, сделавший такой замечательный перевод для французского дебюта «Улисса» в 1921 году, отказался продолжать работу, отдав предпочтение более высокооплачиваемым заказам. Ларбо готовился вскоре опубликовать свой очерк об Уолте Уитмене, а сама Адриенна дописывала эссе об Андре Жиде и Валери. Долгие часы работы ее утомляли, отбирая время у других ее занятий вроде готовки, которая всегда успокаивала ей нервы. Сильвия старалась проявлять терпение в надежде переждать напряженные времена, как поступила с ней сама Адриенна в разгар передряг с публикацией «Улисса».
— Некоторые вещи ты прекрасно переводишь и без меня, — возразила Адриенна с удивившей Сильвию горячностью. — А перевод представляет собой род интерпретации. Паунд, и тот считает, что это отдельный вид искусства в собственном праве.
В дверь кухни всунулась голова Тедди, который хотел разузнать, что за сыр-бор.
— И почему это я сегодня вызываю у тебя столько недовольства? — Адриенна тряхнула головой, словно желая отбросить мысли, и заговорила уже более мягко: — Я… просто переживаю, что ты вечно отдаешь другим больше, чем нужно, а себя обделяешь. Посмотри на Гарриет. Она отдает Джойсу все, и… чем она может похвастаться?
Тут Адриенна была права. Жизнь Гарриет и правда, казалось, вращается вокруг одного только Джойса.
— Зато у меня есть «Шекспир». И есть ты. — Сильвия подошла к Адриенне и обвила руками ее мягкий пышный стан, затем поцеловала ее соленый влажный рот, и шею, и ухо, и чувствовала, как с каждым поцелуем подруга понемногу успокаивается. — И еще у нас есть Тедди. Вот тебе и доказательства, что наш корявый Иисус далеко не безраздельно царит в моей жизни.
Адриенна тоже обняла Сильвию, и они поцеловались.
— Адриенна… — Проклятый вопрос жег Сильвии язык еще со дня той поганой вечеринки. И сегодняшний выплеск недовольства Адриенны заставил решиться. — Ты… счастлива? Может быть, тебе нужно что-то еще, чего нет в наших с тобой отношениях? Что-то, чего я не в состоянии дать тебе?
Адриенна закрыла глаза и прижалась лбом ко лбу Сильвии, как будто обдумывала, что ответить. Наконец она выговорила:
— Нет. Разве что желала бы, чтобы этот же вопрос ты задала себе. Не о том, достаточно ли я даю тебе, а достаточно ли ты сама себе даешь.
— Ну разумеется, ведь сейчас я счастлива как никогда.
Что, сообразила Сильвия, было правдой и при этом нисколько не отвечало на вопрос Адриенны.
— Я еще подумаю об этом. — Она поцеловала Адриенну и скользнула руками ей под блузку. — Обещаю тебе.
Глава 17
— Дорогая моя, до чего же я рада тебя видеть! — воскликнула мать Сильвии и бросилась ей на шею, целуя в щеки и обнимая так крепко, что у той перехватило дух.
Сильвия тоже хотела выказать в ответ безудержную радость и дочернюю любовь, но осеклась при виде землисто-бледных щек матери, ее воспаленных глаз, повисших прядей волос в неуместном сочетании с щегольскими жакетом и юбкой — все это напоминало о причине их неожиданной встречи. Сильвия ограничилась формальным объятием и коротким: «Рада, что ты здесь, Maman».
Затем она обратилась к одному из gendarmes[117], который с каменным лицом наблюдал их семейную сценку, на отрывисто-четком официальном французском:
— Я уже заплатила за вещи. Вы позволите забрать ее домой?
Жандарм молча кивнул, Сильвия взяла мать под локоть, и они пошли прочь из сырого и шумного полицейского участка, причем Сильвия отвечала резким взглядом каждому стражу порядка, кто на нее смотрел, а ее матушка не поднимала глаз от изысканных пряжек на мысках своих кожаных туфелек.
«Чертовы пряжки. Ну почему так получается, — с тоской думала Сильвия, — что те, кого я люблю больше всего на свете, так сильно привязаны… к вещам? Кроме Адриенны, конечно». Джойс, который фактически вымаливал дополнительные деньги, чтобы летом вывезти свое семейство на север Бельгии, где, видите ли, прохладнее, недавно прислал на адрес «Шекспира и компании» небольшое полотно эпохи Возрождения, стоившее хоть и маленькое, но состояние. А сейчас, пожалуйста, ее собственную мать поймали в бутике на Елисейских полях на краже броши и шарфа! Она ведь даже не известила Сильвию, что приехала в Париж. А мы с Адриенной трясемся над каждым грошом, чтобы наскрести на несколько недель в Ле Дезере, где будем жить в амбаре, господи прости!
Нет, Сильвия нисколько не завидовала. Страсть к вещам была ей чужда. Ее заботило разве что здоровье любимых ею людей и благополучие лавки. Но иногда ее просто воротило от того, как эти самые любимые ею люди тянутся к фальшивому материальному счастью.
Тем большую благодарность она испытывала к Адриенне, позволявшей себе единственную земную слабость к вкусной пище, которой они, по крайней мере, могли наслаждаться вместе. А недели, проведенные в глуши Ле Дезере, где они жили в проржавевшем амбаре, сами выращивали к своему столу овощи, подолгу бродили ветреными горными тропами среди позолоченных летним солнцем гор и холмов, Сильвия считала одними из лучших в своей жизни. Это там она однажды даже испытала нежелание возвращаться в суетный Париж.
Сильвия провела мать по подземному переходу в метро; они сидели в вагоне плечом к плечу, пока поезд грохотал, скрежетал и трясся в темных тоннелях, и молча наблюдали, как хорошо одетые, еще сохранившие летний загар парижане входят и выходят на станциях, читают газеты или болтают с друзьями. Вернувшись в сердце Пятого округа, они вышли в ясный осенний денек, и Сильвия повела мать в маленькое уличное кафе всего с тремя столиками, где заказала им по чашке кофе со сливками и по порции флана. И только после этого спросила мать:
— Почему?
На что Элинор капризно выпятила нижнюю губу и, пожав плечами, обронила:
— Мне их захотелось.
Принесли кофе, и Сильвия обрадовалась вынужденной паузе в тяжелом разговоре, пока официантка расставляла перед ними фаянсовые чашки с блюдцами и звякала десертными приборами.
— Холли писала мне, что дела у вас в магазинчике идут хорошо, — заметила Сильвия, имея в виду небольшую лавку импортных товаров, которую недавно открыли в калифорнийской Пасадене ее мать и сестры. Точнее, в основном Холли и Элинор, потому что Киприан вечно моталась между лавкой и Голливудом, где ходила на все пробы, куда только могла пробиться, — что обычно заканчивалось для нее горьким разочарованием. Холли писала, что их магазинчик, в котором они торговали европейской домашней утварью, более или менее процветает на западе, где европейская роскошь казалась «большей диковинкой на здешних просторах, чем ориентальная». Киприан же выразила ту же мысль безо всяких церемоний: «Эти деревенщины в упор не поймут, что вещь стильная, если ее цена не кусается, так что им можно втюхать что угодно и притом задорого».
— Да, дела идут хорошо, — ответила Элинор, слизывая с верхней губы молочную пенку. — Но недостаточно хорошо.
— Ох.
Про отца спрашивать было бессмысленно; этим летом он тоже навестил Сильвию — правда, обошлось без приключений. В Париж он заезжал по пути в восточные страны, куда призывали его дела миссионерства и где, собственно, он все еще находился. Но почему он даже не обмолвился Сильвии, что с его женой, ее матерью, творится неладное, что Элинор уже совсем не та, какой была? Или он просто не замечал? А если замечал, почему оставил ее одну, наедине с тоской? И почему мама даже не собиралась повидаться с ним, если все равно ехала в Европу? Вопросы водоворотом кружились в голове, и Сильвия почувствовала, что теряет твердую почву под ногами.
— Чем мне тебе помочь? — спросила она у матери. Любимый вопрос Сильвии. Придумай она способ помочь, дела бы наладились.
Элинор проглотила кусочек флана и вздохнула.
— Слишком поздно помогать мне, Сильвия. Я стара, я потеряла фигуру, растеряла красоту. Единственное, что еще доставляет мне радость, это любоваться красивыми вещами. Мне уже мало смотреть на них со стороны в музее, магазине, или этих vista[118], как их называют в Калифорнии. Мне нужно, что прекрасное было на мне. Понимаешь, если я ношу красивый браслет или красивое платье, частица их красоты словно бы переходит на меня. — Она снова вздохнула. — Или я стараюсь себя обмануть. Может быть, когда что-то красивое рядом со мной, на мне, я способна хоть на мгновение забыть, что свою красоту я уже растеряла.
С болью в сердце Сильвия накрыла рукой руку матери на холодной поверхности круглой мраморной столешницы.
— Мне очень жаль, Maman. Хоть я твоя дочь, в моих глазах ты совсем не такая, как о себя говоришь. Вовсе ты не старая! И ты мыслишь здраво. Перечитай Бальзака, позаимствуй мужества у его возрастных куртизанок. Или посмотри на Эдит Уортон, на Гертруду Стайн, они хоть и в годах, здесь в Париже вокруг них так и вьются толпы поклонников.
— Но я-то бедна.
— Разве это когда-нибудь мешало тебе?
— Да каждый день моей жизни.
Ее признание было ошеломительным. Неужели и правда она всегда чувствовала себя в нужде? Как же Сильвия того не замечала? Оставалось только гадать, что думают по этому поводу Холли и Киприан, и Сильвия сделала себе мысленную зарубку сегодня же написать сестрам.
— Давай ты останешься со мной на несколько деньков, — взмолилась Сильвия. — Адриенна восхитительно готовит. Будем есть всякие вкусности, к тому же тебя порадуют интересные личности, которые заходят ко мне в лавку. И еще мы как следует прогуляемся по магазинам. А может, сделаем тебе шикарную стрижку?
Элинор пожала плечами.
Начало было положено.
— Джордж что, в Африке? — спросила Жюли.
— Вот тебе и на! С чего это вдруг? — изумился Джойс.
— Антейл, что ли? — вклинился в разговор Боб. — То-то я смотрю, здесь тихо.
— Да, Джордж Антейл, и да, в Африке, хотя никто не возьмет в толк почему, — сообщила друзьям Сильвия, но пока объясняла, сама вдруг начала догадываться, отчего композитор уехал на южный континент. Видя, сколько изумления и любопытства отразилось на лицах ее спокойных, рассудительных друзей, Сильвия заключила, что некоторое внимание ему и его «Механическому балету» обеспечено.
Молва и правда распространилась быстро. Те же газеты, что освещали ход написания «Улисса», а затем перипетии его публикации Сильвией, этой осенью полнились догадками о том, где сейчас композитор, поставляя пищу для сплетен и любопытства во все парижские кафе и бары. Куда девался Джордж Антейл? Почему он исчез накануне анонсированного дебюта полной версии «Механического балета» и обещанной им Второй симфонии? Неужели он сам так же экстравагантен, как его музыка? Возможно, он изучает ритмы племенных танцев и включит их в новое произведение, которое прозвучит на концерте, что состоится весной? Возможно, перед нами Гоген от музыки?
Даже Сильвия, его добровольный рекламный агент и хранитель корреспонденции, получала лишь крупицы драгоценной информации из первых рук. Поначалу она с удовольствием передавала слухи и поддерживала общий интерес к Антейлу. Но чем дальше катилась осень навстречу зимним холодам, тем более неприятный оборот принимали обсуждения. Может быть, ему просто плевать на свою аудиторию? Так называемый гений работает над великой симфонией в Африке? Немыслимо! Его что, затянуло «Сердце тьмы»?[119] — И тогда Сильвия, не выдержав, послала ему письмо с мольбами поскорее вернуться.
Это уже был перебор, слишком много всего на нее навалилось. Близился к завершению 1925 год, а Сильвия чувствовала, что ее силы на пределе, как в конце 1921-го, когда она сбивалась с ног с бесконечными правками гранок и подписками на «Улисса». Вдобавок к причудам Антейла ей приходилось тащить воз повседневных дел Джойса: вести бухгалтерию, планировать следующие издания, контролировать перевод романа на другие языки, следить за счетами его врачей и договариваться об их визитах, выслушивать его брюзжание насчет нового произведения, потому что даже Эзра Паунд, похоже, не слишком жаловал его «Неоконченный труд». Не так давно возникли еще проблемы: некий Сэмюэл Рот из Нью-Йорка, как выяснилось, наладил в Америке выпуск пиратского издания «Улисса» по частям и обещал вскоре издать полный текст романа. А у дочери Джойса Лючии, мечтавшей танцевать и недавно поступившей в студию, которой она восхищалась, появились странности в поведении, что дало ее родителям повод для бесконечных споров, как обеспечить ей лучший уход.
В довершение этой кутерьмы дел и забот Сильвия еще пыталась последовать совету Адриенны и выкроить время для одной своей заветной мечты: устроить ретроспективную выставку Уолта Уитмена, представив авторские черновики, первые и последующие издания, фотография, портреты, письма и прочее. В кои-то веки личная переписка Сильвии с потомками друзей и покровителей выдающегося поэта, не говоря уже о нескольких музеях, хранивших связанные с ним экспонаты, по темпам и напряженности обогнала ее переписку по делам Джойса. А может, Сильвия просто позволяла той накапливаться, пока занималась выставкой. Сам Джойс, будучи великим поклонником Уитмена, всей душой поддерживал начинание Сильвии и предлагал всю свою поддержку, на какую был способен. И появляясь в лавке, даже начал здороваться с Сильвией строкой из Уитмена: «О капитан! Мой капитан!»[120]
Одним бодрящим осенним утром, вскоре после того, как Элинор поймали на магазинной краже, Сильвия составляла описания экспонатов для выставки, а ее мать с Мюсрин обслуживали клиентов, расставляли по полкам книги и наводили порядок в торговом зале, когда в лавку пришла Жюли с маленькой Амели. Вид у Жюли был такой несчастный, что Сильвия сразу подумала о Мишеле в тревоге за его душевное состояние. Это надрывающий душу роман Вирджинии Вулф «Миссис Дэллоуэй» навел ее на мрачные мысли о симпатичном мяснике: уж очень он походил на персонажа Вулф — надломленного Великой войной Септимуса Уоррена Смита. Жюли обычно избегала подобных разговоров, но на сей раз Сильвия решилась затронуть запретный вопрос и, отведя ее в библиотечную секцию, произнесла:
— Вы в порядке, Жюли? А как Мишель?
На глазах Жюли блеснули слезы, она пыталась проглотить тяжелый ком в горле, не в силах вымолвить ни слова. Амели играла с ее локоном и что-то лепетала.
Сильвия слегка притронулась к руке Жюли.
— Есть люди, понимающие, через что ему пришлось пройти, и, возможно, они сумели бы облегчить его страдания.
Жюли откашлялась и хрипло ответила:
— Он ни за что не согласится на психоанализ. Он считает, они все шарлатаны.
Жюли, как поняла Сильвия, не разделяла мнения Мишеля и уверяла, что уже не раз пыталась уговорить его показаться специалисту.
— На сегодня лучшим противоядием от кошмаров ему служит поэзия.
— Как вы думаете, возможно ли, что мне, Адриенне или кому-нибудь из наших друзей удалось бы помочь ему или хотя бы убедить обсудить с кем-нибудь свое состояние?
Жюли печально покачала головой.
— Кто только не пытался. И его друг детства. И его мать. Я тоже.
Сердце Сильвии разрывалось от жалости.
— Тогда, может быть, я чем-нибудь смогу помочь вам, Жюли?
— Вы и так помогаете. И Адриенна тоже. Ваши две лавки… в них мы как в раю.
В этот момент в библиотеку почти на цыпочках вошла мать Сильвии и, увидев малышку Амели, игриво произнесла по-французски:
— Кто у нас тут такой?
От интереса к дочке лицо Жюли сейчас же прояснилось, она легонько подтолкнула Амели к Элинор и попросила:
— Ну-ка скажи, как тебя зовут.
— Амели, — пробормотала девочка, посасывая кулачок.
Элинор заулыбалась.
— Какое красивое имя. А я мадам Бич.
Амели перевела огромные голубые глаза на Сильвию и указала на нее рукой, вынув ее изо рта:
— Мадам Бич.
— Мадамуазель Бич, — исправила ее Элинор и подмигнула. Потом похлопала себя по груди и добавила: — Мадам Бич.
Ужасно озадаченная, Амели взглянула на мать, прося помощи:
— Maman?
Жюли рассмеялась:
— Можешь называть ее хоть мадам, хоть мадемуазель, petit lapin[121].
— Bien sûr[122], — согласилась Элинор, явно очень гордая собой, что сумела развеселить печальную Жюли. — Сильвия, ты не против, если я устрою себе маленький перерыв и свожу эту чудесную малышку погулять и угоститься macarons?
Глаза Амели распахнулись еще больше, и она вопросительно взглянула на мать.
— Ух ты, как здорово, — обрадовалась Жюли. И с чувством поблагодарила Элинор: — Merci beaucoup[123], мадам Бич.
— А ты, дорогая, зови меня Элинор, — сказала та, затем взяла Амели за ручку и повела к выходу, ласково спрашивая ее, слышала ли она когда-нибудь о непослушном кролике по имени Питер.
От такой картины к горлу Сильвии подкатил ком. Сама она никогда не хотела детей, а сейчас ее охватило внезапное страстное желание подарить своей матери внука или внучку. Интересно, сподобится ли на это Холли. Старшая сестра виделась Сильвии самым подходящим кандидатом в матери, потому что у Киприан чем дальше, тем меньше хватало терпения на мужчин, особенно на калифорнийских, которых она называла «неотесанными ковбоями».
Сильвия не уставала удивляться, почему ее сестра-актриса торчит на Западе, вместо того чтобы попытаться пробиться на сцену в Нью-Йорке или Бостоне. Потом от Киприан пришло письмо насчет их матери:
Весь последний год мама тосковала, что отчасти и держит меня здесь, несмотря на отсутствие ролей. У нас с ней много общего, в частности любовь к европейской роскоши, и потому наша затея с магазином доставляет нам истинное удовольствие. А у Холли открылся талант к счетоводству, так что из нас троих получилась хорошая команда. От папы толку чуть, даже говорить не хочется. Вечно он то проповедует, то пропадает в церкви и занят только своим миссионерством. Такое впечатление, что его нисколько не интересует, чем мы там занимаемся, и, если честно, это чувство у нас глубоко взаимное.
Не принесло облегчение и письмо от Холли:
Мама с папой уже не так ладят, как прежде. Когда они оба дома, то почти не смеются вместе, а наш магазин папа вообще не понимает и не приемлет, только и твердит: «Занялись бы лучше чем-нибудь посодержательнее, как наша Сильвия». Но ты не переживай, дорогая сестричка, — ни одна из нас не таит на тебя зла за твои успехи! Все мы очень гордимся тобой! Но папа, похоже, только и желает, чтобы мы выбрали себе каждая по своей Одиссее и пустились в собственные плавания. А мы счастливы нашим магазинчиком — кто-кто, а ты точно способна оценить это, я уверена.
Письма сестер опечалили Сильвию не только открывшимися ей безрадостными фактами, ее удручало, что она мало чем могла им помочь из Парижа. Лучшее, что было в ее силах, так это убедиться, что мать отдохнет и проведет время с удовольствием, прежде чем вернется к семье, — и, похоже, так все и выходило, особенно благодаря удивительной привязанности к малышке Амели, с которой Элинор виделась теперь почти каждый день. Она с удовольствием снимала на несколько часов груз родительских забот с плеч Жюли и возвращалась в лавку такой же довольной и радостной, как сама Амели, которая светилась чистой радостью после их походов в Люксембургский сад, на кукольные представления, в блинную за breton crêpe[124] с клубничным джемом или после катания на пони. Жюли в это время занималась своими делами, а иногда без сил валилась в зеленое кресло, читала или дремала. И все трое, как казалось Сильвии, получали свои простые радости, так нужные им.
В конце ноября Элинор со слезами на глазах отбыла на закупки в Германию и Швейцарию, но довольно быстро вернулась, румяная и счастливая, нагруженная чудесными изящными сувенирами и безделушками, которые накупила на рождественских базарах: там были выточенные из дерева крошечные елочки с золотыми шариками, украшения из цветного и дутого стекла, искусно сработанные и живописно раскрашенные миниатюрные вертепы. Алея смущенным румянцем, Элинор одарила образцами почти всего, что навезла, Сильвию с Адриенной и Жюли с Амели, а остальное отправила в свой магазин в Пасадену, надеясь, что хотя бы часть товара прибудет вовремя, к рождественским продажам, хотя закуплено было столько всего, что хватило бы и на следующий год.
Подтвердились слова, которые она говорила Сильвии после своего задержания в магазине: соприкосновение с красивыми праздничными вещицами оказало на Элинор самое живительное действие; такого эффекта не дали даже несколько их походов в Лувр. Сильвия приметила изящный золотой браслет на правом запястье матери и понадеялась, что он куплен обычным порядком, а не тайком стащен с прилавка, но не нашла в себе сил уточнить. Он отчего-то напомнил ей изысканную квадратную картину, которую Джойс повесил у себя на площади Робийяк возле окна с видом на Эйфелеву башню; на картине тоже было изображено окно, а за ним вдалеке виднелись море и корабли. Джойс — очень в своем духе — повесил картину возле собственного окна с видом на прекрасный пейзаж. Она представала репликой, отзвуком, перекличкой.
Как ни тошно было Сильвии признаться себе в этом, как ни мучили ее угрызения совести по отношению к Жюли и Амели, она испытала облегчение, когда ее матушка погрузилась на первый из многочисленных поездов и кораблей, которыми ей предстояло добираться до Калифорнии, чтобы успеть отметить Рождество с Холли, Киприан и отцом под солнцем Западного побережья. А Сильвия с Адриенной, напротив, отправились в старый добрый домик в Рокфуэне встречать праздник с семейством Монье. Они привезли в подарок те самые расписные ясли с младенцем Иисусом, что никак не помещались в их тесную квартирку на улице Одеон, зато нашли почетное место на каминной полке в гостиной семейства Монье, возле сияющей огнями елки, которую они все вместе нарядили в сочельник. На праздничной неделе они слушали по радио рождественские хоралы, пили глинтвейн и ели самое восхитительное имбирное печенье из всех, что Сильвия когда-либо пробовала. Крошка Тедди и огромный Мусс устраивали веселые потасовки или спали, прижавшись друг к дружке, точно родные братья после долгой разлуки.
Засыпая в те последние ночи 1925 года, Сильвия ловила себя на чувстве, что в ее отношениях с Парижем что-то поменялось. Нет, ее сердце по-прежнему принадлежало этому городу, и по-прежнему не было для нее в мире места лучше и любимее, и все же что-то такое в сельских каникулах бередило ей душу. Нечто сродни смятению, которое в юности повсюду преследовало ее, не давая покоя, и которое в прошлом всегда возвращало ее в Париж. Но видит бог, сейчас оно выбивало ее из колеи.
«Должно быть, это из-за мамы. И из-за того типа, Сэмюэла Рота, — твердила себе Сильвия, стараясь отогнать от себя тревожные мысли, и искала умиротворения в легком мерном дыхании спавшей рядом Адриенны. — Вот бы 1926 год принес нам больше мира и спокойствия».
Глава 18
Апрельским вечером на открытии своей выставки, посвященной Уолту Уитмену, Сильвия сновала в толпе гостей, вываливающейся из ее лавки на улицу. Ради такого случая Элиот приехал из Англии, Эзра — из своей любимой Италии, а ее родители решились на долгое путешествие с Западного побережья Америки. Явились даже ее догматически преданные модернизму литературные друзья, если не для того, чтобы поднять бокалы за великого поэта — потому что, как сказал Элиот, что толку старине Уолту от их славословий, когда его варварские вопли и так достаточно громко доносятся с написанных им страниц, — то хотя бы поддержать Сильвию и повидаться друг с другом. И что любопытно, более всего Уитмен очаровывал именно ее первых парижских друзей и клиентов, тех самых potassons из лавки Адриенны. И разумеется, Джойса. Как только Сильвии начинало казаться, что она уже по горло сыта его жалобами на больные глаза и отсутствие денег, он появлялся на пороге лавки, возглашая «О я! О жизнь!» или «Когда я услыхал к концу дня», с букетом нарциссов в руке, и ее раздражение мигом улетучивалось.
— Жаль, что Гертруда не смогла прийти, — сказал Эрнест. — Должно быть, она единственная из парижских американцев, кого сегодня здесь нет.
— Только не надо лицемерить, вам это не идет, — с улыбкой отозвалась Сильвия, слышавшая о его недавнем разрыве со Стайн. Пусть и без подробностей, но она знала об их разладе, впрочем ничуть ее не удивившем. Такой исход был неизбежен, учитывая вспыльчивость Эрнеста и его раздутое эго, а также нетерпимость Гертруды ко всякому, кто осмеливался хоть словом перечить ей. Хотя Сильвию успокаивало, что они с Джойсом не единственные, кто впал у нее в немилость, ей было по-человечески жаль Гертруду. Потому что ее упрямство выходило боком только ей самой и ее верной Элис.
— Лицемерю? Я? — не без лукавства спросил Эрнест.
Рядом возник несносный Форд Мэдокс Форд[125] с бутылкой шампанского и, наполнив их бокалы, перешел к другой кучке гостей, а Эрнест с Сильвией немного повспоминали свое недавнее приключение на заключительном этапе шестидневной гонки на велодроме «Вель д’Ив». Подбадривающие крики болельщиков и шуршание шин сливались в громкий жизнеутверждающий гул.
— Я все хочу предложить вам спонсировать боксерский матч между парижскими писателями, — закинул удочку Эрнест.
Сильвия рассмеялась.
— Чего мне точно не хватало, так это писателей с разбитыми в кровь кулаками, которые не дадут им взяться за перо!
— Отчего же, Торнтон[126] и Эзра, думается мне, в хорошей форме, — продолжал Эрнест. — Джойсу, конечно, дадим отвод из-за глаз.
Сильвия тряхнула головой.
— Ума не приложу, Эрнест, как вам на все хватает времени!
— А я не приложу ума, почему его не хватает другим, — парировал он. — Славно вы увильнули, Сильвия.
Она изобразила нырок, подсмотренный ею у его любимых боксеров, когда они уклонялись от удара, он хихикнул, и они чокнулись бокалами.
Затем Сильвию затянуло в разговор, который словно перенес ее на пять лет назад. Эзра, Валери, Макалмон и Джойс сцепились в жарком споре о судьбе «Улисса».
— …а Куинн попросту ошибался, — говорил Эзра, когда Сильвия подошла к их компании.
— У меня дежавю, — сказала она. — Он что, опять неправ, теперь уже из могилы? — Около двух лет назад юрист скоропостижно скончался; ему было слегка за пятьдесят, и многих поразила его внезапная смерть.
— Да уж, его ляпы по части авторского права до сих пор преследуют нас, — пробурчал Эзра. — По его милости «порноиздатель» Сэмюэл Рот безнаказанно выпускает пиратское издание «Улисса».
— Жаль, бедняга Куинн слишком мертв, чтобы насладиться своей неправотой, — заметил Боб.
— Я и сама тревожилась на этот счет три года назад и спрашивала Куинна, нужно ли добиваться, чтобы роман внесли в каталог Библиотеки Конгресса. А он уверил меня, что напечатанных в «Литтл ревью» эпизодов достаточно, чтобы авторское право распространялось на все произведение. — Сильвия покачала головой. — Никто ему не возразил, вот он и не рвался помогать.
— Проклинаю день, когда доверился этому Куинну! — воскликнул Эзра.
— А кому еще нам было верить? — возразила Сильвия. — Другие адвокаты не очень-то выстраивались в очередь перехватить у него дело. Помнится, Маргарет с Джейн к кому только не обращались.
Сильвия огляделась в поисках двух редакторов «Литтл ревью», но так и не увидела их в толпе.
— Давайте все же не забывать, что он был великим коллекционером и покровителем, — заметил Джойс. — И в то время он, как казалось, желал книге только добра.
— Есть у вас план, как бороться с пиратским изданием? — спросил у Сильвии Эзра.
— Пока нет, — ответила она, раздражаясь, что другая тема затмевает ее выставку Уитмена. — Но бороться мы планируем. В конце концов, это источник дохода для Джойса и для моей лавки. Не можем же мы позволить Роту незаконно выкачивать средства, которые принадлежат нам по праву.
— Так и есть, — кивнул Джойс.
— Что ж, если вам что-нибудь понадобится, дайте мне знать, — обронил Эзра, словно предлагал Сильвии починить очередной захромавший стол или стул. Она заметила также, что он полоснул Джойса сердитым взглядом, и спросила себя, так ли желает знать, что между ними происходит.
Под предлогом, что ей надо пойти поздороваться с Сарой и Джеральдом Мёрфи[127], а на самом деле чтобы уклониться от разговора, в котором явно сгущались тучи, Сильвия ретировалась. На том конце лавки она заметила, как ее мать на прощание целует Жюли, Амели и Мишеля, а стоящий рядом отец растроганно наблюдает эту сцену. Сильвию порадовало, что он составит матери компанию в очередной поездке за закупками в Италию, хотя у него там были и свои дела. Сильвия считала, что для Элинор лучше всего, чтобы ее сопровождал именно отец, хотя недавнее письмо от Киприан нарушило ее идиллические представления на этот счет: «В обществе папы мама угрюмее. Ей труднее раскрепоститься и оставаться собой». Сильвия была так занята в последние дни, что у нее не оставалось ни сил, ни времени поглубже вникнуть в отношения родителей, когда те вместе приехали в Париж. Но точно ли мама чувствовала себя лучше, чем прошлой осенью? С виду, во всяком случае, да.
Пока Сильвия пробиралась сквозь толпу к родителям, ее перехватил Эзра и тихо сказал:
— Вам известно, что в прошлом году Джойс заключил с Ротом контракт на издание отрывков «Неоконченного труда» в его журнале «Ту уорлдс»?
Сильвия замотала головой и снова испытала противное чувство отчужденности, как несколько лет назад, когда Джойс не считал нужным держать ее в курсе судебного разбирательства по «Улиссу». Конечно, он был совершенно в своем праве частями публиковать собственное произведение в США, но ей хотелось бы, чтобы он хотя бы обговорил с ней эту идею.
Эзра ниже наклонился к Сильвии и, прищурившись, продолжил:
— Рот, между прочим, годами не давал Джойсу проходу по поводу «Улисса». И я не удивлюсь, если уже отправил ему контракт, предусматривающий больше прав, чем просто публикация отрывков из «Неоконченного барахла», что тот сейчас кропает. Как не удивлюсь, если Джойс не дал себе труда внимательно прочитать этот документ, чтобы не попасться в его силки. Рот тот еще змей, Джойс перед ним доверчивый ягненок. И не говорите потом, что я вас не предупреждал.
— Будем считать, что я должным образом предупреждена, — ответила Сильвия, чувствуя, как в жилах закипает кровь, заливая краской ее щеки и заставляя зудеть шею. — Спасибо, что сказали, Эзра.
Ах, Уолт. И где вы черпали столько оптимизма, притом что вы — подумать только — были писателем?
— Сколько экземпляров продано?
— Двадцать тысяч.
— Только за первый год?
— Судя по всему, да.
Джойс почти рухнул в любимое кресло, а Сильвия стояла рядом, положив руку ему на плечо.
— «Великий Гэтсби» не то, что «Улисс». И рядом не лежал, — сказала она. — При таком количестве проданных экземпляров это даже не бестселлер.
— Зато запросто может им стать. — Джойс умоляюще взглянул на Сильвию. — Думаете, «Гэтсби» долго продержится? Вы всегда говорили, что моему «Улиссу» уготована долгая жизнь.
— Не знаю, — ответила Сильвия, не в силах покривить душой даже перед своим любимым писателем, потому что в романе Фицджеральда определенно чувствовалось что-то особенное. Да, он был ближе к массовой литературе и принадлежал совсем к другой лиге, чем шедевр Джойса. И всё же. Это был блестящий роман. И трогательный. Он откликался в душе каждого, кто считал себя американцем. В нем даже чувствовалось что-то уитменовское.
— В литературе полно места и для авангарда, и для коммерческих произведений — вот что я знаю наверняка. Им вовсе нет нужды конкурировать.
Джойс молчал. Спустя минуту или около того он наконец произнес:
— Я упустил его, когда он в прошлый раз приезжал в Париж, зато повсюду видел его фотокарточки. Они с женой прекрасны. Магнетически прекрасны, как говорят.
— Да, — осторожно согласилась Сильвия, — они с Зельдой обворожительны.
— Эрнест с ним познакомился и после говорил мне, что я стал одной из причин, которые привели мистера Фицджеральда в Париж. Дескать, ему подошел бы любой город, где мог быть написан и издан «Улисс». Мне не очень-то в это верится. Что великому Скотту Фицджеральду нужно от Леопольда со Стивеном?
— Как вы можете так говорить? Нам всем нужны Леопольд и Стивен. Всякий достойный своего звания писатель обязан считаться с ними.
— Вы думаете? — Джойс взглянул на нее замутненным глазом через очки, на втором чернела повязка.
— Конечно, я так думаю, — подтвердила Сильвия.
— А вы когда-нибудь хотели открыть свой филиал в Нью-Йорке?
Он так резко сменил тему, что Сильвия даже опешила и, желая убедиться, что не ослышалась, переспросила:
— Где-где?
— В Нью-Йорке, — повторил он. — Мне подумалось тут на днях, что с Ротом было бы сподручнее бороться по его сторону Атлантики.
— Но я живу здесь. — О чем он? Он что, шутит?
Но Джойс и не думал шутить.
— Это не заняло бы много времени. Столько, чтобы вы успели открыть в Америке лавку, изничтожить Рота и начать публиковать там мой труд.
— Но… «Улисс» сейчас в Америке все под таким же запретом, как был четыре года назад.
— Возможно, нам удастся найти юриста получше, чем Куинн, и мы возобновим борьбу за роман. Как мы убедились в прошлый раз, из Парижа это почти нереально.
Стараясь побороть поднимающуюся в груди панику, Сильвия несколько раз глубоко вздохнула, попутно обдумывая, что ответить.
— Не уверена, говорила ли я вам когда-нибудь, но вначале я и сама хотела открыть в Америке лавку франкоязычной литературы, похожую на «Ля мезон» Адриенны. Но в 1919 году стоимость аренды уже была заоблачной. И с тех пор она только растет. Моей матери и сестрам, чтобы открыть маленький магазинчик, пришлось перебраться в Пасадену, аж на самый запад Калифорнии, а Калифорния, позвольте заметить, так же далека от Нью-Йорка и книгоиздания, как Париж.
Джойс нахмурился.
— Вас, как я вижу, не заинтересовала моя идея, хотя она-то и могла бы решить наши проблемы.
— Не то чтобы она меня не заинтересовала, просто я вижу, что это создаст нам не меньше проблем, чем поможет решить. — И заодно пустит под откос всю мою жизнь.
Он недовольно пожал плечами, всем своим видом показывая: не согласен.
— Мы найдем способ обуздать Рота, — убежденно сказала Сильвия. Пускай она пока не знала как, но своего все равно добьется. Обязана. Не она ли контрабандой переправила сотни экземпляров запрещенного «Улисса» и разослала их по всему миру? Не убоявшись ни законов Комстока, ни происков Джона Самнера, ни Почтовой службы? Какой-то Сэмюэл Рот и подавно не остановит ее.
Но Джойс упорно молчал, и мучивший Сильвию вопрос сам собой сорвался с ее губ:
— Мистер Джойс, это правда, что Рот опубликовал часть вашего «Неоконченного труда»?
Он вскинул голову так изумленно, что у Сильвии перехватило дыхание.
Однако быстро оправился и, махнув вялой рукой, сказал:
— Так, главу-другую. Он-то рассчитывал на большее, но я смекнул, какой он прохиндей.
— Видите ли, мне и в голову бы не пришло упрекать вас, если бы вы с ним переписывались. В особенности если бы он предлагал вам солидную сумму. — Сильвия благородно оставляла ему шанс проявить честность по отношению к ней.
— Мой издатель — вы, мисс Бич, — твердо заявил Джойс. Вот и весь разговор.
Сильвии хотелось бы чувствовать себя более уверенной в этом.
Глава 19
— Что ни говори, а Антейл — тот же Джойс, только от музыки, — пафосно заявила Маргарет Андерсон в «Монокле», баре, полюбившемся им с Джейн особенно тем, что Джейн, как и большинство его посетительниц, предпочитала костюм-тройку. Зато немало других дам, среди которых была и Маргарет, щеголяли в боа из перьев и надевали на голову расшитые бисером бандо. Сильвия ради новых подруг сделала над собой усилие и нарядилась в черное платье и алые лодочки своей сестры, а Адриенна выбрала старый отцовский костюм, сидевший на ней удивительно ладно.
Несколькими часами ранее они были свидетельницами зрительского бунта, вспыхнувшего в Театре Елисейских полей на премьере «Механического балета» Джорджа Антейла. Когда шестнадцать пианол заковыляли по поверхностям своих валов, на которых, как в азбуке Брайля, выступами обозначались нужные ноты, а оркестр завел свою партию, оглашая зал спорадическими нестройными звуками, парижане и экспатрианты, относившие себя к числу ценителей музыки, вскочили со своих мест, чтобы освистать произведение и забросать сцену гнилыми фруктами, чем подвигли другую часть зала тоже вскочить, но с одобрительными возгласами. Гвалт стремительно нарастал, и страсти разбушевались не хуже, чем на боксерских матчах, куда Сильвию и Адриенну водил Эрнест.
— Что правда, то правда, — согласилась Джейн, откидываясь в плетеном кресле и затягиваясь тоненькой сигаркой. — Оба готовы ради искусства всех доконать.
— Но, дорогая, дело в чем-то большем, чем просто восприятие, — восторженно откликнулась Маргарет. — Дело в музыкальности. Не знаю, известно ли вам, — обратилась она к Сильвии с Адриенной, точно собиралась посвятить их в важный государственный секрет, — но я начинала с музыки. Да-да, и симфонии я слушала задолго до того, как пристрастилась к чтению. Особый дар Джойса заключается в том, что он заставляет свое произведение звучать у меня в ушах — вот чем он в первую очередь влюбил меня в свои работы. Не так ли, Джейн? Не я ли твердила, что именно музыкальность Джойса делает его творчество непреходящим?
— Так и было, — глубокомысленно кивнула Джейн. — Хотя, несомненно, как всегда говорила я, здесь упущен тот факт, что большинство его читателей откликаются на его стиль, на то, как текст смотрится на странице. И на его пакости. А временами на его убийственно занудный реализм. И на эту манеру выставлять напоказ все, какие только таятся в закоулках нашего разума, темные низменные секреты.
— И все они составляют части его симфонии!
Джейн выдула на Маргарет облачко ароматного дыма и улыбнулась ей с обожанием. У Сильвии создалось впечатление, что они с Адриенной наблюдают одну из привычных сценок, какие разыгрывает между собой эта пара.
— Не вижу причин, почему его творчество не может быть и тем и другим: и музыкой, и литературой, — высказалась она.
— Ох, Сильвия, — рассмеялась Маргарет и одним махом прикончила последний бокал Кот-дю-Рон[128], — что за занудство!
Адриенна, которой всегда быстро надоедали любые касающиеся Джойса разговоры, решила сменить тему.
— Так просветите же нас поскорее, Маргарет, что представляет собой произведение Антейла с музыкальной точки зрения. Я не могу похвастаться глубокими знаниями в этой сфере, как вы. Музыка доставляет мне удовольствие, но я никогда специально ей не обучалась.
— Вот-вот! Знаниями не могут похвастаться и обыватели, которые забрасывали сцену отборными персиками! Лучше бы они приберегли их для пирога. Пирог бы восстановил порядок в их жизни. Или скорее tarte[129], я полагаю. Неважно. Как вы, несомненно, слышали, и как слышали все другие, музыка Джорджа просто говорит нам о том, что гармонии пришел конец. Что прекрасная музыка, которая внушает нам иллюзию, будто жизнь исполнена смысла и порядка, — не что иное, как ложь.
— Такого рода доводов я уже наслушалась, — раздраженно сказала Адриенна. — Мы только их и слышим, когда заходит речь о новой литературе и новой музыке, как мы поколение назад наслушались подобного о живописи. Разве может одно-единственное музыкальное произведение перечеркнуть веками создававшуюся красоту? Пятую симфонию Бетховена? Фортепианные концерты Шопена? Фуги Баха? Новое искусство не отрицает всего, что существовало до него! Нет. Оно просвет, открытая калитка, показывающая тропинку тому, что придет следом за ним.
— Восхитительно! — воскликнула Маргарет, затянувшись сигаретой в элегантном костяном мундштуке. — Адриенна, вы должны написать что-нибудь для «Литтл ревью».
— Peut être[130], — уклончиво ответила Адриенна, и Сильвию позабавило — впрочем, как всегда — нечто особенное, что ощущалось в ее подруге, в том, как она умела привлечь к себе внимание и тут же от него отмахнуться, будто ей нет нужды цепляться за него, ведь его и так всегда было предостаточно.
Воодушевление по поводу выставки Уитмена и премьеры «Механического балета» постепенно спало, и казалось, что остаток 1926 года поглотит юридическая битва Сильвии с Сэмюэлом Ротом. Она изучила столько всего об авторском праве и пиратстве в издательском деле — больше, чем ей самой казалось возможным. Каждая подробность изводила ее своим занудством, и Сильвия даже злейшему врагу бы не пожелала блуждать в этом дремучем лесу.
Каждый божий день, начитавшись документов, как назло набранных таким плотным шрифтом, что буквы и строчки почти сливались, бедная Сильвия валилась без сил на кушетку в их с Адриенной квартире, порой даже надеясь на один из своих обычных приступов мигрени, который послужил бы уважительной причиной назавтра избавить ее от юридических дебрей. Но если мигрень в самом деле приходила, Сильвии становилось совсем худо и каждая клеточка ее тела сожалела о том глупом опрометчивом желании. И еще она замечала, что в последнее время головные боли участились. Она не знала, виной тому чтение сложных юридических текстов, нескончаемые уточнения в переписке с адвокатами в Париже и Нью-Йорке или общий стресс, в который вогнала ее эта баталия.
Как будто ей было мало бед, Джойс снова завел шарманку о нью-йоркской лавке. Он талдычил о ней не переставая, призывал Сильвию хотя бы попробовать найти доступное по цене помещение, и наконец у нее лопнуло терпение.
— Мистер Джойс, моя жизнь здесь, в Париже. И в Нью-Йорке я жить не хочу.
— Но вы же всегда сможете вернуться.
— Но я вообще не хочу никуда уезжать.
— Даже чтобы спасти нашу книгу?
— Я вообще не считаю, что мой переезд в Америку спасет «Улисса» от козней мистера Рота. Зато он испортит мне жизнь, сделает меня несчастной, разлучит со всем, что я люблю, и всеми, кого я люблю.
— Мисс Бич, вам следовало бы знать, что меньше всего на свете я бы хотел сделать вас несчастной.
— Тогда будьте любезны не возвращаться больше к этой теме, — отчеканила Сильвия с нажимом, какого прежде не позволяла себе в общении с Джойсом. И вообще ни с кем. Она даже не поняла, откуда взялась ее категоричность, ее решительный тон, ясно и не допуская возражений говоривший: прекратите донимать меня, сию же минуту.
Джойса вспышка Сильвии тоже, надо полагать, ошарашила. Он бросил взгляд на карманные часы, промямлил:
— Меня заждалась миссис Джойс. — И, схватив в охапку пальто и ясеневую тросточку, поспешил на выход, а Сильвия смотрела ему вслед, и кровь болезненно стучала в ее ушах.
— Вы молодец, — раздался вдруг голос Мюсрин, а Сильвия от неожиданности охнула и приложила руку к груди.
— Боже, Мюсрин. Прости. Я и забыла, что в лавке кто-то есть.
— Я не хотела отвлекать вас и изо всех сил старалась не слушать, но… он просто извел вас, Сильвия. Так нельзя. Особенно когда вы столько для него сделали.
— Ты говоришь как Адриенна.
Мюсрин заулыбалась.
— Лучшего комплимента я давненько не получала.
Натянутость в отношениях с Джойсом после того случая не добавляла Сильвии сил сносить гнусности в письмах Рота и его поверенных, низводивших ее до уровня простой секретарши и, что еще гаже, без стеснения дававших ей женоненавистнические прозвища вроде «злобой мегеры». «Это лишний раз показывает, — писала Сильвия Холли и подруге Карлотте, вместе с которыми участвовала в свое время в суфражистском движении, — что, хотя законы и поменялись, в мозгах ничего не сдвинулось. Женщинам все еще предстоит пройти огромный путь».
Правда, в этом сражении иногда случались повороты, укреплявшие дух Сильвии. Так, Людвиг Льюисон[131], немец по происхождению, но американец по духу и воспитанию, писатель, наделенный ясным умом и благородным сердцем борца за справедливость, какое-то время назад влившийся в сообщество писателей-экспатриантов, которое Сильвия с недавних пор стала называть Братией, принес в «Шекспира и компанию» проект письма. «Мы выступаем против наглого воровства великого литературного произведения, романа “Улисс” Джеймса Джойса, — писал Льюисон, — присвоенного Сэмюэлом Ротом, точно это пиратская добыча, захваченная в открытом море…» Предполагалось, что послание подпишут как можно больше писателей и интеллектуалов и оно будет отправлено во все газеты Америки для публикации.
Слезы застилали глаза Сильвии, пока она промозглым дождливым осенним утром читала его у себя в лавке.
— Спасибо вам, — прошептала она Людвигу, а он только улыбнулся.
— Моя дорогая Сильвия, это мы все должны говорить вам спасибо. И не только говорить, но и доказывать слова поступками. Вот лишь малая толика моей благодарности вам за все, что вы сделали для нас, американских писателей в Париже.
Непривычное чувство охватило Сильвию. Перед ней стоял человек далеко не первого ряда среди их американской Братии, едва ей знакомый, но он был читателем ее библиотеки и покупателем ее лавки и хотел помочь ей подняться с земли и отряхнуться от пыли. Комок в горле едва позволял Сильвии говорить.
— Думаю, надо будет показать письмо Маклишу, чтобы он проверил правовое обоснование, — продолжал Льюисон, и она кивнула.
— Спасибо, — повторила она сдавленным голосом.
И он сейчас же отправился на поиски Арчибальда Маклиша, юриста, ставшего писателем. Вот так запросто. Сильвия настолько привыкла полагаться на одну только Адриенну, ее партнера во всех делах, да на Мюсрин, кому за это платила, что ей было внове и немного тревожно получить поддержку от кого-то еще. От человека, на которого она никогда не рассчитывала.
И все же она испытывала облегчение.
Письмо и подписи, что они собрали, точно лонгетка, помогли срастить трещину в отношениях Сильвии и Джойса. Он снова начал захаживал в «Шекспира и компанию» почти с таким же ребяческим воодушевлением, каким горел в 1922 году, когда что ни день появлялись новые рецензии на «Улисса» и они с Сильвией зачитывали их вслух, словно теннисными мячиками перебрасываясь именами рецензентов и особенно удачными фразами.
— Неужели? — восклицал он. — Мистер Уэллс поставил подпись в поддержку моей книги?
— Вашей книги, а также свободы мысли и книгоиздательства, — отвечала Сильвия, и Джойс за это поднимал воображаемый бокал.
Все, буквально все подписали письмо. Вся Братия, а еще Сомерсет Моэм, и английский романист Э. М. Форстер, и многоуважаемый физик Альберт Эйнштейн, и итальянский драматург Луиджи Пиранделло. И даже Джордж Бернард Шоу.
Глава 20
Всего через месяц после пятилетия «Улисса» и сорокапятилетия Джойса, 14 марта 1927 года, Сильвии исполнилось сорок. Она не планировала отмечать свой день рождения, но у ее друзей были другие планы. Началось с того, что утром Адриенна подала ей в постель кофе и ее любимый tarte aux prunes[132], потом в лавку заглянул Боб с блоком сигарет ее любимой марки, и они тут же вместе выкурили по парочке, облокотившись на подоконник у открытого окна, а позднее еще по-зимнему робкое солнышко согревало их лица, руки и накинутые пальто, пока они обсуждали отдаление между Бобом и Байхер и их возможный развод. Людвиг преподнес Сильвии редкое издание стихотворения Уитмена «Песнь о себе», а Жюли, Мишель и Амели принесли фунт оленины и торт, покрытый красной, синей и белой глазурью. «Это цвета наших национальных флагов», — с гордостью объявила Жюли. Мишелю, судя по его недавним визитам в лавку, в последнее время полегчало, и его непринужденная улыбка стала для Сильвии отдельным подарком.
Джойс явился с букетом из сорока роз разных оттенков, от розового до алого, и объявил, что Мюсрин не против приглядеть за лавкой, пока он сводит Сильвию с Адриенной пообедать в «Ритц». Ближе к вечеру, когда Сильвия боролась с дремой, одолевавшей ее после роскошного полдневного пиршества, пришли Эрнест и элегантная Полина Пфайфер, на которой он, похоже, собирался жениться, не дождавшись, пока высохнут чернила на свидетельстве о разводе с Хэдли. Эрнест принес билеты на призовой боксерский бой. И потому день рождения Сильвии завершался под пиво со сдобными брецелями по-баварски, одобрительные вопли болельщиков и их же неодобрительное улюлюканье. По дороге домой Сильвия с Адриенной завернули в магазин мороженого и насладились рожками, наполненными шоколадным, лимонным и ванильным совершенством.
— Мне нравится Полина, — уже дома заметила Адриенна, — хотя я скучаю по Хэдли.
— Да, — согласилась Сильвия, — я чувствую то же. И…
— И?
Сильвия стояла у окна их квартиры, глядя через улицу на закрытые ставни своей лавки, словно утомленной праздничной суетой дня с друзьями и книгами, и подыскивала слова для владевшего ею чувства.
— Ну, просто развод Эрнеста и его новая женитьба… Это не имеет к нам никакого отношения и все же выглядит как знак, как предвестие, что ли. Многое изменилось у нас в Одеонии в сравнении с тем, как было восемь лет назад, верно?
— Понимаю, что ты имеешь в виду, — откликнулась Адриенна. — Многие перемены мне по душе. Сюда переехали множество американцев, благодаря им и сам город, и наши жизни стали ярче, и постоянный обмен идеями между ними и нашими французскими друзьями достоин всяческого восхищения. Но…
— Пирушки.
— Пьянки.
— Разводы.
— Зависть.
Адриенна встала у окна рядом с Сильвией и выглянула на пустынную улицу, в ночь. В нескольких ярдах от «Шекспира и компании» газовый фонарь на краю тротуара отбрасывал на серую мостовую и кремовый камень здания круг теплого желтого света. Это выглядело точно застывшая во времени картинка, еще четкая, но постепенно растворяющаяся в прошлом.
Сильвия хотела сказать подруге, что пускай все вокруг них так меняется, ее собственные чувства к ней нисколько не переменились, но слова застревали в горле. Тогда она тихонько подышала Адриенне в ухо, зная, что ей это нравится, надеясь, что она все поймет. Адриенна с закрытыми глазами повернулась к Сильвии и поцеловала ее, а Сильвия постаралась забыться в тесноте их объятия, но получалось не очень. Часть ее по-прежнему стояла возле окна, глядя на темную улицу, и гадала, какие еще перемены их ожидают.
— Маму гнетет тоска, — сказала Киприан. Они сидели в уличном кафе на перекрестке Одеон за чашкой кофе и сигаретой. Сестра приехала в Париж отдохнуть от своих калифорнийских забот, и Сильвия обрадовалась встрече с ней.
Однако не предвещавшие ничего хорошего слова Киприан о матери ее удивили и встревожили. Она-то считала, что у той все наладилось, такую надежду вселяли в нее последние письма от Элинор, в которых та забавно описывала посетителей их магазинчика. И еще она каждую неделю слала весточки маленькой Амели, с непременными яркими рисунками карандашами или красками.
— Судя по ее письмам, она вполне довольна жизнью. Может, в эти дни у нее часто меняется настроение?
— И почти всегда в плохую сторону, я бы сказала.
— Похоже, для нее лучше, чтобы с ней кто-то оставался.
— При ней Холли, — немного обиженно, словно оправдываясь, заявила Киприан, и Сильвия сейчас же пожалела о своих словах — у нее и в мыслях не было обвинять сестру, что та бросила мать, ведь дома оставались Холли и отец. Киприан в сердцах выдохнула последнее облачко дыма и зло раздавила окурок в пепельнице. — Ты скоро сама поймешь, Сильвия, о чем я. Через месяц она собирается в очередную поездку за закупками.
— Как, опять?
— Это единственное, что позволяет ей сохранять здравый рассудок. Думаю, она убегает от папы.
— Да, но они выглядели вполне счастливыми, когда были здесь на моей выставке Уитмена.
И Сильвию тут же кольнуло чувство вины, что в тот приезд родителей она не нашла времени близко пообщаться с ними.
— О, они прекрасно умеют делать вид, что все в порядке. Знала бы ты, как он злится на нее за то, что она, как он это называет, «заваливает деньгами наших испорченных доченек».
— Папа? Да быть не может!
Киприан кивнула.
— Еще как может. Своими ушами слышала.
— Но мне он никогда ничего подобного не говорил.
— Да и мне тоже, во всяком случае напрямую, — сказала Киприан. — Видимо, он приберегает все эти нападки для мамы.
— Хотелось бы мне самой услышать или увидеть то, о чем ты толкуешь.
Киприан пожала плечами.
— И что бы ты сделала? И что вообще может поделать кто-нибудь из нас? Наш жребий уже определен. И потом, много ли ты уделяла бы им внимания, когда ты здесь и без того завалена делами?
Сильвия расслышала уважение в словах сестры, но и зависть тоже. Она подивилась, как поменялись их роли. Десять лет назад она, Сильвия, мечтала быть такой, как Киприан. А сейчас Киприан — чем дальше, тем больше — мечтает быть Сильвией. Сестра уже отчаялась получить роль в кино на бессмысленных пробах в Голливуде, и хотя она по-прежнему была красива, но годы уже начали отражаться на ее лице и фигуре. Сильвия вспомнила, как мать жаловалась ей на беды старости, а Киприан всегда так на нее походила. Ее даже порадовало, что у Киприан мать находит понимание, но тревожило, как бы сестра и сама однажды не почувствовала себя такой же несчастной, как мама.
Они в молчании зажгли еще по сигарете, и, между затяжками отпивая кофе, Сильвия попеняла себе, что в обществе Киприан курит гораздо больше обычного. Пока они стряхивали последние столбики пепла в стеклянную пепельницу, через дорогу, проехав несколько ярдов по улице Конде в направлении Сен-Сюльпис и взвизгнув тормозами, остановился громадный ярко-коричневый автобус. В его открывшиеся двери выплеснулась толпа явно американских туристов с новехонькими фотоаппаратами, в начищенных до блеска туфлях и модных шляпах, не иначе как приобретенных этим же утром в «Галери лафайет».
— Что за … — Изумленная Киприан так и сидела с открытым ртом.
— Неужели не слышала? В Пятом и Шестом округах это только начало рассвета. Туристов сюда что ни день прибывает все больше и больше, — объяснила Сильвия.
— И их никак нельзя прогнать?
Сильвия только вздохнула, устало и смущенно.
— Не так-то легко отказывать их деньгам. Этим автобусам туристов я продаю больше книг, чем раньше продавала за год.
— Да, но они…
— Энергичные? Глаза горят и хвост трубой?
— Я хотела сказать, пресыщенные.
— Как же мне тебя не хватало, сестра.
— Еще бы, при такой-то компании.
— Между нами говоря, они не так уж сильно отличаются от писателей из США, которые годами приезжали-уезжали. Стайн редко водится с кем-нибудь, кроме других американцев. Джуна[133], Скотт, Элиот, Паунд — они все вращаются в своем кругу, это нечто вроде клуба. На их фоне Джойс и Эрнест редкие птицы: они прекрасно владеют французским, благодаря чему дружат с настоящими парижанами. Наверное, поэтому-то я так люблю обоих.
Сильвия потянулась за следующей сигаретой, но остановила себя. Не хотелось вечером испытать несносную жажду, к тому же, по ее наблюдениям, когда она много курила, в глазах грозным предвестником мигрени загоралась аура — пульсирующая радуга, обвивающая ее кольцами, словно удав.
— Ну, знаешь ли, не каждый способен стать местным, как удалось тебе, — возразила Киприан, продолжая с прищуром рассматривать толпу жизнерадостных туристов, обсуждавших, судя по всему, в какую сторону пойти. — И все же наши друзья, приезжающие сюда в последние несколько лет, совсем не чета этим. Сколько они здесь пробудут? Неделю? Пару дней? И ради чего? Только чтобы дома, на своем Среднем Западе, хвастаться направо и налево, что побывали в Париже, видели знаменитостей мира живописи и литературы, отобедали в ресторане, о котором прочитали в журнале «Кольерс», похихикать, что попробовали знаменитый абсент, и клясться, что ах, лучшего красного они нигде не пивали.
— И не забудь — купили книги в «Шекспире и компании».
Киприан закатила глаза.
— Вот уж представить не могла, что ты приспособленка.
— Ты хотела сказать, ушлая предпринимательница.
— Ну, я так полагаю, это во благо. Ты своими заботами помогаешь настоящим писателям держаться на плаву.
— Стараюсь.
— Да не просто стараешься… Я прямо завидую тебе, знаешь ли.
Сильвию так изумило признание сестры, что она не нашлась, как ответить. Благо Киприан тут же ее выручила.
— Однако у меня есть и хорошая новость. Я встретила кое-кого, кто делает Калифорнию для меня более или менее сносной.
— Рассказывай скорее. — Сильвия с облегчением выдохнула.
— Ее зовут Хелен Эдди. Она в прошлом актриса, а сейчас дает уроки тенниса детям. Вот уж кто всегда при загаре и вообще обворожительна. — Глаза Киприан засияли. — Знаешь, я решила, что слишком стара притворяться кем-то, кем не являюсь.
— Очень за тебя рада, — сказала Сильвия, — и с удовольствием познакомлюсь с ней при случае.
— Тогда тебе придется оставить твой драгоценный Париж. Ты вообще замечала, сколько народу приезжает, чтобы навестить тебя? А сама-то ты когда к нам приедешь?
— Не думаю, что твой упрек справедлив, — ответила Сильвия обиженно, хотя, видит бог, Киприан была совершенно права. Сильвии и в голову это не приходило. К тому же ее никогда не тянуло вернуться в Соединенные Штаты. — В Париж едут потому, что хотят поехать в Париж.
— Ага, и еще увидеться с тобой. Ты что, не хочешь нас видеть? Посмотреть хотя бы, где мы живем, как?
— Ну конечно, хочу, — уверила сестру Сильвия, но поняла, что покривила душой. Отогнав стыдную мысль, она попросила: — Расскажи мне побольше о твоей Хелен Эдди.
Несмотря на письмо Людвига и сто шестьдесят семь подписей в знак протеста против пиратства, Рот упорствовал в желании опубликовать свою версию «Улисса».
— Значит, он выпустил нелегальное издание и без того нелегального романа? — уточнил Боб. — И его расхватывают как горячие пирожки?
— Он не гнушается позиционировать его как непристойность, — ответила Сильвия.
— Гениально, — полушутя-полусерьезно заметил Боб.
Сильвия сама не представляла, как выкроит время, чтобы бороться с Ротом еще активнее, чем ей это уже удавалось. В сутках попросту не хватало часов, чтобы она все успевала, — вот, подумала Сильвия, еще один ответ на упреки Киприан, что она не приезжала в Соединенные Штаты. На ней и так висел немалый груз дел, и все они требовали ее внимания: она уже передала в набор Дарантьеру лирический сборник Джойса «Пенни за штуку», как и шестой тираж «Улисса», а сама мало-помалу составляла рекламные материалы для обоих изданий; готовила к публикации в следующем году сборник критических эссе на «Неоконченный труд» Джойса; улаживала бесконечные дрязги между французскими переводчиками «Улисса» и получала новые запросы на перевод романа на малые европейские языки, например чешский и сербский. Джойс продолжал гробить зрение, долгими часами просиживая за работой при свечах, от чего его настоятельно отговаривал доктор Борш.
Всякий раз, слыша о коммерческих успехах Рота — что он продал сотню, тысячу, семь тысяч экземпляров своего дешевого мошеннического «Улисса», — она, не в силах удержаться, подсчитывала упущенную выручку, прикарманенные их с Джойсом законные деньги.
Бывали дни, когда ей хотелось разом покончить с этой борьбой, когда будто пением сирен ее манило в пустующий старенький амбар в Ле Дезере.
И когда одним благословенно ленивым утром воскресенья Адриенна сказала Сильвии: «Думаю, нам пора купить автомобиль, так будет удобнее ездить в Рокфуэн, да и куда угодно, если нам захочется удрать от забот», Сильвия вскочила с кушетки, где они лежа читали газету, и прокричала: «Да-а-а!»
Неделю спустя они стали гордыми владелицами маленького голубенького «Ситроена». Они вырулили на нем со стоянки, пребывая в столь приподнятом расположении духа, которое Сильвия не назвала бы иначе как беззастенчивое ликование, жали на клаксон, восторженно визжали и картинно махали в окна шарфами. Сменяя друг дружку за рулем, они поехали не домой, а в Версаль, где нагулялись в садах, перешучиваясь, что не мешало бы откушать торта в своем новеньком шикарном авто, потом запрыгнули на сиденья и помчались в город, не забыв объехать вокруг Эйфелевой башни, и бешеными гудками приветствовали Джойса, проезжая его резиденцию и гадая, заметили ли их и было ли кому-то до них дело, и только потом, вдоволь накатавшись, свернули к себе на улицу Одеон. Садилось солнце, стоял погожий июньский вечерок.
— Сто лет так не веселилась, — задыхаясь от восторга, пропыхтела Сильвия, когда они уже возле дома решили еще немного посидеть в машине, не желая расставаться с ее упругими, источающими аромат кожи сиденьями и с живописной картинкой своей Одеонии в черной рамке лобового стекла.
Адриенна запустила пальцы в волосы Сильвии.
— Нам надо почаще развлекаться.
— Как можно быть такой серьезной, когда говоришь о развлечениях?
— Вопрос серьезный, потому и можно. У тебя участились мигрени. Ты сбиваешься с ног ради Джойса. Ты столько для него делаешь, что пора бы и притормозить. Больше наслаждайся собственной жизнью.
Слова Адриенны заставили Сильвию оправдываться:
— Ты занята не меньше.
— Это да, — кивнула Адриенна и слегка сжала хватку, чуть потянув волосы Сильвии. — Я и сама собираюсь говорить делам «хватит». Правда, мне проще, потому что у меня на шее не висит один господин со всем своим семейством, полностью зависящий от моих усилий.
— Не так уж и полностью он от меня зависит.
Адриенна опустила голову и вскинула брови.
— А коли так, значит, переживет, если ты откажешь ему в его просьбах.
Адриенна была права, и Сильвия это понимала. Сегодня она чувствовала себя такой беспечной, свободной, какой ощущала себя только в Ле Дезере и Рокфуэне, вдали от неотступных требований Джойса. Там ей легче дышалось, она была счастливее, любвеобильнее. Там она была самой собой. Вот и сегодня к ней вернулся пьянящий задор юной искательницы приключений — той, которая десятью годами раньше встретила А. Монье и влюбилась в книжную лавку и в саму жизнь.
— Я постараюсь, — пообещала Сильвия столько же Адриенне, сколько и той себе, какой она была десять лет назад.
И все же идея отказывать Джойсу наполняла ее беспокойством. «Мне следует лучше поддерживать баланс в делах, — сказала себе Сильвия. — Я и так не подарила маме внуков, в конце-то концов. Но я в силах дать им с папой кое-что другое, чем они могут гордиться».
И потом, напомнила она себе, та молодая женщина, явившаяся в лавку А. Монье столько лет назад, обожала чтение и творчество Джеймса Джойса. Стать его издателем было привилегией, и его успех был неразрывно связан с успехом «Шекспира и компании» — ее лавки, уже ставшей синонимом его объявленного вне закона шедевра. Ее лавка изменила литературу. Нет, она не может отказаться от него, от его книги. Только не сейчас, когда Киприан открыла ей, насколько отца возмущает, что его жена помогает дочерям деньгами. Нет, она не имеет права подвести его, их, любого из них.
Глава 21
Портье отеля что-то возбужденно лопотал настолько сбивчиво и быстро, что Сильвия подозвала к трубке Адриенну в надежде, что коренная парижанка лучше разберет, что ему надо. Единственные слова, которые уловила Сильвия, были Madame Beach и lettre[134]. Потом она наблюдала, как Адриенна кивала, ошеломленно открывала рот и все больше округляла глаза. Хотя она произносила положенные bon и merci, Сильвия могла поклясться, что ничего хорошего ей не сообщают, и к моменту, когда она повесила трубку, Сильвия превратилась в один сплошной комок нервов и курила уже вторую сигарету.
— Сhérie, — мягко произнесла Адриенна. — Твоя мама умерла. В отеле. Она оставила длинное письмо.
— Умерла? С письмом?
Хотя теперь звучали простые и понятные ей слова, Сильвия никак не могла постичь их смысла.
Пока до нее не дошло.
Письмо. Длинное письмо.
— Как она это сделала? — прошептала Сильвия, и в ее голове непрошенно вспыхнула жуткая картина, как ее мать висит в петле из простыни.
— Таблетки.
Прижав руку к груди, Сильвия стала хватать ртом воздух — то ли пытаясь продышаться, то ли сухо всхлипывая.
Адриенна подвела ее к ближайшему стулу и бережно усадила. Были ли они на кухне? В спальне? Сильвия не понимала, и позже никаких воспоминаний об этом у нее не сохранилось. Как не сохранилась в ее памяти сколько-нибудь связная картина следующих часов, остались лишь обрывки подернутых черной пеленой впечатлений: они с Адриенной едут в отель; ее мать лежит застывшая на постели, на простынях и подушках рвота; Сильвия отталкивает протянутую кем-то чашку чая, пока утрясает формальности, вызывает коронера, чтобы составил заключение о смерти, и гробовщика, чтобы забрал тело. А на дворе стоит поздний июнь, теплый, солнечный. Сезон свадеб.
Те жуткие часы она будет вспоминать еще много недель — и лет. Просыпаясь среди ночи, дрожа на скомканных, влажных от пота простынях, липших к ее телу, она будет вспоминать тех мальчишек в Сербии, которые в панике прятались в мусорные баки, напуганные каким-нибудь невинным громким звуком. Будет вспоминать Мишеля, о тяжелых бессонных ночах которого отказывалась говорить Жюли. А теперь у нее самой была рана, слишком глубокая, чтобы ее зарастить, такая глубокая, что затронула ее кости, артерии, вены.
Фунт плоти, на который она, сама того не желая, обменяла свою жизнь.
Я так виновата перед тобой, так виновата, мама.
Если бы только я была внимательнее.
Если бы я только прислушалась к предостережениям Киприан.
Если бы я только проводила с тобой больше времени.
Если бы я только отнеслась к тебе с большим пониманием. С большей нежностью.
Если бы у меня только было больше времени.
Сильвия всерьез подумывала скрыть правду от отца и сестер. Самоубийство было глубоко личным решением ее матери, и свое письмо она адресовала только Сильвии, больше никому.
— И ведь мама сделала это здесь, в Париже, — сказала она Адриенне ранним утром следующего дня. Она уже чувствовала подступающую мигрень, тяжесть уже сковала затылок, грозя через несколько часов превратиться в безжалостно давящий кулак, но, несмотря на риск того, что ее вот-вот стошнит, она продолжала глоток за глотком пить кофе и курить. — Она ведь могла покончить с собой в Калифорнии. Наверное, не хотела, чтобы кто-нибудь еще знал.
— В некотором смысле это комплимент, — заметила Адриенна.
— И проклятие.
— Всякая трагедия несет в себе дар.
Сюзанна. Были времена, когда и дня не проходило без того, чтобы Сильвия не думала о потерянной Адриенной первой любви. Но потом… она уже и не помнила, когда в последний раз вспоминала Сюзанну, и на тебе, та снова преследует их.
— Ты часто думаешь о ней?
— Уже меньше. И сейчас уже безо всяких сожалений.
Кулак теперь вовсю вдавливался в череп, к глазам подступила новая волна слез, но в голове Сильвии вдруг всплыл неизбывный вопрос, который она годами носила в себе, и он сорвался с ее губ, прежде чем она успела остановить его.
— Почему Сюзанна все-таки вышла замуж?
Светло-голубые глаза Адриенны потемнели от давней печали.
— Ее родители считали, что деньги его семьи обеспечат лечение, в котором она нуждалась.
— И значит, ей пришлось прожить последние месяцы в браке по расчету? — Что за унижение!
— Во всяком случае, он был добр к ней. Он любил ее многие годы. И сам чуть не умер от горя, что так быстро ее потерял.
— И все его деньги ничем ей не смогли помочь?
— Ничего уже нельзя было сделать. Слишком долго она тянула, не желала и слышать о замужестве. — Адриенна говорила с трудом, и Сильвия поняла, что подруга пытается сглотнуть тяжелый ком давней вины. — Я должна была еще много лет назад убедить ее выйти за него. Но думала только о себе, эгоистка.
— Ты самая неэгоистичная душа на всем свете, — сказала Сильвия.
— Нет, chérie, не я, ты.
Сильвия горько рассмеялась.
— Тогда почему моя мать покончила с собой?
— Ты все равно не смогла бы остановить ее.
Откуда тебе знать?
— Вот и Сюзанна любила тебя так сильно, что все равно не послушалась бы тебя и не стала бы раньше выходить замуж, как бы ты ее ни уговаривала, — предположила Сильвия, потому что более правдивого объяснения придумать не смогла.
— Я и сама повторяю себе то же.
Еще до открытия лавки Сильвия отправила телеграмму в Калифорнию отцу и сестрам:
МАМА СЕГОДНЯ УМЕРЛА СКОРБЛЮ ВСЕМ СЕРДЦЕМ ПОДРОБНОСТИ ПИСЬМОМ С ЛЮБОВЬЮ СИЛЬВИЯ
Вечером того пустого тоскливого дня Сильвия дома села за письменный стол и попыталась объяснить родным, как все случилось. «Мама приняла слишком много таблеток», — написала Сильвия и привела строчки из предсмертного письма, в которых та выказывала желание упокоиться на кладбище Пер-Лашез рядом с Оскаром Уайльдом, Фредериком Шопеном и Оноре де Бальзаком. Еще она пространно жаловалась, что чувствует себя слишком измученной, потерянной и подавленной, но никого, кроме себя, в том не винит — ничего из этого Сильвия ни словом, ни намеком не упомянула. На днях Элинор снова поймали на магазинном воровстве. «Я сгораю от стыда, — писала она. — Моя любовь к мирской красоте — мое грехопадение, и я очень благодарна тебе, что ты утаила от отца тот последний случай, потому что, боюсь, он никогда бы не простил мне — не столько сам мой проступок, сколько толкнувшие меня на него причины, и они приводят меня в полное отчаяние». В конце Сильвия добавила, что последние строчки прощальной записки Элинор были о том, как сильно та тоскует по семье.
Дописав прискорбно далекое от истины письмо, Сильвия проскользнула в густую темноту спальни и обвила руками Адриенну, а та всю ночь крепко обнимала ее.
Глава 22
Четвертое июля наступило через две недели после смерти матери и выпало на понедельник. Невзирая ни на что, праздник отметили в предшествующие ему выходные, которые Сильвия провела в Рокфуэне, где истинно французское семейство Адриенны постаралось хоть немного развеять ее печаль традиционными блюдами Соединенных Штатов вроде яблочного пирога, на поверку оказавшегося tarte aux pommes[135], разве что очень сладким, и «цыпленка по-королевски» — его рецепт мать Адриенны вычитала в американском журнале. Сильвия и правда ощущала на языке восхитительно бархатистый, нежный вкус, и ей очень нравились каламбуры, которыми члены семейства — включая Ринетт, Бека и Фарга — перекидывались за обедом на террасе, на французский лад обыгрывая название этого блюда: poulet à la roi, poulet à la Louis, Phillip de le Volaille, Charles d’Pintade, poulette à la reine, poulette de Toinette.
Но жизнерадостного настроения хватило ненадолго. Тедди почувствовал, какая тоска одолевает Сильвию, и теперь ходил за ней хвостом, не упуская случая вскочить к ней на колени, стоило ей присесть, а Сильвия замечала, что ее нервы немного успокаиваются, когда она поглаживает его теплую шелковистую шерстку. Она замечала, что Джойс, как ни хотелось ему высказаться на этот счет, прикусывал язык и лишь с подозрением косился на них с Тедди уголком более здорового глаза. Сильвия рассказала Джойсу о своей матери всю правду без прикрас, заставив поклясться, что он никому не обмолвится до могилы, — и на следующий день он принес ей букет лилий, восхитительнее которого она не видела. А назавтра, за три дня до своего отъезда с семьей на лето в Бельгию, Джойс уселся в зеленое кресло и как ни в чем не бывало спросил:
— Ну-с, что мы дальше делаем с Ротом?
От одного этого вопроса у Сильвии заломило кости.
— Не представляю, что еще можно предпринять, помимо того что мы уже делаем.
Он опустил взгляд на свои изнеженные руки с безукоризненно подпиленными ногтями.
— Мистер Хюбш — он сейчас перешел в «Бони и Ливрайт» — написал мне насчет издания «Неоконченного труда». Похоже, в отличие от мисс Уивер и мистера Паунда, ему нравится все, что он к этому моменту оттуда прочитал. Как вам известно, я уже некоторое время придерживаюсь мысли, что американскому издателю будет легче одолеть Рота, и раздумываю, не предложить ли мистеру Хюбшу «Неоконченный труд».
Все внутри Сильвии болезненно сжалось.
— Но мы уже больше года обсуждаем публикацию этого произведения «Шекспиром и компанией». И у нас готовится к публикации сборник критических рецензий.
— И я хочу, чтобы вы продолжали. Со сборником критики.
Он смотрел на нее так невинно, так прямо.
— Мистер Джойс, чем мистер Хюбш поможет вам в разбирательстве с Ротом, если он не печатает «Улисса»?
Джойс выдержал долгую паузу, прежде чем ответил:
— У меня такое предчувствие. — И Сильвия невольно задумалась, что же он пытается от нее скрыть. Но она была слишком поглощена своим горем, чтобы выспрашивать.
Наутро четвертого июля прибыло письмо от язвительного юриста Рота, где тот обвинял ее, что она встала на пути великого бизнеса и великих людей, — и уже минуту спустя Сильвия неудержимо рыдала в задней комнатке лавки Адриенны.
— Не могу, — едва выдавила она, — я больше не вынесу.
Вина. Вина тяжелым камнем давила ей грудь.
Если бы только.
Если бы только она не отдавала столько сил этому, этой бессмысленной кутерьме с Джойсом против Рота, этим заботам о его глазах, о его денежных делах, тогда, возможно, она сумела бы уберечь маму. Может быть, в тот проклятый день они бы пошли в Музей Родена. Вместе.
Сильвия взглянула в глубокие озера глаз Адриенны и, увидев в них понимание, подумала: «Так вот что тревожило тебя, когда ты говорила, что я растрачиваюсь больше, чем следовало бы».
Что ж. Этой битвы ей не выиграть. Даже Эрнест, и тот всегда призывал признать поражение, когда боксер чувствовал, что противник сильнее его. «Лучше пусть побережет силы для другого поединка», — так он говорил.
Сильвия вернулась в заднюю комнатку собственной лавки, села за письмо Роту и его поверенному, и с каждым словом ее перо все легче скользило по бумаге. Она писала, что отзывает свой иск. Затем написала Джойсу в Бельгию.
Мой дорогой м-р Джойс!
Надеюсь, это письмо застанет Вас и Ваше семейство в добром здравии и наслаждении приятной северной прохладой. Мы с Адриенной по-прежнему выгуливаем свой «Ситроен», разъезжая на экскурсии по парижским предместьям и окрестностям. Однако истинная причина моего письма — сообщить Вам, что, боюсь, я больше не желаю терпеть нападок и перехода на личности со стороны Рота и его поверенного, в сравнении с которыми Джон Куинн показался бы благородным ангелом мщения. Вы вольны и дальше продолжать эту юридическую битву, если пожелаете. Если для того потребуется подписать с американским издателем контракт на публикацию «Неоконченного труда», значит, так тому и быть.
Тем временем я продолжу, как у нас и планировалось, готовить к публикации шестой тираж «Улисса», «Пенни за штуку» и сборник критики. Надеюсь увидеться с Вами в сентябре, когда все мы хорошенько отдохнем. Пожалуйста, передавайте мои наилучшие пожелания миссис Джойс и детям.
Искренне Ваша,
Сильвия
Прошел почти месяц, прежде чем она получила ответ, месяц, в течение которого она часами просиживала с Жюли за вычиткой «Пенни» и рассылала письма благосклонно относящимся к творчеству Джойса интеллектуалам и писателям, в том числе Уильяму Карлосу Уильямсу и Юджину Джоласу[136], с просьбой написать в готовящийся сборник рецензию или критический очерк.
Потом всплыли счета за медицинские услуги. Доктор Борш прислал Сильвии чрезвычайно учтивое письмо, в котором сообщал, что начиная с 1925 года Джойс не оплатил ни одного его счета. Сильвия ужаснулась и тут же выписала доктору чек на нужную сумму из средств «Шекспира и компании», сделав себе пометку позже вычесть ее из следующих поступлений за «Улисса», хотя прекрасно знала, что простит писателю долг, как прощала все предыдущие. Однако ответ Джойса она, не в силах побороть себя, читала под мрачным впечатлением от этого события.
Моя дорогая мисс Бич!
Спасибо, мы с миссис Джойс пребываем в добром здравии. Лючия сильно хандрит и едва заставляет себя выбраться из постели даже к полудню. Единственное, что хоть как-то разгоняет ее меланхолию, — это танцевальные представления, и, конечно, мы только рады потакать ей. Хотя я, как Вы знаете, предпочитаю оперу.
Меня расстроило ваше письмо, где Вы сообщили, что прекращаете нашу борьбу с Ротом. Боюсь, на это решение повлияла недавняя трагедия, которую Вы переживаете, и я надеюсь, что ни у Вас, ни у меня в дальнейшем не будет причин пожалеть о нем. Я, безусловно, займу Ваше место в борьбе и искренне надеюсь, что необходимости подписывать контракт с кем-то из американских издателей не возникнет, памятуя, как никто из них не спешил взять мою сторону, когда я был жалким писателишкой осужденного за «непристойность» романа, а Вы — моей спасительницей. Надеюсь, я не из тех, кто быстро забывает доброту.
Прилагаю перечень правок к французскому переводу, а также свои соображения относительно «Яблок» и несколько счетов, которыми я пренебрег перед отъездом. Не будете ли Вы любезны вычесть эти суммы из моих расчетов с вами? Примите мои самые искренние благодарности и извинения.
Всего наилучшего мадемуазель Монье.
С самыми добрыми пожеланиями,
Джеймс Джойс
Перечень правок, которым он озадачил ее, занимал три страницы. В тот день, когда Сильвия его получила, она с трудом подавила желание скомкать его и швырнуть в корзину, но потом подняла взгляд на выстроившиеся вдоль стен полки с книгами, на развешанные в простенках акварели и картины в рамках. Ее взгляд остановился на стопках ярко-синих томов «Улисса» — роман все еще прекрасно продавался и благодаря ему статьи о ее лавке появлялись не только во всех газетах Парижа и Нью-Йорка, но и в таких влиятельных журналах, как «Вэнити фэйр», «Нью-йоркер» и «Сатердей ивнинг пост». А туристические автобусы, которые так бранила Киприан, а Сильвия втихомолку лишь приветствовала, привозили людей, желавших увидеть ее лавку не меньше, чем Париж хемингуэевского «И восходит солнце» — романа, что наконец-то уравнял литературный счет между Эрнестом и Скоттом, а Сильвия почитала за честь свою причастность к их соперничеству. И потом, не одних только туристов привлекала ее лавка, но и настоящих писателей.
Ну как она могла сердиться на того, благодаря кому все это пришло в ее жизнь?
Сильвия показала Мюсрин перечень Джойса, и они поделили между собой все пункты, а также составили план действий, который, несмотря ни на что, должен был позволить им выкроить себе отпуск в августе. Пока летние дни наливались жарой, а они с Мюсрин следовали своему плану, на долю Сильвии выпали еще два приступа мигрени и щекотливая переписка с семьей. Сначала пришло письмо от Киприан, поправлявшей здоровье в Палм-Спрингс, после того как у нее обнаружили астму:
Хотела бы я сказать, что удивлена, но, похоже, это был естественный исход маминой тоски и подавленности в последние годы. Надеюсь, она наконец-то обрела покой. А вот ты, я уверена, нет, и мне очень жаль, что тебе пришлось в одиночку пережить такое. И все же я по-прежнему ломаю голову, почему ей надо было делать это в Париже, а не здесь, где ее настоящий дом…
В письме от Холли было больше искреннего чувства, а между строк читалось меньше нападок:
Просто не знаю, что делать. Я тоскую по ней каждый день, каждый час. Наш магазинчик не моя затея и не моя страсть и никогда ей не был. Это мама вносила в него живость и веселье. Какой прекрасной хозяйкой она была, какой щедрой любовью она любила красивые вещи и добрых людей. Своими стараниями мама превратила нашу лавку в бесконечный званый обед (с перерывами на дни, когда закупала провизию). Как трудно и тягостно без нее поддерживать ее работу.
Фредди между тем все настойчивее и настойчивее в своих уговорах. Я уже смирилась с мыслью остаться в старых девах — если не в девственницах, в чем не стесняюсь тебе признаться, — но теперь, когда мамы нет, меня все больше привлекает мысль закрыть магазин, выйти замуж и попутешествовать. Я его люблю. Мы с ним прекрасно проводим время на танцах и на прогулках под сенью апельсиновых рощ. Думаю, я уже слишком стара заводить детей, что меня вполне устраивает. Интересно, может ли брак, заключенный уже в зрелых годах, принести больше счастья, чем брак, в который вступила по молодости и который несет с собой все тревоги и страхи совместного взросления и воспитания маленьких людей…
Отец же ограничился скупым «Я горько тоскую по твоей матери. Кто еще любил бы меня несмотря на все мои недостатки?».
И Сильвия впервые задумалась, подходит ли она сама под придуманное Гертрудой понятие «потерянное поколение»? У себя в лавке она нередко слышала доводы в пользу этого определения, которое прославил Эрнест, поставив эпиграфом к своему роману. Как писатели, так и туристы либо испытывали гордость за свою принадлежность к потерянным, либо оскорблялись, когда их ими попрекали. Доводам ни тех ни других не хватало конкретики, и потому Сильвия никогда не вступала в перепалки. Выражение «потерянное поколение» всегда коробило ее как нечто надуманное, как обрамленные очками глаза доктора Т. Дж. Эклберга, глядящие с пыльного рекламного щита в «Великом Гэтсби» Скотта.
Но в тот душный июльский вечер, когда небо зажигалось огнем закатного солнца, залив улицу Одеон золотым светом, а сама Сильвия сидела над письмами сестер и отца в пустующей лавке, поскольку покупатели разъехались по морским курортам, потерянный, подумалось ей, означает ушедший или неприкаянный. Ей пришло в голову, что ее мать определенно была такой; она всегда стремилась назад, в свою мечту о Париже, но не могла вернуться в нее и жить в ней; и мечта подразумевала нечто большее, чем просто город Париж, то был Париж как картина яркой прекрасной жизни, о которой мать всегда грезила и которую ненадолго вкусила три десятилетия тому назад. Сильвия же нашла свою мечту и жила ею — но во многом благодаря деньгам, книгам и любви — всему, чем мать щедро одаривала ее в последние десять лет. Одеонии без Элинор Бич не было бы и в помине.
Продолжится ли все это без нее?
Продолжится ли без Джойса?
Хватит ли одной меня, чтобы поддерживать мечту?
Или я тоже — потерянная?
Вопросы лишали ее покоя, побуждали к действию. Будь Сильвия в Ле Дезере, она бы уже отправилась на улицу колоть дрова, а после остаток вечера пропитывалась бы ноющей болью в руках и плечах.
Вечерело, но длинные парижские сумерки сулили еще несколько светлых часов, и Сильвия, заперев лавку, энергично зашагала вдоль людных тротуаров своего квартала, потом через Люксембургский сад, взглядом впитывая яркость и хрупкую красоту летних петуний, бегоний и роз. Посреди этого растительного великолепия она нашла ту, кого искала, — продавщицу цветов, беззубую женщину по имени Луиза, потерявшую на войне двоих сыновей. Много лет назад их познакомила Адриенна, наказав Сильвии покупать цветы только у нее. В маленькой тележке Луизы, стоявшей у самого дворца, были, однако, всегда самые лучшие цветы, они подолгу стояли в вазе. Элинор больше всего любила розовые пионы, которые можно найти на исходе весны, а никак не в середине лета, но у Луизы каким-то чудом набралось их на целый букет. «Не торопясь подрастали себе в теньке», — пояснила она, когда Сильвия поразилась, откуда они могли взяться.
Затем Сильвия окликнула такси, одно из любимых ее матерью маленьких роскошеств, и во время короткой поездки наслаждалась через открытое окно видами Парижа: они ехали мимо Сорбонны, потом через Сену по мосту Сюлли, оставив справа громаду собора Нотр-Дам, затем на северо-восток и, обогнув площадь Бастилии, направились в Двадцатый округ, где раскинулось утопающее в зелени кладбище Пер-Лашез с аркадами деревьев, в тени которых теснились многочисленные могильные плиты, часовни и памятники. Вечерний свет уже засеребрился, когда она высадилась из такси и прошла на кладбище через пролом в окружавшей его высокой каменной стене. Сильвия вдруг испугалась, что в лабиринте тропинок и проходов не найдет скромную могилку матери, хотя была здесь всего несколько недель назад на похоронах. Но, к счастью, без труда нашла дорогу.
В Париже я никогда не чувствую себя потерянной.
Благодаря тебе, мама.
Сильвия бережно положила пионы у камня с именем матери и датами ее рождения и смерти и тут же почувствовала, как легкий ветерок нежно ерошит ее волосы и холодит шею. Она дышала как могла глубже, спрашивая себя, зачем, собственно, сюда явилась. Конечно, положить цветы, зачем же еще? На самом деле ей отчаянно хотелось поговорить с матерью. Но казалось нелепым говорить с той, кого уже нет, даже молча, в своих мыслях.
Тогда Сильвия опустилась на землю возле цветов, положила руки на холмик, уже порастающий травой, и снова поблагодарила свою мать. Так она сидела уже долго, отчаянно жалея, что недостаточно времени проводила с матерью, пока та была жива, когда день закончился и на небе взошла луна.
Глава 23
По иронии, достойной диккенсовских романов, стоило первым лучам солнца начать пробиваться сквозь тучи и холод ранней весны 1928 года, а им с Адриенной — планировать воскресные поездки на своем «Ситроене», Сильвию пронзила острая боль в правой стороне лица, от виска до челюсти, когда она сделала первый глоток утреннего кофе. Уже несколько недель, как она чувствовала в той области небольшие спазмы, но на этот раз боль была куда сильнее — и совсем не такой, как при мигренях.
— Тебе нельзя сегодня идти в лавку, — сказала Адриенна.
— Но Мюсрин взяла отгул.
— Как, опять? Что творится с этой девчонкой? Как ни хватись, ее никогда нет на месте.
Прижимая руку к больной щеке, Сильвия и сама задавалась тем же вопросом. Она тоже заметила, что в последнее время Мюсрин чаще обычного отпрашивается из лавки, но Сильвия занималась таким ворохом дел, что ей некогда было раздумывать еще и об этом.
— А как насчет Жюли? — предложила Адриенна. — Она посидит в лавке, пока ты сходишь к доктору.
— Хорошая мысль, — едва удалось сказать Сильвии. Амели с удовольствием поиграет в игрушечных солдатиков Ларбо, которые обычно хранились в стеклянном коробе, подальше от других детей с их любопытством и неловкими ручонками. Амели же, в отличие от многих, обращалась с солдатиками бережно, и Сильвия всегда разрешала ей играть с ними в задней комнате лавки.
— Сбегаю позову ее. А ты прикладывай к больной стороне бутылку с теплой водой. — Легко чмокнув Сильвию в другую щеку, Адриенна поспешила к дому Жюли и Мишеля.
Прошло меньше часа, а Сильвия уже сидела в приемной врача, ожидая своей очереди, и чувствовала себя нелепо. Боль как рукой сняло. Чтобы убедиться, она отважилась улыбнуться пожилой женщине напротив, и… ничего не произошло. Боли не было. Сильвия собралась уходить, но тут медсестра пригласила ее в кабинет.
Этого доктора Сильвия раньше не видела — женщина примерно ее лет, с черными слегка тронутыми сединой волосами, по-старомодному длинными и забранными в пучок на затылке. Врач задала Сильвии несколько вопросов о характере боли, а потом сообщила, что так проявляется невралгия лицевого нерва.
— Очень редкое заболевание, — сказала врач с легкой улыбкой сожаления.
— В отличие от моих мигреней, — не удержалась Сильвия в редком для нее порыве жалости к себе. В чем она меньше всего нуждалась, так это еще в одном недуге.
— Мигрени? — Доктор, казалось, оживилась. — Мой хороший друг, коллега, весьма успешно их лечит. — Она тут же написала на листке имя и телефон. — Вот, пожалуйста, запишитесь к нему на прием. Он творит чудеса.
Сильвия взяла листок.
— Спасибо, доктор. А что делать с этой лицевой…
— С невралгией. Да. К несчастью, она не лечится. Но приступы обычно очень кратковременны, как тот, что вы пережили утром. Со временем они, боюсь, могут участиться. Но вы молоды, и, надеюсь, ухудшение будет медленным. А режим, прописанный для ваших мигреней, может облегчить и невралгию.
Уже на улице, в промозглой сырости утра, Сильвия зажгла сигарету и почувствовала, как дым согревает ее грудь. Она и так знала, что для облегчения мигреней доктор велит ей курить меньше. Доктор Борш — окулист, ради всего святого, — уже дал ей эту рекомендацию, притом даром.
С остальными особенностями «режима» Сильвия более или менее смирилась бы: долгие энергичные прогулки, много свежих фруктов и овощей. Она даже согласилась бы пораньше ложиться спать и не напрягать глазные мышцы чтением по вечерам. Все это она бы желала и сама, потому что уже подметила, что лучше всего чувствует себя после долгого отпуска в Ле Дезере или Рокфуэне, где ее режим в том и заключается, что она много времени проводит на свежем воздухе, двигается, больше спит и меньше читает. Благодаря Адриенне она круглый год хорошо питается, правда зимой в их рационе преобладают жирные соусы, наваристые супы и жаркое, и Сильвия замечала, что такую тяжелую пищу ее организм воспринимает хуже, чем летние, более легкие блюда. Но тут ничего не поделаешь: свежие помидоры, рукола и куржетки, как здесь называют цукини, не продаются позже октября. Так что к концу февраля единственными свежими овощами, которые оставались в их подполе, были понурые морковки да сморщенные свеклы с репами и еще остатки закатанных летом фруктов, но все их витамины, похоже, давно потонули в переслащенном сиропе. Так что в конце зимы даже такой искусной кулинарке, как Адриенне, только и оставалось, что тушить все подряд в масле с солью.
Но отказаться от курения? Сильвия воспринимала эту перспективу как своего рода личный конец света, даже несмотря на то что по вечерам ее мучила жажда, а табак окрашивал зубы и пальцы.
И потом, поди знай, насколько в ее хворях повинны курение, рацион или возраст. Тем летом она подметила, какое огромное место в разговорах ее друзей вдруг стали занимать недомогания. Раньше один только Джойс без конца жаловался на свои глаза. А недавно к общему хору присоединилась и миссис Джойс, сетовавшая на свои циклы; Ларбо жаловался на свои суставы, Боб — на боли в спине, Фарг — на легкие. Даже бодрый и относительно молодой Эрнест, и тот хромал с перевязанной ногой после велосипедной аварии.
— Все мы теперь в неважном состоянии, — заметила Адриенне Сильвия после одного обеда, за которым все дружно напились и так расчувствовались, что принялись мериться своими болезнями. — Как думаешь, это потому, что мы стареем?
— Уж прям, — фыркнула Адриенна. — Это потому, что мы перебрали вина, если хочешь знать. — Тут она наклонилась к самому уху Сильвии и прошептала: — Лично я не собираюсь позволять возрасту встать мне поперек хоть в чем-то.
Той ночью они любили друг друга, но Сильвия словно отсутствовала, скорее наблюдая со стороны, чем ощущая близость Адриенны. Со смерти матери что-то сломалось у нее внутри, и острее всего надлом проявлялся как раз в моменты, когда ей полагалось бы ощущать наибольшую близость.
На протяжении дня, занятая делами в «Шекспире и компании», Сильвия как-то забывала о своих скорбях. И надеялась, что ее нынешнее бесчувствие со временем пройдет, как проходят приступы мигрени и невралгии, но после нескольких дней подряд, когда она просыпалась разбитой даже после продолжительного сна, она поняла, что пора что-то поменять. Неимоверным усилием воли Сильвия вполовину сократила курение и стала каждый вечер выбираться на долгие прогулки по Люксембургскому саду, выкраивая время между закрытием лавки и их с Адриенной выходами в гости или приемом гостей у себя.
Вскоре ей стало лучше, во всяком случае ее рукам, ногам и легким, но той осенью, когда их квартал с первыми порывами ветра перемен вновь заполонили стайки студентов, Сильвия в полной мере ощутила свой возраст. Даже аспиранты, и те выглядели безнадежно молодыми. Сорокаоднолетней Сильвии уже не верилось, что ей когда-то было двадцать два, как им сейчас, что ее щеки были такими же бархатистыми, а глаза — такими же ясными. Ее пугало слышать в собственном упадке сил отголоски жалоб матери. Для меня уже слишком поздно, Сильвия. Я постарела, я потеряла фигуру, растеряла свою красоту. А вдруг она унаследовала этот внутренний разлад Элинор? И если да, то сможет ли не поддаться ему?
— Ты знала, что Джойс подумывает нанять литературного негра для своего «Неоконченного труда»? — в темноте спросила Адриенна.
Сильвия уже погружалась в сон, но тревожный голос Адриенны заставил ее стряхнуть дрему. Она занервничала, предчувствуя, куда грозит завести их разговор, и ее пульс участился.
— Да, он упоминал что-то такое, — ответила она.
— А ты сказала ему, что об этом не может быть даже речи?
— Я высказалась в том смысле, что идея не самая лучшая.
— Она была бы верхом непорядочности! Меня выворачивает от одной мысли, что полюбивший «Улисса» читатель, приобретя новое произведение, рискует нарваться на подобный обман.
— Ты права, Адриенна, но я-то что могу поделать?
— Конечно, ничего. Он никого не станет слушать.
— И потом, все равно не я издаю его новый роман, так что мои моральные принципы на сей раз ни при чем. — Произнеся эти слова вслух, Сильвия испытала облегчение. — Если бы на обложке стояло имя «Шекспир и компания», я бы с ним поговорила построже.
Повисла долгая пауза, и сердце Сильвии уже едва не выскакивало из груди, когда наконец зазвучал голос Адриенны:
— Думаю, без него у «Шекспира и компании» дела бы пошли вдвое лучше.
— Но как? Ведь именно он первую очередь привлекает публику в мою лавку.
— Думаю, ты и сама бы удивилась, Сильвия. Хотела бы я помочь тебе увидеть Одеонию, какой ее вижу я без него.
Сильвию замутило, она чувствовала, как ее захлестывают волны одиночества. Для нее существовали и Одеония, и Стратфорд-на-Одеоне, а не на выбор: то или другое.
— Я знаю, Адриенна, что наши две лавки уравновешивают одна другую. Они как половинки целого, особенно для наших французских друзей. Но для моих американских клиентов «Шекспир и компания» — отдельный, сам по себе значимый островок. — Ну вот, Сильвия впервые высказала вслух: ее лавка — это нечто отдельное от лавки Адриенны. Но вместо того чтобы исполниться законной гордости, Сильвия еще острее ощутила себя одинокой и брошенной.
— Я не вижу причин, почему ты должна угождать прихотям этого… мужчины. Ты служишь ему так беззаветно, что ваши отношения уже слишком смахивают на брак. Открой чайную над своей лавкой! Исполни собственную мечту, chérie.
— Это и есть моя мечта. — Голос Сильвии дрожал. Публикация «Улисса», помощь Джойсу, заведование «Шекспиром и компанией» — вот что давало ей чувствовать себя нужной.
— Но достаточно ли этого?
— Да, — ответила Сильвия. И не солгала; почти нет. Но ей самой ответ казался неполным.
Сильвия поймала себя на том, что избегает поднимать тему Джойса с Адриенной, хотя сейчас она как никогда нуждалась в мудрых советах подруги. Но та полностью утратила объективность в своих суждениях о нем. Подозрение, что его следующий роман может быть написан не им самим, стало для Адриенны последней каплей. Джойс бесповоротно утратил честность в ее глазах.
Сильвия даже не помышляла просить ее держать в секрете очередную причуду Джойса, но испытала безмерное облегчение, что Адриенна никому ни словом об этом не обмолвилась. Да, она частенько жаловалась их французским друзьям на алчность и тщеславие Джойса, но никогда на его нечистоплотность — из уважения к репутации Сильвии как его издателя, так решила про себя Сильвия. После одного званого обеда, на котором Адриенна зашла дальше обычного и назвала Джойса царем Мидасом, Ларбо вызвался помочь Сильвии мыть и вытирать посуду, пока ее подруга продолжала оживленную беседу с Фаргом и другими гостями. В какой-то момент Ларбо, понизив голос, с сочувствием спросил:
— А как вы в последнее время относитесь к Джойсу?
От нежданного сочувствия друга горючие слезы чуть не брызнули из глаз Сильвии. Сдержав их, она ответила:
— Не стану отрицать, он испытывает мое терпение.
Ларбо согласно кивнул, вытирая тяжелое блюдо, на котором Адриенна подавала свой вкуснейший нежнейший пирог-суфле, первую перемену на их пиршестве.
— А что думаете вы? — Сильвии отчаянно захотелось услышать его мнение. — Насколько он отличается от человека, с кем мы познакомились в 1921 году?
Ларбо задумался, отложил блюдо и взялся за сотейник.
— Все мы изменились, это несомненно. С возрастом наши привычки и мысли, когда-то мелкие, разрастаются. Мы становимся собой, теми, кто мы есть по натуре. Такое происходит с Адриенной, и с Джойсом тоже.
— Их привычки и представления чем дальше, тем больше расходятся.
Он кивнул.
— Мне очень жаль, Сильвия. Уверен, вам приходится нелегко.
— Я люблю их обоих, — выговорила Сильвия, и слезы сдавили ей горло. — Я не хочу выбирать между ними.
Ларбо отложил сотейник и ласково положил руку ей на спину.
— Надеюсь, вам никогда не придется выбирать.
— Но?.. Я же чувствую, что вы чего-то недоговариваете.
— Если вы позволите… Адриенна отчаянно любит вас.
— А Джойс нет.
— Он любит вас в меру способностей своей души. Что ни в коем случае не умаляет любви, которую вы испытываете к каждому из них. Я понимаю это.
Сильвия утерла рукавом хлюпающий нос и склонила голову на плечо Ларбо в мечтах, чтобы ее сердце возжелало чего-нибудь попроще.
Глава 24
Летом 1931 года переписка Сильвии по поводу романа Джойса приняла такой оборот, что она почувствовала, будто стоит под проливным дождем без зонтика и без калош.
Уважаемая мисс Бич!
Обращаюсь к Вам от имени м-ра Беннета Серфа относительно романа «Улисс» м-ра Джеймса Джойса. Мы получили копию Вашего контракта с м-ром Джойсом и хорошо представляем себе, сколько времени и сил Вы вложили в издание этого Произведения. Мы понимаем, через какие испытания Вам пришлось пройти в ходе его публикации, перевода и распространения, включая, но не ограничиваясь борьбой с пиратством, Почтовой службой, а также с невежеством читателей и критиков. Поверьте, мы высочайше ценим ваши заслуги.
Однако сумма в 25 000 долларов за Ваш отказ от права на это Произведение слишком высока; более того, примерно такое же объяснение мы дали м-ру Джойсу в ответ на его требование 25-процентного роялти и аванса в размере 5000 долларов. Пожалуйста, поймите, что мы начинаем дорогостоящую и длительную юридическую борьбу за снятие запрета с этого Произведения в Соединенных Штатах. Мы уверены, что со времен тяжбы 1921 года настроения в стране и в судах изменились и успех достижим, хотя и не без трудностей.
М-р Джойс, судя по всему, расположен к дальнейшим переговорам, и мы надеемся, что Вы также измените свою позицию в интересах этого выдающегося шедевра.
Искренне Ваш,
Уильям Бейтс
Вот так насмешка судьбы. Будто Джойс сам не настаивал все эти годы, что им без надобности формальный контракт, в прошлом году он вдруг потребовал, чтобы Сильвия подписала простое одностраничное соглашение, закреплявшее за ним роялти в размере двадцати пяти процентов за «Улисса» и дававшее Сильвии власть принимать или отвергать предложения от американских издателей: «Право на издание указанного Произведения должно быть приобретено у Издателя за установленную им самим сумму, каковая следует к уплате издателями, приобретающими право на издание указанного Произведения». Такое письменное соглашение казалось Сильвии справедливым, и, после того как Джойс передал свой «Неоконченный труд» в другие руки, ее очень обнадеживало предоставленная ей возможность отклонять предложения других издателей. В то время она полагала, что до этого никогда не дойдет.
Рассматривать запрос о продаже прав на «Улисса» побудило ее лишь то, что у американского издателя были перспективы легализовать роман в нынешней Америке, подрастерявшей уверенность после краха 1929 года. Во всяком случае, так думали и Эзра, и Джойс, и Эрнест, и Боб, потому что Серф и некоторые другие нью-йоркские издатели вовсю обхаживали Джойса, приводя убедительные аргументы о большей либеральности судов и изощренности в защите правовых интересов. «И все это потому, что вы, Сильвия, первой издали роман. Вы первой убедили публику, что он может найти своих читателей, а ни в коем случае не разлагать их», — добавил Эрнест.
Чего прежде всего желала Сильвия, так это еще большего успеха «Улиссу». Она верила, что он еще надолго сохранит свое место влиятельнейшего романа двадцатого века: что в 1950-х, 1970-х, да что там, и в 1990-х годах люди, оглядываясь назад, поймут, как «Улисс» изменил литературу к лучшему. Первый тираж вышел почти десять лет назад, и за эти годы ее мнение уже подтверждалось: она с удовольствием указывала на романы «Шум и ярость» и «Когда я умирала», которые Уильям Фолкнер написал, ни на день не покидая Юга и штата Миссисипи, как доказательство того, какое распространение и влияние приобрел «Улисс».
Но в равной мере ей следовало позаботиться о себе и «Шекспире и компании». Двадцать пять тысяч, на ее взгляд, были не более чем справедливой ценой, которую уплатит американский издатель за выкуп у нее прав, за ее десять потраченных на роман лет жизни и за ее будущее существование. В конце концов, они получали чистейший бриллиант современной литературы! Но учитывая долгое молчание в ответ на ее предложение, трое издателей: перешедший в «Викинг» Бен Хюбш, и Лорненс Поллинджер из «Кертис Браун», и Беннет Серф из «Рэндом Хаус» — и заметьте, все мужчины — похоже, придерживались иного мнения.
Ну и на здоровье. В ее душе подняла голову молоденькая феминистка, когда-то боровшаяся за права женщин, всей душой возмущенная несправедливостью, что их вечно норовят отодвинуть от всего сколько-нибудь значимого. Даже Гарриет Уивер со своей готовностью чуть что бросаться на помощь Джойсу написала Сильвии в знак солидарности, что «мужчинам-издателям приходит время признать, что вы сделали для них». А Адриенна с жаром убеждала ее: «Ты стоишь этой суммы до последнего сантима, и еще более того, chérie».
Она просто обязана быть уверенной и сильной.
Уважаемый мистер Бейтс!
Спасибо за Ваше письмо. Я понимаю, что Вам придется снова идти в суд для легализации «Улисса», и поверьте, осознаю, что это далеко не пустяк. Я признательна Вам за Ваши отважные усилия и надеюсь, что Вы одержите верх.
Однако прошу Вас понять, что, несмотря на всю несопоставимость масштабов, я такой же издатель, как Вы. Я одна взяла на себя обязанности редактора, литагента, производственного директора, специалиста по типографским работам, ассистента, рекламного агента, распространителя и продавца. Как Вы сами упоминаете, я столкнулась со множеством юридических неприятностей, связанных как с «Улиссом», так и с его автором, и за все это мне приходилось платить, иногда из средств другого моего бизнеса, книжной лавки и библиотеки «Шекспир и компания», но никогда — из гонораров м-ра Джойса за продажу его произведений.
Вы также просите, чтобы я продала Вам права на роман, и если саму просьбу можно выразить в подобном письме короткой фразой, то с практической стороны это очень сложная задача. Для его издателя продажа сопряжена с многочисленными последствиями и аспектами. Мои вложения в издание «Улисса» не ограничиваются одним только парижским изданием, а распространяются на зарубежные издания более чем в дюжине стран, на привлечение литературной критики и — данный аргумент невозможно переоценить — на коммерческую активность, которую роман обеспечивает «Шекспиру и компании». Ее масштабы неисчислимы, и ее потеря на фоне только углубляющейся Депрессии рискует обернуться катастрофическими последствиями для моего заведения в Париже, которое многие Ваши писатели называют своим домом.
Я говорю о таких писателях, как Шервуд Андерсон и Торнтон Уайлдер, чьи пользующиеся огромным спросом романы, я уверена, сторицей окупят расходы на новый судебный иск по поводу «Улисса». И произойдет это еще до того, как сам «Улисс» тысячекратно возместит их, когда Вы выпустите доступное недорогое издание романа и сможете предлагать его каждому читателю в Америке. Не говоря уже об огромной сумме, которую Вы, в чем я не сомневаюсь, получите, когда лондонский издатель купит у Вас права.
Решение м-ра Джойса по этому вопросу — полностью его личное дело. Какой бы аванс он ни согласился принять от Вас, все померкнет в сравнении с суммами, которые он получит в качестве роялти после начала массовых продаж, что м-р Джойс хорошо понимает. Из всех знакомых мне литераторов он один из самых практичных и трезвомыслящих в финансовых делах, а в круг писателей, с которыми я дружу и поддерживаю знакомство, я включаю практически всех, кто издавался в прошлом десятилетии. Я не получаю ничего из будущих гонораров и потому не могу позволить себе компромисса в этой критической ситуации. Благодарю Вас за Ваше время и внимание.
Искренне Ваша,
Сильвия Бич
Она допечатывала письмо под гулкие удары сердца, словно рубила дрова. Чего она не могла написать в письмах издателям или озвучить любому из тех, кого знала, так это того, что, хотя она всей душой желала «Улиссу» шагнуть в мир и завоевать широкий успех, частица ее надеялась, что Серф отклонит ее требование. Неужели родители испытывают подобные чувства по отношению к своим детям? Боже, как же ей хотелось спросить о том у своей матери.
Мой дорогой м-р Паунд!
Что бы Вы ни думали о моем «Неоконченном труде» — который все равно застопорился по причине свалившихся на меня тягот борьбы вокруг «Улисса», — я надеюсь, Вы найдете способ еще раз посодействовать Стивену и Леопольду. Вы стали им первым защитником и как никто понимаете их. И думаю, сейчас Вы как никто понимаете, в какой угол загнали меня присутствующие в моей жизни женщины. Мисс Уивер со своей прижимистостью и призывами к воздержанию, которые она маскирует заботами о моем здоровье; миссис Джойс со своим стареющим телом, как никогда недомогающим и нуждающимся в уходе, и со своими требованиями насчет наших детей; наша новая квартирная хозяйка фрейлейн Мерк, не желающая даже на день отсрочить внесение платы; и, что самое худшее, мисс Бич, вообразившая, что обладает неким правом собственности на роман, который она не писала, и препятствующая моим будущим заработкам ввиду этого беспочвенного мнения. И только моя милая Лючия страдает не меньше моего.
Думаю, мисс Бич послушается Вас, стоит Вам черкнуть ей строчку-другую. Вы опубликовали произведения и отпустили их на волю — уговорите ее сделать то же, умоляю.
Мы с миссис Джойс уже наглотались сырости в этом ужасном английском городе и так мечтаем об Италии, что вскоре мы, возможно, увидимся.
С глубочайшей признательностью,
Джеймс Джойс
Милая, дорогая Сильвия!
Какие ужасные новости я слышу об «Улиссе», и как желала бы я сказать, что они удивляют. Мы с Джейн всегда считали Джойса гением литературы, но не честности, а его роман, судя по всему, насылает проклятие на каждую женщину, имеющую к нему отношение, включая и его женских персонажей! До сих пор не могу без боли в сердце вспоминать, как в Джефферсон-Маркет-Кортхаус бедняжку Герти втаптывали в грязь те самые тупоголовые судьи, которые даже не сумели заставить себя признать, что издателями того эпизода были женщины. Они-де неспособны понимать подобное произведение, для них оно слишком сложно. Даже когда Джон Куинн (а он уж точно не был замечен в симпатиях к женщинам) указал им, что мы с Джейн действительно относимся к женскому полу, они не удостоили нас и взглядом, хотя мы сидели прямо перед ними.
Создается впечатление, что книга вытаскивает наружу все худшее, что есть в мужчинах, и автора это тоже коснулось. Я очень сожалею, Сильвия, и мне хотелось бы предложить Вам больше, чем свою солидарность с Вами, но уж она обеспечена Вам с лихвой. Пожалуйста, передавайте мои наилучшие пожелания Адриенне.
Да пребудет с Вами вся удача мира,
Маргарет Андерсон
ВЫШЕ НОС СИЛЬВИЯ МИР ПОЛОН УБЛЮДКОВ ВСЕ ЗНАЮТ ВЫ НЕ ИЗ ТАКИХ В БУДУЩЕМ МЕСЯЦЕ ПРИГЛАШАЮ В ЛЁ ДОМ ЭРНЕСТ
Дорогой Джим!
Боюсь, есть все же разница — и притом преогромная — между тем, чтобы печатать короткие произведения в журналах, как это делаю я, и выпускать многие тиражи романа, как это делает Сильвия. И разве не вы просили ее подписать с вами договор? Сам бы я никогда не посоветовал этого, но дело сделано, и вы обязаны уважать контракт, иначе чем вы лучше женщин, которых высмеиваете? Сильвия среди них одна из самых здравомыслящих. Возможно, она предложит какое-нибудь решение.
Эзра
Уважаемая мисс Бич!
Мы сожалеем, что не можем публиковать «Улисса» на нынешних условиях. Надеемся, Вы передумаете.
Искренне Ваш,
Уильям Бейтс
Уважаемый м-р Джойс!
Как ни желает «Рэндом хаус» издать Ваш значительный роман, мы просто лишены такой возможности на выдвинутых «Шекспиром и компанией» условиях. Если Вы располагаете средствами, чтобы выкупить права у мисс Бич по цене, которую она запросила, уверен, мы с Вами придем к согласию относительно гонорара. Учитывая имеющийся у Вас контракт, другого пути я не вижу.
Прошу Вас держать меня в курсе этого дела.
С надеждами Ваш,
Беннет Серф
— А от самого Джойса что-нибудь слышно? — спросил Ларбо. Сильвия сидела на деревянном стуле в его квартире на улице Кардинала Лемуана, где Джойс с семейством жили летом 1921 года и где он лихорадочно и почти вслепую дописывал «Улисса». Сейчас ее французский друг лежал в шезлонге в нескольких футах от нее, укутанный в свитера и одеяла, хотя за окном стоял теплый осенний день. Но бедный Ларбо, казалось, никак не мог согреться.
— Ни слова.
Джойс уже несколько месяцев как жил в Лондоне и наконец-то официально зарегистрировал свой брак с Норой в Кенсингтонском отделении записи актов гражданского состояния, чтобы убедиться, что его дети не столкнутся с проблемами из-за порядка наследования.
— Надеюсь, его молчание означает, что он консультируется со знающими специалистами.
— Вроде Леон-Поля? Юджина Джоласа?
Оба были у Джойса на побегушках и буквально смотрели ему в рот.
— Верно подмечено, — сочувственно отозвался Ларбо.
— В последний раз, когда мы с ним общались, он заверил, что написал своему агенту в Лондоне с просьбой навести справки, возможен ли какой-то выход из положения. Сказал, я заслужила, чтобы права у меня выкупили.
— Интересно, насколько Депрессия сказывается на Джойсе и американских издателях?
Сильвия насмешливо хмыкнула.
— Это на Джойсе-то при бездонном кошельке Гарриет? На американских-то издателях, когда у них есть такие громады, как «Прощай, оружие!», новинка Дос Пассоса, очередные романы Агаты Кристи, а сейчас еще и детские книжки про Нэнси Дрю?[137] Я вас умоляю. — Произнеся эти слова, Сильвия еще больше укрепилась в своей решимости не уступать.
— Конечно, книг сейчас стали покупать меньше.
— Да, и я ощущаю всю тяжесть спада на «Шекспире и компании», потому что лавка ориентирована на экспатриантов из богемы, — мы же не крупный книжный магазин в Нью-Йорке, обслуживающий публику, у которой деньги, кажется, не заканчиваются никогда. Но если посмотреть глубже, это означает, что какое-то время издатели предпочтут вообще не рисковать. И сделают ставку только на то, чему наверняка обеспечен спрос, на «Улисса» например. На нем-то они очень прилично заработают. И если совсем по правде, я не о собственных доходах пекусь. Я чувствую себя… нечистой, обсуждая «Улисс» в денежном плане. Я люблю этот роман. — Она приложила руку к сердцу. — Люблю, и всё тут. Но и свою лавку люблю ничуть не меньше и должна защищать ее.
— А знаете, — продолжила Сильвия, откашлявшись, — наш старина Сэмюэл Рот выпустил очередной десятитысячный тираж. Десять тысяч экземпляров. Эрнест написал мне, что видел их в книжном «Готэм бук март»[138].
— Как я понимаю, оттого Джойс еще больше спешит и суетится. И знаю, что вы не хотите из-за этого жертвовать своей дружбой с ним.
Она кивнула. Что да, то да. За всеми дрязгами крылась ужасная правда, что ей неминуемо придется выбирать между своими отношениями с книгой и отношениями с ее автором. Но как это возможно, если для нее они были едины — одинаково любимы и окружены заботами — на протяжении целого десятилетия. Мысль о подобном выборе разрывала Сильвии душу.
Между тем, судя по виду Ларбо, он уже устал. Подойдя к нему, она опустила прохладную ладонь на его пылающий влажный лоб, и он закрыл глаза.
— Я должна идти, — тихо сказала она. — Но скоро снова загляну к вам.
Он только кивнул.
Как же ей хотелось оказаться дома и забраться в нежные объятия Адриенны, что было решительно невозможно, учитывая чувства Адриенны к Джойсу и американским издателям, и от этого тяга Сильвии только усилилась. Ларбо тяжело уронил голову на подушки, и Сильвия поняла, что пора уходить.
Глава 25
— Я Келли, Патрик Келли. Но прошу вас, зовите меня Пэдди.
Сильвия пожала руку розоволицему ирландскому пареньку, говорившему с сильным дублинским акцентом, — он и правда выглядел так молодо, что слово «паренек» ему отлично подходило. Она бы удивилась, если бы он уже отучился в университете.
— Рада знакомству, Пэдди. Для вас я Сильвия.
В этот день продажи шли вяло, хотя до предпраздничного ажиотажа оставались считаные дни, и Сильвия надеялась, что он не обойдет стороной «Шекспира и компанию». А пока кроме Пэдди, который бродил среди стеллажей, в лавке было всего трое посетителей. Мюсрин болела, Жюли помогала записывать новые поступления, маленькая Амели делала домашнее задание, а Сильвия заставила себя заняться самым своим нелюбимым делом — составляла бухгалтерский баланс. Она и так уже довольно долго откладывала его на потом, разбирая читательские карточки — многие из них стояли не по алфавиту, а некоторые и вовсе валялись где угодно, кроме положенного места. И все же наводить среди них порядок Сильвия считала одним из своих любимых занятий. Для нее это было почти то же, что перебирать старые фотографии или листать семейный альбом: она наугад вытаскивала карточки читателей, вспоминая, какие книги они брали и что в то время происходило в их жизни.
Возня с гроссбухом доставляла ей намного меньше удовольствия, и она только порадовалась поводу отвлечься от цифр, когда Пэдди подошел к ее столу.
— Прошу меня извинить, Сильвия, но не вы ли издаете «Улисса»?
Она ощутила, как волосы у нее на затылке вздыбились от возмущения, а Тедди, учуяв неладное, притрусил к ней и в ожидании уселся у ее ног. Ну и лгунишка этот юный Пэдди, подумала Сильвия, готовая поклясться, что он и так знает ответ. И все же она вежливо сказала:
— «Шекспир и компания» издает Джеймса Джойса.
Потом наклонилась потрепать собаку за ушками и чуть успокоилась.
А паренек, нервно комкая в руках кепку, залился румянцем и смущенно улыбнулся.
— Стыдно признаться, мисс Бич, но я не знал этого. Видите ли, я недавно познакомился с самим мистером Джойсом. Я прочитал все написанное им до последнего слова, и меня не оставляет чувство, что он подслушал мои собственные мысли, понимаете?
«Бедный малыш», — подумала Сильвия. Ей уже с первых слов было ясно, что ему не хватает интеллекта и манер, какими обладал Сэмюэл Беккет, ее любимчик среди молодых ирландских дарований, паломничавших в ее лавку.
— Я тоже люблю его творчество, — сказала Сильвия нервничавшему Пэдди.
— И все же, видите ли, я очень надеюсь, вы не воспримете это как нахальство с моей стороны, поскольку я питаю к вам, мисс Бич, лишь глубочайшее уважение, но, как я слышал, кое-кто из американских издателей заинтересовался изданием «Улисса», верно? И они намерены добиваться, чтобы его признали законным, хотя сейчас роман под запретом?
— Всё так. — Шея под волосами начинала раздражающе зудеть.
Вот и Жюли подняла взгляд на нового посетителя.
— Просто было бы так… замечательно, если все это получится. Тогда все мои родные в Бостоне смогут купить роман.
— Они и сейчас могут купить его, — сказала Сильвия. — С недавних пор у меня нет никаких преград для его поставок в американские книжные магазины. Официально роман пока запрещен, но что-то подсказывает мне, что власти и сами ищут выход из положения. На сегодня есть проблема похуже — пиратство.
«Даже в Японии», — сказала она себе, вспомнив, как на это ей жаловался в недавнем письме официальный издатель «Улисса» в Токио.
Пэдди, явно не соглашаясь с ней, дернул правым плечом, почти коснувшись уха.
— Может, оно и так. Но для рабочего люда вроде моих кузенов издание в синей обложке стоит слишком дорого, а пиратское я им покупать не велел, ведь это все равно что залезть в карман к самому мистеру Джойсу.
Престранный разговор он тут завел. Сильвия желала как можно быстрее его завершить. Кисло улыбнувшись, она сказала:
— Ценю вашу заботу, Пэдди, и уверена, мистер Джойс тоже. Однако вопросы, связанные с намерением американских издателей, крайне сложны, и уверена, вы сами понимаете, что они к тому же конфиденциальны. Пожалуйста, дайте знать, если вам нужна помощь в поиске какой-либо книги на полках или в библиотеке.
И Сильвия снова опустила взгляд в свой гроссбух, хотя цифры плыли у нее перед глазами. Тедди тявкнул и завилял хвостиком, требуя еще ласки.
— Да-да, конечно. Еще раз извините меня. — Пэдди бросил хмурый взгляд на собаку у ее ног.
Он вернулся к стеллажам, а Сильвия с Жюли обменялись взглядами, говорившими: и когда он поймет намек, что пора бы и честь знать? Сильвия как раз собиралась вписать нужные цифры в колонку, когда Пэдди снова вырос у ее стола, уже в кепке и готовый уйти, так ничего и не купив и не оформив читательского билета.
— Просто мне кажется, эта книга должна быть доступна всем, понимаете?
Сильвия удивилась, откуда в нем взялось столько смелости заговорить с ней таким твердым взрослым тоном, потому что в его прощальных словах прозвучало больше зрелости и здравомыслия, чем можно было ожидать, глядя на его по-детски наивное личико.
Пэдди повадился приходить в «Шекспира и компанию» чуть ли не через день, выполняя то или иное поручение Джойса.
— Представь, он даже носит мне письма от него, — осмелилась Сильвия признаться Адриенне, а та лишь покачала головой и явно прикусила язык.
— Он приложил эту записочку для вас в адресованное мне письмо подлиннее. — Пэдди протянул Сильвии конверт.
Судя по тому, как он в ожидании топтался в сторонке, ему явно было велено дождаться, когда Сильвия развернет послание, а она тем временем сортировала поступившие в лавку журналы. Прождав какое-то время, Пэдди подал голос:
— Разве вы не прочитаете записочку, мисс Бич? А я бы вставил ваш ответ в свое письмо ему.
— Я сейчас занята, Пэдди, и лондонский адрес мистера Джойса мне известен. А почтовые марки меня не разорят.
Сильвия больше не встречалась с ним взглядом и делала вид, что с головой погружена в свое занятие. Наконец он убрался.
В следующий его приход в лавке оказалась Адриенна. Она заглянула передать Сильвии пачку книг, по ошибке доставленных в «Ля мезон», и той пришлось представить их с Пэдди друг другу.
— Большая честь познакомиться с вами, мадам Монье, — сказал Пэдди и, сдернув с головы кепку, отвесил несуразный поклон. — Премного наслышан о ближайшей и наиумнейшей советнице мисс Бич.
Послышалась ли Сильвии насмешка в эпитетах «ближайшая и наиумнейшая»? Она услышала в них отголосок когда-то брошенной Куинном гнусности про «грязных сквернавок с Вашингтон-сквер». Неужели Джойс в своей злобе на Сильвию опустился до пошлостей? Или сквозь заученные фразы просачивалось отношение самого Пэдди?
Адриенна тоже прекрасно это расслышала, и ее губы сжались в тонкую линию.
— Сильвия не нуждается в советах. Она лучший в Париже владелец лавки и библиотекарь.
— И в мыслях не имел никого оскорбить, мисс… я хотел сказать, мадам Монье, я всего лишь…
— Только Джойс настолько смешон, чтобы применять к нам свои «мадам» и «мисс», Пэдди. Разрешаю вам называть меня Адриенна, или просто Монье, как принято во французских литературных кругах. Уверена, Сильвия тоже наказала вам называть ее по имени.
— О, но я не мог бы, я…
— Потому что Джойс велел вам так к нам обращаться, а вы ему послушный щенок.
— Ну знаете, мадам… я хочу сказать, Адриенна, ваши слова прозвучали как-то даже оскорбительно.
— Я люблю собак, Пэдди, но да, они и задумывались как оскорбление.
Сильвии вдруг показалось, что она смотрит один из любимых Эрнестом боксерских поединков. Иногда с самого начала бывало ясно, кто победит, но все равно она с волнением наблюдала, как чемпион вышибает дух из противника.
Точно отозвавшись на упоминание своего биологического вида, к Адриенне подбежал Тедди и запрыгал у ее ноги, а она, нагнувшись, принялась демонстративно гладить его за ушками и целовать в макушку.
Пэдди брезгливо скривился.
Сильвия едва не расхохоталась.
Пэдди же, точно заслышав гонг к окончанию раунда, натянул на уши кепку со словами:
— Был рад, Адриенна. Монье. Мисс Бич, уверен, скоро снова увидимся.
Едва за ним закрылась дверь, Сильвия с Адриенной зашлись хохотом. Они хохотали так долго и самозабвенно, что у Сильвии закололо в боку и ей пришлось опуститься в зеленое кресло. Тедди тут же запрыгнул к ней на колени и счастливо затявкал.
— Да, Тедди, собак мы любим, — едва выговорила Сильвия, сраженная новым приступом смеха.
Адриенна, сидя на деревянном стуле рядом с ней, тоже едва переводила дух. Закрыв глаза, она вся обмякла, словно только что пережила величайшее удовольствие. Жаркая волна любви и восхищения затопила Сильвию.
Возблагодарив судьбу, что в лавке нет ни одного посетителя, она сказала:
— Je t’aime[139], Адриенна.
Та потянулась к ней и взяла ее руку в свои.
— И я люблю тебя, Сильвия. Надеюсь, этот пронырливый хорек больше к нам не сунется.
— Думаю, хорьки далеко не так сообразительны, как собаки.
И они снова расхохотались.
Тот случай показал Сильвии с Адриенной, что они могут запросто разговаривать о Джойсе с его Пэдди с юмором, что значительно разрядило напряжение между ними. Они весело изощрялись в шутках и каламбурах на тему щенков и прочих зверушек, в том числе позволяли себе изумительно еретические подколы в адрес своего корявого Иисуса и ручных питомцев. «Наверное, зря Иисус не обзавелся псом, а то бы натравил его на Иуду». «Мессии и их изнеженные горные собаки[140]». И поскольку дело шло к Рождеству, Адриенна отыскала несколько глиняных статуэток собак и поместила их в рождественские ясли, украшавшие каминную полку в Рокфуэне.
Одна статуэтка изображала ротвейлера, и отец Адриенны невинно поинтересовался: «А ты не боишься, что он съест овечку?», на что Сильвия с Адриенной дружно расхохотались, вогнав в священный ужас Maman и Papa.
К несчастью, в полном соответствии с клише про банный лист, Пэдди снова заявился в «Шекспира и компанию» и, похоже, за время отсутствия успел отрастить хребет.
— Мои двоюродные братья сообщают, что в рождественские праздники издание Рота прекрасно продается. Мистер Джойс в ужасном огорчении.
— Я тоже, — ответила Сильвия. У нее отпали последние сомнения, что Джойс в тесном контакте с мальчишкой. Она сама понимала, что поступает нелепо, но с укором взглянула на стопку «Улиссов» в дивной синей обложке и мысленно сказала их автору: «Меня-то ты всегда держал на расстоянии».
— Вот уж непохоже, чтобы вас это заботило, мисс Бич. Потому что в вашей власти спасти «Улисса» и мистера Джойса, достаточно лишь дать согласие на американское издание.
— Я и сама хочу, чтобы вышло американское издание. Но хочу также, чтобы ко мне относились с уважением. — Едва договорив эту фразу, Сильвия сейчас же о ней пожалела. Потому что всякое сказанное ею слово давало Пэдди шанс продолжить разговор.
— Да кто ж относится к вам без уважения? Не мистера же Джойса вы имеете в виду. Разве он каждый год не посылает вам цветы в память о выходе книги? Разве забывает поздравить вас с вашим днем рождения? И разве он не прислал вам на Рождество чудесный подарок, купленный, между прочим, в «Харродсе»?
А ты-то откуда знаешь?
— Я не имею привычки обсуждать чьи-либо подарки, и тем более с незнакомым человеком.
— Да бросьте, мисс Бич, теперь-то мы с вами не какие-то там незнакомцы.
Лучше уж я промолчу, кем мы с тобой друг другу приходимся. А Тедди, словно угадав, что к чему, грозно зарычал на наглеца.
Мальчишка же испустил картинный вздох вконец измученного человека.
— Например, мне кажется, мы с вами знакомы достаточно хорошо, чтобы я мог передать вам, как сильно мистер Джойс страдает из-за вашей гордыни.
Сильвия и рассмеялась бы над картиной страданий Джойса в Лондоне, обедающего в «Браунсе» и «Савойе», но ее слишком смущало подозрение, что Джойс сам подговорил Пэдди выложить ей все это.
И она сквозь зубы процедила:
— Настоящие друзья могут не соглашаться друг с другом, но не обрывают отношений. Так вот, если уж вы мне друг, Пэдди, я прошу вас признать, что у нас разные мнения, и закончим на этом.
— Ну конечно, — тут же ответил он. Хотя Сильвия знала, что он не отступится и снова будет тянуть из нее жилы.
От мысли, что Пэдди выступает всего лишь рупором самого Джойса, внутри Сильвии что-то оборвалось. Как будто раньше в центре ее существа был затянут тугой узел, но кто-то явился и надрезал его, и теперь тот медленно разматывался, заполняя все ее нутро.
Сильвия поняла, что есть только один человек, с которым она может поделиться этой болью, который выслушает все, что накипело у нее на душе, не попрекая и не поучая ее. И вечером, перед тем как на Париж опустился ранний закат, Сильвия оставила лавку на попечение Жюли, а сама поспешила в Люксембургский сад, где нашла Луизу и купила у нее чудесную пуансеттию. Чувствуя, как ее пробирает холод, она взяла такси до кладбища Пер-Лашез, хотя обычно из экономии ездила туда на метро.
Со смерти Элинор прошло уже три года, и Сильвия с удивлением поймала себя на том, что повадилась часто беседовать с матерью на ее могиле. Где-то раз в месяц она покупала у Луизы цветы — непременно пионы, если те у нее были, — и ближе к закату отправлялась на Пер-Лашез, что зимой представляло определенные трудности, к которым она, впрочем, приспособилась. Зато весной и летом, когда длинные дни и обилие света оставляли ей больше времени, Сильвия ходила к матери кружными путями, посещая могилы Пруста, Мольера и Жака Луи Давида, чья картина «Смерть Марата», прекрасная и лаконичная, была одним из любимых живописных полотен Элинор, хотя она видела его только в фотографической репродукции, но никогда — в Королевских музеях изящных искусств в Бельгии. Как же Сильвия жалела, что, когда ее мама была жива, они так и не выбрались с ней в Брюссель посмотреть саму картину.
Сильвия всегда брала с собой плотное шерстяное покрывало, складывала его в несколько раз, чтобы не пробирала стылая сырость земли, и усаживалась на него, поджав под себя ноги. В тот день на исходе 1931 года она как можно плотнее закуталась в полы пальто, но все равно дрожала от холода.
— Я не знаю, как мне быть, чем поступиться, — обратилась Сильвия к матери, как всегда, мысленно. — Дружбой или книгой. Они неотделимы друг от друга. Для меня во всяком случае. Но явно не для него. И с деньгами у нас скверно, в обеих лавках. На днях Адриенна даже обмолвилась, что вроде бы придется продать наш «Ситроен», и я не знаю, сможем ли мы смириться с потерей. Понимаю, глупо так горевать об автомобиле, но с ним связаны столько наших дорогих воспоминаний. Его продажа стала бы для нас трагедией: это все равно что навсегда распрощаться с ними. А что ждет «Шекспира и компанию», если они больше не будут домом для «Улисса»? Не будут ему Итакой? Что станется с моей лавкой? Со мной? — Теперь слова лились взволнованнее, торопливее, и она почти согревалась их жаром. Почти, потому что уже чувствовала, как на руках и ногах немеют пальцы. — Что стоим мы, я и моя маленькая лавка, которую ты помогла мне открыть, что стоим мы и что мы есть без нашего «Улисса»?
Но ответил ей не материнский голос, каким она его помнила, нет, в голове ее зазвучал голос Адриенны: «Хотела бы я помочь тебе увидеть Одеонию, какой я вижу ее без него».
Сильвия опустила взгляд и заметила, что правой рукой без перчатки скребет промерзший грунт, и тот уже забился ей под ногти. Когда же она успела ее снять? Счистив, как могла, грязь, Сильвия надела перчатку и утерла хлюпающий нос платочком, который всегда держала в левом кармане пальто. Потом заставила себя подняться с земли, что далось ей не без труда. Уже какое-то время ее не донимали приступы невралгии лицевого нерва, зато этой зимой стали отзываться возрастной болью суставы. И еще она почувствовала, как к ней подкрадывается мигрень.
— Пошли мне знак, мама, — вслух произнесла Сильвия. — Хоть чем-нибудь подскажи мне, как поступить.
Солнце висело совсем низко, и голые ветви деревьев зловещими переплетениями накладывались на лиловое предзакатное небо, совсем как в рассказах По.
— Доброй ночи, — на прощание пожелала она Элинор Бич.
Сильвия никогда не отличалась суеверностью. И сейчас не могла объяснить даже самой себе, почему ей пришло в голову просить мать подать ей какой-нибудь знак и почему теперь повсюду она этот знак выискивала.
Она дожидалась его, этого знака.
Рождественские праздники 1931 года принесли одни разочарования. Некоторые из ближайших друзей и вернейших завсегдатаев заглядывали в лавку поздравить ее, иногда приносили домашнее печенье или бутылочку вина, перекидывались с ней несколькими словами о своих планах на праздники или о положении в мире, а потом приносили извинения, что на этот раз не покупают, как раньше, стопку книг в подарок друзьям и родным: один потерял работу, другому снизили жалование в лицее; жаль, но нам, похоже, придется возвратиться в Америку; моей старенькой маме нужен уход, и мы переезжаем из Парижа к ней в провинцию. Даже Мишель на праздники принес Сильвии сверток с мясными деликатесами вдвое меньше обычного, а в его широко открытых глазах плескалось искреннее огорчение: «Вы уж простите, Сильвия, сейчас люди покупают куда меньше, чем раньше, и запасы у меня уже не те, что бывали когда-то». Любопытно, что чем больше обваливалась экономика, тем больше Мишель оживал и, соответственно, Жюли стала чаще улыбаться и все больше искрилась энергией.
Сильвия старалась реагировать на все это спокойно, однако вереница непокупателей подталкивала ее к мысли, что нужно держаться за «Улисса» и озвученную ею сумму, а не соглашаться на меньшее.
— Думаю, нам надо продавать «Ситроен», пока есть еще люди с деньгами, кто может купить его, — задумчиво сказала Адриенна одним тихим вечером, когда они с Сильвией заканчивали немудреный ужин из супа и багета, уткнувшись каждая в свою книгу.
— Согласна. Но… очень уж горько расставаться с ним.
Адриенна через стол протянула руку и сплела свои пальцы с пальцами Сильвии.
— Будут у нас в жизни и другие автомобили.
На следующий день с вечерней почтой пришло письмо от Джойса.
Моя дорогая мисс Бич!
Надеюсь, нынешний праздничный сезон проходит в Стратфорде-на-Одеоне так же бодро и весело, как в прежние счастливые годы. Мы с миссис Джойс скучаем по елочке, втиснутой в уголок между стопками книг, и по превосходному сидру, который Вы, бывало, настаивали нам на радость и которым мы наслаждались в самые холодные дни.
Хотелось бы мне уверить Вас, что у нас все в порядке, но состояние Лючии в этом презренном городе только ухудшается — и как ему не ухудшиться? — а моя дорогая Нора отбивается от собственных недомоганий. Доктор считает, что ей вскоре потребуется гистерэктомия. Мы собираемся проконсультироваться еще с одним врачом. Мои глаза… что ж, они мои глаза и есть. Я не мог поехать в Швейцарию на запланированную процедуру, потому что был нужен здесь, в Лондоне.
Меньше чем через два месяца нашему «Улиссу» исполняется десять лет, а его автору — полвека. Ни в то, ни в другое невозможно поверить, хотя все свои пятьдесят я ощущаю каждым суставом и каждой жилкой. Я прямо слышу, как часы отсчитывают оставшиеся мне минуты, дни, годы. Очень не хочется терять время. И я снова начал писать.
Надеюсь, что под конец этого года и в канун десятилетия Леопольда и Стивена Вы найдете в своем сердце силы отпустить нас. Я никак не смогу завершить «Неоконченный труд», если буду все время отвлекаться на судьбу «Улисса», тождественную судьбе моего семейства. Притом что мои жена и дочь так сильно нуждаются в должной медицинской помощи и уходе, я обязан принять меры безопасности, чтобы оплачивать счета от докторов, не тревожась по поводу денег, и я искренне верю, что все это мне обеспечат Серф и его «Рэндом хаус». Прошу Вас, Сильвия, пересмотрите свою позицию, ради меня.
С глубочайшей любовью к Вам,
Джеймс Джойс
Сильвия в третий раз перечитывала письмо, от которого узел внутри нее разбух настолько, что начал душить ее изнутри, когда в лавку шмыгнул Пэдди.
А она как раз собиралась закрываться.
Ранний зимний вечер уже разлил в небе чернильную темноту и теперь посыпал землю легким снежком — крупные белые снежинки сияли и переливались на тротуарах в свете газовых фонарей. Сильвии так хотелось успокоить нервы глотком того самого сидра, о котором писал Джойс, но они с Адриенной договорились, что в этом году подобная роскошь дозволительна только под Рождество. А ведь до прочтения письма Сильвия просто мечтала о горячем ужине с бокалом красного вина в компании Адриенны.
Холодный сырой воздух ворвался в лавку вместе с Пэдди.
— Добрый вечер, мисс Бич, — бодро поздоровался паренек. — Боже мой, ничто не сравнится с Парижем в дни рождественского поста.
— Извините, Пэдди, я уже закрываюсь.
Услышав звук хлопнувшей двери и почуяв свежий снег, из задней комнаты показался Тедди, мельком взглянув на Пэдди, подбежал к Сильвии и плюхнулся возле ее ног.
— Я не задержу вас надолго, — сказал Пэдди, подходя к ее столу.
Сильвия только сейчас сообразила, что он, сколько ни таскался в «Шекспира и компанию», ни разу ничего не купил. Ни одной книги.
Его голубые глаза походили на ледышки. Как же она раньше их не замечала? И его волосы цвета воронова крыла. Молвил Ворон[141]. Снова По.
Он вперился в нее этими своими глазами и сказал:
— В последний раз попытаюсь. На днях я должен вернуться в Лондон. Но я спрашиваю вас в самый последний раз, зачем вы стоите на пути у Джеймса Джойса и его великого романа? Величайшего романа нашего века, осмелюсь утверждать.
— Ну, от века не прошла и треть. — Я просто не в силах заставить себя согласиться ни с чем из его слов, пускай и считаю, что он прав.
Пэдди пожал плечами.
— Просто предполагаю. Всего лишь догадка. А вот о чем и гадать не нужно, так это о том, что вы встали препятствием на его пути. Что ясно всякому, кто истинно печется о Джойсе, кроме вас самой.
Сильвия смотрела на него и подыскивала ответ. Что бы она ни сказала, никакие слова все равно не убедят ни его, ни Джойса. Даже мысль, что Пэдди вскоре уберется из города, и та не приносила ей облегчения. Какая разница, Джойс вместо него подошлет кого-нибудь другого.
Я для него расходный материал.
После всего, что я для него сделала.
Вот сейчас Сильвия впервые обозлилась на него глубоко и основательно. Для него я ничем не отличаюсь от Гарриет или кого бы то ни было еще в его жизни. Никакой он не Одиссей, всеми силами рвущийся в родную Итаку, верный Пенелопе и Телемаху. Пускай он способен написать о таких персонажах, но сам вовсе не из их числа.
А я все это время ошибалась.
В тот самый момент, хотя в лавке стояли покой и тишина, если не считать тихого сопения Тедди у ее ног, рамка с одной из страниц Уитмена, присланных ей матерью к открытию лавки на улице Дюпюитрена, вдруг сорвалась со стены и рухнула на пол. Стекло, защищавшее автограф поэта, с громким звоном разбилось.
Разбуженный Тедди тревожно залаял. А Пэдди даже не дернулся.
Что это, если не знак, о котором она просила?
Спасибо, мама.
— Чудно, — сказала Сильвия и немедленно почувствовала, как растворяется душивший ее изнутри ком. — Пускай Джойс заполучит свою драгоценную книгу. Передайте ему поздравления с Рождеством.
Часть 4. 1933–1936
Уолт Уитмен. Песнь о себе (перевод Корнея Чуковского)
- Я славлю себя и воспеваю себя,
- И что я принимаю, то примете вы,
- Ибо каждый атом, принадлежащий мне, принадлежит и вам.
Глава 26
— С Днем благодарения, — пожелал всем муж Карлотты Джеймс Бриггс, поднимая бокал бордо в их светлой солнечной квартире в Шестнадцатом округе, где Сильвия с Адриенной последние три года отмечали этот американский праздник, с тех пор как любимая подруга детства Сильвии Карлотта Уэллс решилась все-таки выйти замуж. И как мудро она поступила, что дождалась солидной партии. Джеймс оказался чудесным парнем, он любил жизнь и умел ей радоваться, к тому же, вопреки всем конвульсиям рынка, сумел сохранить свое немалое состояние. Он был начитан, любил театр и путешествия, и они с Карлоттой решили поселиться в Париже — к радости Сильвии, ведь столько ее любимых друзей-американцев собирались уезжать из Франции.
Карлотта всегда обожала День благодарения и даже в Париже умудрилась отыскать правильные ингредиенты для традиционной фаршированной индейки и других праздничных угощений. Адриенна, всегда приветствовавшая возможность отведать новые блюда, тоже полюбила этот день за его жизнеутверждающий настрой на вкусную еду и чувство благодарности. Она с радостью отмечала американский праздник и специально для него готовила подчеркнуто французский вариант сладкого картофеля, взбитого со сливочным маслом и коричневым сахаром так, что больше напоминал мусс. Из традиционных американских блюд она больше всего любила тыквенный пирог, хотя никогда не предлагала испечь его самой, — и это был наивысший комплимент кулинарному мастерству Карлотты.
— Возблагодарим же Кентукки за то, что он стал тридцать третьим штатом, решившим ратифицировать Двадцать первую поправку, — закончил Джеймс свой тост, и над столом поплыл мелодичный звон сдвинутых бокалов.
— Сколько еще штатов должны присоединиться, чтобы закон был принят? — поинтересовалась Адриенна.
— Еще три, тогда общее число достигнет тридцати шести, — ответила Карлотта. — Что даст две трети от нынешних сорока восьми штатов США.
— Слышал, что следующей будет Пенсильвания, — добавил Джеймс, вскинув брови и подняв бокал.
— И тогда абсурду под названием Великий эксперимент придет конец, — подхватила Сильвия.
— Разумеется. Просто ужасно, сколько народу поумирало из-за этого необдуманного скоропалительного запрета, — мрачно заметил Джеймс.
— Преклоняюсь перед вашей страной за саму попытку претворить в жизнь столь высокий идеал, — сказала Адриенна, — даже если ничего не получилось. А теперь и за готовность признать ошибочность решения… такое и человеку-то дается ох как непросто, что уж говорить о целой стране.
— Вы великая защитница Америки, — с теплотой отозвался Джеймс. — И почти внушили мне желание снова там поселиться, но тогда мы будем вдали от вас.
— Между прочим, Киприан на полном серьезе предлагала нам переехать в Калифорнию, — со смехом сказала Сильвия.
— Но не раньше, чем мы тоже туда вернемся! А мы об этом даже не помышляем! — предостерегающе заявила Карлотта.
— Тебе не о чем волноваться, — уверила ее Сильвия. — Наш дом — Франция. За последние пару десятков лет моя нога ни разу не ступала на землю Америки.
Сильвия вспомнила свой давнишний разговор с Киприан, когда та подбивала ее навестить семью в США, но с тех пор, как не стало матери, а Карлотта переселилась в Париж… всякое желание пересечь океан бесследно улетучилось.
— По мне, Калифорния звучит так же экзотически, как Китай! — воскликнула Адриенна.
— Что-что, «Трамплин на тот свет»? — делано удивился Джеймс, намекая на недавний очерк Эдмунда Уилсона о Сан-Диего, занимавшем первое место в стране по числу самоубийств. Сильвия тоже прочитала его, что заставило ее новыми глазами взглянуть на поступок Элинор. Пасадена, в конце концов, не так-то далеко от Сан-Диего. Неужели торгашеский дух и надменная красота пустынных пейзажей и правда странным образом наводят человека на мысль свести счеты с жизнью?
— Ах, мой дорогой, сколько в тебе этого восточного снобизма, — проворковала Карлотта, с любовью погладив плечо мужа.
— Я и есть сноб, — отозвался Джеймс и поцеловал ее в губы.
Сильвия отвела взгляд в сторону от милующейся пары и от Адриенны тоже. После длительного — слишком длительного — сексуального воздержания они с Адриенной в последнее время старались чаще любить друг друга, но что-то в их паре разладилось. Их ласкам не хватало прежней непринужденности и трепетного восторга, они уже не приносили удовлетворения, как раньше, в молодые годы. Сильвия никак не могла понять почему. Ведь после стольких лет вместе интимная близость должна была по крайней мере удовлетворять обеих. Казалось, плотские потребности Адриенны изменились, и Сильвия уже не знала, чем ублажать подругу; интуиция подсказывала ей, что Адриенна, наверное, не прочь попробовать что-то новое, но сама Сильвия не имела ни сил, ни склонности к экспериментам. Правда, невралгия куда меньше досаждала ей, зато усилились мигрени, и в последнее время ее месячные тянулись чуть ли не неделями, из-за чего она испытывала слабость и сонливость. Лучшим противоядием от этой напасти по-прежнему были прогулки на свежем воздухе, работа в саду и колка дров в Ле Дезере или Рокфуэне.
Но сегодня Сильвия не желала думать о своих горестях. Сегодня она хотела наслаждаться дружбой и с детства знакомыми блюдами.
— Ты ждешь нового решения суда в Америке? — Вопрос Карлотты вырвал Сильвию из грустных дум.
— Да, — встрепенулась она, — судья Вулси недавно слушал дело «Улисса» и взял неделю на размышление.
— Вулси — достойный человек, — сказал Джеймс. — Я слушал курс его лекций в Колумбийском университете. И еще тогда восхищался, как непредвзято и либерально он мыслит, и при этом без капли безразличия. Он вынесет правильное решение.
— А сама ты что думаешь? — Вот и правильно, вот и хорошо, что трудный вопрос исходит от ее старинной подруги.
— Разумеется, я желаю книге успеха. Если судья Вулси вынесет решение в пользу «Улисса», откроются двери и для других. Для Дэвида Герберта Лоуренса, например. И для Рэдклифф Холл[142]. И для этого молодого парня Генри Миллера, он теперь частенько заглядывает ко мне в лавку.
— Вот я удивлюсь, если запрет не снимут, — заметила Карлотта. — Сейчас вся их истерика с цензурой времен 1921-го положительно выглядит дикостью.
Сильвия кивнула.
— «Улисса» уже много лет как не изымают на таможне. Представляешь, Моррис Эрнст, юрист Беннета Серфа, даже самолично посетил Нью-Йоркское таможенное управление потребовать, чтобы экземпляр моего издания конфисковали. Ему нужен был прецедент, позволяющий возобновить судебное разбирательство.
— Этот, что ли? — С притворным недовольством нахмурив брови, Адриенна взяла первый попавшийся под руку томик в бумажной обложке, изображая бдительного таможенника в разговоре с адвокатом Эрнстом, — такое маленькое представление она частенько разыгрывала для друзей, пересказывая им историю. — Все время он вылезает. А мы на него ноль внимания. — И Адриенна под дружный смех бросала его через плечо за спину.
— Как ни радуюсь, а горечь остается, — призналась Сильвия. — Я люблю этот роман. А сколько у меня чудесных воспоминаний, как мы старались вместе с Джойсом, сколько сил вложили в его подготовку к изданию. Но без него мне живется как-то… спокойнее, что ли. — Собравшись с духом и улыбаясь Адриенне, она добавила: — И как права была Адриенна, когда говорила, что без него дела моей лавки пойдут лучше.
— Ты много трудилась, чтобы все так и получилось, — отозвалась та, накрывая своей теплой ладонью руку Сильвии.
Что правда, то правда. Она потрудилась немало и теперь могла по праву гордиться достигнутым за два года: число абонентов ее библиотеки удвоилось, а продажи увеличились благодаря небольшой дополнительной рекламе. К удивлению Сильвии, приток посетителей в ее лавку нисколько не уменьшился, когда ее покинули «Улисс» и его автор, не казавший носа в Одеонию с тех пор, как вернулся из Лондона в Париж. На самом деле, «Шекспир и компания» только укрепили свою репутацию очага эмигрантской литературной жизни Парижа, и кое-кто из друзей в последнее время чаще заглядывал в лавку, например Гертруда Стайн и Элис, которые вот уже долгое время, как снова приглашали Сильвию с Адриенной к себе на улицу Флёрюс, а сами редко посещали мероприятия на улице Одеон. Но истинные перемены к лучшему, во всяком случае финансовые, произошли оттого, что Сильвии уже не приходилось выдавать Джойсу авансы или прощать ему займы. Без своего корявого Иисуса лавка «Шекспир и компания» обрела платежеспособность и крепко встала на ноги.
И все же в глубине души Сильвия тосковала по славным временам начала 1920-х годов, когда все было ей внове и виделось захватывающим дух приключением.
Карлотта безошибочно угадала, какие противоречивые чувства раздирают подругу, и сказала:
— Тебе предстоит создать еще немало новых воспоминаний.
— Всё впереди, — согласилась Адриенна.
— Уверена, что вы правы, — ответила Сильвия. Иначе и быть не могло.
Раз уж открылись двери для новых воспоминаний, пищу для них теперь отчасти поставлял и сам Париж, чей облик менялся под влиянием массового притока на Левый берег творческой интеллигенции совсем иного разлива. Если раньше, заходя в кафе «Лё дом» на чашечку кофе или бокал вина, Сильвия сталкивалась с десятком знакомых американцев, то теперь, сидя за столиком, она вела беседы об Испании или Германии с кем-нибудь из новоприбывших творческих личностей, искавших во Франции прибежища от режима Франко или ужесточавшихся драконовских порядков Рейха — в особенности от антисемитизма и преследований интеллигенции, заставивших многих их новых друзей, в том числе Вальтера Беньямина[143] и Жизель Фройнд, опасаться за свою свободу и жизнь.
Беньямин и Жизель во многих отношениях были типичными членами интеллектуального кружка улицы Одеон: он философ и писатель, она фотограф и педагог. С американцами начала 1920-х годов их роднил и тот факт, что оба добровольно отправились в изгнание. Но Америка 1920-х, особенно 1927 года, даже при своем воинствующем консерватизме и изоляционистских настроениях не несла той угрозы, какую представляла в 1933 году Германия. В конце концов, разве можно сравнивать Калвина Кулиджа с Адольфом Гитлером, а Самнера — с Йозефом Геббельсом, взявшим под контроль немецкую прессу. Американцы покидали родину ради свободы выпивать, писать и любить, как им хочется, и в последующем нередко возвращались; вот и в эти дни они толпами устремлялись назад. Из Германии же люди искусства и науки бежали от травли и преследований с пониманием, что навсегда покидают свою страну, в отчаянии, что навеки обрывают связи с сестрами, братьями, родителями, родственниками.
Экспатрианты новой волны легко узнавались по лиловым кругам вокруг глаз, следам неизбывных тревог и бессонных ночей, тогда как у американских экспатов глаза бывали красны и налиты кровью после разгульных кутежей по барам и ресторанам — ничего такого, что нельзя поправить ломтиком багета, чашечкой кофе и бокалом сока с шампанским. Само это различие окрашивало новыми мрачными тонами атмосферу кафе, магазинов и вечеринок в Латинском квартале и на Монпарнасе. Тем не менее политэмигранты, казалось, были настроены жить полной жизнью и брать от нее все, что она дает, — в истинно уитменовском духе, как нравилось думать Сильвии. Они с Адриенной и сами, как в прежние времена, стали часто ходить по званым вечерам и литературным чтениям, концертам и лекциям.
Они чаще принимали гостей у себя, и Адриенна была в своей стихии, наслаждаясь ролью радушной хозяйки: она искусно подбирала компанию гостей и поощряла их интеллектуальные беседы на своих обедах, предлагала им все новые блюда по рецептам, какие только могла отыскать в свежей партии кулинарных книг, и при этом она не забывала экспериментировать с ингредиентами и рецептами разных экзотических кушаний, которые разузнавала в гостях у других. Поистине, блюда, которыми их в эти дни угощали в крохотных съемных квартирках, поражали воображение не меньше, чем жизненные истории пригласивших их хозяев, — пробуя гуляш, шпецле, голубцы или свежий йогурт с медом, они, не веря ушам, слушали рассказы о публичной травле, заколоченных досками магазинах, оскверненных храмах.
Но через несколько недель активного общения Сильвию охватывало непреодолимое желание сбежать в тихое место. Почти всегда Адриенна составляла ей компанию в Ле Дезере, при этом атмосфера всеобщей нервозности и неустроенности как будто подстегивала ее сильнее кипеть жизнью. И не из-за одной только готовки. Сильвия желала, чтобы новый Париж сближал их с Адриенной, а вместо этого он лишь усиливал в них жажду по-разному проводить время и отдыхать. Сильвии хотелось меньше бывать на людях и общаться, но чаще совершать с Адриенной долгие прогулки или даже посещать какие-нибудь курсы — например, она слышала много любопытного о классе садоводства в Люксембургском саду, но когда предложила подруге вместе на них записаться, то та только рассмеялась.
— По мне, так лучше разделывать говяжий бок, чем разводить цветы в горшках, — сказала она.
— Бывать на воздухе для меня не просто каприз, — возразила Сильвия. — Мне это нужно. Прогулки и физические усилия творят чудеса с моими головными болями и невралгией.
— Вот и замечательно, надеюсь, ты и дальше продолжишь в том же духе, — весело сказала Адриенна, ухватила морковку и принялась ее скоблить. — Нам вовсе не обязательно все делать вместе.
Да, но раньше-то мы всегда все делали вместе. Сильвия теребила торчащую из салфетки нить.
— Запишись на курс садоводства! Я буду только счастлива, если ты станешь приносишь в дом прекрасные цветы. — Адриенна подкрепила свое предложение, чмокнув Сильвию в щеку, а потом снова взялась за морковку.
— Решено, так и сделаю, — ответила Сильвия.
Придя на занятия, она с удивлением поняла, что совсем не переживает из-за отсутствия Адриенны, когда запоминает названия разнообразных местных растений и то, как их можно употреблять, когда учится ухаживать за посадками и добивается своими заботами, чтобы брошенные ею в землю крохотные белесые семена дали нежные зеленые всходы.
Глава 27
— Прекрасно выглядите, — заметила Сильвия, когда Джойс по старинной привычке прислонил к полке ясеневую трость и устроился в зеленом кресле, как будто и не было этих четырех лет, что он не показывался в «Шекспире и компании». Сильвию взволновал его визит, и она лихорадочно искала сигареты по карманам, желая восстановить присутствие духа, но они были пусты, потому что она честно старалась курить меньше. Потому она схватила ручку и стала нервно крутить ее в пальцах.
— Не просто выгляжу, но теперь и сам могу глядеть, — отозвался Джойс. — Это существенно меняет дело.
Когда же она в последний раз видела его? Где-то с полгода назад, он тогда вместе с Сэмюэлом Беккетом заглянул в лавку купить книгу, но ретировался раньше, чем она успела спросить, как у него дела. Сейчас стояла середина лета, и он провел несколько недель в Цюрихе, где ему наконец-то прооперировали глаз, потому что доктор Борш оставил этот мир. Хотя Джойс еще не снял повязку, он выглядел не таким осунувшимся, как в прежние годы, и цвет лица у него заметно улучшился. Сильвия решила, что в том была заслуга швейцарской больницы, располагавшейся, как она поняла, среди живописных, усыпанных цветами зеленых холмов и где пациентов побуждали много гулять и хорошо кормили. Уж всяко более здоровой пищей, чем жирные соусы и красное вино, которые Джойс поглощал в своих любимых парижских ресторанах.
— Вы уже слышали, как продвинулись дела «Улисса» в Америке? — поинтересовался он.
Как он может говорить это так небрежно, будто я рядовая читательница или поклонница?
— Слышала, — осторожно ответила Сильвия. — И поздравляю вас с решением судьи Вулси.
— Да, — сказал он задумчиво, почти растерянно. — Я очень доволен. Как и мистер Серф. Он во всеуслышание повторил ваши с мисс Андерсон и мисс Хип слова, что роман следует воспринимать как искусство. Вы, Сильвия, вместе с ними первыми бросились на защиту романа.
Даже после всего, что произошло между ними, Сильвия не смогла устоять против его комплимента, и ее сердце расцвело гордостью. Она и Маргарет с Джейн, безусловно, были первыми. Какое это неповторимо прекрасное чувство, что тебе в чем-то принадлежит первенство.
— Но, видимо, никто не способен понять, как много значат для меня слова судьи Вулси. А вот вы, думаю, способны.
Боже мой, он говорит так, словно совсем одинок. Ей впервые пришло в голову, что его и самого не слишком радовало отлучение от Стратфорда-на-Одеоне. Как же долго мысль о Джойсе вызывала в ней только гнев и чувство, что ее предали. А сегодня она испытывала лишь сожаления и грусть.
— Кто-кто, а я понимаю, — ответила Сильвия Джойсу. — Его слова для меня тоже значили очень много.
Когда она в кафе «Луп» читала американскую газету, где сообщалось о решении суда, то смахивала с глаз набегавшие слезы.
— В работе над «Улиссом» Джойс стремился к серьезному эксперименту с новым, если не сказать абсолютно новаторским, литературным жанром — написал судья Вулси в пояснительной части и подробно перечислял все, что вызывает восхищение в романе.
— Но, насколько я понимаю, рассмотрение еще идет?
— Федеральный прокурор подает апелляцию, — пояснил Джойс, сохраняя удивительно ровный, почти безразличный тон. — Однако мистер Серф уверил меня, что судьи Лернед и Огастес Хэнды благожелательно настроены к нашей книге.
Нашей книге. Его и Серфа? Или его и моей?
— В любом случае я желаю вам всего самого наилучшего. — Сильвия говорила искренне, слова шли из самой глубины ее растаявшего любящего сердца.
— Ну-с, теперь расскажите, что новенького у вас.
— О, у нас тут все как всегда, правда, — зачастила Сильвия, не очень представляя себе, какими новостями нынешнего на редкость оживленного года стоит с ним поделиться; ей казалось, что теперь они едва знакомы. — Эрнест приезжает-уезжает, как за ним и водится, но у меня такое впечатление, что в их с Полиной союзе не все гладко. Мы с Адриенной подружились с Вальтером Беньямином и его юной подругой, фотографом Жизель Фройнд. Ах да, теперь у нас постоянно бывает Генри Миллер. Хотите верьте, хотите нет, а у него тот же литературный агент, что у Гертруды.
— Вы об этом минотавре Латинского квартала? — переспросил Джойс чуть громче, явно оживляясь. — Слышал, ее последняя книжка весьма ренегатского свойства, да и написана-то исключительно, чтобы подзаработать.
— Вы про «Автобиографию Элис Би Токлас»? Мне показалось, что она очень хороша. И потом, не все то ренегатство, что пользуется популярностью.
— Я ничего не имею против великих талантов, кто, претерпев великие страдания, приобретает популярность. Но специально менять свой стиль на потребу публике? — Он покачал головой в знак неодобрения.
— Не уверена, что она сделала именно это, — возразила Сильвия, задумавшись, впервые ли она решилась не согласиться с Джойсом в вопросе литературы, и притом так открыто. Правда, она не высказала своих подозрений, что читающая публика, пожалуй, уже вполне свыклась с прозой в свойственном Гертруде стиле — в котором писал и он сам. Их произведения уже не так ошеломляли и эпатировали, как в послевоенные годы. Видимо, наставала пора другим писателям потрясать основы. Взять, например, молодого Генри Миллера. Вместо всего этого она только заметила: — Допускаю, что в «Автобиографии» Гертруда, возможно, и правда несколько сгладила свой стиль, однако он по-прежнему узнаваем.
Джойс пожал плечами, потеряв к теме дальнейший интерес.
Они некоторое время помолчали, а потом он, словно очнувшись от мечтаний, огляделся и спросил:
— А где ваш Тедди?
— Умер в прошлом году.
— Мне очень жаль, мисс Бич. Я знаю, как вы любили его.
— Очень любила. Спасибо. — Сильвия с трудом сглотнула ком. Он всякий раз подкатывал к ее горлу, стоило кому-нибудь упомянуть верного маленького обитателя ее лавки.
— Кажется, нас покидает все, что мы любим.
Тут уже слезы подступили к самым глазам Сильвии, рискуя пролиться. Пожалуй, сейчас ей как никогда требуется эта чертова сигарета. Прошептав «Извините, я на минутку», Сильвия ринулась в заднюю комнатку и торопливо выдвинула ящик комода, где держала запасную пачку, отгоняя от себя страшную мысль, что та пуста, как ее карманы. Но — счастье! — она была почти полной. Сильвия торопливо прикурила и сделала глубокую затяжку, потом еще и еще, и за какую-то минуту выкурила всю сигарету. И вернулась в лавку, на ходу затягиваясь второй, но уже не так жадно. Джойс собрался уходить — он уже надел шляпу и оглядывался в поисках ясеневой трости, как будто не помнил, куда прислонил ее и куда прислонял ее все те годы после того, как лавка заняла это помещение больше десяти лет назад.
Трость нашлась, и, опершись на нее, Джойс взглянул здоровым глазом на Сильвию.
— Был рад повидаться, мисс Бич.
— Я тоже, мистер Джойс.
Кивнув, он направился к выходу, а Сильвия, наплевав на проклятые мигрени, еще час смолила сигареты одну за одной.
Спустя несколько дней посыльный на велосипеде доставил ей маленькую глиняную статуэтку — терьера, шею которого перехватывала красная ленточка с крошечным бронзовым колокольчиком, издававшим приветливый звон. Из приоткрытой пасти собачки торчала карточка. Сильвия поднесла ее к глазам. Сдерживая рыдания, она сквозь слезы пыталась прочитать нацарапанный почти неразборчивыми каракулями Джойса последний куплет из поэмы Теннисона In Memoriam:
- Всегда мне в твердой вере быть,
- Подчас в скорбях неодолимых,
- Что лучше потерять любимых,
- Чем вовсе в жизни не любить[144].
— Повысил втрое? — Адриенна округлила глаза, отказываясь верить услышанному.
Сильвия молча кивнула и отпила из бокала. Вино обожгло ее иссушенное курением горло.
Стоимость аренды, все эти годы вполне доступная, теперь утраивалась.
«Мне тоже надо как-то зарабатывать», — написал ей владелец помещения. Он жил всего в нескольких кварталах, так что явно постыдился зайти и в глаза ей сообщить о своем решении.
— Ишь ты! — Адриенна принялась с грохотом выдвигать и задвигать ящики кухонных шкафчиков. — А провизии-то у нас шаром покати.
— Все равно у меня никакого аппетита, — сказала Сильвия.
— Твоими голуазами сыта не будешь, — возразила Адриенна.
Не прошло и часа, как верная себе Адриенна снова поразила Сильвию, наколдовав из горстки завалящих продуктов аппетитный обед, — Сильвии это всегда казалось истинным признаком великого шеф-повара. Вот и сейчас из одинокой луковицы и пары картофелин Адриенна сотворила ароматный суп, а в дополнение к нему превратила черствый белый хлеб в сытные тосты с кусочком сливочного масла и грюйером.
Хотелось бы Сильвии насладиться их вкусом, но не получалось.
— И что мне теперь делать?
— Перво-наперво перестань вносить за квартиру. Я и сама справлюсь.
Сильвия открыла было рот, чтобы запротестовать, но Адриенна решительно выставила вперед ладони.
— И слышать ничего не желаю. К тому же я уверена, что кто-нибудь из наших друзей придет на помощь «Шекспиру».
— Не могу же я клянчить у них деньги. Лавка должна приносить их сама. Вот только как? Продажи и так уже в разы отстают от библиотечной выдачи, и ни у кого сейчас нет лишних средств покупать книги.
— Что-нибудь придумаем. Многие мои завсегдатаи, я уверена, поддадутся уговорам и переведут свои подписки на твою сторону улицы Одеон, в особенности когда узнают, что происходит.
— Но, Адриенна, «Шекспир и компания» всегда оставалась источником помощи.
— Знаю, chérie. Но на дворе новые времена.
Едва они закончили свой скромный обед, зазвонил дверной колокольчик, заставив обеих от неожиданности вздрогнуть.
— Кто бы это мог быть? — удивилась Сильвия.
— Понятия не имею. Время уже почти десять. — Адриенна выглянула в окно. — Это Жизель. Надеюсь, у нее не приключилось ничего худого.
— Пригласи ее зайти, — сказала Сильвия, что было странно. Во времена их молодости к Адриенне частенько хаживали запоздалые гости. Потом волна надолго схлынула, но теперь юные творческие таланты всё чаще и чаще забегали к ним после ужина. Сильвию, положа руку на сердце, это порядком раздражало, а вот Адриенну, судя по всему, нисколько.
Она поспешила вниз и вскоре вернулась в сопровождении Жизель.
— Очень сожалею, что ввалилась к вам без приглашения, — с порога извинилась та по-французски с сильным немецким акцентом, но при этом ее голос звучал мягко и негромко. Он очень подходил к ее темным глазам и волосам — коротко остриженной копне кудряшек, которые она сильно помадила, чтобы они не рассыпались. У Жизель были длинные руки и ноги, что еще больше подчеркивали брюки с высокой талией и свободные белые блузы, которые явно ей нравились. Сегодня поверх обычного наряда она накинула темно-синюю матросскую куртку.
— Глупости, ничего ты не ввалилась, мы только рады, — возразила Адриенна, наливая в чайник воды, чтобы заварить свежего чаю. — Я же сама сказала, чтобы ты заходила без церемоний, если что-то понадобится. Присаживайся.
Поведя плечами, Жизель скинула с себя куртку, повесила ее на спинку стула и с тяжелым вздохом уселась.
— Сегодня получила от мамы письмо. Положение в Берлине все хуже, а родители отказываются уезжать. Так еще и Вальтер снова впал в глубокую депрессию. Прямо не знаю, за что хвататься.
Какое-то время Сильвия принимала Вальтера и Жизель за любовников, видя, как часто они вместе появлялись в ее лавке, к тому же они наверняка были знакомы сто лет и явно получали удовольствие от компании друг друга. Но в последнее время Жизель показывалась в «Шекспире» с другими женщинами и позволяла себе довольно откровенные жесты: шептала им в ушко, касаясь губами, нежно поглаживала по спине, — и Сильвия заподозрила, что она, наверное, так же гибка в своих пристрастиях, как Боб, Брайхер, Фарг или Киприан.
— У тебя получится убедить родителей переехать сюда? — спросила Адриенна.
— Уж сколько раз пыталась, а все без толку. — Жизель держала горячую чашку и сдувала пар, стараясь остудить чай. — Даже не знаю, чем еще их убедить, что оставаться в Берлине опасно. Они все еще считают меня глупышкой.
— Ты кто угодно, но только не глупышка, — негодующе запротестовала Адриенна, наконец усаживаясь за стол напротив Сильвии и Жизель. Она взяла из вазы с линцерским печеньем одну штучку и надкусила ее. Жизель в точности повторила ее движение. Сильвия почувствовала что-то настораживающее в этой короткой сценке между ними, хотя не могла понять что.
— Родителей вообще трудно хоть в чем-нибудь убедить, — продолжала Жизель. — Вечно они считают, что всё сами знают лучше.
Интересно, гожусь ли я Жизель в матери? Сильвия сама удивилась, отчего вдруг ей пришла такая мысль. Она лет на двадцать старше, той сейчас двадцать пять, и значит, теоретически это возможно. Адриенна была пятью годами моложе Сильвии, что всегда казалось несущественным. По большому счету, во многих смыслах Адриенна казалась взрослее Сильвии, ведь она открыла свою лавку куда раньше, чем появилась «Шекспир и компания», еще во времена Великой войны. Но внезапно сорокашестилетняя Сильвия почувствовала себя на десяток лет старше сорокаоднолетней Адриенны, и не только из-за Жизель, но и потому, что в последнее время ее, Сильвию, осаждали недуги среднего возраста.
Жизель снова испустила тяжелый вздох.
— А спросите, как Вальтер? Он в таком беспросветном унынии, что иногда я прямо боюсь за него. Боюсь, он сам куда как опаснее для себя, чем нацисты для моих родителей. Во всяком случае, сейчас.
Ее признание отозвалось болью в душе Сильвии, и она в который раз задумалась над вопросом, мучившим ее все эти годы: какие знаки я упустила в своей матери, которые указывали бы на ее намерения? Сейчас к нему добавился еще один: что такого девчонка сумела разглядеть в Вальтере Беньямине, чего не разглядела в своей маме я?
Адриенна накрыла рукой руку Жизель и тихо сказала:
— Если он примет такое решение, ничто на свете не остановит его. — Она перевела взгляд на Сильвию и послала ей слабую, полную сожалений улыбку.
Жизель, стискивая зубы и не отрывая ясный взгляд от чашки, только кивнула. А у Сильвии забилось сердце оттого, что Адриенна тактичным намеком подтвердила, что в смерти Элинор нет ее вины. Сколько в ее улыбке было ободрения, утешения, заверений в связывающих их узах, их одном на двоих прошлом и общих глубоко запрятанных тайн. Жизель Фройнд и прочим юным полуночным гостям еще жить и жить, убежденно думала Сильвия, прежде чем они с кем-то построят такие же близкие и долговечные отношения, как те, что связывают их с Адриенной.
Глава 28
8 августа 1934 года
РЕШЕНИЕ ПО «УЛИССУ» ОСТАВЛЕНО В СИЛЕСудьи Лернед и Огастес Хэнды в Апелляционном суде США подтвердили вынесенное в конце минувшего года решение судьи Вулси двумя голосами против голоса судьи Мартина Мэнтона. Цитируя судью Вулси, судьи Л. и О. Хэнды согласились, что книга, «по нашему мнению, не может пропагандировать блуд», потому что «эротические пассажи погружены в общую массу текста».
При всей своей важности постановление апелляционного суда служит всего лишь эпилогом этой истории в литературном мире, что делает решение судьи Вулси каноническим, поскольку оно напечатано в каждом издании романа мистера Джойса, поступившем в продажу с января текущего года, всего через месяц после вынесения. Такая ошеломляющая скорость реакции — результат находчивости Беннета Серфа из «Рэндом хауса». Не прошло и часа с момента, когда судья Вулси огласил свое решение, как тот отдал наборщикам распоряжение приступать к работе.
Вулси, прочитавший фолиант Джойса от корки до корки, заявил, что «несмотря на необычайную откровенность текста, нигде не обнаружил в нем глумливой ухмылки сластолюбца». Далее он назвал роман «серьезным экспериментом», в котором «Джойс предпринял попытку — с ошеломительным, как представляется, успехом — показать, как поверхность сознания с ее нескончаемо сменяющимися калейдоскопическими впечатлениями… влияет на жизнь и поведение описываемого персонажа». Более того, «именно верность Джойса своему методу… сделала его объектом столь многочисленных нападок, и по этой же причине преследуемая им цель столь часто рождала недоразумения и превратно истолковывалась».
Сам Джойс, прочитав решение Вулси, провозгласил: «Итак, половина англоговорящего мира пала».
Сегодня «Улисс» пользуется полной свободой на родине храбрых, и другим литературным произведениям отныне открыт путь для дерзаний и экспериментов, которым не будет угрожать цензура. Скажем больше, полное впечатление, что в нынешние тяжелые времена у публики открылся аппетит на произведения подобного рода: «Улисс» всего три месяца как в продаже, а раскуплены, по данным Серфа, уже 35 000 экземпляров.
Сильвия, конечно, видела сводки новостей об «Улиссе» в письмах и телеграммах, приходивших ей в Ле Дезере, но до чтения полного текста статей руки у нее дошли, только когда она в сентябре вернулась в «Шекспира и компанию» и ее друзья стали приносить и присылать ей многочисленные вырезки из газет и журналов, которые сохраняли специально для нее. Многие писали что-то вроде: «Разумеется, Вы и так уже в курсе событий» (Эрнест), «Как водится, чтобы все признали истину, потребовалось, чтобы ее озвучил мужчина» (Киприан), «Безмерно горжусь своей дочерью — первым издателем знаменитого романа» (отец).
Пока Жюли обслуживала в лавке покупателей и читателей, Сильвия, заварив себе кофе в задней комнате и стискивая зубы, чтобы не смолить сигареты одну за одной, прочитала все официальные сообщения и многочисленные письма, и чувства переполняли ее. Не раз она смахивала слезы, ахала-охала, сама не зная, смеется или плачет, испытывая все чувства разом: гордость, и печаль, и любовь, и признательность, и облегчение.
Среди кипы писем обнаружилась весточка от Холли, сообщавшей, что они с мужем Фредом усыновили в Англии мальчика. Прилагалась и фотокарточка драгоценного малютки в чепчике, завернутого в одеяло, из которого виднелось только личико с закрытыми глазками. Тем не менее оно принадлежало ее первому и единственному, как подозревала Сильвия, племяннику! Такого она и ожидать не могла. Холли была несколькими годами старше, и Сильвия уже почти решила, что сестрам Бич суждено прожить бездетными и состояться в иных сферах. Но когда магазин в Пасадене пришлось закрыть, а мир погряз в неопределенности, Холли поняла, что семья — самый верный способ обеспечить себе надежную опору и занятие. Киприан тем временем окончательно переселилась в Палм-Спрингс, где жила в любви и согласии с Хелен Эдди и полной грудью дышала воздухом пустыни, как считалось, целебным при любой хвори.
Сильвия смотрела на фотокарточку сына своей сестры, и в ней поднялись — как это всегда бывало в прошедшие годы, когда она разглядывала личики детей, — теплые симпатии к матери младенца, радость за нее и благоговейный трепет и любопытство, кем вырастет маленький человечек. Вдруг новым Джойсом? Или Антейлом?
Но не более того. Временами ее восхищение и интерес к любимому кем-то младенцу омрачались предчувствиями, что он на долгое время по рукам и ногам свяжет свою мать и может вырасти неуправляемым, как Лючия, или болезненным, как Сюзанна. А теперь перед ней фото ее собственного племянника — разве не должно оно по-особенному трогать ее? Внушать непреодолимое желание взять малыша на руки? Отозваться в ее собственной утробе? Наполнить сожалениями, что она никогда не заведет своих детей? Но ничего такого Сильвия не испытывала. Ее жизнь была и без того полна. Она и помыслить не могла втиснуть в нее еще и ребенка, жизнь которого во всех смыслах зависела бы от нее. «Шекспир и компания» — вот ее наследие.
Как и «Улисс». Пускай ее имя не упоминалось в многочисленных статьях о снятии запрета с книги и все заслуги приписывались исключительно пятерым мужчинам: троим судьям, Серфу и его поверенному, — но письма друзей и родных не давали ей забывать правду.
— Жизель практикуется в съемке портретов, и они великолепны. Вот я и твержу ей, что надо бы сделать серию фотографий писателей из кружка нашей Одеонии, — говорила Адриенна друзьям на званом обеде, подготовка к которому заняла у нее почти неделю.
На протяжении этого времени она по нескольку раз на дню обходила свои любимые продуктовые магазины и лавки, надеясь застать самые обычные продукты, которые прежде никогда не переводились в продаже: сливочное масло, сахар, рокфор, курицу. Даже добыть сезонные овощи и фрукты было непросто; Адриенна долго караулила завоз и урвала пяток неспелых груш, а потом еще несколько дней ждала, чтобы они дозрели на кухне до положенной кондиции.
— Готовка все больше похожа на охоту, — жаловалась она. Но ее самоотверженные усилия сторицей окупались, когда она выставляла на стол идеально запеченные, спассерованные или взбитые угощения перед их шумными, знающими в этом толк друзьями. В тот вечер за столом собрались Карлотта с Джеймсом, Ринетт, Фарг и Жизель с Вальтером.
— Мы с Джеймсом на днях как раз обсуждали, что неплохо бы сделать наши фотопортреты, правда, милый? — Карлотта ласково дотронулась до руки мужа и повернулась к Жизель. — Пускай мы не литераторы, но, безусловно, можем вам заплатить. Что скажете?
— Я с удовольствием, — откликнулась Жизель.
Девушка уже стала частой гостьей в обеих лавках и время от времени даже покупала книги, выкраивая средства из своего скудного жалованья в Сорбонне, где вела несколько курсов. То, как она заботилась о застенчивом и блистательно одаренном Вальтере, трогало Сильвию — особенно с тех пор, как она поняла, что если они в прошлом и были любовниками, то теперь определенно нет. Жизель уже вполне освоилась в лесбийском сообществе Левого берега и часто посещала салон Натали Барни, куда Адриенна с Сильвией и сами нередко заглядывали в 1920-е годы. Жизель с Вальтером скорее связывали братские отношения: она могла мягко подтрунивать над ним, а он, будучи не слишком общительным, поддавался ее уговорам и посещал светские мероприятия и званые обеды, которых сам с удовольствием избежал бы. Так было и тем вечером, и, хотя по большей части он молчал, казалось, собравшаяся компания забавляет его и он чувствует себя вполне непринужденно.
— Wunderbar[145], — оценил Вальтер идею сделать портреты четы Бриггс. — И кстати, я согласен с Адриенной, что тебе следует фотографировать писателей. Боюсь, время для этого ограничено.
— Да, но обычно принято ждать, когда тебя попросят сделать фото, поручат заказ. В особенности среди живописцев. А ты предлагаешь, чтобы я сама просила у писателей разрешения снять портрет?
— Почему бы и нет? Ты и сама человек искусства, — возразила Адриенна. — И это почти то же самое, что подыскивать модель, к тому же, как мне известно, художники нередко сами предлагают какому-нибудь известному человеку его написать.
Жизель помолчала, обдумывая предложение.
— Я понимаю ваши колебания, — вступила Сильвия. — То же и у меня в лавке. Я не люблю давить на посетителей или навязывать им книги, а предоставляю им самим обращаться ко мне. Если им нужно что-то конкретное, они подойдут и спросят. С другой стороны, я верю в людей искусства и их замыслы и готова сделать все, чтобы им посодействовать, так что, если вы стесняетесь обратиться к кому-то из писателей, я уверена, что смогу в этом смысле быть вам полезной.
Адриенна радостно улыбнулась Сильвии.
— Вот-вот! Я тоже. Предоставьте уговоры нам.
Беньямин под столом похлопал свою подругу по коленке и высказался:
— Какие у нас замечательные друзья в Париже.
Карлотта с широченной улыбкой захлопала в ладоши.
— А когда ваши фотоработы выставят в «Андерсон гэлерис», мы станем всем хвастаться, что были свидетелями того, как зарождалась сама их идея.
Джеймс поцеловал жену.
Дальше разговор, как всегда, пошел о плачевном состоянии экономики и Европы, а затем — о положение дел в «Ля мезон» и «Шекспире и компании».
— Я неплохо справляюсь, — запротестовала Сильвия.
— Среди нас, между прочим, банкир, Сильвия. Тебе сам бог велел расспросить его, — заметила Адриенна.
— Он наш друг, — поправила ее Сильвия, чувствуя, как запылали щеки — хотя вряд ли от смущения, ведь, как-никак, Карлотта была ее старинной подругой и прекрасно знала, в каком отчаянном безденежье тонет «Шекспир» из-за инфляции и того, что многие американцы покидают Париж, а арендная плата только растет. Сильвия с трудом сводила концы с концами и распрощалась с Мюсрин, а Жюли платила лишь изредка, разве что иногда бесплатно отдавала ей книги или делала маленькие подарки, хотя ее подруга настаивала, что ей просто нравится помогать в лавке и жалованье тут ни при чем.
— Я и сам размышлял о вашем положении, — мягко сказал Джеймс. — Вы никогда не задумывались о том, чтобы привлечь кого-нибудь с деньгами? Продать долю? Уверен, что многие меценаты только рады стать владельцем частички «Шекспира и компании».
— Но тогда Сильвия уже не будет владелицей своей лавки, не так ли? — уточнила Адриенна.
— Именно так. Не единоличной владелицей.
— Значит, это совершенно исключено, — заявила Адриенна под сочувственные кивки Жизель и Вальтера. Сильвия тоже согласилась, хотя и молча. Она ни за что не продала бы «Шекспира и компанию».
— Продажа акций и есть то, что в первую очередь ввергло мировую экономику в нынешний хаос, — заметил Беньямин.
Джеймс добродушно усмехнулся.
— В какой-то степени. Но я так думаю, что она же нас из него и вытащит.
— После того как «Новый курс» вашего нового президента получит шанс реализоваться, — сказал Беньямин.
Джеймс только пожал плечами.
— Надеюсь, план Рузвельта даст результаты. Здесь мы явно вступаем в область неопределенности. Одно можно утверждать: экономика не сумеет оправиться и снова заработать как полагается, пока фондовый рынок не встанет на ноги. А это и означает покупку и продажу акций.
На сей раз плечами пожал Беньямин. Они с Джеймсом явно расходились во мнениях, но оба решили, что нынешним вечером экономика не повод ломать копья.
— Я ценю интерес к «Шекспиру и компании», — сказала Сильвия. — Как вы думаете, Джеймс, может быть, нам с вами как-нибудь сесть и обсудить, какие у меня есть варианты? Вдруг все же найдется какой-то выход, кроме как продавать доли лавки.
— Я все обдумаю и наведу кое-какие справки, — пообещал он.
Не сказать, чтобы тот вечер прошел в бесшабашном веселье и возлияниях, как бывало в двадцатые, и чтобы Сильвия завидовала юным дарованиям, покорявшим нынешний Париж тридцатых годов, и все же она ложилась спать, полная надежд. Ее лавка, как и она сама, прочно утвердилась в своем положении и пользуется уважением. Это грело ее душу. Не в одной буре они выстояли вместе, она и ее «Шекспир и компания». И что им новая буря?
Глава 29
— Почему вы не в настроении? — спросил Сильвию Жан Шлюмберже[146], когда одним вечером 1935 года они отмечали в «Ля мезон» выход в свет первого выпуска нового журнала Адриенны «Мезюр».
— Так заметно? Извините, — ответила Сильвия, выдавив улыбку. — Такой славный праздник.
— Бросьте, Сильвия, не пытайтесь меня заболтать, — возразил он. — Лучше расскажите, что вас печалит.
— Сегодня мне сообщили, что «Шекспир и компания» не могут претендовать на поддержку французского правительства, потому что я американка. — Сильвии было неловко даже признаться, что она нуждается в помощи, но сил скрывать горькую правду ей уже не хватало.
— Какая нелепость! — воскликнул Жан, до глубины души возмущенный.
— Какая нелепость? — спросил Поль Валери, который присоединился к ним вместе с Жюлем Роменом и Андре Жидом.
Жан объяснил, в чем дело, и Жид, не меньше его возмутившись, заявил:
— Да ваши с Адриенной лавки давно уже важнее для франко-американских отношений здесь, в Париже, чем любые договоры, статуи и речи. Именно у вас мы встречаемся и обмениваемся идеями. Мы не можем позволить, чтобы страдала англоговорящая часть нашего содружества.
— Полностью согласен, — вступил Поль Валери. — Это преступление, что Сильвии отказывают в праве на субсидию от нашего государства, ведь ее книжная лавка приобрела огромное значение для нас, французов, не говоря уже об экспатриантах, которые приезжают сюда и тратят свои деньги в местных заведениях.
— Вы, бесспорно, сделали много большее, чем та Мэри Райан в Ирландии — она всего лишь преподает французский на маленьком островке, а ей уже и орден Почетного легиона присудили в прошлом году, — заметил Жан.
— Я читала о ней, — сказала Сильвия. — И достижений у нее намного больше, чем вы отметили. Она первой из женщин-преподавателей в Англии или Ирландии получила должность профессора университета.
— Что объясняет эту великую, прискорбную несправедливость. — Жан скрестил на груди руки и хмуро глядел в пол.
— А что, если… — принялся вслух рассуждать Ромен, — что, если Сильвия проведет у себя в лавке цикл эксклюзивных литературных чтений и будет брать за вход деньги? Как в театре. Уверен, что все мы с радостью согласимся почитать отрывки из своих незавершенных произведений. И еще я уверен, что ее знаменитые американские друзья-писатели присоединятся к нам, верно, Сильвия?
Жак встрепенулся и в волнении щелкнул пальцами, вот оно! Сильвия тоже закивала, одобряя идею Ромена. Прямо у нее на глазах прорисовывалось что-то реальное, что могло бы спасти ее обожаемую лавку, — и особенно грело душу, что идея исходила от ее французских друзей, тех самых истинных potassons из «Ля мезон» Адриенны. В конце концов, они резиденты Франции. Даже самые влюбленные в Париж американцы бывают здесь наездами, а те, кто поселяются здесь, как Гертруда с Элис, и не думают «перенимать местных обычаев», как когда-то заметила Киприан. Как Сильвии не хватало ее доброго друга Валери Ларбо, как хотелось, чтобы он тоже приложил руку к их плану, но увы, он отправился с семьей в деревню поправлять здоровье.
— Или, например, можно организовать подписку: желающие заранее внесут плату и получат право посещать все сеансы. Это помимо библиотечного абонемента и отдельно от него.
— Но подписка же не сделает их совладельцами лавки, нет? — поспешила уточнить Сильвия.
— Ни в коем случае, — успокоил ее Жан. — Они станут Друзьями лавки. Ее покровителями.
— Кстати, о Сильвии и покровителях, — вступила в разговор Адриенна. — На прошлой неделе ко мне заходил один американский литературный агент выяснить, не хочет ли Сильвия написать мемуары.
Гордость Адриенны заставляла Сильвию чувствовать себя неловко: подруга упоминала об этом предложении при каждом удобном случае.
— Я уже отказалась, — выговорила Сильвия, прочистив горло.
— Но почему? Ваши мемуары стали бы важным произведением! Личная история одного из самых ярких десятилетий Парижа, — возразил ей Ромен.
— Он сказал, что в них мне не следует заострять внимание на конкуренции и всем нехорошем, а я не пожелала с самого начала чувствовать на себе цензуру.
Цензуры ей и так уже хватило. Однако была одна частица правды, которой она ни за что не поделилась бы даже с Адриенной, — она все еще слишком сильно злилась на Джойса и других мужчин, с кем он сговорился, чтобы писать о нем хоть сколько-нибудь беспристрастно. Она не сомневалась, что Адриенна посоветует черпать в этом гневе творческую энергию — необязательно чтобы выставить Джойса в некрасивом свете, а просто чтобы слова легче ложились на бумагу. Правдивые слова.
За то недолгое время, что Сильвия раздумывала о мемуарах, она все задавалась вопросом, не лучше ли правду жизни оставить для беллетристики. Ради безопасности всех причастных.
— Если вы когда-нибудь надумаете писать мемуары, я первым побегу покупать их, — заверил Андре Жид. — А если не надумаете, значит, так тому и быть. Ваша лавка сама по себе великое произведение искусства, и у ее создательницы есть несомненный повод для гордости.
— Спасибо, — отозвалась Сильвия, смущенная и одновременно польщенная похвалой.
Жан хлопнул в ладоши, потом в предвкушении потер руки.
— А тем временем давайте кинем клич Друзьям «Шекспира и компании».
Той ночью Сильвия почти не сомкнула глаз, занятая проработкой планов, но на следующий день вовсе не чувствовала себя разбитой. Уже за полночь она принялась набрасывать идеи для первого обращения к потенциальным Друзьям, которое они с Жаном уговорились обсудить за обедом. Со свойственной ему чуткостью он заключил, что призыв должен исходить не от нее самой, а от него и других французских писателей.
— Чтобы сберечь вашу очаровательную скромность, — пояснил Жан.
Тем утром, оглядывая свою лавку, Сильвия не испытала грусти, привычной в последние месяцы, когда ее преследовал страх потерять свое детище. Но… были здесь кое-какие предметы, расставание с которыми она пережила бы, решила Сильвия.
— Жюли, — сказала она, — как думаете, сколько теперь стоит рисунок Блейка?
Оторвавшись от гроссбуха, Жюли перевела на рисунок взгляд и подняла брови.
— Даже не знаю. Но… Что сказать, по мне это как продавать бабушкины жемчуга, ведь правда? Очень грустно, а деваться некуда. Возможно, когда-нибудь вы еще вернете его себе.
Итак, Сильвия начала составлять каталог статей, рисунков и рукописей, с которыми она согласна была расстаться, чтобы поддержать лавку на плаву. «Если в Друзья запишется достаточно народу, — сказала она себе, — я остановлю распродажу. Но лучше все же подготовиться». Больнее всего оказалось включать в каталог предметы, с первых дней присутствовавшие в лавке, например автографы Уитмена и рисунки Блейка. И столь же непросто ей далось решение внести в каталог кое-что связанное с Джойсом, что, по ее мнению, несомненно привлекло бы интерес покупателей: ранний черновик «Портрета», который тогда еще назывался «Герой Стивен», и письмо-протест, подписанное столькими видными литераторами и мыслителями — даже самим Альбертом Эйнштейном! Она до сих пор не могла поверить, что он оставил здесь свой автограф — в защиту «Улисса» и против пиратства Сэмюэла Рота.
Когда молва о Друзьях «Шекспира и компании» распространилась, во многом благодаря статье, написанной Джанет Фланнер для «Нью-йоркера», предложения помощи посыпались со всех сторон. Более того, из Америки Сильвии написала Мэриан Уиллард — одна из ее любимейших постоянных клиенток в 1920-х — с предложением открыть нью-йоркское отделение Друзей. До смешного предсказуемый факт, подумала Сильвия: американскими Друзьями стали в основном женщины, которые выписывали щедрые чеки со своих солидных банковских счетов, тогда как Друзьями с французской стороны были сплошь мужчины или супружеские пары, платившие по триста франков за двухлетнее членство.
Хотя отклики внушали большие надежды, Сильвия не остановила распродажу. В первую же неделю, как она разослала свой каталог, откликнулась Брайхер, написав, что покупает рисунок Блейка за тысячу долларов «при условии, что он останется висеть на своем законном месте на стене», и Сильвия так смеялась от удивления и благодарности, что почти заплакала.
Тем более разительный контраст составило письмо от Джойса.
Моя дорогая мисс Бич!
До меня дошли вести, что Вы намерены продать бумаги, которые я годами преподносил вам в подарок. Хотя я никогда не осмелился бы утверждать, что они Вам не принадлежат и Вы не вольны поступать с ними по своему усмотрению, позвольте все же заметить Вам, что мне больно осознавать, до какой крайности дошел мой любимый издатель. И честно говоря, я никогда не собирался являть свои ранние черновики миру — только подумайте, какой конфуз меня постигнет.
Искренне Ваш,
Джеймс Джойс
Поскольку Джойс написал ей письмо из своих хором в Седьмом округе вместо того, чтобы прийти и лично высказать свое требование, Сильвия заключила, что он и вправду не считал подаренные черновики принадлежащими ей, но гордость не позволила ему заявить ей это в глаза. Она ожидала, что в ней поднимется знакомая волна злости на его попытку навязать ей чувство вины, но злость не приходила, и Сильвия понадеялась, что рана на ее сердце потихоньку затягивается. Такова и была ее цель — не испытывать к Джеймсу Джойсу никаких чувств. Или хотя бы не испытывать жгучей злости.
Между тем сама по себе распродажа старых предметов и документов вкупе с новым начинанием вносили некую ясность — Сильвии казалось, что «Шекспира и компанию» можно воссоздать заново, что она закрывает одну славную книгу и принимается за следующую.
Обильные весенние дожди затопили город. Уровень воды в Сене угрожающе повысился, и бывали дни, когда улица Одеон почти превращалась в реку, чьи воды неслись от театра вниз к перекрестку, напоминавшему теперь городской пруд с проплывающими по нему столиками и стульями. Когда наконец-то показалось солнце и, наверстывая упущенное, принялось поджаривать насквозь промокший город, Сильвия смогла возобновить свои долгие прогулки по просторным парижским паркам и садам, что целительно действовало на ее мигрени и болезненные месячные, которыми она в последнее время маялась.
— Приятно видеть, что твоя походка стала легче, — заметила Адриенна однажды вечером, когда они попивали охлажденное белое вино, закусывая сыром и вишней.
— Приятно чувствовать себя легче, — подхватила Сильвия и бросила взгляд на герани, всего две недели как высаженные на подоконнике и уже распускавшие бутоны цвета коралла и фуксии. Верная своему слову, Адриенна выражала бурный восторг по поводу того, как Сильвия совершенствовала свои садоводческие навыки, — нередко смущая ее дифирамбами цветам, которые кто-то из их гостей имел несчастье заметить и сказать о том вслух. С другой стороны, Адриенна всегда верила в таланты Сильвии. Вот что Сильвия всегда в ней так любила, разве нет? Да, пожалуй, сейчас она уже могла себе в том признаться. Но почему столько времени ей было трудно это сделать?
— У меня есть один секретик, — сообщила Адриенна, что неожиданно прозвучало почти по-детски.
— Ой-ой!
— Кто-то из наших potassons вступил в заговор и выдвинул нас с тобой на присвоение ордена Почетного легиона!
— Нет! — Одна только мысль об этом заставила голову Сильвии кружиться от восторга.
— Да!
— Откуда ты знаешь?
— Птичка на хвосте принесла.
— Ну же, Адриенна, не темни.
— Мне рассказал Жан. Но ты не вздумай даже виду подать, что я рассказала тебе. Он назвал нас верховными богинями франко-американских отношений. — Адриенна и не пыталась скрывать, что довольна такой характеристикой.
— Богинями?
— И нечего так удивляться, Сильвия! Только взгляни на нас!
И обе разразились безудержным хохотом; с блестящими, уставшими после дневных трудов лицами, в мятых юбках и пропотевших блузах.
— Если мы богини, — еле выговорила Сильвия между взрывами смеха, — даже представить страшно, как выглядят простые смертные.
— А вообще, — сказала она, когда наконец успокоилась, — что бы там ни решили в Легионе, это все равно огромный комплимент.
— Точно, — согласилась Адриенна.
И на Сильвию так же стремительно, как до того напал смех, теперь обрушились слезы. Такое признание от ее французских друзей… Это было слишком для нее.
— Не плачь, chérie. — Адриенна подлила им вина и чокнула своим бокалом о бокал Сильвии. — Как там написал Теннисон в своем «Улиссе»? И нет в нас прежней силы давних дней, / Что колебала над землей и небо, / Но мы есть мы…
— Закал сердец бесстрашных / Ослабленных и временем и роком, / Но сильных неослабленною волей…[147], — подхватила Сильвия, но нахлынувшие эмоции перехватили горло, и произнести последнюю строку у нее не получилось.
Впрочем, ее смысл — Искать, найти, дерзать, не уступать — отразила улыбка Адриенны, посланная Сильвии и не менее поэтическая.
Глава 30
Вечер шестого июня 1936 года в лавке Сильвии чем-то походил на свадебное торжество: то был праздник, на котором отмечали завершение важного жизненного этапа и вместе с тем — начало нового. Все, с кем Сильвия дружила в ту или иную пору своей жизни, собрались на литературный вечер ради нее, ради «Шекспира и компании», ради Томаса Стернза Элиота, собравшегося сегодня читать свою поэму «Бесплодная земля»: Эзра, Джойс, Карлотта с Джеймсом, Жюли и Мишель, Ларбо, Поль Валери, Шлюмберже, Андре Жид, Маргарет с Джейн, Гертруда с Элис, Сэмюэл, Вальтер, Симона де Бовуар и Жан-Поль Сартр и даже Эрнест с новой девушкой, журналисткой Мартой Геллхорн, с которой он познакомился в Испании и в которую, конечно, без памяти влюбился. «Ох, Эрнест, — подумала Сильвия, — научит ли тебя жизнь чему-нибудь?»
Это был пятый сеанс литературных чтений для Друзей, но первый — с участием англоязычного автора. Четыре предыдущих включали выступления Жида, Валери, Шлюмберже и Жана Полана. Все они прошли с успехом, и все шестьдесят стульев, втиснутых в библиотечную секцию «Шекспира и компании» к началу, назначенному на девять вечера, были заняты; слушатели, отпивая вино из своих бокалов, внимали писателю de la nuit[148], читавшему отрывки из своих незаконченных сочинений.
Сложно сказать, что становилось главным событием: часовое театрализованное авторское чтение или следующий за ним шумный прием, где слушатели — любители и завсегдатаи богемных вечеринок — поднимали тосты за автора, за Друзей и за Одеонию, закусывая кулинарными шедеврами, приготовленными Адриенной и Риннет. Разговор нередко переходил на судьбу Франции в новой Европе, облик которой менялся с каждым днем, омрачаемый войной, уже пылавшей в Испании, и правлением германского диктатора, чьи обещания «не стоили и клочка туалетной бумаги», как выразился Андре Жид. Но даже невеселые беседы по ощущениям напоминали сон, будто вечерние сумерки окутывали гостей призрачной вуалью безмятежности, а шеренги книжных полок надежно защищали от бурь внешнего мира.
Элиот, только утром прибывший из Лондона, объявил, что у него в работе нет новой поэмы, так как он был занят пьесами, и потому собирался читать «Бесплодную землю», которая вышла в свет в 1922 году, всего несколькими месяцами позже «Улисса», и с тех пор пользовалась неизменным успехом в «Шекспире и компании». Сильвия гадала, сохранились ли у Джойса такие же живые воспоминания о тех временах, как у нее. Он сидел рядом с Норой, его переплетенные пальцы покоились на коленях, на лице застыла непроницаемая маска.
Народу в помещение набилось битком, вдоль задней стены, как сардины в бочке, теснились случайные посетители. Была здесь и Жизель со своей фотокамерой. В те дни она не пропускала, казалось, ни одного светского сборища, снимая портреты знаменитых писателей и деятелей искусств; этому немало поспособствовали Адриенна с Сильвией, сдержавшие обещание, данное в один из прошлых Дней благодарения. Жизель вовсю делала себе имя — еще одна история успеха Одеонии, которая стала возможной не без участия Сильвии, о чем та думала с гордостью.
Она уже несколько раз выступала хозяйкой литературных чтений, и нынешние завершали первый сезон. На душе у нее было легко и радостно. Этим вечером собрались все, кого она любила и ценила; ей не хватало лишь ее родителей и сестер. Но немногим ранее тем же днем она навестила могилу матери и планировала поездку в Калифорнию, чтобы повидаться с отцом, Киприан и Холли.
Гертруда недавно вернулась из триумфального тура по Соединенным Штатам, где выступала с лекциями и читала свои произведения в аудиториях, насчитывавших сотни слушателей. «Впрочем, не более пяти сотен», — тут же сообщала она внимавшим ей гостям салона таким фальшиво-скромным тоном, что Сильвии казалось, та и сама втайне посмеивается над ним. Слушая, с каким нескрываемым восторгом пресыщенная Гертруда Стайн описывает необъятные небеса Запада, небоскребы, пронзающие голубые небесные своды над Нью-Йорком, нависающие над Вашингтоном грозовые тучи, Сильвия впервые за много лет почувствовала страстное желание снова побывать в стране, где она родилась.
Ее ждет новое приключение. От предвкушения у нее захватывало дух.
Как ни хотелось ей продолжать беседовать с гостями о том о сем, ведь сегодня в ее лавке было как никогда празднично и многолюдно, в девять вечера следовало начинать. Жан Шлюмберже вышел на импровизированную сцену и привлек всеобщее внимание, звонко постучав ложечкой о бокал.
Жан представил Элиота, публика ожидаемо разразилась шумными приветствиями, после чего наступила полная тишина. У Сильвии и самой от волнения мурашки побежали по коже, хотя она читала поэму сотни раз. Она даже перевела ее на французский.
Элиот, откашлявшись, с запинкой проговорил: «Боже мой, вам, как моим друзьям, не пристало оказывать мне такой прием, можно бы и поскромнее», и все рассмеялись.
Потом снова наступила тишина.
С торжественной радостью, словно пастор перед Пасхальной службой, Элиот открыл экземпляр самого первого издания поэмы, счастливо избежавший распродажи, поскольку Сильвия не нашла в себе сил расстаться с ним, и начал. «Эзре Паунду. Il Miglor Fabbro»[149].
Вновь раздались овации. Эзра встал и раскланялся, а Элиот, широко улыбаясь, сказал «А вот и мы» и продолжил.
- Похороны мертвеца
- Апрель жесточайший месяц, гонит
- Фиалки из мертвой земли, тянет
- Память к желанью, женит
- Дряблые корни с весенним дождем.
«Тянет память к желанию. Разве не в этом вся суть, — думала Сильвия. — Но как он мог знать о том в свои молодые годы? В 1922 году мы все были так молоды».
Сильвия закрыла глаза, позволяя словам Элиота захлестнуть ее, словно слушала поэму в первый раз. Даже через четырнадцать лет она поражала изумительной новизной, свежестью, живостью. Наконец он подошел к финалу:
- … Ласточка, ласточка.
- La Prince d’Aquitaine a la tour abolie[150].
- Обломками сими подпер я руины мои.
- Будет вам зрелище! Иеронимо вновь безумен.
На мгновение снова повисла гробовая тишина, а когда Сильвия открыла глаза, все сидящие уже повскакали со стульев, благодаря поэта громом аплодисментов, возгласами, одобрительным свистом и топотом.
Никто не выражал свои восторги горячее и громче, чем сама Сильвия, зажатая среди толпы, откуда ей даже не было видно Элиота на низеньком помосте. Но вдруг зрители начали расступаться, освобождая ей путь, а Элиот уже протягивал Сильвии руки, приглашая встать рядом с собой, и глаза его сияли. Едва понимая, что происходит, — часть ее все еще находилась во власти поэтических чар, среди смутных теней древнего мира, вызванного к жизни в этот парижский вечер, — она пошла навстречу ему. Элиот обнял ее за плечи и развернул лицом к зрителям, и овации взметнулись к таким оглушительным высотам, каких Сильвия и представить не могла, пока не услышала собственными ушами.
Охваченная страшным смущением, ошеломленная обрушившимися на нее шумными приветствиями, Сильвия не сумела заставить себя взглянуть в глаза никому из тех, кто стоял перед ней, и смотрела вдаль, позволяя зрению туманиться. Найдя в себе силы ответить на овации улыбкой, чудом всплывшей из глубин ее немевшего, но глубоко благодарного нутра, она подняла руки и принялась аплодировать своим друзьям.
— За Сильвию! — выкрикнул Эрнест, поднимая свой стакан, и свистнул.
— За «Шекспира и компанию»! — прокричал кто-то в ответ, и одобрительный свист удесятерился.
— За вас, — отозвалась Сильвия.
Вспоминая торжества по случаю открытия своей лавки, когда Киприан с Адриенной вынудили ее произнести речь, Сильвия накануне поклялась себе, что никакие силы не заставят ее в этот раз взять слово, хотя сейчас она испытывала не меньше гордости и счастья, чем в тот незабываемый день. Сегодняшнее событие само говорило за себя.
Наконец овации улеглись, публика поспешила пополнить свои стаканы и тарелки, и над помещением повис мерный гомон переговаривающихся голосов, подействовавший на Сильвию успокоительно. Она снова была в своей тарелке, в своей стихии. Примерно час она курсировала среди гостей, переходила от одного разговора к другому, а потом внезапно оказалась лицом к лицу с Джойсом. Одним, без Норы. Она не могла припомнить, когда они в последний раз оказывались вдвоем среди помещения, полного людей.
Он протягивал ей коробочку в блестящей серебристой бумаге, перехваченную белой атласной лентой.
— Прошу вас принять это подношение, совершенно несоизмеримое с масштабами моей благодарности вам за то, что позволили «Улиссу» завоевать Америку, а теперь и Британию.
Сильвия почувствовала, что у нее загорелись щеки и уши, а руки, точно парализованные, отказывались принять подарок.
— Ваша книга, мистер Джойс. Одиннадцать напечатанных мной тиражей — сами по себе достаточная награда для меня. — Наверное, наконец-то, после стольких лет, это было правдой.
— А здесь ее первый и все еще истинный дом. В Стратфорде-на-Одеоне. Без него она не стала бы тем, чем стала.
Да. Как же много значили для нее его слова, даже сейчас.
— Вы называете Стратфорд настоящим домом «Улисса»? Право же, вы явно путаетесь в собственных метафорах, — попробовала Сильвия отшутиться, увести разговор в сторону. Ее уши всё еще горели огнем.
— Вот уже много лет, как я отчаялся отыскать себе хотя бы подобие Итаки. — И снова эта печаль, это сожаление.
Сильвия прочистила горло и переключилась на тему повеселее.
— Как я понимаю, вас есть с чем поздравить. Подумать только, пишут, что за три месяца продано тридцать пять тысяч экземпляров! «Улисс» перегнал «Гэтсби»! И это больше, чем я продала всех наших тиражей, вместе взятых.
— И тем не менее «Рэндом хаусу» не стать «Шекспиром и компанией». — Он взял ее за руку — делал ли он так когда-либо раньше? — и вложил коробочку ей в ладонь. — Ни одно подношение недостаточно, чтобы в полной мере отблагодарить вас, но если вы примете его, для меня это будет очень много значить.
Он помолчал, опираясь на свою ясеневую трость, но после некоторого колебания решился:
— Мне всегда хотелось кое о чем спросить вас.
— Боже мой, ну конечно, спрашивайте.
— Почему вы так и не издали никакой другой книги? Я знаю, что Лоуренс обращался к вам с просьбой напечатать его «Сыновей и любовников». И думается, вы могли посодействовать Рэдклифф Холл в издании ее «Колодца одиночества».
За прошедшие годы она столько раз слышала этот вопрос. Но до сей поры все ее ответы: «У меня и с “Улиссом” забот хватает», «Дела в лавке отнимают слишком много времени»; «Шекспир и компания останутся издательством одного автора» — по существу, грешили прискорбной неполнотой.
— Думаю, потому что как никто чувствовала несправедливость, которая пришлась на долю вашей книги. Все прочие запрещенные произведения, что нуждались в помощи, появились уже позже. Ваше пострадало первым. И мне нравилось работать над чем-то первым и единственным в своем роде. «Улисс» и «Шекспир и компания». — И книга, и лавка — несравненны, первые и единственные. Не решись она признаться в своем честолюбии Джойсу, никому другому не призналась бы и подавно.
— Они… вроде как одно целое, верно?
— Диптих.
— Опера в двух действиях.
Сильвия рассмеялась.
— Какие же мы старомодные.
— Спасибо, Сильвия. Спасибо за все.
— Мне это доставило великое удовольствие, Джеймс.
Он обежал глазами книжные полки и добавил:
— Как я рад, что у вашей лавки есть столько друзей, готовых встать на ее защиту.
И прежде чем Сильвия успела произнести хоть слово, он развернулся и отправился искать в толпе Нору.
Коробочка в руке казалась совсем невесомой. Сильвия не могла даже представить, что в ней. Не в силах побороть любопытство, она проскользнула в заднюю комнату и открыла крышку. Внутри оказался чек на гонорар, выписанный издательством «Рэндом хаус» в Нью-Йорке на имя Джойса и переписанный им на имя Сильвии.
Обломками сими подпер я руины мои — истинно так.
Шанти.
Кто знает, а вдруг такой мир и правда возможен.
Примечания автора
Сильвия и Адриенна удостоились звания Кавалерственных дам ордена Почетного легиона, иными словами, получили высший знак отличия, почета и официального признания заслуг, которым Франция награждает своих граждан и военных, — Адриенна в 1937 году, Сильвия — в 1938-м. И хотя книга заканчивается 1936 годом и охватывает почти двадцать лет жизни Сильвии, отражающие ее деятельность как владелицы книжной лавки и книгоиздателя, как я считала, ярче и убедительнее всего, она прожила еще долгую жизнь, сохраняя верность Парижу, и умерла в 1962 году в возрасте семидесяти пяти лет. Приведу вкратце значимые события тех лет.
Начну с плохих вестей: в 1937 году Сильвия и Адриенна расстались. Пока Сильвия навещала родных в Америке, Адриенна сошлась с Жизель Фройнд, и, вернувшись, Сильвия переехала в квартирку над своей лавкой, в которой одно время жил Джордж Антейл. В 1941 году во время оккупации Парижа немецкий офицер пожелал купить экземпляр «Поминок по Финнегану», однако Сильвия отказалась продать ему книгу. Я вижу здесь восхитительно-поэтичную иронию судьбы: Джойс в последний раз умудрился доставить Сильвии неприятности (уже из могилы, поскольку окончил свои дни несколькими месяцами ранее). Взбешенный отказом, офицер пригрозил позже вернуться со своими людьми и закрыть лавку.
Теперь перейду к новостям более приятным: преданные друзья помогли Сильвии перетащить все книги на четвертый этаж того же дома, разобрать книжные полки и закрасить название «Шекспир и компания», уничтожив все признаки существования лавки и лишив нацистов возможности привести в действие свою угрозу. Книги в целости и сохранности долежали до конца войны, а потом многие из них Сильвия передала в дар своему старинному конкуренту, Американской библиотеке в Париже.
Не удовлетворившись закрытием лавки, нацисты отправили Сильвию в лагерь для интернированных лиц во французском курортном городке Виттель. К счастью для нее, место ее заключения не имело ничего общего с концентрационными лагерями. В Виттеле содержались главным образом американские и английские граждане, не пожелавшие вернуться на родину, и городок более или менее продолжал жить курортной жизнью, так что германская пропагандистская машина выдавала его за ложный пример гуманных порядков в своих концлагерях. Сильвия провела там всего полгода, благодаря заступничеству Жака Бенуа-Мешена, одного из первых переводчиков «Улисса», занимавшего важный пост в правительстве Виши, — еще один трогательный пример, как дружеские отношения, которые она поддерживала с писателями в Париже, сослужили ей добрую службу.
Несмотря на то что Сильвия пережила войну и на феерическую историю, когда в 1945 году при освобождении Парижа Эрнест Хемингуэй прошагал по улице Одеон, скандируя «Свободу “Шекспиру и компании”», она так и не открыла свою лавку снова. Как пишет ее биограф Ноэль Райли Фитч, Сильвия сказала друзьям: «Нельзя сделать что-то одно дважды». Но я подозреваю, что у нее были более серьезные причины. Подозреваю, что, когда лавка закрылась, Сильвия смогла посмотреть на нее со стороны и увидела в «Шекспире и компании» великое произведение искусства, собственного «Улисса».
Подозреваю, что она не захотела начинать все по новой, ибо считала, что получится лишь бледное подобие ее первого выдающегося опыта, начатого в 1919 году. Первопроходец по натуре, она вместо этого пустилась в новые приключения. Она все-таки написала мемуары — «Шекспир и компания», которые я в особенности рекомендую из-за очаровательного рассказа, как Хемингуэй освобождал лавку, а потом и винный погреб отеля «Ритц».
И еще я подозреваю, что именно благоговение перед теми ранними годами позволило Сильвии возобновить отношения с Адриенной, несмотря на то что та предала их любовь. Хотя у нас нет свидетельств, стали ли они снова парой, их связывала тесная дружба, они вместе обедали и вместе жили каждодневной жизнью, в особенности после отъезда Жизель в Аргентину в 1942 году (в Париж она вернулась уже по окончании войны, став им еще одним другом, и наслаждалась своей вполне блестящей карьерой фотографа). К сожалению, в 1955 году Сильвия навсегда потеряла Адриенну. У Адриенны обнаружили болезнь Меньера, она сильно страдала от вызванных головокружениями галлюцинаций и решила свести счеты с жизнью. Сильвия так и не оправилась от потери, которая, вероятно, слишком напоминала ей трагедию ее матери.
В своих мемуарах Сильвия не заостряет внимания на этих печальных эпизодах, я тоже постаралась не выставлять ее в том свете, в каком она сама не желала бы предстать. Вместо того я попыталась раскрыть ее жизнь в таком ключе, чтобы показать, почему она, достигнув зрелых лет, могла сберечь свет счастливых времен.
Именно книга воспоминаний Сильвии познакомила меня с ней еще в годы моей учебы в колледже. Моей специальностью был английский язык, и особенно меня завораживали 1920-е, так что, когда мне повезло найти зачитанный экземпляр ее мемуаров в бесплатной корзине перед книжным магазином на Телеграф-авеню в Беркли, Калифорния, я немедленно принялась за чтение и влюбилась в эту книгу. Сама удивляюсь, что мне потребовалось прожить четверть века и написать два исторических романа, прежде чем я сообразила, что жизнь Сильвии Бич заслуживает художественного отображения!
«Шекспир и компания» за авторством Сильвии — тоненькая книжечка, особенно если знать, какую потрясающую, богатую на события и встречи жизнь прожила ее автор. И как часто подчеркивает Фитч, многие эпизоды, включенные Сильвией в черновой вариант мемуаров, она впоследствии выбросила или переиначила для читающей публики, которая — это-то она прекрасно понимала! — проявит особенно жадный интерес к жизни выдающихся писателей, предстающих здесь персонажами. В каждом случае Сильвия предпочла выказать уважение и симпатии к своим друзьям и коллегам — но тот факт, что она сама в автобиографии переиначила отдельные эпизоды своей жизни, дал мне определенную свободу. Я восприняла это как разрешение поступить так же.
Авторов исторических романов, особенно романов биографических, к которым относится и моя книга, постоянно спрашивают, что правдиво в их произведениях, а что вымысел. Каждый писатель по-своему отвечает на этот вопрос, а авторские примечания и есть священный уголок, где автор может признаться, когда и в чем он отклонился от исторической истины. Лично меня такой подход немного не устраивает, поскольку мне совсем не хочется отягощать свой маленький непринужденный этюд многочисленными mea culpa.
Однако, как я считаю, читатели заслуживают некоторых ответов. На сей раз я решила указать, что в моем романе соответствует истине, а все остальное с легкой душой объявить играми своей фантазии — что, я надеюсь, сэкономит всем нам много времени, душевных сил и чернил.
Итак. Что из описанного истинно?
Полагаю, одна из реалий той поры немало удивит многих читателей — как удивила меня, когда я изучала материалы! — а именно, что выведенные в романе персонажи, ничуть не скрываясь, жили в гомосексуальных союзах. В годы после Первой мировой войны картина социальной жизни отличалась небывалой многосложностью, что я постаралась обыграть. С одной стороны, консерватизм считался нормой: в Америке Сухой закон запрещал употребление спиртного, антииммигрантские настроения достигли невиданного за всю историю страны накала, с принятием законов Комстока и Закона о шпионаже цензура приняла совсем свирепые формы, что показал пример «Улисса». Консерватизм в равной мере сказывался на жизни людей как традиционной, так и нетрадиционной ориентации. С другой стороны, меня очень порадовало узнать, что в те времена царила удивительная свобода, а в городах вроде Нью-Йорка и Чикаго процветали подпольные бары и кабаре для геев. Алкоголь находился под таким же запретом, как однополая любовь, однако люди искусства и интеллектуалы того времени не считали зазорным ни то ни другое. Консервативные и либеральные взгляды, как ни парадоксально, часто уживались в одном человеке, например в персонаже реально существовавшего поверенного Джона Куинна. Во французской столице свободу общественной жизни подкрепляла законодательно установленная терпимость, поскольку со времен Французской революции нетрадиционные отношения не считались уголовно наказуемыми, благодаря чему Париж более столетия служил надежным прибежищем для однополых любовников.
Вдобавок мое исследование вскрыло один весьма существенный и любопытный факт: прятаться и скрывать ориентацию в том смысле, какой мы вкладываем в это сейчас, они начали совсем недавно. По большому счету, как подчеркивает один из виднейших исследователей истории ЛГБТ+ сообщества Джордж Чонси в своей колонке в «Нью-Йорк Таймс», написанной по случаю выхода в свет его влиятельного труда «Однополый Нью-Йорк» (Gay New York), «систематические притеснения гей-сообщества [в поздние годы ХХ века] не являлись следствием какой-либо застарелой бесповоротной общественной неприязни и не свидетельствовали о пассивности и молчаливом принятии геями такого положения вещей. Саму концепцию того, что нужно прятаться и скрываться, создали противники гомосексуализма как раз в ответ на открытость и откровенность геев и лесбиянок начала 1920-х». Хотя Сильвия — равно как Адриенна, Маргарет, Джейн, Гертруда и Элис — возможно, не «выставляли чувства напоказ» так, как мы это понимаем в XXI веке, они считали свою идентичность и свой образ жизни вещами само собой разумеющимися, чего слишком часто не могут позволить себе современные представители ЛГБТ+ сообщества, как ни странно и ни трагично.
Исторические даты в романе указаны с той точностью, какую только могли обеспечить мои знания и изыскания, — это касается открытия и закрытия лавки, войны, годов издания всех упомянутых книг, судебных процессов, кончин друзей и родных, равно как и поездок Сильвии.
Кроме того, указаны реальные даты событий, связанных с изданием романа «Улисс». Таким образом, второго февраля 2022 года отмечается столетие со дня выхода в свет самого первого издания произведения Джойса, которое, как Сильвия верно предвидела, изменило вектор литературы ХХ века. Десятью годами позже она отказалась от своих прав на публикацию, чтобы издательство «Рэндом хаус» смогло бросить свои значительные ресурсы на судебную борьбу за отмену цензурного запрета на роман, что в конечном счете принесло ей истинное удовлетворение, ибо чего она истинно желала, так это всего, что было в лучших интересах романа и его автора. Я постаралась представить себе американские горки сменявшихся чувств Сильвии: гордости, радости и гнева — в ее личных и профессиональных отношениях с Джойсом, тесно связанных с ее ролью его издателя.
За исключением Мишеля и Жюли все остальные персонажи, а также их вторые половинки реальны, чему вы легко найдете подтверждение в интернете. Реальную почву имеют под собой и взаимоотношения, связывающие их всех. Один второстепенный, но важный герой носит вымышленно-собирательный характер — это Патрик Келли, Пэдди, и он воплощает в себе многочисленных помощников Джойса, одним из которых был реальный человек по имени Патрик Колум. Его Джойс действительно отряжал к Сильвии с уговорами отказаться от прав на издание «Улисса».
Если не брать основных исторических дат, я не сверялась специально с дневниками или письмами персонажей для уточнения, действительно ли они находились в Париже в описываемые мной дни. Для меня было достаточно, что они в тот год его посещали. Точно так же я не сверялась с синоптическими сводками для уточнения, какая погода стояла в тот или иной день. Если мне по сюжету требовался дождь, он в тот день у меня и шел. (Хотя весной 1935 года ливни действительно затопили Париж!) Местами ради драматического накала событий я слегка сдвигала даты — например, в реальности Джон Куинн дважды посещал французскую столицу: один раз когда лавка еще была на улице Дюпюитрена, а второй — когда уже переехала на улицу Одеон, — у меня же по сюжету он зашел в лавку только единожды, летом, во время переезда, и мог увидеть оба помещения, что было важно для описываемых событий. Кроме того, в действительности он отослал Сильвии фотографические изображения страниц своего черновика «Цирцеи», но не без описанных мной перепалок. По моей авторской воле Джойс в 1931 году отсутствовал в Париже чуть дольше реальных пяти месяцев, которые ему потребовались, чтобы официально оформить брак с Норой в Лондоне. А поскольку поклонники Хемингуэя не преминут посрамить меня за неточность, сразу признаюсь, что у меня он появляется на сцене в 1921 году шестью месяцами раньше, чем было на самом деле.
Теперь давайте немного обсудим моих героев и их поступки, поскольку именно их личности — что понятно и объяснимо — в первую очередь интересуют читателей, равно как и горести и превратности их реальных судеб. Что из описанного реально? С ходу готова признать, что прочитала не все имевшиеся в моем распоряжении письма, дневники и биографии главных персонажей, отчасти потому, что иначе не написала бы свою книгу (да, объем сведений об этих конкретных «белых воронах» ошеломляюще огромен). И потом, поскольку роман написан с позиций самой Сильвии, мне представлялось важным уловить и передать ее собственное отношение к людям, которые окружали ее. Но я все равно решила излагать события от третьего лица, поскольку хотела, чтобы читатели увидели то, чего могла не видеть моя героиня, так что я прочитала все, что могла, — достаточно, чтобы вывести своих персонажей такими, какими вижу их я, и так, чтобы они помогали двигать сюжет, при этом сохранив черты, как я считаю, важные для их реальных характеров.
Теперь обратите внимание, что многое в последнем абзаце подразумевает авторские интерпретации и зыбкость почвы, на которой они построены. Дело в том, что не существует Реального Джеймса Джойса, Истинного Хемингуэя или Подлинной Адриенны Монье. Эти люди давно умерли. Авторам только и остается, что истолковывать их жизни. Как сформулировала в своих блестящих лекциях на «Би-би-си» британская писательница и литературный критик Хилари Мантел, читатели исторической беллетристики «покупают не реплики и даже не добросовестные фотографические изображения», а скорее «картину с мазками и следами кисти художника». Различие сформулировано великолепно. Единственное, я бы добавила, что, читая исторические романы, мы истолковываем авторское восприятие событий — так что вместе писатель и читатели еще больше отдаляются от всякой реальной «правды».
Учитывая все это, позвольте заверить, что я попыталась, честно призвав в помощь все свои скромные способности, представить, как воспринимала свою необыкновенную жизнь в «Шекспире и компании» сама Сильвия. Я изо всех сил старалась не наделать фактических ошибок и в конце привожу библиографический список самых значимых прочитанных мной книг.
Мне удалось также привнести в роман крупицы собственного жизненного опыта, поскольку в ту пору, когда я была начинающим, не лишенным честолюбия писателем, я работала в независимом книжном магазине в Бруклине, и в определенном смысле он представлял собой такую же теплицу для талантов, какой служила лавка Сильвии. Там тоже образовался свой круг завсегдатаев из числа знаменитых писателей вроде Мэри Моррис и Пола Остера[153], а все мы, работавшие в лавке, были подмастерьями писательского цеха на разных стадиях наших карьер.
За годы до этого я работала в отделе хранения нашей университетской библиотеки. Так что мой прошлый опыт явно предрасположил меня к истории Сильвии и изнутри показал, как протекает повседневная жизнь в лавке вроде «Шекспира и компании», а также убедил в том, что книги, которые мы вручаем читателю, могут менять жизни. Ничто не доставляло мне большего удовольствия, чем просьбы постоянных клиентов порекомендовать, что им еще почитать.
Прочие бумаги Сильвии хранятся в библиотеке Принстонского университета. И представьте, в 2020 году, когда я заканчивала рукопись романа, Принстон запустил фантастический сайт под названием Shakespeare and Company Project, где в отсканированном виде выложены читательские карточки лавки и накладные, и все они сведены в общую базу с функцией поиска. Так вы можете сами посмотреть, скажем, какие книги Джеймс Джойс в 1926 году брал в библиотеке Сильвии. Там имеется еще ряд замечательных, дарованных нам XXI веком опций, которые, думаю, и самой Сильвии пришлись бы по душе. Если вы, читая эти заключительные строки, не захотите расставаться с книжным миром 1920-х годов, рекомендую вам посетить сайт проекта.
В Париже и сегодня можно зайти в еще один книжный магазин под названием «Шекспир и компания». Расположенный всего в десяти минутах ходьбы от первоначального, он был открыт в 1951 году Джорджем Уитменом, тоже американским книготорговцем, и сначала носил имя Le Mistral. В 1964 году, к четырехсотой годовщине со дня рождения Уильяма Шекспира, Уитмен сменил название на «Шекспира и компанию», что во многом было данью уважения книжной лавке Сильвии. Сведения о ней представлены на многочисленных табличках и плакатах, которыми увешаны стены и полки. Нынешнее заведение оказывает приют путешествующим писателям — здесь их называют перекати-поле, — и хотя я сама не имела удовольствия состоять в их братии, в нее в разное время входили многие авторы, чьи имена сейчас на слуху, например Дэйв Эггерс и Анаис Нин.
В настоящее время владелицей «Шекспира и компании» является дочь Джорджа Уитмена, которой он дал имя Сильвия. В русле замечательной преемственности и во исполнение давней мечты Сильвии Бич при нынешней инкарнации «Шекспира и компании» есть кафе, и если вы сидите там за чашечкой чая, то вам открывается вид на величественный Нотр-Дам-де-Пари на том берегу Сены — им любовалась и я, пока изучала материалы для этой книги.
Подобно героям своего романа, я тоже испытала счастье быть писателем в Париже и своими глазами наблюдала, как готический собор восстает из руин пожара 2019 года, напоминая мне, что искусство очень часто возрождается из пепла.
Благодарности
Большую часть книги я писала во время пандемии COVID-19 и, лишенная возможности встречаться с друзьями и родными, осознала, насколько они драгоценны для меня. Мне грели душу разнообразные уловки, которые мы придумывали, чтобы повидаться и пообщаться хотя бы через экран. В сущности, 2020 и 2021 годы одарили меня шансом привлечь к участию в книге многих друзей, живущих в разных уголках страны, побывать, хотя бы и виртуально, на множестве событий, где я не смогла бы оказаться, не получи мы такого обоюдоострого инструмента, как Zoom.
Всеми этими встречами и событиями мы обязаны книжным магазинам и библиотекам, подобным «Шекспиру и компании»: они не ударили в грязь лицом и отважно перенесли в интернет свои мероприятия, рекомендации, заказы и заседания книжных клубов, сохранив для читателей контакты с уже полюбившимися писателями и подарив им возможность открывать для себя новых.
Сам этот процесс, когда продажа книг и пользование библиотеками на глазах перестраивались под новые условия, что я наблюдала вокруг себя, пока писала этот роман, в немалой степени вдохновлял меня с замыслом книги.
Примите мои благодарности, владельцы и сотрудники книжных магазинов, библиотекари, волонтеры, издатели, журналисты, поставщики и продавцы, книжные блогеры, а также все-все, кто каждодневно, засучив рукава, делал и продолжает делать все необходимое, чтобы книги находили своих заинтересованных читателей, — в прошедшем году и всегда. Хотя моя книга рассказывает о знаменитой книжной лавке и знаменитых писателях, само по себе ежедневное чтение — занятие уединенное и неторопливое, вдумчивое и постепенное; чтение рождает сопереживание, успокаивает, открывает нам мир с новых сторон, образовывает. Благодаря вашим заботам живое чтение — занятие, меняющее наш мир.
Хочу также выразить благодарность конкретным людям, приложившим руку к созданию этой книги, ибо как ни романтичен образ писателя, который в уединении на мансарде ночами корпит над бумагой, сочиняя свое произведение, на самом деле процесс устроен иначе. Многие мои друзья, читающие и пишущие, вникали в черновые варианты этой книги и высказывали справедливые замечания, проводили со мной мозговые штурмы и в минуты, когда что-то у меня не клеилось, не давали мне пасть духом. Спасибо вам, Лори Хесс, Хитер Уэбб, Аликс Риклофф, Кристина Уэллс, Шерил Паппас, Рени Розин, Элис Хупер, Иви Данмор, Даниэль Фодор, Кип Уилсон, Диана Ренн, Келли Форд и Мэри Гэрен. Сара Уильямсон, подельница в моих изысканиях, Париж навсегда остается с нами. Коллеги Лайонесс, наш непринужденный виртуальный треп — одна из вещей, доставляющих мне больше всего удовольствия от работы. Особую благодарность хочу выразить Кевину Уиллеру — твои озарения, твоя вера в меня и готовность снова, снова, снова (и снова!) обсуждать одни и те же вещи значат для меня больше, чем я могу здесь выразить, и все наши пересмешки служили мне не меньшей подмогой.
Кейт Сивер, не передать, как я счастлива тем, что вы мой редактор. Сколькими прорывами я обязана вашему доверию, вашим предложениям, вашей поддержке, особенно в этой книге. От души благодарю вас.
Киван Лайон, непревзойденный Агент. Спасибо вам, спасибо, спасибо за терпение, за позитив, за заступничество. Высокая честь для меня состоять в вашем прайде.
Тарин Фаджернесс и Таванна Салливан, я так признательна за ваши тяжкие труды, благодаря которым эта книга продается за границей! Как волнительно узнавать, что и в таких дальних далях, как Лондон, Мадрид, Милан и даже Рио-де-Жанейро, люди смогут прочитать мой роман в переводе — ах, как много зависит от перевода — на своем языке.
Дорогие мои соратники в «Беркли», вы команда мечты. И какими замечательными заботами вы меня окружали! Клер Зайэн, спасибо за вашу страстную непреходящую увлеченность историей Сильвии, одна мысль, что вы так болеете за книгу, добавляла мне сил. Айван Хелд и Кристин Болл, спасибо вам за ваше видение и руководство. Крейг Бурк и Жанна-Мари Хадсон, я так благодарна вам за консультации, советы и поддержку — благодаря вам и вашей команде мне открылось столько нового в вихре, что зовется книгоизданием. Фарида Буллер, Тара О’Коннор и Ясмин Хассан, спасибо вам за многие часы неустанных трудов, благодаря которым мой роман находит своего читателя — того, кто полюбит его. Анджелина Кран, как высоко я ценю ваше скрупулезное редактирование и форматирование текста, как наслаждаюсь нашими диалогами «в сторону». Николь Уайленд, Ракхи Бхатт и Линдса Таллок, благодарю вас за то, что вашими трудами все буквы на своих местах и не перепутаны, а текст приобрел достойный блеск.
И да, безусловно, заслуживает упоминания чудесная обложка книги. Кейт, хочу еще раз поблагодарить вас за блестящие идеи, которые питали прелестную картину, написанную Терри Миура для обложки. Терри, у меня нет слов! Я на веки вечные благодарна вам за вашу работу — один только теплый свет, ее озаряющий, говорит очень о многом, и отдельное спасибо, что с такой любовью обессмертили маленького друга Сильвии Тедди. Рита Франжи и Вики Чу из отдела дизайна, и представить не могу, как вам удалось уложить картину на обложку, по мне, это чистая алхимия! Нэнси Реник, вам огромное спасибо, что изнутри книга выглядит столь же эффектно, как и снаружи.
Мама и папа, вы подаете мне пример страсти к чтению длиною в жизнь, веселья на праздниках и беззаветной родительской любви, какую только может пожелать дочь. Елена, ты моя самая лучшая девочка и мое лучшее всё. Я счастлива и благословенна на семейном фронте.
Пускай и под занавес, но ни на йоту не умаляя вашего великого значения, я благодарю ВАС. Какую бы книгу вы ни взяли с полки, вы поддерживаете огонек в очаге под названием чтение. В этом вся суть и весь смысл.
МИФ Проза
Вся проза на одной странице: https://mif.to/proza
Подписывайтесь на полезные книжные письма со скидками и подарками: https://mif.to/proza-letter
Над книгой работали
Руководитель редакционной группы Ольга Киселева
Шеф-редактор Анна Неплюева
Ответственный редактор Ольга Нестерова
Арт-директор Яна Паламарчук
Иллюстрация обложки Таня Дюрер
Корректоры Анна Быкова, Евлалия Мазаник
В оформлении книги использованы изображения по лицензии Shutterstock (soosh)
ООО «Манн, Иванов и Фербер»
Электронная версия книги подготовлена компанией Webkniga.ru, 2022











