Читать онлайн Переписка. Письма митрополита Анастасия И.С. Шмелеву
- Автор: А. В. Карташев, Иван Шмелев
- Жанр: Биографии и мемуары
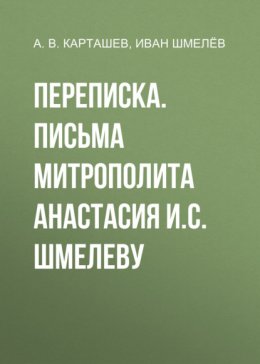
«Наше сердце бьется эсхатологически»
Писатель Иван Сергеевич Шмелев (1873 – 1950) и богослов Антон Владимирович Карташев (1875 – 1960) познакомились в Париже в марте 1923 г. Возможно, это произошло в Республиканско-демократическом русском клубе или на каком-то литературно-общественном собрании. Каждого из них судьба привела в столицу русского рассеяния своим путем, у каждого имелся свой «багаж», свое прошлое, свои причины покинуть Родину и свои планы на дальнейшее существование. Шмелев выехал из России в творческую командировку, чтобы посмотреть Европу и набраться впечатлений для романа «Спас Черный». За плечами у него стояли голод в Крыму, разоренном новой советской властью, ужасы красного террора, расстрел горячо любимого сына Сергея. Карташев оказался в Париже с особой миссией – бороться с большевизмом, собирать «политические силы эмиграции под прежним знаменем в виде Русского национального комитета». Ему, видному церковному деятелю, на протяжении 1917 г. довелось примерить роль министра исповеданий в правительстве А.Ф. Керенского, открыть Всероссийский церковный собор, восстановивший патриаршество, и отсидеть несколько месяцев в тюрьме. Чудом он избежал смертной казни после освобождения в 1918 г.; жил нелегально в Москве, состоя одновременно членом Высшего церковного совета при патриархе Тихоне и членом антибольшевистской политической организации «Левый центр». Затем был побег в Финляндию под новый 1919 г. и организация в Гельсингфорсе «Политического совещания» при генерале Юдениче.
Подружились два человека из разных культурных пространств и общественных сфер. Шмелев – коренной москвич, из купеческого сословия, выпускник юридического факультета Московского университета, писатель-реалист, поддержанный А.М. Горьким и печатавшийся в его сборниках «Знание». А Карташев был выпускником Духовной академии; симпатизировал петербургской богемной среде с ее богоискательством и даже состоял в свободной «церкви», учрежденной четой Мережковских; занимал должность председателя религиозно-философского общества. Роднило их нечто более глубокое, скрытое под наслоением образования, профессии, усвоенных идей и мнений. Шмелев это остро почувствовал и выразил в одном из своих ранних писем, адресованных Карташеву: «Вы – от народа. Я – от народа, тоже. Одного теста с ним, одной персти, одного солнца, одной мякины и одного и того же духа, навыков предков, связанные общей пуповиной с недрами всей жизни русской, с духовными и плотскими, мы – лик народа, мы – его выражение! Мы, лишь благодаря окультуриванию, обдумыванию, образованию, – лишь более яркое лицо его» (наст. изд., с. 31). Автобиография Карташева содержит некоторые сведения об истории его рода: «Семьи со стороны отца и матери были из крепостных крестьян туляков, получивших на Урале звание “горнозаводских рабочих”… Прадед – … был управителем завода, дед – помощником казначея, и отец (род. в 1845 г.), прошедший еще Николаевскую двухклассную министерскую школу и вышедший только 16-ти лет (1861 г.) из состояния раба, стал, с введением Земства, волостным писарем, затем земским гласным, и, наконец, с 1879 г. членом Земской управы. Семья переселилась в Екатеринбург… Пафосом семьи было “выйти в люди” путем образования» (Автобиография Антона Владимировича Карташева // Вестник РСХД. 1960. № 58–59. С. 57). Шмелев также происходил из землепашцев, ставших московскими предпринимателями: «Прадед мой по отцу был из крестьян Богородского уезда Московской губернии. В 1812 году он уже был в Москве и торговал посудным и щепным товаром. Дед продолжал его дело и брал подряды на постройку домов <…> Отец <…> занимался подрядами: строил мосты, дома, брал подряды по иллюминации столицы…» (Шмелев И.С. Автобиография // Собрание сочинений: В 5 т. T. 1. С. 13).
Тема русского крестьянина, его участие в революции 1917 г. обсуждалась в переписке Шмелева и Карташева. Поводом послужила брошюра Горького «О русском крестьянстве», изданная в 1922 г. за границей (Берлин). Миф о ленивом и диком русском мужике получил в ней полное оправдание. Для Горького Россия представляется огромной равниной, на которую брошен земледелец, в чьем сознании продолжают жить инстинкты кочевника, поэтому свой пахотный труд он воспринимает как наказание. С детства он затвердил себе сказку о некоем «Опонькином царстве» с кисельными берегами и молочными реками: «Русский крестьянин сотни лет мечтает о каком-то государстве без права влияния на волю личности; на свободу ее действий – о государстве без власти над человеком» (Горький М. О Русском крестьянстве. Берлин: Изд. И.П. Ладыжникова, 1922. С. 6). Пробовал Горький искать доброго и милосердного мужика, описанного русской литературой, и нашел хитрого и жестокого собственника земли. Революция вскрыла в нем все его пороки: равнодушие к голодающим, ненависть к образованию и прогрессу. Не обнаружил Горький в народе и капли набожности: никто якобы не бросился защищать церкви и монастыри от разграбления и осквернения, равнодушием отреагировали на закрытие Киево-Печерской и Троице-Сергиевой лавр: «Как будто эти центры религиозной жизни вдруг утратили свою магическую силу…» (там же. С. 29). Ненависть мужиков к городской культуре больше всего раздражала Горького. Ведь город – это творение рук образованных людей, интеллигенции, которая взялась за непосильное дело, за очищение, по его словам, «Авгиевых конюшен русской жизни». В книге Горького помимо жертвенно служащей народу интеллигенции нарисован еще один положительный образ. Русскому мужику противопоставлен европеец, энергично преображающий окружающую среду.
Брошюра Горького упомянута в письме Карташева от 6/19 сентября 1923 г.: «Разве в гнусной как все, исходящее от Горького, брошюрке его о русском крестьянстве нет уже подземных толчков грозящего взрыва изнасилованной интеллигентами народной души?» (наст. изд., с. 28). Карташев, очевидно, отмечая «толчки грозящего взрыва» в народе, ссылается на Горького опосредованно, через хлесткую рецензию на его книгу Е. Кусковой. Именно в ее статье продемонстрировано, как Горький, сам того не замечая, показывает удивительную смекалку мужика, приводя меткие народные изречения и мысли о революции: «Умный крестьянин понимает, что на земле “порядка нет”, может быть даже стал понимать, как этот порядок надо установить, может быть нам, образованным, важно было бы мнение этого сына пустыни и каторжного труда спросить, узнать, к этому все вести и этого добиваться, а мы только ставим штемпеля и приговоры: “Этот зверь, тот не годится, вот этот садист…” Другие собеседники Горького, тоже крестьяне, полностью развернули основную черту своего миросозерцания: и деловой практицизм. “Мне подковы надо, топор, у меня гвоздей нет, а вы тут на улицах памятники ставите – баловство это”. – “Ребятишек одеть не во что, а у вас везде флаги болтаются”. – “Если бы революцию мы сами делали, давно бы на земле тихо стало и порядок был бы”…» (Кускова Е. Максим Горький о крестьянстве // Крестьянская Россия. Прага, 1923. С. 213). Кускова встала на защиту крестьян, обвиненных Горьким в звериной жестокости: для нее понятны и объяснимы их грубые действия по отношению к городским людям, отнимающим у пахаря плоды его труда. В доказательствах Кусковой слышится насмешка над Горьким, смотрящим на крестьян через искажающие их облик очки.
Шмелев полемизировал с Горьким, обличая его неправоту, в своей статье «Убийство», носившей первоначально название «Гной революции». Для него народ – неразумный младенец, соблазненный на дурное интеллигенцией. Эти «сторонники национализаций, конфискаций, деклараций», употреблявшие звонкие и дурманящие простой люд слова, по убеждению писателя, с первых же дней революции, легко им давшейся, потеряли из виду живое лицо родины – России. Они искажали русскую историю, выбирая из нее факты способные «раздражить народные массы». Им хотелось «растревожить темное народное море, поиграть на его волнах». Шмелев указал на их учителей, не знавших России («Маркс и Энгельс, Либкнехт и Адлер, Плеханов и Чхеидзе, Чернов и Церетели, Рамишвили и Ленин, Троцкий и Радек, Роза Люксембург и Клара Цеткин…»), и напомнил о забытых ими гениях русских (Пушкин, Гоголь, Аксаков, Достоевский, Толстой, Чехов, Ключевский, Соловьев, Данилевский, Пирогов, Менделеев), для которых народ был не «винтиком», а «сутью их жизни». Интеллигенция принесла в народ злобу и ненависть, разложила его духовно, жестокость не является национальной чертой русского мужика, как старался убедить Горький. Естественно, Шмелев не возлагал вину за гибель России на всю русскую интеллигенцию, а только на выросший в ней «чертополох», революционную ее часть. Помимо людей без родины, народных растлителей, есть «великие охранители», «люди большого духовного напряжения».
Художественным откликом Шмелева на горьковскую брошюру можно считать рассказ «Два Ивана». Изображены две силы русской истории в образе учителя Ивана Степановича с народнической закваской и дрогаля (извозчика) Ивана. Их столкнула война 1914 г.: оба они «подгоняли к войску воловьи гурты». Иван Степанович, бывший начальником над Иваном-дрогалем, внушал ему, что после войны возможны государственные перемены, что «разольется стихия», перед которой все бессильно. Дрогаль понимал грядущие свободы только в границах своего хозяйственного расчета: появится лишняя земля и скотина, у семьи вырастет доход. От войны он нажил себе небольшой капитал. Учитель заработал чахотку. Февральская революция принесла Ивану Степановичу разочарование в народе, не случилось чудесного «обновления». Простые люди ждали дополнительных материальных благ, не слушая речей о каком-то абстрактном счастье. К обедневшему учителю они отнеслись немилосердно: потоптали и обворовали огород, скупили по дешевке остатки его вещей. Как будто бы Шмелев иллюстрирует слова Горького о безжалостности крестьян к голодным интеллигентам, работавшим для их просвещения. Но у Шмелева – своя линия, он подводит к иным, чем Горький выводам. Он не «обсахаривает», не идеализирует мужика, показывая его грубость. Писатель иронизирует над Иваном-дрогалем и тем не менее уважает его здоровый практицизм, которым не обладает учитель. Беда Ивана Степановича сродни ошибкам Горького и заключается, согласно Шмелеву, во внутренней слепоте, в неумении видеть, где скрывается истинное благо народа, а вместе с ним и целой России. Еще в 1918 г. в Москве, под впечатлением от разорения огромной и сильной страны, он набросал начало статьи, обозначив тот стержень, на котором держалась вся мощь российского государства, – мещанство. Ненавистное демократической интеллигенции, в первую очередь Горькому, и обозначающее на ее языке ложь, лицемерие, спокойную сытость и косность, мещанство было оправдано Шмелевым, отмыто от позорного клейма: «Мещанство! Этот удобный ярлык часто прикрывал безучастность и пустоту, бездельничанье и болтливость, пустопорожнее созерцание небосвода и грязь на собственных сапогах. Этим словом часто били с гордым и святым видом скромных делателей жизни, от которых питались сами; этим словом оперировали в общественности так же, как и в искусстве, прикрывая свою беспочвенность и бескровность, часто даже бездарность <…> “Итак, что же”, – скажут иные многие, – “от высот духа к мещанству?” Нет, не от высот духа – ибо мы никогда на этих высотах не жили. Истинные высоты духа создаются на основе материальных ценностей, на всем том, к чему сплошь и рядом привешивался ярлык мещанство. У нас же и материальной культуры не было, ибо нельзя географические точки великой равнины – жизни русской считать крепкой опорой культуры духа. Это и показал тот кровавый пожар, тот разгром, что еще идет мутными волнами по этой равнине» (ОР РГБ. Ф. 387. Оп. 8. Ед. хр. 23. Л. 4). Под мещанством понимается вся материальная культура, бытовое начало, почва. Шмелев любил изобилие, созданное либо природой, либо руками человека. Его письма Карташеву с дачи Буниных в Грассе наполнены восторгом от увиденных им на юге Франции сытости и довольства. Свой рассказ «Въезд в Париж» (1926) он почти целиком посвятил описанию витрин французских магазинов. Разумеется, это отражает шик парижской жизни и потребовалось для наполнения рассказа ее атмосферой, но дало о себе знать и пристрастие самого писателя к разнообразию и красоте быта.
Молодое поколение эмиграции в лице поэта А. Туринцева провозгласило мещанство своим лозунгом, только назвало его почвенностью. Туринцев в своем очерке «Неудавшееся поколение» заявлял, что он и подобные ему, сражавшиеся за свою Россию в рядах Добровольческой армии, принадлежат к «почвенникам», а «отцы», старшее поколение эмиграции – это «культурники». Ему, закаленному на фронтах гражданской войны, кажутся нелепыми идеалы «старших», их «звездные постройки», с которыми не стала считаться революция и развалила их: «Молодое поколение, не успев пережевать, как следует, высокие идеи, не дочитав спасительной литературы, попало жизни в лапы, под тяжкие удары» (Туринцев Александр Неудавшееся поколение // Дни. 1924. 5 сент. С. 2). На место «возвышающих обманов» предлагается поставить «низкие истины», т. е. что-то жизненное и реальное. Если возникнет необходимость расстрелять, считает Туринцев, будет лишним рассуждать о гуманности. Пока старшее поколение устраивало вечер «Миссия русской эмиграции» (проводился 16 февраля 1924 г. при участии Шмелева, Карташева. Бунина и др.), молодежь отрицала свое мессианство, собираясь заниматься только своей личной биографией: «Мы не осудим за “мещанское счастье” тех, кто свое благополучие ставит выше мессианских целей или счастья будущих поколений <…> Нет, мы не “соль земли”, не лучше России. Здесь в эмиграции мы не высокую “миссию” выполняем, а возмездие несем» (там же. С. 3).
Газета «Последние новости», представлявшая левое крыло эмиграции, восприняла «исповедь» Туринцева с возмущением и сразу поставила ему диагноз: «потрепанные нервы». Испугала жесткость и прямолинейность его высказываний, вызвавших у редакции газеты ассоциации с «разоблачениями» В. Шульгина, который предлагал в своей книге «Дни» (1922) применять для усмирения народа пулеметы. Туринцева пожалели и направили на излечение от безыдейности с напутствием: «Не надо возвышаться над родиной и придавать своей “миссии” мистическое значение. Но не следует и доходить до излишнего самоуничижения. У эмиграции есть миссия… сделаться как можно в большей степени “солью земли”. Этой “соли”, увы, слишком мало осталось в России» («Реализм» потрепанных нервов // Последние новости. 1924. 7 сент. С. 1).
Карташеву, по-видимому, тоже не понравилась самоуверенность Туринцева, еще не знающего, как созидать будущую Россию, но убежденного, что справится с этим лучше «отцов». Он предполагал использовать молодежь в качестве динамита для расчищения поля под строительство. Шмелев не поддержал его мнение о «детях»: «Молодежь не только орудие для чистки и завоевания: её необходимо привить!» (наст. изд., с. 18). Он с горячностью принялся защищать Туринцева и подобных ему в статье «Болезнь ли?» Свою служебную карьеру Шмелев начинал помощником присяжного поверенного и взялся быть адвокатом со знанием дела. Из его «речи» следует, что Туринцев совершенно здоров и не лишен идеалов, они у него те же, прежние, только с новой начинкой: «Здесь… новое исповедание веры, новое мироотношение, – иначе и быть не может. В огне войны и революции должно было многое сгореть, отжечься и отлиться. Или “отцы”, вера которых в движение обновления – краеугольный камень их сущности, так самодовольно-самолюбивы, что лишь за собой признают право на эволюцию, как и на… революцию?! Тут подлинная революция склада русской души, новая поросль от корней родины» (Шмелев И.С. Собрание сочинений. Т. 7. М.: Русская книга, 1999. С. 356).
Помимо самоукорения, гневных обличений, бросаемых самолюбивым «отцам», желания потягаться с либеральными «Последними новостями» во главе с П.Н. Милюковым, помимо политики и злобы дня, в шмелевской публицистике звучит чистая библейская струна. Ему представляется уже не грядущая Россия после апокалипсиса революции, а, как Иоанну Богослову, «новое небо и новая земля». Это религиозное переживание исторических событий очень сближало Шмелева и Карташева.
«Наше сердце бьется эсхатологически», – восклицал Карташев в своей статье «Пути единения», несомненно, внимательно прочитанной Шмелевым. В этой статье, опубликованной в 1923 г., Карташев рассматривал русскую революцию как явление не только земного, но и духовного порядка. Большевизм, по его убеждению, возник вследствие религиозно-нравственного падения европейской цивилизации: «Это – прямой и законнорожденный плод ее богоотступничества и отрыва от Церкви, плод религии гуманизма» (Карташев А. Пути единения // Россия и латинство. Берлин, 1923. С. 142). Человек не создан автономным, продолжал он, можно быть либо с Богом, либо выступать против Него. Поэтому и коммунизм в России «не есть только ужас позитивного порядка», у него конкретное значение – демонизм. Богослов призывал христиан всего мира сплотиться против Царства Антихриста, воплощенного в СССР. Нейтралитет европейских держав в отношении советской России, считал он, несет очередной обман и оборачивается борьбой с христианством.
Эсхатологическое биение сердца изображено Шмелевым в плеске волн Океана. Шум мерно набегающих валов напоминал ему ритм вечности и вдохновил на создание цикла очерков «Сидя на берегу», написанных летом-осенью 1924 г. в Ландах и опубликованных в июне-октябре 1925 г. Из «небытия» проступают перед читателем виденья: огромный московский крестный ход и величественный храм Христа Спасителя, внушительных размеров богослужебное Евангелие в золотом окладе и вынесение креста в праздник Крестовоздвижения. Будто бы это воспоминания автора, а будто бы виденья иного, мистического порядка. Крестный ход движется не по Москве, а в стенах Небесного Иерусалима, служба проходит не в реальном храме, а в надмирном. Раскрытое на престоле Евангелие – это апокалиптическая Книга Жизни и одновременно книга, в которую записаны страдания России, ее крестный путь. Символы и образы шмелевских очерков навеяны словами Карташева о «национальном граде» и о чудесном воскресении России из письма от 6/19 сент. 1923 г.: «И голос крови уже вызывает к жизни к небу восходящую цепь духовных восторгов, проясняющихся народу в виде сладчайших и священнейших видений национального града, мелькнувшего в прошлом, сокрытого где-то и грядущего обязательно, неизбежно, насущно, наверно, ибо жить без этого народу бессмысленно» (наст. изд., с. 27). Но «Сидя на берегу» не следует воспринимать как иллюстрацию к мыслям богослова, в них есть биение своего «пульса» в унисон «ритму» карташевских дружеских бесед, статей, писем.
С 1926 г. в Париже стал выходить еженедельник «Борьба за Россию», в издании которого Караташев принимал активное участие. Почти каждый номер содержал его очерк, воззвание или статью. Своими темами и образным строем эта публицистика перекликалась со шмелевским циклом «Сидя на берегу» и примыкающими к нему рассказами писателя. Например, публично поздравляя эмиграцию с Пасхой Карташев так же, как и Шмелев в очерке «Золотая книга», отождествлял страдания, выпавшие на долю России, и дальнейшую судьбу Родины с евангельскими событиями – муками, голгофской смертью и воскресением Спасителя: «Жива “сошедшая в ад” Россия, вот-вот слетит бессильная, глупая печать, отшатнется трусливая “Пилатова кустодия”, и исполин – свободный народ восстанет к новой преображенной жизни. Это уже не вера, а знание» (Карташев А. Христос Воскресе! // Борьба за Россию. 1927. № 22. С. 1).
Желание погрузиться в небытие, удалиться в область дорогих сердцу видений, скорбеть о поруганном лике прошлого не мешало ни писателю, ни богослову пристально следить за политической обстановкой в мире, обсуждать эмигрантские дела, болезненно реагировать на вести с родины. Среди прочих вопросов особое значение для них имел один, очень важный – отношение иностранцев к России. В еженедельнике «Борьба за Россию» ему была посвящена отдельная рубрика. Шмелев художественно исследовал в очерках «Сидя на берегу» и рассказе «Птицы» природу мышления иностранцев. Его анализ начинается с изучения запахов, красок, мельчайших оттенков, с приглядывания к поведению детей, собирающих устриц. Кругом ему открываются различия между своим, привычным с детства, и чужим, европейским: краски природы то чуть ярче, то чуть бледней, чем на родине; французским детям не хватает «шустрого любопытства, усмешки плутоватой, бойкой» русских ребятишек. Но главное, что бросается в глаза писателю, – это способность иностранцев извлекать пользу из таких вещей, которые русскому человеку служат предметом бескорыстного любования. Красавицам-соснам наносят увечья, чтобы добывать из них смолу. Маленьких перелетных птичек отлавливают целыми стаями, чтобы продавать в рестораны на съедение французским гурманам. Ловля пеночек и жаворонков вызывала в Шмелеве внутренний протест против таких извращенных заграничных вкусов. Негодование вылилось у него в рассказ «Птицы», в конце которого воспет простой русский мужик, бережно относящийся к Божьей твари: «Я почти знаю, что не увижу больше в родной земле по-детски ласкового, кроткого сердцем Касьяна с Красивой Мечи… не встречу мужиков перед шалашами, босых, сильных, в белых рубахах, широким крестом крестящихся на подымающееся солнце и с простодушной улыбкой, с наивно-радостными глазами прислушивающихся, подняв лицо, как высоко в светлом небе звонко играет жаворонок, чуемый только блеском…» (Шмелев И.С. Собрание сочинений. Т. 2. М.: Русская книга, 1998. С. 184).
Шмелев не мог пройти в своем творчестве мимо волновавшей каждого русского эмигранта темы – хищнического отношения иностранцев к России. Неоднократно со страниц того или иного эмигрантского печатного органа слышались упреки в адрес премьер-министра Великобритании Джеймса Макдональда, заявившего в 1924 г. о признании советского правительства, потому что это содействует английским национально-экономическим интересам. Например, передовица газеты «Дни» с долей иронии признавала право англичан заботиться о своей выгоде и тут же обличала их в вероломстве и бесчувствии к национальной трагедии русского народа: «Но… глубокое безразличие английского народа к Голгофе русской; безразличие, заставляющее Макдональда публично сомкнуть уста пред всем ужасом русского террора, наполняет наши сердца великой печалью» («600» // Дни. 1924. 24 апр. С. 1). Шмелев поддержал этот протест «Дней» в своей статье «Глаза открываются», а в очерке «Russie» в сжатой форме представил полный спектр мнений Запада о России: страх большевистской заразы, способной перекинуться на Европу; образ русского кочевника, рабски преданного царям и генералам; стремление «откусить» от богатой ресурсами земли. Он подслушал обрывки фраз из беседы француза с двумя англичанами о русских: «Чума, зараза. Азиаты. Никогда не было закона, никакой культуры. Рабы, язычники, людоеды. Царь и кнут. Пьяницы, дикие мужики, казаки. Царь всех казнил, любили всегда нагайку. Грязные животные! Понятия чести нет, нам изменили. Теперь дикари хотят разрушать культуру! несут заразу! Надо их научить культуре, надеть узду. Прекрасное поле будущего. Надо колонизовать, надо раздавить в зачатке…» (Шмелев И.С. Собрание сочинений. Т. 2. М.: Русская книга, 1998. С. 213). Это искаженное представление об отечественной истории и культуре, считал Шмелев, сложилось у иностранцев под влиянием русских социалистов.
Не сохранилось писем Карташева Шмелеву 1920-х гг., кроме единственного 1923 г.; трибуной для публичных выступлений богослова в этот период стала газета «Борьба за Россию». Помещенные в ней статьи Карташева подводили итог наблюдениям Шмелева за европейцами, за формированием в их сознании ложных мифов о России. Ни крайняя ненависть к большевикам, ни мечты об их скорейшем свержении не заставили богослова склониться к возможности иностранного вмешательства в дело освобождения Родины. «Только своими силами» – наставлял он в озаглавленной им так статье. Карташев лишь подтвердил прежде сказанное Шмелевым: «…иностранное представление об ужасах царского режима… и о благодетельности для России революции оказалось столь устойчивым, при культе революции в левых кругах вообще, что русская революция, хотя и в большевистском облике, представлялась явлением положительным, а борьба с коммунизмом рисовалась как ошибочное дело восстановления “царизма”…» (Карташев А. Только своими силами // Борьба за Россию. 1927. № 10. С. 3). Ослабление России при помощи большевиков, заключает Карташев, сулит большие выгоды другим державам, сбрасывая в прошлом мощную страну со счетов конкуренции и открывая путь к ее богатым недрам.
Общая беда и обида за Россию не вели эмиграцию к сплочению, споры и разногласия о ее будущем не утихали. Подрывал единение и церковный раскол между главой западноевропейских приходов митр. Евлогием (Георгиевским) и митр. Антонием (Храповицким), председателем Высшего церковного управления, ведавшим приходами в балканских странах, на Ближнем и Дальнем Востоке (американская церковь образовала свою автономию). Карташев подробно освещал суть этого конфликта внутри Русской Зарубежной Церкви. В его изложении причиной разногласий стали самолюбивые притязания митр. Антония на полную власть над всей русской церковной жизнью за границей и планы его светских друзей, настроенных на реставрацию монархии в России. Патриарх Тихон вначале признал необходимость существования ВЦУ, которое по приглашению патриарха Сербского обосновалось в Югославии, в городе Сремски-Карловцы. Но Антоний и его окружение втянули зарубежную церковь в политическую борьбу: члены архиерейского Собора, организованного ВЦУ в Карловцах в ноябре 1921 г., выступили за восстановление династии Романовых, в поддержку Белого движения и продолжения вооруженной борьбы с большевиками. После этого последовал указ патриарха Тихона об упразднении ВЦУ. Бывший Киевский митр. Антоний устранялся патриаршим постановлением от управления заграничной церковью и права передавались младшему по званию бывшему епископу Холмскому Евлогию, который возводился в сан митрополита. Карловатцы презрели все эти запрещения со стороны Москвы и после кончины Тихона провозгласили Антония его приемником. Митр. Евлогий (Георгиевский В.С.), митрополитогий был вынужден им подчиниться, как выражался Карташев, «по миролюбию и братскому сочувствию». Он согласился на компромисс и вошел сочленом в образованный карловатцами Синод как глава западноевропейского автономного округа. Эти автономные права постоянно нарушались сторонниками Антония, что и привело к расколу 28 января 1927 г., когда митрополит Евлогий был запрещен в священнослужении. Для Карташева власть Евлогия являлась канонически оправданной и законной, и он целиком его поддерживал. Тем более, что Евлогий основал Свято-Сергиевский богословский институт в Париже и не позволил превратить его в подобие консервативной Санкт-Петербургской духовной академии, как того требовал митр. Антоний. В этом новом учебном заведении, где были собраны преподаватели совершенно разных взглядов, царила творческая свобода, необходимая как воздух Карташеву. Он вел преподавание сразу на двух кафедрах – истории Церкви и Ветхого Завета.
У Карташева был свой идеал мудрого церковного деятеля – патриарх Тихон, память которого он свято чтил. В Тихоне он видел великого реформатора, освободившего закрепощенную Петром I Русскую Церковь из-под ига государства. Нужно отучать Церковь от давней привычки быть с государством, убеждал богослов, потому что она – «царство не от мира сего». Настоящая Церковь, по его мнению, должна следовать заветам Тихона, сторонившегося политики, соблюдавшего принцип невмешательства в светские дела. И такая Церковь еще осталась в СССР: «свободная, гонимая, мученическая, а не казенная протекционная, привязанная, по обывательской близорукости в политике, к трупу советчины» (Карташев А. Церковный вопрос // Борьба за Россию. 1927. № 41. С. 5). Подлинная Церковь, находящаяся по тюрьмам и ссылкам, противопоставлена Карташевым официальной, заключившей под руководством митр. Сергия (Страгородского) позорный союз с государством.
Каноничность и законность того или иного зарубежного митрополита не заботила Шмелева, в его компетенцию не входило разбираться в подобных вопросах. Он посещал приходы, управляемые Евлогием. По-человечески писателя больше привлекал митр. Антоний своими страстными проповедями против большевиков, своим негодованием и неравнодушием к беззакониям, творившимся в советской России. Рассказы Шмелева 1927-1932 гг. о мирянах и священстве, защищающих свою веру в СССР, не уступали по силе своего воздействия на читателя публицистике, печатавшейся в «Борьбе за Россию», на ту же тему. Карташев в своих статьях с радостью приводил факты капитуляции советской власти перед «народной церковью», т. е. перед глубокой набожностью простого русского человека. Описывал их и Шмелев, облекая в форму художественного повествования. В «Свете разума» (1927) дьякон алуштинской церкви убеждает людей в правоте православия старым дедовским способом – ледяным крещенским купанием, совершив которое, верующие выходят здоровыми, а «отступники» смертельно заболевают. Герой рассказа «Блаженные» (1927) слесарь Колючий отрекается от социалистического учения и начинает говорить по-евангельски после чуда, произошедшего с генеральским сыном. «Смешное дело» (1932) – насмешка над неумелыми стараниями безбожников доказать происхождение человека от обезьяны. Народная совесть, уцелевшая среди разлагающей душу большевистской безнравственности, дана в образе необычного праведника в рассказе «Железный дед» (1927).
Первое десятилетие беженства Шмелева было наполнено волнениями, переживаниями за судьбу России, бурной реакцией на происходящее в СССР. С наступлением 1930-х гг. он осознает до конца положение эмигранта, казавшееся ему вначале временным, и привыкает к этой неизбежности. Политика начинает мешать вызреванию его больших творческих планов. Он погружается с головой в воскрешение своей Святой Руси, создает циклы очерков – «Богомолье» и «Лето Господне», по праву вошедшие в литературную сокровищницу русского зарубежья. Его занимает теперь область духовной жизни человека, к которой он обращается в романе «Пути небесные». Только в романе «Няня из Москвы» Шмелев опять поднимает тему народа и интеллигенции, но она не имеет здесь прежней остроты, заглушена юмором и тонет в хитросплетениях фабулы.
Также и для Карташева наступает период увлеченной преподавательской и научной работы. Участие в экуменических съездах, командировки в Англию, Грецию, Америку формируют его обширный круг знакомств среди иностранцев. Уклад западного общества становится ему удобным и привычным.
Атмосферу относительного спокойствия нарушали денежные неприятности, бытовая неустроенность. Сгущались тучи на мировом политическом горизонте, набирал силу фашизм. Но события общего масштаба отодвинулись на второй план личными трагедиями. В семье Карташева произошел несчастный случай – получила серьезные ожоги его жена. В 1936 г. потерял свою супругу Шмелев, а с ней на время и смысл существования.
Происшествие осени 1937 г. всколыхнуло общий эмигрантский застой. 22 сентября был похищен советскими агентами руководитель Русского общевоинского союза – генерал Е.К. Миллер. Похищение его предшественника генерала Кутепова не вызвало такого резонанса в среде русских изгнанников, потому что не соединялось с изменой и предательством. 29 сентября русские национальные организации выпустили резолюцию, дабы еще раз напомнить Западу об источнике международного зла – большевиках: «Власть эта, восстановившая против себя огромное большинство русского народа, испугана неодолимым ростом патриотической ненависти к ней внутри России. И ей становятся опасны национальные силы русского зарубежья. Попытки перенести политическую и уголовную ответственность за похищение ген. Миллера на кого-либо другого, кроме большевиков, действовавших через купленных ими предателей, провокационны и лживы. Русские люди за рубежом сохраняют надежду на то, что на этот раз следствие по делу удастся довести до конца» (И.К. К похищению ген. Миллера // Возрождение. 1937. 1 окт. С. 1). Главному участнику совершившегося преступления генералу Н.В. Скоблину, заманившему своего сподвижника Миллера в западню, удалось скрыться, арестовали его жену – известную певицу Надежду (Стешу) Плевицкую. Тем непонятней и ужасней для эмигрантов выглядело предательство Скоблина и его жены, что они находились в тесных дружеских отношениях с семьей Миллера. Газета «Возрождение», выражавшая точку зрения «правых», соглашалась с высказыванием А.Ф. Керенского: «Продолжается мобилизация ненависти и мести ко всем, по-сталински не мыслящим. Продолжается вот уже двадцатый год здесь за рубежом, на наших глазах, шпионская провокаторская работа по разложению всех кругов эмиграции без исключения» (Амадис. Мимоходом // Возрождение. 1937. 15 окт. С. 4). Сотрудник «Возрождения» А.М. Ренников в фельетоне «Ам слав» иронизировал над всеми, кто сочувствовал Плевицкой и не верил в ее причастность к делу похищения.
Поступок Скоблина потряс Карташева и Шмелева, отразившись в их переписке, оба с отвращением назвали его грехом Иуды. Карташев процитировал из книги А.В. Амфитеатрова «Стена Плача и Стена Нерушимая» (2-е издание 1931 г.) риторический вопрос: «Почему мы такая дрянь?» Вопрос был обращен ко всем русским беженцам, «наслаждавшимся сознанием своего эмигрантского избранничества». Прежняя общественная активность, сетует Амфитеатров, сменилась пустопорожними разговорами о величии русской культуры, жалобами на свою трудовую жизнь; осталось терпение и выжидание. «Обжились. Страшно, жутко обжились», – восклицает он и затем горько шутит: «Иной раз, читая зарубежные газеты, право, в сомнение впадаешь: что, если бы сейчас, по моему хотенью, по щучьему веленью, свалились большевики и – господа эмигранты, пожалуйте в отечество! – не примет ли весьма значительная часть нашей братьи это приглашение, вместо чаемого энтузиазма, с кислой миной? Помилуйте! Только что успели дух перевести от цыганского скитанья, устроились, хорошо ли, худо ли, оседло, развели Теффины “Городки” и принялись болотить их почву…» (Амфитеатров А.В. Стена Плача и Стена Нерушимая. Мюнхен, 2013. С. 5).
Шмелева задело это напоминание Карташева о застое, он и возмутился, и подтвердил, что живет эмиграция на болоте, без почвы под ногами. Эту почву писатель обретал в творчестве. Полагал, что его книги – выполнение долга перед поруганным отечеством. Ему неприятно было читать упомянутый фельетон Ренникова, который высмеивал не только добросердечных эмигрантов, принявших близко к сердцу заключение под стражу Плевицкой, но и всю русскую интеллигенцию, «вскормленную Достоевским». Ренников вольно или невольно бросал камень в огород Шмелева, заключая свою сатиру словами о патологическом интересе русского интеллигента к грешникам: «…подавай разбойника на кресте. Душа скромной труженицы женщины мало его увлекает; но, если женщина прошла огонь, воду и медные трубы… – вот при виде такой женщины наш интеллигент обязательно вспомнит о Боге, о человеческой душе, о любвеобилии своего православного сердца» (Ренников А. Ам слав // Возрождение. 1937. 15 окт. С. 4). В начале 1937 г. вышел первый том романа Шмелева «Пути небесные» о послушнице, сбежавшей из монастыря в любовницы к нигилисту-инженеру. Роман сразу был встречен похвальной рецензией П. Пильского «Безгрешная грешница», в которой критик отметил умение писателя прозреть в греховном святое.
Итог прошедших двух десятилетий эмиграции подвела Вторая мировая война. Старшему поколению русских изгнанников казалось, что с ее началом наступает новый виток борьбы за Отечество. С Гитлером связывали надежды на свержение кровавого режима большевиков. Карташев приветствовал нападение Германии на СССР, но чувство ненависти к «Совдепии» не застилало до конца его религиозного взгляда на происходящее. Он писал Шмелеву о Страшном Суде над эмиграцией, т. е. о необходимости перетряхнуть свой идейный гардероб.
Шмелев всегда был человеком с беспокойной совестью. Хотя он и сотрудничал с профашистской газетой «Парижский вестник», распространявшейся на оккупированной немцами территории Франции, но не разделял ее настроений. Он был шокирован намерением редакции газеты перепечатать давнюю, 1922 г. издания, брошюру А. Салтыкова «Две России», с которой сам ознакомился только в 1942 г. Салтыков открывал «страшную тайну нашего национального характера», самоуверенно решив, что нашел причину русской революции. Не большевики, по его убеждению, разорили Россию, это дело совершил народ: Святая Русь вдруг скатилась до богохульства и беснования. Русская душа неустойчива, двойственна, способна как взлететь к небесам, так и ниспасть до самой черной мерзости, потому что под ней нет культурного фундамента, на котором выросла Европа. Салтыков ставит знак равенства между Россией и Скифией, привыкшей к хаосу и анархии. Русский народ, продолжает он, предоставленный сам себе, способен лишь на разрушение, а в хороших руках переворачивает горы. Спасение России следует искать, по Салтыкову, в отправной точке ее истории – в призывании варягов: «…за Варягом, как это было уже столько раз в ее истории, пойдет охотно и дружно вся Россия» (Салтыков А. Две России. Мюнхен, 1922. С. 32). Салтыков настаивал на развитии России по европейскому образцу и под руководством европейцев.
Брошюра «Две России» побудила Шмелева вновь обратиться к старому спору начала 1920-х гг. о причинах русской революции в рассказе «Почему так случилось?» Он расставляет полюса иначе, чем Салтыков. У Шмелева не две России, а две веры: интеллигента и мужика. Интеллигент эстетствовал, снимал сливки культуры по музеям и театрам и одновременно разлагал народ, внушая свои безбожные теории, принесенные как раз из Европы. Шмелев рисует мужика далеким от святости, пьяненьким и грязненьким, идущим из полпивной в храм на всенощную. И несмотря на все несовершенства, шмелевский мужик умеет «возноситься» к Богу под пение хоров из Большого театра, умеет оценить красоту такого пения и очиститься в этом своем эстетически-религиозном чувстве. Вина в случившейся революции возложена Шмелевым целиком на интеллигента, отнявшего у мужика его детскую веру. Суд над интеллигенцией в рассказе учиняет дьявол, который является по сюжету к условному профессору-эмигранту и «помогает» ему разобраться в волнующем его русском вопросе.
Рассказ был напечатан в «Парижском вестнике» 22 апреля 1944 г., а 9 августа Шмелева посетил «некто в гороховом», по-видимому, какой-то нацистский агент, воспринятый им как воплощение дьявола. Некоторые детали этой встречи он изложил в письме В.Ф. Зеелеру от 17 октября 1944 г.: «Молитесь Богу, служите молебен, что спас Он Вас от страшного. Теперь мне все поведение сего гуся так определенно ясно: он хотел выведать Ваш адрес, – парижский-то он знал, был на Вашей улице два раза. По его роже было видно, как ему досадно. Но это глупый человек – явно, немец! Был у меня Ваш адрес, на бланке отрывном от mandat, да я – Бог внушил! – не сказал, понятно. И боялся: ну-ка он примется рыться? Но это надо подробно изобразить. Как раз это были дни последних спазмов, – аресты, повторные… Тогда и Аитова арестовали… и – пропал след его. Дурака, что был у меня, выдал его акцент! Рассказу – на ¼ часа!.. Господь помог: я был совершенно спокоен (!) и… все так прошло натурально. Уж после, вечером, я понял все… и похолодел. Понял, что ко мне приходил… как бы дьявол. Были и комические подробности. Как я за Вас дрожал!..» (Bakhmeteff Archive. Manuscript Collection. Zeeler).
Шмелев уже не испытывал иллюзий относительно спасения России от коммунизма через Варяга, будь то немец, француз или кто-то другой. Иностранцы оставались для него людьми, не понимающими его народ. И ему приходилось не раз убеждаться в фатальной неистребимости западных мифов о России, в суеверных опасениях ее могущества. В 1948 г. он прочел статью Франсуа Мориака «Письма о России», опубликованную в «Фигаро». Французский писатель воскрешал в памяти соотечественников книгу столетней давности маркиза де Кюстина, посетившего Россию в 1839 г. Ничего не изменилось с тех пор в этой стране, по убеждению Мориака: «…мы вынуждены полагать, что Октябрьская революция не затронула глубины вещей и что переворот, который кажется нам таким грандиозным, на самом деле может быть поверхностным» (Mauriac F. Lettres de Russie // Le Figaro. 1948. 8 Janvier. P. 1). Мориак трактует русскую историю как череду сменяющихся тиранов, державших народ в состоянии темных и бескультурных рабов: «Господин, зовут ли его Николаем I или Сталиным, всегда знает, что этот русский народ, самый привычный к страданиям из всех народов мира, целиком сохранит в себе это свойство все переносить, сохранит свою производительную способность, только если останется таким же чуждым цивилизованному Западу, как марсиане» (там же). Россия ассоциировалась у французского писателя с дикой ордой, грозящей Европе своим нашествием. В его статье высказаны опасения политикой Сталина, уже «захватившего две трети Европы» и почти осуществившего «мечту Романовых».
Отпор Мориаку от «правой» части русской эмиграции был дан в статье В.А. Лазаревского «“Русский салат” по рецепту Франсуа Мориака», где перечислены политические достижения русских царей, охранявших Европу от военных конфликтов, защищавших ее народы от завоеваний, внесших свой важный вклад в мировое законодательство. Лазаревский указал в свою очередь на порочность буржуазной культуры Запада с ее антирелигиозными принципами. Ему совершенно очевидно, что Мориак судит о России как наследник «отказавшейся от христианства буржуазии».
Шмелева не удовлетворил этот ответ, в письме другу-богослову от 21 января 1948 г. он назвал его «куцым» и добавил, что достойно ответить на клевету Мориака смогли бы лишь два человека в эмиграции – Карташев и И.А. Ильин. Действительно, Карташев взял на себя труд отпарировать выпады известного француза в статье «Непримиримость» (1949). Статья посвящена тезису Карташева, выдвинутому им в 1927 г., – «только своими силами», означающему, что Россия спасется сама, без посредничества Запада. Обращаясь к своим недавним заблуждениям, он осуждал себя за слепоту, за то, что не разглядел опасности фашизма для России: «Яркой, прямо гротеск-иллюстрацией нравственной низменности и по-звериному куцего эгоизма может служить немецкая попытка, под флагом сокрушения коммунизма, так, между прочим, стереть с лица земли Россию и русский народ» (Карташев А. Непримиримость // Возрождение. 1949. № 6. С. 8). Бороться с «чудовищем насилия», с большевиками, открыл для себя Карташев, позволительно стране с высокими нравственными принципами. Но такой страны не существует. Запад, как питомец Рима и его ценностей, искони питает вражду к России, наследнице Православного Востока. Карташев обнажает тайные механизмы европейской политики, раскрывает ее карты в большой мировой игре: «Россия для внерелигиозной новой Европы – страна азиатской тьмы и дикости. Она символ всяческой реакции. В интересах всего человечества – разбить эту мрачную тюрьму народов, разделить на мелкие национальные величины и заставить их послушно служить великим знаменоносцам единственно-нормативной, универсальной культуры Запада» (там же. С. 9). Все разговоры европейцев об очищении России через революцию и превращении ее тем самым в демократическое государство проистекают, согласно Карташеву, из корыстных побуждений: ослабить экономического конкурента и воспользоваться его природными запасами.
Карташев обращался в своей статье к русской эмиграции, призывая ее хранить верность своим чистым идеалам и высоким принципам, не предавать своей России, оставить «большевизанство» в преддверии атомной катастрофы, которая, по его ощущению, нависла над миром. Начатый Шмелевым в мае 1948 г. и так и не завершенный роман «Записки неписателя» тоже представлял собой урок современникам и наказ будущим поколениям воскрешать в себе лучшие национальные качества и «держаться за ризу Господню».
Первый раздел данного издания включает 117 писем И.С. Шмелева А.В. Карташеву и его жене и 53 письма Карташева Шмелеву. При публикации соблюдены нормы современной орфографии и пунктуации только в тех случаях, когда это не противоречит своеобразию стиля корреспондентов. Сохранены особенности написания слов и расстановка знаков препинания. Перед читателем предстает живой непосредственный язык общения двух русских эмигрантов. Раскрыты сокращения окончаний; разрядка заменена курсивом.
Во второй раздел помещены 23 письма митрополита Анастасия (Грибановского), главы Русской зарубежной церкви, адресованные Шмелеву. Принципы их публикации те же, что и в первом разделе.
Примечания (за исключением сносок внизу страницы) вынесены в конец книги, для каждого из разделов сделана отдельная нумерация. В указателе имен даны ссылки как на страницы писем, так и на страницы примечаний и статей.
Людмила Суровова
И.С. Шмелев и А.В. Карташев. Переписка
29/16 мая 1923 г.
Париж
Глубокоуважаемый и дорогой Антон Владимирович,
Очень рад общению с Вами, и непременно будем у Вас в среду, 30/17 мая, как Вы назначили – в 7¼ вечера. И так перед отъездом хотел повидать Вас. Книги прочитал, кроме «Россия и латинство»1. Национальный вопрос и в общей трактовке, и в особливой, русской, меня очень интересует. Попрошу Ваших указаний. Был у меня Александр Иванович Куприн вчера и высказывал сильное желание Вас видеть, – просил меня, если можно, напомнить Вам, как он не раз звал Вас к себе. А я совсем забыл о вечере-докладе Гуревича и дал ему слово быть у него вечером четверга.
Наш душевный привет Павле Полиевктовне* и Вам. Ваш Ив. Шмелев.
28 мая–10. VI. 1923 г. Воскресенье. 10 утра. Солнце. Тишь. Звонят на церквушке, как у нас в Ивановке какой…
Grasse (Alpes-Maritimes)
Глубокоуважаемый и дорогой Антон Владимирович,
Привет Вам и Павле Полиевктовне от нас с женой! Решил писать и уже приступил к статье «Гной революции»2. Может быть, и другое «имя» будет. Хочу писать, но выйдет ли у меня путное – сейчас поручиться не могу. Определится через неделю. И тогда, немедленно, или статью пришлю, или уведомление: sans moi**! Основная мысль: революция – всегда дурная болезнь, и всегда, как болезнь, ее производят микробы, разлагающие живую ткань. Нашу же «революцию» делали микробы «сугубо-гнилостные». И финал их работы – гангрена большевизма. Возможно ли объединяться с микробой и бациллой? Принимать их работу? Возможны ли оздоровляющие влияния отдельных «белых телец» (вроде рецепта Пешеходова или Пешехонова3)? Или необходимо предоставить Телу – России неведомыми врачам путями «съесть» микробу. О «морали» микроб. О причинах появления микроб, о «качествах» микроб. Да всего не скажешь. Но если выйдет не крепко, не «читабельно» – не пошлю. Мое горячее желание сказать «теплое» слово вообще о Русской революции и ее углублениях. Это моя исповедь и отповедь человека не политика, а наблюдателя живой жизни. Статья не эрудита и не к эрудитам. А к массе.
Здесь прекрасно. Мало: здесь божески прекрасно. Были с Иваном Алексеевичем в Антибах, Каннах, в Монзе, – интересны наблюдения над бывшими террористами, оседающими на земле тучной и работающими у нас казаками. Интересен и поучителен трансформизм от… «ярой политики» к… монархизму! Чертовски все интересно. Здесь можно запойно пить и еще более запойно писать. Летают «огненные насекомые» вечерами. Пальмы – слоновьи ноги, не обхватишь. Черешни – сахар, вино (за 1 фр. литр) – из пиров Одиссеи. Воистину – благословенная сторона.
Городок – тихость, какой-нибудь Звенигород под провансалем. Моря провансальского масла, духов, цветов. Мушмола на деревьях и под деревьями. Апельсины, гелиотропы. Пуки фиников в пальмах – рыжий горох. И если бы у меня было тысяч 15 фр. – я сел бы на землю и писать бросил. Завел бы кур и давил бы оливки, виноград и иногда писал бы «письма» друзьям и врагам. Вот. Здесь Крым, но трижды благословенный. Почта, трамваи, фюникелеры и т. п. Иван Алексеевич и Вера Николаевна* удивительно милы.
Еще раз самый сердечный привет. Ваш Ив. Шмелев.
Villa Mont Fleury, Grasse (Alpes-Maritimes)
19.VI. / 6.VI. 1923 г.
Дорогой и глубокоуважаемый Антон Владимирович,
Посылаю Вам статью-картину «Убийство». Она меня помучила и позадержала. Думал, было, дать и VI главу, но все колебался, – и был очень рад, что колебания мои укрепил Иван Алексеевич, и я эту главу отбросил. Суть и без нее ясна, и «дело» уже было сделано, ибо большевики работали орудием, достаточно зарисованным в I–V главах. Сгущенность и ударность только бы пострадали от VI главы. Быть может, эта моя статья-опыт и не отвечает непосредственно заданиям сборника, но косвенно, быть может, она не лишняя. Не взыщите, не мастер я писать статьи от «разума». Что-то говорит мне, что и этот «опыт от сердца» даст что-нибудь кое-кому из читателей.
Погода и у нас вдруг обанкротилась. Вчера на утренней заре пошло греметь-греметь и посыпало таким градом, что стало бело кругом и холодно остро. Почти весь день поливало дождем. Но сегодня солнце, почти тепло, и поет соловей, не побитый градом, спасибо.
Здесь очень мило, здесь прямо чудесно. И, думаю, здесь буду иметь силы работать. Недавно получил утешение – в Испании мой «Человек из ресторана» уже 2-м изданием вышел, имеет сильный успех4, и мне даже испанцы перевели 125 пезет – 290 фр.! и покупают «Солнце мертвых» и просит их «grand écrivain»* J. Ortega5 рассказ для своего revue** – Revista Orienta6. Это, конечно, подбодряет.
Но… настолько у меня мало жизненной приклейки, что на каждый новый день я смотрю лишь как на случайный подарок, который принимаю и… благодарю. Мог бы и обойтись без подарка. Да.
Ну, крепко жму Вашу руку. Привет наш Павле Полиевктов-не. Душевно Ваш Ив. Шмелев.
Если будете печатать, прошу обязательно корректуру.
2 июля 1923 г.
Villa Mont Fleury Grasse (Alpes-Maritimes)
Очень прошу о корректуре в 2-х экз. (с оригиналом)
Многоуважаемая Павла Полиевктовна,
Благодарю Вас, перевод получил – вот расписка. Неужели Антон Владимирович так и будет все время кипеть в Париже? Ему положительно нужно, как и Вам, взять хорhошую порцию воздуха и солнца. Часы и то «завода» требуют. А я чем больше думаю и узнаю людей, тем сильнее верю и понимаю, что настоящих и необходимых, больших людей у России очень мало, – людей чудесной российской плоти-крови. Знаете, как мне не достает чудодейственного воздуха, – при чудесном воздухе Грасса? «Воздуха», как ценнейшей закваски?! Как-то с часок провел я с Антоном Владимировичем и почуял столько родственных граней, душевных и духовных. И столько всяких планов и стремлений наметилось! И вот теперь разжигаю мысль: нам, хотя бы группе русских писателей, необходимо сделать попытку, сообща с виднейшими представителями русской мысли и русского чувства – во всех сферах жизни – выступить с манифестом-оповещением Европы, во что мы верим, что проклинаем, что знаем (а мы знаем!), от чего оберегаем-предостерегаем и почему. Это оповещение должно найти пути к представителям литературы, науки, мысли, политики – европейским. «Толцыте – и отверзется»7! Но это (пусть пробы бывали!) надо сделать сильно, просто и властно. Это должно быть как бы раскрытие сущности вселенской. Той Правды, которую мы знаем и несем – и, верю, пронесем через все зацепы и огнища, и болотища, и принесем! Поговорил бы я с Антоном Владимировичем! Привет ему и Вам горячий от нас. Душевно Ваш Ив. Шмелев.
24 августа–11 русск. 23 г.
Грасс, Мон-Флери. 9 утра.
Поздравляю Вас, дорогой Антон Владимирович, и дорогую Павлу Полиевктовну с внедрением в Котʹа Дʹазура, с солнцем, морем, соснами, с прекрасными снами и (!) славным намерением подняться в наш Грасс, во владения маркиза Фортинбраса. Предупреждаю: когда вступите через врата Мон-Флери, на Вас пахнет резиденцией Папы Рымского, проживавшего здесь, по моим археолого-церковно-историческим исследованиям, именно в нашем парке. Я покажу Вам чудесный грот, где папа Климент XXXXXVII (есть у меня сомнение – не Бонифаций ли XXV?, ибо через дорогу живет прокурор республики, месье Бонифаций – должно быть, потомок!) воздыхал и икал после трапезы, возлежа на каменной скамье и придумывая очередную каверзу против Генриха 127 и против, вообще, всего земного. Покажу пальмы, посаженные руками Святейшего Отца с помощью г. кардинала Рампопопополли, пившего горькую, – наличность подвала не оставляет сомнения, равно как и громадный склад пустых бутылок. Бассейн, где плавал папа, т. е. не папа, а мама… запутался, – а кардинал… и не кардинал… хотя может быть все вместе… – есть странные черты в камне, по которым я прочитал эту странную интимную историю… Затем покажу железный стержень на скале. Есть надежда установить, что это остатки древнего сооружения, от времен Пипина Короткого. Есть кедры ливанские, оливки Гай-Юлии-Цезаря (найден даже его ремень), есть Крол Васька, остаток славных кроличьих садков кардинала Лангусты, есть песья глава, высунувшаяся из земли. Раскопанное мною предание передает страшную судьбу бульдога, принадлежавшего одному французскому королю, забравшегося в парк Его Святейшества и напугавшего своим зверским видом Св. Отца, когда он, после принятия трапезы, состоявшей (меню за 15 №№ утрачено!) из (?) вздремнул на молитве в пещерке. Долго рассказывать. Одним словом, бульдог остолбенел, и с той поры его дерзкая морда торчит из земли. Изыскания продолжаются. Есть ров львиный, где папа держал своих врагов… Есть… Очень много есть. Приезжайте, исследуйте, и мы сообща восстановим печальную, но прекраснейшую страницу прошлого, как пишут в тетюшских Ведомостях. Когда Вы увидите голубую плевательницу, служившую предкам для облегчения желудка, когда Вы узрите голубую чашу, в которой подносилось розовое аликанте после обеда, Вы скажете: что за благодать. Есть еще камень созерцательный, откуда созерцать и т. д. Вы скажете, что лучшего места не найти под солнцем, и поставите себе кущу. Это не Дон-жуан Лапэн, где Вы живете (какое странное название! неужели Донжуан?!), а просто – Монфлери, что в вольном переводе значит Гора Процветания! Отсюда пошли маркизы Монфлери, те самые, которые пили только «Монлери» – таинственное вино, подносимое королям на Мадагаскаре – в продаже у месье Форо, нашего поставщика, не имеется, но один здешний старик месье Франсуа, наш садовник (между нами, наш мосье Франсуа, ни туа, ни суа…), помнит вкус оного вина… Итак… ждем. Привет Павле Полиевктовне. Жму руку. Ваш сердечно Иван Шмелев.
Когда сидишь на заре на «камне созерцания» – ангелы тихо летают в парке и трясут кедровые шишки.
6/19. IX. 1923.
Juan-les-Pins (Alpes-Maritimes)8.
Дорогой Иван Сергеевич!
Прошли красные деньки. Был дождь, я умудрился на три дня схватить большущий насморк. Пока прекратил купанье, произошел перелом: подули ветры и настала неотвратимая осень. Нельзя думать ни о купаньи, ни о жженьи. Я, как прогулявший школьник, с испугом сообразил, сколько надо написать и сделать, и со страху написал до 100 писем. Но конца им, а особенно ненаписанным статьям, не видно. Не собрались ни в одну экскурсию: не видели ни Ниццы, ни Монако, ни Ментоны9. Хочется в последние дни напречься и хоть раз выехать к востоку. А тут на дороге еще взваленное на меня благочинническое собрание в Ницце: мизерно на душе от него, от соприкосновения со сгнившими и испепелившимися людьми.
Тут перехожу к ноющей днем и ночью в сердце трагедии: воскреснет ли, и в ком, в каких людях Россия? Старые – импо-тентны, и безвольны, и шкурны, и без живого огня в душе, и безнадежно невежественны в законах социальных и политических процессов. Нельзя совать даже носа в восстановление России, будучи невежественнее, не говорю шута горохового – Чернова10, а даже плюгавенького жиденка из Агитпросвета11. Но так как никто из левых и кадетствующих (теоретически единственно кое-что смыслящих в современности) не умеет и не хочет бороться с большевиками, то правые идиоты и дикари, в молодой своей массе, остаются все-таки единственным резервом для стихийной, вооруженной чистки русской земли от бесовщины коммунизма. Тут их роль кончается, и надо искать каких-то других, способных к созиданию сил, и более умных, и более нравственных. Где? Левые и либеральные элементы в какой-то мере и в каком-то употреблении пригодятся в дело, но творцами падшей нации и конченого государства быть не могут. Они оскопили себя отречением от национальной физиологии, ослепли от рационализма в жизни и в политике. Государство – не есть юрисконсультом просмотренное и конституированное общество на паях. Не адвокатского ума оно дело, а союз семьи и крови. Не иссяк колодец кровной любви – есть племя, есть нация, есть государство. Адвокатские права и формы – дело наживное. Нет союза крови – нé к чему приставить ни конституции, ни федерации, ни прав меньшинств и проч. И голос крови уже вызывает к жизни к небу восходящую цепь духовных восторгов, проясняющихся народу в виде сладчайших и священнейших видений национального града, мелькнувшего в прошлом, сокрытого где-то и грядущего обязательно, неизбежно, насущно, наверно, ибо жить без этого народу бессмысленно. И этот идеал у народа единый, неотменяемый, непоправимый, если хотите, фатальный, как неотменяема его история, как единственна индивидуальная жизнь человека с неповторимой сердцевиной ее души и тоном ее любви. Провиденциальной православной купели св. Владимира, крестьянской = христианской, святой Руси, Третьего Рима, Китежа Града, «Русского (всеславянского) моря», русской всечеловечности во Христе не подменит никакой адвокат, никакой масон, никакой передовой объевропеившийся инородец никакими революциями, никаким «просветительством» народа. Ибо пустые, бескровные, чернильные души сильны только разрушить, напортить в детской душе масс, но вывести их из полученного таким путем состояния Каина и Хама они не в силах. Может быть, они еще сумеют довести их, по своему прообразу, до уровня Хама шлифованного, цивилизованного, но и только. Дальше живой человек и живая нация кончаются. И вот вопрос: окончательно ли развращен наш народ, окончательно ли он революционерами «американизирован» духовно и, значит, России больше не будет, а так, останется на время какая-то федеративная стерва на съедение ловким, зоологически сохранившимся нациям? Или весь этот революционный разврат есть в глубине ложь, наваждение, гниль на поверхности, а не в сердцевине, и лжи будет конец, и скорый конец: попрет на выздоровление, и попрет здорово, все ускоряясь до нового стихийного вихря? Разве в гнусной, как все, исходящее от Горького, брошюрке его о русском крестьянстве нет уже подземных толчков грозящего взрыва изнасилованной интеллигентами народной души12? Разве в вере Достоевского, потрясающего нас провидчеством, не предуказана неизбежность этого вихревого восстановления благой народной стихии? Разве в начавшемся сейчас в России народном движении около эпидемически «обновляющихся» икон и куполов не пробиваются первые струйки грядущего извержения русского вулкана? Да, близ есть, при дверех…
Как мелки, лукавы и смехотворно близоруки выкладки всех наших умничающих приспособленцев к революции! Как глупо и поздно, накануне воскресения из гроба нашей родной, русской России, т.е. души народной, торопиться сговариваться с ее убийцами и заключать с ними договор на изменническое сожительство с Россией подложной13! Нет прямой эволюционной линии от этой чекистской России к России завтрашнего дня. Нить преемства идет под спудом и выйдет наружу в буре землетрясения, и новая Россия явится с прежней душой, не со старой, но с «обновленной», как «обновляются» ее предтечи – культовые святыни. И не грешная эмиграция в своей анемической жизни родит эту Божию грозу очищения, и не тамошние в невольном блуде сотрудничества с Хамом пребывающие и ханжащие, наподобие Пешехонова, интеллигенты, а спасшийся от смерти второй, духовной, своей не-цивилизованностью и своим утробным житием, простой русский люд. «Где премудрый, где книжник, где совопросник века сего? Не избрал ли Бог немудрых, да премудрых посрамить, и немощных и уничиженных мира, да посрамить крепких?»… (1 Послание к коринфянам). Наша история уперлась в чудо. Рациональных выходов нет. Вы посмотрите, как Айхенвальд в недавнем фельетоне «Пережить Россию», начав так сильно, кончил таким бесславным писком14. А потому, что не предполагает выхода чрезвычайного. Без чуда Россия умерла навеки. И самая внезапная смерть ее, вся эта оглушающая контузия сатанинской похабщины – разве же это обыкновенно, разве это не явное, каждый день гнетущее нас чудо антихристово? Почему же это мы с чудом антихристовым миримся, ему верим (верим, что Бронштейн15 пирует в Кремле над выкопанными мощами святителей Петра, Алексия, Ионы, Филиппа…), а Божию чуду, которое ведь гораздо же естественнее, разумнее, здравее, трезвее (чтобы кремлевские соборы сияли, чтобы к преподобному Сергию шли мирные паломники, чтобы Красная площадь была очищена от закопанной в нее красной нечисти…), простому, нормальному, естественному, как ясное утро после кошмарной ночи, Божию чуду не верим? Нет, пора опомниться, перекреститься и прогнать дурман наваждения. Да еще один подвиг: перестать соединять в воображении восстановление России с горделивой мыслью о «моем», каждом из нас, деятельном участии в этом. Экая, подумаешь, важность, через меня или без меня воскреснет Россия! Если бы не было этой гордыни, то не было бы и особенно беспокойных интеллигентских гаданий: что я должен идти туда жить с народом, или я должен творить для народа здесь? Надо не обманываться. Наши вопросы маленькие, лично биографические, мы муха на рогах быка. Воскресающий народ (его совесть) еще простит тем интеллигентам, кто там в порабощении блудодействует, но уже никак не пощадит псов, возвращающихся на свою блевотину. И, конечно, тосковавших и хиревших здесь примет на празднике своего воскресения с миром, как гостей подходящих, сохранивших в чистоте брачную одежду.
Мои выводы: 1) В воскресение России надо верить так же просто, как мы верим в смысл своей жизни. Разделять этого нельзя, бессмысленно. Разуверившись в России, пора кончать и с собой, если только не уходишь вообще из истории в подлинную Фиваиду16.
2) Чудо гибели России (как и чудо Голгофы) есть уже залог и неизбежного чуда ее Воскресения.
3) Оно близко, будет на наших глазах.
4) Скитание наше может быть уныло и бесславно для нашего честолюбия, но через его подвиг, пронесенный непреткновенно, мы вкусим радость светлого праздника.
Вот часть того национального катехизиса, о котором мы с Вами начали говорить.
Привет Вам и Ольге Александровне от нас обоих. Сердечно Ваш А. Карташев
PS: Прилагаю еще брошюру Антония17. Как всегда, у него есть что-нибудь умное.
18 сент./1 окт. 1923 г.
Грасс
Дорогой Антон Владимирович,
Ваше дорогое для меня письмо – голос души Вашей, такой мне близкой, – меня потрясло и обрадовало – не сказать как! Я читал и перечитывал его, и мне казалось, что слова Ваши, облечение плотью живой и страдающей души Вашей, – мое это, носимое, тяжкое и… светлое – вдалеке, что должно разгореться в Великий Огонь вновь и вновь рождающейся жизни России-Родины. О, какой же Вы чудесный Огнь! О, как Вы можете опалять и жечь! Антон Владимирович, дорогой! Вы – от народа. Я – от народа, тоже. Одного теста с ним, одной персти, одного солнца, одной мякины и одного и того же духа, навыков предков, связанные общей пуповиной с недрами всей жизни русской, с духовными и плотскими, мы – лик народа, мы – его выражение! Мы, лишь благодаря окультуриванию, обдумыванию, образованию, – лишь более яркое лицо его. Развитое, дополненное, построенное более сложно и тонко. Но основа, закваска, и самый матерьял – в нас общий с народом. Мы – та тростинка на могилке, которая вдруг запела. Сказочная тростинка. Выросла из могилки! Ведь это голос братца – и я всем сердцем верую, что Ваш голос – это голос зарезанного братца родной сказки! Так бы вот сказал-крикнул весь истинный народ русский! Если бы умел сказать, если бы все, все думы и чувства матери его, родины, были бы ему ведомы. Вот почему Ваше письмо, задушевное, что горит в душе Вашей, меня и потрясло, и обрадовало. Да, мы знали бы, как надо теперь делать, если бы была у нас Россия! И я нашел бы в себе подспудные силы! Я надел бы стихарь, я пошел бы на амвоны и площадя, и я нашел бы огненное слово! Ибо я знаю, чую народ и его глубокое! Я уж и пробовал! Да, в страшные дни своей поездки в Сибирь, когда в Глазове захватил пятитысячную толпу своею слезою-словом! Но то на миг было. За моими словами пришли потом, назавтра другие слова и дела… Надо найти, получить Россию! Я верю в ее Воскресение, но надо его дождаться, его ускорить.
Я надеюсь в ближайшие дни быть в Париже, совсем. Мы 4-го октября возвращаемся. Поэтому я и не отвечаю Вам полно на письмо. Во мне нет силы сейчас: только что я закончил «Солнце мертвых», и теперь разбит, изнурен. Весь – в бездумье и слабости. Во-семь листов я написал за эти месяцы Грасса, помимо прочего! И мучительнейших листов. Я как тряпка теперь, и не найду слов-мыслей. А Ваше письмо настолько важно, что я бы совершил святотатство, если бы теперь, наскоро, взялся отвечать на него. Но я все же пишу Вам, не в силах умолчать.
Позвольте обнять Вас братски! Сказать Вам: о, не покладайте рук! Лучше в борьбе истаять, чем в словоплюйстве общем, эмигрантском, исскучать, изжиться, вылинять! Одно бы хотел сказать сейчас. Молодежь не только орудие для чистки и завоевания: её необходимо привить! Она же несет в себе будущих делателей духа и лика России. Она может в одной руке держать меч, в другой Символ Веры!
Оля посылает Вам и Павле Полиевктовне свой задушевный привет. Мой низкий поклон Вашей жене. Да будет (оно и есть!) она всегда Вашей крепкой поддержкой! Это чудное сочетание. Огонь и вихрь! Да! Крепко Ваш. Обнимаю. Ваш Ив. Шмелев.
10 мая 1924 г.
Villa Chalet Bernard Hossegor-Soorts (Landes)
Вы и представить себе не сможете, до чего здесь необычайно! Дорогой Антон Владимирович! Дорогая Павла Полуэктов-на! Ну, Океан – и в Калужской губернии18. Сосновые леса, смола горючая льет с лесов, а этих лесов на песках – сотни Klm. И тишина-а-а-а-а… А Оке-а-а-а-а-а-а-а-а-а-н – и Солнце тонет в нем. Дважды в день он посещает нас. Идет-струится по пескам, заполоняет озеро песку – и озеро – в лесах, под солнцем, наше, родное, калужское, а в озере – не головастики, а крабы, не улитки, а устрицы и мули, и чорт там знает что. Нам свалили – именно свалили – гору сосновых швырковых дров19. Свалили – нас не было – уехали. Кто? Океан? Звенят в лесах пилы. Опилки, блеск сосновых досок, кукушки, петухи в лесах поют, – Калуга! И вдруг – bonjour, Monsieur*! Трубит рожок, – это зеленщица, boucher, boulanger**… На авто, на ослике, на велосипеде. Почта… В 3 метрах вокзальчик – полустанок наш, где за всех одна madame. Здесь чудеса. Мы пропахли сосной, солью. Океан, когда его увидел, – до него через лес минут 20 (но он приходил к нашим ногам, в лагуну) – сказал мне: ты здесь останешься! Может быть, я послушаюсь. Он кудрями играет на песках седыми… Пески – на кулебяки бери, не сей. Крабы – я их сотню могу палкой вынуть. Когда прилив – они плывут, несет их – бери. Устрицы и мули возят ящиками на осликах. Бабы, в штанах, их собирают, по колено в море. У нас chalet* – 4 комнаты за 350 fr. за 2 месяца – май-июнь. За июль столько же, – 350. На август и сентябрь сдано. Но мы будем искать. Господи, здесь людей не видно! Никто не позвонится, не оторвет, не плюнет в душу. Я задергался в Paris. А сколько солнца! Здесь – очарование. Сами хозяйствуем, пилю дровишки, ходили вчера вдоль прилива, в лесах – 4 версты – и все леса, и нет конца им. Чудеса.
Пишите! Почта каждый день. Привозит facteur** на велосипеде – он же и Chef бюро. Вокзальчик в 3 метрах, в лесах. Спится. Встаю в 6 часов утра, ложусь в 10. Океан приходит и уходит. Ваши Ольга и Ив. Шмелевы.
28 мая 1924 г.
Soorts-Hossegor (Landes)
Дорогой Антон Владимирович, Большое спасибо за присылки, – читаю. Получаю исправно: «Руль», «Дни», «Русскую газету», «Последние новости», «Сегодня»20. Вот «Звено»21 шлют уже с год на Grasse, иногда пересылают. Читал и «стих». Послал в «Русскую газету» статью «Глаза открываются»22. Иногда зудит – черкнуть. Но весь отдался своей работе, и написал 3 рассказа – в ударе. «Два Ивана» – послал «Рулю», пойдет, должно быть, с воскресенья, в 2-3 №№ – большой23. «Два Ивана», как увидите – учитель и… дрогаль – интеллигенция и народ. Ну, а там пусть лают. Я вижу, как иные меня теперь принимают. Но глаза и душу ломать, и тем более в творчестве – не могу. 2-й рассказ еще не переписал, но написал – «Старуха»24. Он заменит 1000 статей о голоде, народе и проч.25 Он меня смутил. Но я его взял смаху. И 3-й «Сила»26. Должно быть, придется смягчить, а то… лезет он, понимаете. Силач-борец Куды-Прё «сдал» перед им, махоньким и вострым, каким-то пом-зам-комдарма! Рассказ веселый. Дело происходит перед смертью, в товарном вагоне. Итак, как видите, я работаю. Работаю над «Солдатом» – моей данью былому офицерству-рыцарству27. Здесь «выжимка». Отрывок из него дал «Инвалиду»28 – газете-однодневке. Когда же она выходит?
За Национальный комитет радуюсь. Позиция «Русской газеты» ставит меня в тупик. Собственно, куда идут, чего хотят? Что-то неопределенно-неопределимое. Я даю, ибо иногда нужно высморкаться, душу отчистить. А мне прямой убыток: судите сами: «Руль» мне за рассказы платит 1 fr. за строчку. А «Русской газете» даю за 150 fr. статью. А время то же. Рассказы я смогу бойчей. «Старуху» – 950 строк написал в 2 дня – и лётом. И думаю – ничего себе. Крепко обнимаю Вас, дорогой, душевный человек. А хорошо работать – с кукушками. Мы бродим, езжу на вело – дали знакомые новые. Меня немного знают французы здесь – по Mercure за Le Soleil des Morts29. В Англии скоро пойдет30. Привет и низкий поклон Павле Полиевктовне. И от Оли – Вам и Павле Полиевктовне. Не забывайте. Если бы Вас сюда! Ваш сердцем Ив. Шмелев.
[На полях:] Тут – Ка-луга! Таруса!
7 июля 1924 г.
Soorts-Hossegor (Landes)
Дорогой Антон Владимирович,
Не посетуйте, что побеспокою Вас маленькой просьбишкой: черкните два слова открыткой – адрес и имя-отчество (или – как обращаться?) протоиерея Мальцова или… – я забыл – у кого имеется книга (сколько томов?) – «Наука о человеке» – Виктора Ивановича Несмелова31. Попробую обратиться к нему с просьбой о разрешении прочесть. Все расходы оплачу. Благодарю за №№ «Руля». Слышал от племянницы, как Вы измотаны. На воздух! Себя пощадите. Ах, если бы повидаться, поговорить на досуге. Куда Вы? Здесь все на сезон занято. Буду рад получить от Вас строчку. Хотя, если бы надумали в Capbreton, я поискал бы. Для Михаила Владимировича Бернацкого ничего не могу найти. Наш дружеский привет Павле Полиевктовне и Вам. Душевно Ваш Ив. Шмелев.
[Июль–август 1924] [Открытка с видом Оссегора]
Все сосны, кругом – сосны. Мы живем рядом, вправо. Прилив. Вдали – Черный мост, по нем ходим к океану через лес – 15 минут. Привезен Ивун, и я его вожу на велосипеде. Здесь бы Вам отдохнуть! Привет, Ив. Шмелев.
5 сент. 1924 г.
Villa «A lʹalouette». Capbreton s/mer (Landes)
Дорогой Антон Владимирович, Газету получил, спасибо. Отчасти замечание правильное – размаху в литературе нет. Ваше слово сбылось: Mr. Savinkov – прохвост и, кто знает, не давно ли уже32? Не удивляюсь: духовная sarcoma ширится. Будьте добры, дайте мне адрес «Русской мысли», П. Б. Струве33. Негде печатать. На меня ополчились les juifs* и проч. Есть что порассказать. Жить трудно. Спасибо еще – чуть переводы поддерживают. Но я крепок духом и пойду своей дорогой. Написано много, но… где печатать?! В посмертное! И еще адрес – священника, у кого книга «Природа человека», казанского профессора34. Привет Павле Полиевктовне. Хотел бы здесь остаться на зиму. Трудно. Ваш Ив. Шмелев.
[На полях:] Наш привет Вам и Павле Полиевктовне!!
12 сент. 24 г.
Villa «A lʹalouette». Capbreton s/mer (Landes)
Дорогой Антон Владимирович,
Премного благодарен за письмецо, за адрес о. Сергия, – сегодня ему пишу, – и за предложение вступить в члены Русского Национального комитета35. Это предложение Ваше почитаю для себя честью и прошу принять от меня сердечную признательность за доверие ко мне. Что и как смогу делать – буду, и делаю, как велит совесть, как умею.
Океан гнусности творит жизнь! О, Россия в самой прорве, но и всюду, всюду, как вдумаешься. А теперь вон «Китай подымается»! Помните, как народ-то про Китай думает? Уж как Китаю придет время «итить»-подыматься, ну… конец света подходит. Вот оно, провидчество-то! А я бы доволен был, если бы «китайнуло» на весь хамско-помойный свет: пришлось бы «друзьям человечества» либо испить, либо разрешить «проблему». От чортовой головни огнь-то как перекинуло! Все же сие – начало. Многое впереди. Но с чего-то во мне живет и крепнет надежда, что скоро освобождение?! Но как вдумаешься в «баланс» русской жизни, что натворено и что изъято, и как опоганено и растлено, – мы же в неисходности, в такой нищете, перед такими последствиями, что голова никнет. Об этом буду писать на днях, начав с «мышей» проф. Павлова.
Как бы хотелось перетащить Вас сюда, с Павлой Полиевктовной! Знаю, что Вы бы были здесь – как в лесах-песках русского старого Поволжья, – можно притвориться, можно! – Если бы Вы решили хоть на десяток дней приехать! Можно найти в отеле комнаты, – теперь сезон проходит! Мы бы сходили с Вами на Океан – десять минут, покатили бы в Биарриц – 6 фр. алле-ретур, съездили бы в Ангай36, на границе с Испанией! Скажите, и я тотчас побегу в отели, – лучше в Оссегор, где я жил до августа. Не хочется в Париж. Постараюсь пожить и октябрь (пописать), пока можно. Сегодня погода окрепла: солнце как заслон, раздулось и брызжет такою силой…!
Понимаю, как Вы кипите! Бедная, милая Павла Полиевктовна, сердобольная русского дела! Спасение ей за сие будет! Ах, как я рад, что могу писать Вам, что чувствую Вас, душу Вашу! И дай Вам Бог сил и здоровья! Нет, жизнь правды и жизнь Христова Света не может умереть. Люди будут приходить на смену и держать светильник. А не будут – жизнь кончится и пойдет «на собачье положение», все – подняв ножку, на… всё! Такой жизни и не жаль будет.
Катнул я на днях статью (будет напечатана на днях) – «Болезнь ли?»37 по поводу исповеди Туринцева («Дни»)38 пощекотал «диагностов» (социалистов и Милюкова39). Сколько раз зарок давал от искусства не отрываться, – не могу! Знаю, что когти на меня точат, и замалчивать стараются, – плевать! На корку сойду – не страшно, всё видали! Хуже быть не может, и ничего не страшно!
Наш дружеский горячий привет Павле Полиевктовне и Вам, дорогой! С нами живет Ивун, и он – как светлячок для нас. Крепко Ваш Ив. Шмелев.
8 окт. 1924.
Capbreton s/mer Landes
Привет, дорогие друзья, скоро, к 25 октября, вернемся, загрызла работа, не могу не кончить. Птицы тысячами летят – здесь – passage dʹautomne* – и злодеи-сантимники миллионами ловят в сети и жрут жаворонков. Все бескрылые птицы улетели, одни – мы. Хозяин соблазняет остаться – пристраивает salle à manger**, камин, за 1800 сдал бы на год. Но… до весны, огород заведу и буду питаться от трудов рук своих. Не тянет в Париж. Горе – книг нет. А то бы остался. Привет. Ваши О. и И. Шмелевы.
16/29 окт. 1924.
Capbreton s/mer (Landes)
[Приписка:] А.В. 1) Для Галлиполийцев40 дам, привезу сам – 2–3 ноября – рассказ «Птицы»41 на 200 строк. (Но ничего, что он на днях появится в «Руле»).
2) 100 fr. считайте за лист, передам немедленно для Сергиева подворья42. Ив. Шмелев.
Дорогие друзья и милые русские люди,
Павла Полиевктовна и Антон Владимирович,
С тоской отрываемся от тихой и простецкой жизни-жития в здешних пустынях лесных и 1-го числа едем в Paris. Погода – золотая, голубая. Т° – 20° в тени. Гри-бо-ов!.. Рыжики, самые-подлинные! Журавли летят вечерами, играют на балалайках будто, высоко-высоко, – углом летят. Здесь извечная «птичья дорога», кругом Пиренеев…
Бог даст – Вы увидите (должны увидеть) эти места. Здесь многое от России…
Все идет, в политике, – прекрасно. Европа окончательно опоганилась. Прекрасно. Истина-Правда все глубже вскрывается. Один «друг человечества» утерся. Скоро очередь и за вторым «петрушкой». Но до чего же измельчились «деятели»! Гнусно. Считаю, что «наша болезнь» уже не требует докторов. Она «на пути к выздоровлению». И вне шумных очагов, здесь, в лесах, где видишь законы естества, ярче чувствуется, что Россия идет… Верю. Этому процессу ни помочь – ни изменить его – не может эмиграция. Она лишь собирать себя должна и готовиться. «Се жених грядет»43… может быть, нам придется жить здесь еще 3–5 лет, но мы будем в России.
Сердечно обнимаем Вас, дорогие друзья. Кое-что писалось здесь, – мешали вечные мои болезни. Как бы хотелось насильно сложить Вас, запереть в чемодан, привести в Hossegor и выпустить на песок у Соснового леса, у Океана. Рассчитываем вернуться сюда к марту-апрелю. Надо писать «Кошкин дом»44! Ваши душой и сердцем Иван и Ольга Шмелевы.
25 дек./7 янв. 1925 г.
Обнимаем Вас, дорогие друзья,
Павла Полиевктовна и Антон Владимирович, в этот светлый день нашего русского Рождества! Да вернутся, в светлых воспоминаниях, Святки Ваши! А за ними да придут и подлинные – Святые Дни Рождества России! Крепко Ваши Шмелевы.
А день сегодня ясный-ясный, – и если глядишь в небо – на миг покажется, что это наш декабрь – Рождество.
3 февр./21 янв. 1925.
12, rue Chevert, Paris, VII-e
Дорогой и глубокочтимый Антон Владимирович,
Боже, Боже! Боюсь, что Вы с укоризной киваете на меня. До сих пор я не нашел сил даже взнос в Комитет сделать, ответить на письмо, по поводу лекций, Вам написать… Но такая душевная расхлябанность – может быть, следствие нервного переутомления. Охоты смотреть на жизнь нет. Я чистосердечно пишу Вам это. Болезнь ли? Не знаю. Я жду не дождусь теплых дней, чтобы бежать из Парижа, которого все равно не вижу, не хочу видеть. У меня всегда это после забот и – перед заботами. И не могу подняться над великой тоской, которая все закрыла. Лишь в работе обманываешь ее, но она и в работе, покрывает мысли. Бывают дни – и вот сейчас они – когда хочешь конца, бесчувствия, камня. Когда – не видишь цели и смысла, и схватываешься, Бога ищешь, сил – ищешь веры, но – нет во мне – в эти минуты – и веры светлой. Маловерье, пустыня в душе моей. Я говорю о личной, духовной вере, о моих целях, как твари Божией – к Богу. Что же до России – я верю – и знаю, что она будет. Но я даже и на нее вздернуть себя не в силах. Для меня и России возрождение – не мое возрождение. Я знаю, что это ересь, что это может быть пройдет, но такая теперь во мне муть и скорбь черная. И делать повседневное дело – тяжко – мне тяжко идти обедать, писать письма, в хлопотах дня вертеться. Оцепенение… Но не эгоизм. Но и физическое что-то. Вот мне нужно глотнуть воздуха, уйти от жизни в тишину, чтобы отыскать себя. И при этом еще жизнь требует, надо зарабатывать на жизнь, которая мне тяжка. Болезнь это во мне? Может быть. И проходит она, когда я обманусь, уйду в обманчивое, рисуемое воображением. И вот, проверяя себя, я вижу, что нет силы писать и говорить слова, слова, ободряющие, слова разбирающие жизнь. Есть еще силы – воображать и жить с воображаемым. Есть невыполненное, – мои литературные планы. Их я должен выполнить. Спешит скучное время во мне. Надо и мне спешить.
Кое-что я успел сделать, но лишь «кое-что». Не мне, конечно, судить, но что-то есть. Надо бόльшее. Я не могу писать «вне жизни». Во всех моих заботах последней полосы – она, жизнь наша. И не могу отмахнуться. И для того, чтобы держать ее в узде, чтобы она не рвала рамки искусства, надо очень собрать и замотать в веревки душу. И всякий раз – уход в жизнь, анализ ее в слове публичном и страстном – рвет эти веревки, и я месяцами должен себя приводить в форму. Вот теперь надо мной висит камень – лекция в Сорбонне за 1000 fr. субсидию годовую. И я – сил не имею. Вы понимаете души жизнь. Вы знаете мою неизживаемую боль, при которой мне все темно. И простите мне, что не в силах составлять лекции по этим ужасным вопросам политики и жизни. Я почти уже не читаю газет, а жевание, чем часто пробавляются людишки из демократических и соц-республиканских, тошнит меня. Для эмиграции теперь уже все ясно. Если еще не ясно, после всего, тогда – мертва почва, камень, и на ней не прорастут семена. Если уже крови не приняла почва, зерна не примет, ибо камень она. Теперь все, все ясно, и уже греет. Теперь нужна поливка.
И вот – нужна Божья роса. Но она, эта роса – стихийно льется, и мы, русские писатели, должны помогать ей. И я ищу и ищу форм этой помощи, прислушиваюсь к своей душе. Горе наше, что негде часто найти место – излиться. Нет журналов, чтобы печатать не кусочками. В частности, о себе скажу: я не могу найти русского издательства для «Солнца мертвых». И оно выйдет раньше в Англии, в Германии и, может быть, Франции, чем на русском языке45! Мы должны все разрывать на клочки. Я пачку рукописей держу на полке. А надо писать – и пишу – еще бόльшее. И это прибавляется к общей мути и смуте духа. И надо еще обновлять душу, надо заполнить тысячи ее запросов, читать, собирать – для задуманного. А много пробелов. И надо выпрямить дух для «Спаса Черного»46. И еще надо бегать за франками, интересоваться издательствами, писать переводчикам, ждать и – знать, что вся эта суета – души не питает, а лишь хлещет.
Простите, дорогой, что так нервно (и, может быть, кое в чем – неправильно с точки зрения спокойной души) вылился. Деньги-взнос хотел эти передать лично. И надеюсь к Вам зайти в воскресенье, если будете.
Привет наш любовный Вам и дорогой Павле Полиевктовне. Ваш сердечно Ив. Шмелев.
7 июля/24 июня [1925].
Capbreton s/mer (Landes)
Здравствуйте, дорогие, Павла Полиевктовна и Антон Владимирович,
Как Вы, в милости ли Божией пребываете? Ни слуху, ни духу. А мы – все в трудах и работах. Я больше по огороду и письменному столу, а жена вся в хозяйстве и с Ives*, – опять месяц болел энтеритом. За все мои труды – награда: едим малосольные огурцы, чисто русские! Осетринки вот нет.
Скоро в наши места пожалуют Бердяевы и еще М. Вишняк. Сыскал им комнаты, и не дорого. Pension complète** обойдется (с комнатой) в 20–22 fr. И при сем – Океан – весь – бесплатно. Только-только вхожу в работу… Все – огород и цветы.
Антон Владимирович, дорогой, утешьте!.. Что нового? Quid novi***? Вы, так сказать, в самой геенне эмигрантской печетесь. У «истоков света». Сколько событий! Приезды, речи… А в Европе-то?! Только-только начинают «получать» за свой кредит, открытый международной банде убийц47. Поделом! И – предчувствую, не то еще будет… Но будет ли это на пользу России? Какая-то развязка близится. Но – какая?! Пертурбация для Европы будет, сие же только начало «болезням». Стачки, локауты, «схватки». Кажется, у Европы «болезнь воли». И уже не вылечиться. Вожжи упущены. Теперь только лихой цыган нужен. Схватил кнут – и… Но кто это будет? Может быть, отвалится вошь с русского тела и переберется на «мясцо».
Порадуйте хоть словцом. Почему не пишете в «Возрождение» после 1 №48? Это же так важно. Там, в «Последних новостях» – Демидов «Платонтич»49, – в «Возрождении» молчание. Порадуйте!
Павла Полиевктовна, если свободная минутка будет, вспомните о нас и шепните Антону Владимировичу, чтобы прислал радостную строчку! Все Ваши Ив. Шмелев и К0
8 февр. 1926 г.
12, rue Chevert, Paris, 7-e
Господину Председателю Русского Национального Комитета А.В. Карташеву.
Дорогой Антон Владимирович,
Уведомление о воззвании (гонение на Церковь) было направлено в Capbreton и только сегодня нашло меня в Париже.
Горячо присоединяюсь к этому важному заявлению протеста. Прошу принять и мой голос-крик.
Сердечно Ваш Ив. Шмелев.
30/17 апр. 1926.
Capbreton (Landes)
Христос Воскресе!
Здравствуйте, дорогие Павла Полиевктовна, Антон Владимирович, Стива50, – да будет с Вами Светлый Праздник во все дни живота, и – даже после!
Погода установилась, тепло-тепло. Мои прошлогодние цветы дали потомство, – и теперь в цвету настурции, левкои, гвозди́ки. Вылезли неведомые тыквы, подсолнухи, земляника наливает ягоды и одна уже красна, как пасхальное яичко. Тихое житие… Боли, наконец, меня оставили (а были зверские), я дышу, но за эти 10 дней пришлось, в болях, написать 4 рассказа, а в 8 мест отказал, бессилен. Теперь с утра до ночи я живу с землей и солнцем. Езжу в садоводство и выбираю, чего почудней. Вчера купил гераней, и они уже начинают пылать – Пасхой. Имейте в виду, если я прогорю, то – на цветах. К пасхальному столу, на котором будет даже пасха и кулич, и часть окорока, ибо на нашей плите можно зажарить разве воробья, будет готов букет роз за 5 fr., а, может быть, и два. Будет приглашен здешний proprieter* – потомок гетманов малоросс (!), из Бурчака ставший Mr. de Bourtchak51, и – заочно – Вы, милые, и – тени прошлого. Может быть, удастся завтра съездить в Великую Субботу в Биарриц в храм, к Великой Обедне. Только. Ночью к заутрене – далеко.
Ну-с, Христос Воскресе, все мы en trois** обнимаем Вас en trois. Соловьи здесь – рвань, слушал с Ивуном вдали от жилья, в природе: скверненький жидовский теноришка, на 2 копейки. Ни-куда! Обругал я его французской дрянью и вспомнил нашего полногрудого соловья, у которого в горле оркестр всех флейт Большого московского театра, – фейерверк! Сердечно-братски Ив. Шмелев.
28. VI. 1926.
Capbreton (Landes)
Дорогой Антон Владимирович,
Пишу Вам под гнусным впечатлением от помойных слов Ллойд-Джорджа (Matin, воскресенье 27.VI)52. «Собака лает – ветер носит»? Конечно, и на первый взгляд, стоит ли давать значение лаю собачьему? Но… Ллойд-Джордж – 1) представляет сильную английскую партию, 2) говорит с высокого места (и уже, наверно, не он один!), 3) для мира и 4) о России. Слишком много «собак» и лая, и слишком уж буйны ветры.
Нового Ллойд-Джордж, конечно, не сказал, лишь продолжает трубить с подпольщины грязной, посеянной давно-давно (десятилетия!) гадами из России, и все еще сеемой. Когда-то я коснулся этого «семени» в очерке «Russie» («Возрождение»)53. Нет уже Russie, – во гробе! – но все еще льют помои на ее могилу, пляшут на ее прахе, ожидающем Воскресения. Я знаю, будет Воскресение, и тогда она сама защитит себя, заставит смыть грязь и помои мерзавцев всякого калибра. И будет день, когда с «высоких» мест услышат иные речи. Слишком много у России запаса – прекрасного и высокого, Ее, и слишком нагло и подло, и клеветнически издевались над ней и извращали ее образ, чтобы не воссияла Правда! Но… нельзя и ныне молчать: молчать – помогать замедлению Воскресения.
Я пишу Вам, как чистому человеку, которого я глубоко уважаю, подлинному родному, русскому, и как председателю Национального комитета. Нельзя пройти мимо речи Ллойд-Джорджа. Надо ответить. Не ему, а всему миру, всем высоким местам. Надо создать крепкую, пусть небольшую, но ёмкую книгу-брошюру, звучную, где бы резкими линиями был дан ответ, авторитетно с историческими вкраплениями «исторических слов», европейских, в которых бы значилось прекрасное и высокое, великое действие России в мировой истории. Наветам надо противопоставить факты. Ведь приемами клеветы лишь замарывают ту «смердящую яму», которую признают и с которой имеют дело нации. Что такое – Советы? Они же нисколько не хуже, может быть, даже лучше, чем прежняя тирания, прежнее русское правительство, «самое жестокое, самое коварное и самое развращенное!»
Надо, надо ответить! Не пожалеть сил, средств. Нам здесь – первая работа – взывать, протестовать за Россию, защищать доброе ее имя. И вот славная задача Национального Комитета (освобождение Европы и славян, борьба с Турцией и Востоком). Самое жестокое? Исторические примеры ее и европейских правительств (вплоть до колониальных политик). Самое коварное? Исторические примеры – коварств Англии и др. и России. Самое развращенное?.. (О, сколько Папам Европы!) Наконец, последняя война. И надо сказать, наконец, без обиняков, что сделала Россия для Европы. Затем – что делало Русское императорское правительство для культуры страны, и как вело народ. Книга Маслова (экономический обзор прежней и советской России, 2 т.)54. Как росла и возвеличивалась Россия (это при развращенном-то и самом жестоком правительстве!) Надо подсчитать смертные казни Европы, отмененные в России давно. Каторги всех европейских держав, истязание дикарей повсюду. И нашу культурную работу в наших колониях. Ведь ясно нам-то, кто и за что так измазал фальшью чудесный Лик. И об этом надо сказать. Надо собрать знатоков дела. Надо суметь привлечь экономистов, историков, философов, историков культуры, государственного права, финансов, народного просвещения. Здесь были бы важны такие имена, как Мельгунов, Кизеветтер, – я уж и не помню. Вот пункт объединения! Неужели же старые дрожжи разъ‐единения не сгинут перед святым долгом защитить Россию от мировой клеветы? Надо бросить господам поносителям: какие же правительства, благородные, воспитали таких, что говорят, как Ллойд-Джордж – самое главное – что признание убийц и бандитов дало нам возможность совершать торговые сделки на миллионы. Об этом очень надо! О нравственности-то. Куда привела культура стран, где правительства не были ни тираничными, ни развращенными, ни «les plus traitresses administrations»*?!
И надо действительно составить защитительное Слово, веское, обвиняющее, возвращающее обидчикам – их слова с %%. Пусть это Слово вызовет другие слова. Надо все принять. Это Слово явится для будущей России великим бальзамом – и нашим оправданием. Это долг Национального комитета. Я знаю, он делал и делает многое. Но надо сделать еще – и цельно, выпукло, громко. Если за одного обиженного еврея евреи умеют так сделать, что все парламенты вопиют, то как же не найти силы сделать за сотни миллионов на протяжении столетий? Надо показать, за что действительно ненавидели и до сих пор ненавидят и боятся Россию. Всюду, всюду. Надо сделать, хоть и все политики знают, что они извращают правду. Ллойд-Джордж, может быть, и не знает, он бывший недоучка с самомнением. Пусть не достигнет цели, но надо. «Клевещи, клевещи – что-нибудь да останется!» Но есть и: толцыте – и отверзется! Притча о «судии неправедном» и о вдове надоедающей55. Надо бить в одну точку: «Что-нибудь да останется!»
Этой будущей книге-памятке надо предпослать протест, за подписями виднейших лиц русской эмиграции и в том числе – писателей. Даже, может быть, и не книге, а слову-брошюре, в 20–50 страниц, с громким заглавием, переведя ее на 3 языка. И разослать ее правительствам, и государственно-политическим, и ученым всяким деятелям. Надо смело показать и еврейское значение для доброго лика России (т. е. эмигрантское старое).
Ну, у меня спокойствия сейчас нет, кончаю.
Прошу еще: если прочли Лорда, пришлите заказной бандеролью, мне очень нужно дать одному крупному человеку здесь. Пожалуйста.
Сердечный привет Вам и Павле Полиевктовне. Как Вы чувствуете себя? Не собираетесь прокатиться в наши места?
Ну, общий горячий привет. Ваш душой Ив. Шмелев.
29. VII. 1926.
Capbreton (Landes)
Дорогой Антон Владимирович,
Разрешите поделиться с Вами душевной смутой и не только смутой, а смутой от проклятого сознания, что окаянство заплеснуло душу, дышать нечем! Но Бог с ней, с нашей душой. Окаянство все души заплескивает и получает мировую марку. Но Бог с ней, и с мировой. Окаянство убивает жизнь. На наших глазах. Исходя из высоких мест, от вершин европейских народов, оно внушает как бы и уважение к себе – ибо под высокой маркой!
Я говорю о факте «выражения соболезнования» от имени держав по поводу смерти Убийцы и Палача Дзержинского56. Конечно, мы, русские люди здесь, не цензоры и не указчики народам. И если я хочу Вас запросить дружески, будем ли мы отвечать на этот факт, – а я имею в виду Национальный комитет, то потому только, что дело не в исправлении негодяйства, а в бόльшем. Надо, наконец, ставить вопрос – можно или не можно, с точки зрения мировой нравственности – убивать походя миллионы людей без суда, истязать, пытать, всячески истреблять живого человека в масштабах миллионных? Можно ли или не можно с высоты правительств европейских, христианских, сожалеть, что гений палачества и убийства, Сверх-Убийца вдруг прекратил свое существование, а потому и – такую мастерскую работу? Сожалеть об утрате изверга? Я потому считаю нужным отметить этот факт, что он как бы дает carte blanche и даже поощрение в дальнейшем на – «человеческие бойни». 1) Европейские правительства не вмешивались в работу Дзержинского-Убийцы. 2) Европейские правительства принесли соболезнования по массовым убийствам христиан – прекращается-прерывается. Соболезнуем…! Это нужно, ибо этот факт может быть брошен на весы, когда будут судить иные убийства, теперь, чувствую, еще более угрожающие, ибо подпись одобрения дана европейскими народами в лице их правительств. И это не укроется от многих, натачивающих ножи. Надо хотя бы предупредить посильно грядущее. А если нельзя, – открыто сказать, что соучастниками и даже поощрителями убийств в течение ряда лет были несудимые державы, соболезнующие в итоге, что Великий Убийца умер.
Я уже устал обращаться к другим писателям с предложениями коллективных протестов. Но не найдете ли Вы, добрый Антон Владимирович, как председатель Национального комитета, возможность предложить и писателям, и ряду общественных деятелей, кто пожелает, дать под изображением факта – под предостережением-протестом – свои подписи по поводу прекращения работы? Всемирно расписались в чувствах скорби. Этот факт надо отметить и надо его сунуть в лицо тем же европейским правительствам и показать миру, что не все так смотрят, что есть пределы пакости и гнойника человеческого, что – этим фактом – европейские правительства лишают себя права протестовать в будущем, когда снова и где-нибудь может политься кровь, более ценная для европейских правительств! Это страшно. Но это может быть. И еще в большей степени, ибо европейские правительства теперь как бы санкционировали ремесло – пролитие крови и дали даже поощрение, выразив сожаление, что… утрачен великий мастер!
Я знаю, что стыд у европейских правительств давно утрачен и их не проймешь, и не удержишь от непотребства. Но важно утвердить факт, – факт молчаливого пособничества и даже официального соболезнования, что работа специалиста… Академия наук – что! Там все прогнило, там – рабы ползучие, и они могут и не то еще написать, не только о кончине «незаменимого деятеля», оказавшего большие услуги делу науки вообще (?!), но и – больше. Но когда русский народ слышит (а ему в уши прокричат!), что Европа сочувствует… миллионам убийств, и он в душе думает, ну, значит, вали, ребята, бей… когда придет пора, Европа посочувствует! – это омерзительно, чудовищно и страшно. Ибо он тоже во время своей революции будет это делать и приведет миллион доводов, что он вправе делать так, ибо страдал, ибо можно, ибо… Европа не только позволяла, но и сочувствовала, выражала соболезнование, что «машина» стала. Как бы ни опоганивались все, мы здесь что-то храним (мы знаем – что) – и мы должны сказать.
Простите, я очень смущен, отравлен, пишу смутно. Ваш Ив. Шмелев.
[Приписка:] Да, надо проверить, действительно ли принесли соболезнование! От Академии – Слово. Суб. 24. VII. № 216.
Пришлю семена укропа, из России, для Павлы Полиевктовны.
6 июня 1927 г.
Sèvres
Дорогие друзья Павла Полиевктовна и Антон Владимирович,
Замотался всячески. Простите, что не собрались. Не урекайте! Куча всяческих embarras*! Но дело не в визитах. Вы знаете, что сердце наше – Ваше. Напишите, что Вам надо в «Vieux Boucau»57! Съезжу – пригляжу. Когда, надолго ли, что, за сколько, какие условия? Целуем и посылаем горячий и сердечнейший привет.
Антон Владимирович! Отношение ко мне «Борьбы за Россию» меня удручило. Так нельзя делать дело, бросаться писателями. У меня душа не принимает и руки опустились. Мотивы Сергея Петровича58 непонятны мне и до сего дня. Это уже – упрямство. При свидании у Антона Ивановича Деникина он заявил, что будет напечатано «Письмо казака»59 хотя бы в приложении, – не выполнил. Это уже – что?! Вот почему я ничего больше не рискую посылать. Отбита охота.
Прошу вернуть мне рукопись.
–
Деловая часть – кончена.
–
Желаю Вам обоим скорей обрести спокойствие от всех крючьев и дерганий Парижа. Ваш сердечно Ив. Шмелев.
Жена целует и просит ради Бога извинить, едва ходит от хлопот: и хозяйство, и я, и Ives. Живем, как в дыму, – столько забот (и мел-ких, убивающих!).
9. VI. 1927.
Дорогой Антон Владимирович, пишу на отъезде, кратко. Сообщение об «экспертизе» моего «Письма молодого казака» специалистом по казачьей жизни, может быть, очень почтенным деятелем, т. е., вернее, передача для экспертизы, – меня поразило несказанно. Итак – попал под цензуру! Благодарю. С меня довольно былых цензур. Прошу вернуть рукопись, хотя бы экспертиза и одобрила. На экспертизы ходить мне не пристало. Если бы я знал, что будет экзамен мне производиться, я бы и не подумал давать. Теперь – напиши я о Кремле – попадешь на экспертизу к археологу, о краденых бриллиантах – к ювелиру!.. Да что это, издевательство над писателем, не новичком, слава Богу. Обидно мне и за коллегию вашу: не понять моего «Казака»?! Колебаться и привлекать экспертов? Занесу это событие в историю эмигрантской литературы. Считаю все это отношение ко мне ничем не объяснимым и оскорбительным! Прошу передать это всей редакции. Пусть мне дадут уважительные объяснения подобного швыряния моей работой. Да, этим меня лишили возможности работать в важном деле. Я не виноват. У меня отбили охоту. Меня лишь водили! Ваш Ив. Шмелев.
13. VII. 1929 г.
Capbreton s/mer (Landes)
Дорогой Антон Владимирович,
Благодарю Вас за сведения о Mr. Grondijs. Я ему написал, поблагодарил за одолжение.
Представляется мне, что Вы себя обманываете невозможностью вырваться из парижского котла. Это – призрачное. Самый запутанный человек, с наисрочнейшими делами, когда заболевает, – все мировое-наисрочнейшее отпадает вдруг. А заболеть – часто = «отдыха!» И всегда можно «выскочить», сесть в поезд и – прощай, мамаша! А Океан – волноплещет: вот это – человек! А то ведь и никогда, до смерти, можно не вырваться! Надо захотеть. В сущности, расходы – не дом покупать. Расходы – резина и лимасон*: можно растянуть, пока не лопнет; можно и сжаться до предела. Вам ли не знать этого?! Эх, «Росстаней»60 моих Вы, кажется, не читали… Там есть про «не выскочишь». Так и моему Даниле Степанычу казалось, и до смерти все «не выскакивал», а когда болезнь свалила… – некуда уж и выскакивать.
Сие – размышление из «философии жизни». А вот – действие:
Вокзал Quai d’Orsay61. Поезд 9 часов 50 минут вечера. Билет (может, обратный, на срок?) прямо до Capbretonʹа, как и багаж. Ровно в 11 часов утра станция Labenne. Сходите. Садитесь в «кукушку», не думая о багаже, и прибываете в Capbreton (1-я остановка через 20 минут езды). В Capbretonʹе – 11 часов 35 минут дня. Встреча (если будем знать). За мэрией, через мост, первый поворот налево, через 2 минуты – «Riant Sejour».
Чай по Евтушевскому62: лавочником смешан…
Целую ручку Павлы Полиевктовны. Крепко жму Вашу и обнимаю.
А о «лабазе», Гакасе, моли в перчатках и «лапше с… перцем» (Семенов) Вы правильно: лабаз63! И разные мыши укромно по уголкам жустрят* мýчку. Ваш незыблемо Ив. Шмелев.
Я вот «выскочил» – и не горюю: взвейся, соколы орлами!
25/12 сентября 1929 г.
Capbreton s/mer (Landes)
Ах, дорогой Антон Владимирович, – да это же, прямо, – простите! – малодушие (при Вашей большущей душе!) – не заставить себя сесть в вагон и ехать хотя бы на 2–3 недели – взять воздуху! И вся бы апатия и абулия** – растаяли. Комната у нас для Вас с Павлой Полиевктовной имеется, стоит пустая, пропитаемся всегда (это все «мелочи»), – а главное – новые места, леса, океан, речка почти русская… Правда, солнце уже не летнее, но днем даже жарко, пока. Грибы пойдут с 10 октября (у них свой календарь), но если Вы рыболов – 2–3 десятка пескарей в лов – обеспечены. А главное – во-здух: смола! А утро – дыхание самого Господа. Дорога (aller-retour) по 260 fr. с персоны. Билет прямо до Capbreton’а. Поезд в 9-50 вечера (21-50) из Quai d’Orsay, приходит в Labenne в 11 часов утра и сядете на «лесной». В 11-30 дня – terminus***! И Capbreton вмиг влюбляет в себя.
Больше – ни слова.
Великое спасибо за Лавру! Такая радость. Получите осенью из рук, – в переплете (надеюсь!). Дабы – ожилá. Помните: перед работой надо освежиться. Это азбука, а Вы не следуете ей. Сбросьте хандру, – удочку в руку – и за 3 километра идем лесами. Мы с Николаем Кульманом за эти недели взяли до 2000 шт. – всякого сорта. Вчера я поймал 4 раза по паре (на 2 крючка). Думаю, что Вы должны быть рыбарь – Вы поэт-художник. Вы – от полей. Да и помимо рыбы – столько! Дюны какие! Океан. Теплые морские ванны (3 fr. 50 c.). Тепло еще будет. Главное, не будет удручающей жары (впрочем, редкой здесь). Кульманы64 на будущий год едут сюда с… 1 июля по 1 ноября!!! А там – как знаете. Привет Павле Полиевктовне, – я написал вчера кумушке.
Крепко Ваши Ив. и Ольга Шмелевы.
А я ни-чего не делаю! Впрочем, в июне написал что-то на… 5 листов. Да и работать-то негде. Спасибо – еще переводят, и – дай Бог здоровья сербам – еще высылают «ренту».
Обнимаю Вас, так близкого мне духовно.
14 декабря 29 г.
Севр
Дорогой Антон Владимирович,
Затомилась душа, схватился, было, поехать к Вам – высказаться, да заняты Вы… – и знаю, что эти «высказыванья» последствий деловых не дадут, – ох, бессилие наших воль! – и все же не могу отмахнуться. Вы можете, конечно, сложить мое письмо в кучу неотвеченных – и не отвечайте! Я бессилен говорить в печати – и нет ее у меня, да если бы и была, – вопрос-то уж очень «деликатен» – не допустят, настращены… А мы здесь такими-то стали деликатными!.. После всех страхов все еще боимся… Просто, единомыслия ищу, вот и пишу Вам. Вы знаете, что делается в Англии – Комитет и проч. – в защиту христианства – Комитет.65 Наконец-то, возгорается огонь, святое пламя! Вот, в «Руле», – прилагаю – письмо из Америки66. И там делается. А что же наша-то «церковь»?67 Прикрылась «политикой» – жупелом, и ложно связанная с той, обязалась молчать?! Вот когда ярко и постыдно вскрывается вся ложь церковной-зарубежной «политики»! Вы все понимаете, и я не буду извергать слова. Я чувствую страшный позор, подлое рабство, в какое сознательно полезла наша «церковь».68 Худшей, более гнусной «политики», именно – по-ли-ти-ки, – нельзя представить. Ведь враги наши бросят в лицо всем комитетам мира: «не шумите, не лгите! зарубежная “церковь” НЕ шумит, не взывает, а… в живом общении с российской, и никаких гонений нет, ибо российская НЕ протестует! Она свободна, и настолько свободна, что свободная эмигрантская идет с ней рука об руку!» Кому бы и вопить, как не нам?! И мы молчим. Я не могу спокойно думать, как же так: готовят пастырей, академию создают – и… молчат, когда мир начинает подымать Крест в защиту гонимого Христианства! Неужели молодежь, будущие пастыри, не задают вопросов? Неужели наша зарубежная церковь не присоединяется к английской и другим?! Да ведь если все это так, то тут страшнейшее из преступлений: отказ от самого ценного, от «вести Христовой», от проповеди, от «несения Христа и Креста»!.. Ведь это же Иудино предательство, – иначе я не разумею. Чего же ждет Ев-логий? Он все еще будет проводить какую-то «тончайшую», для меня, как и для простых смертных, непонятную «политику»?! Ждет, когда последний храм будет обращен в публичный нужник69? последняя икона брошена на дрова? последнего ребенка, творящего крестное знамение, – столкнут в прорубь? последнее Евангелие пустят на фабрику или обертку? Когда уже никакого Духа Церкви не останется… а мы будем сидеть и ждать, не нарушать единение – не отрываться! – с… пустым местом?!70 Скажу только – самое ясное, – нам, простым православным! предательство и кощунствование. Ведь такое бездействие – самый сильный толчок от такого православия на советский лад… к расколам и отщеплениям – позор из позоров! самая грязная страница нашей церковной истории! Во мне кричит совесть, деянье, – ведь я не богослов тонкий. Но я – один из миллионов. Пастыри церкви страшатся называть Зло – его именем. Даже в воззвании к сбору на Академию или Богословский институт, – не помню, – митрополит не говорит полным голосом! Где же, как не здесь сказать истинное?! А теперь – страшное для дьявола движение сердца и духа в мире начинается, и… молчание?! Что за проклятие над нами?! Имеем двух пастырей… – и ничего не имеем. Мне кажется, что в эти страшные дни, – простите меня, дорогой! – вы, воспитывающие будущих пастырей, обязаны выяснить то, что смущает большинство нас, здешних. Русский народ, узнав все, заклеймит такую «церковь» и пойдет искать… другую. Сопоставьте с этим заявление менонитов: поверили псам, что в мире не осталось христианства, иначе разве стали бы народы признавать Дьявола?.. Теперь надо сказать то же и о пастырях здешних: порабощены, опустошили душу – и молчат, когда стали вопиять «камни», молчавшие 12 лет!..
Ну, нет сил писать. Вы понимаете все… Но что же делать? Словно дьявол связал души и заклепал рты. Своего добился… ссылкой на… каноническое право!!!.. Ваш Ив. Шмелев.
Неужели Вы так и не выскажете Евлогию? Я знаю, что Вы возмущены, иначе не может быть71.
10 апреля 1930 г.
Севр
Дорогой Антон Владимирович,
Вот уж – истинно могу сказать: соболезную! Так мне близко и понятно Ваше – и физически болевое и в нем проблески «маленьких благ», так необычайно остро чувствуемых, как Вы четко изобразили, – чувствуемых с какой-то «первозданной» остротой! Все это, все Ваши болезни, – итог всяческого переутомления. Природа неумолима, не прощает рекордов, ибо она вся – мера. Природа в Вас радуется, когда Вас тащат к норме, к той норме, которую Вы не признавали, и возликует, когда вы попадете в эту норму вполне. Она – учит болезнями, учит – мучает. Дай, Господи, преодолеть Вам эту «науку- наказание»! Верю, что преодолеете, – и уже не будете драть с себя семь шкур. А Вы с себя свыше 7 содрали. Теперь надо их наращивать.
Я болею тоже с 11 марта. Помню, 9-го, был у нас Бунин (была и кума милая), и я, помню, на вопрос Ивана Алексеевича о здоровье дерзко заявил, – слава Богу, чувствую себя хорошо, – вот почти 5 месяцев никаких болевых ощущений. И вот, дня через два – началось. Причина? Увлекся аппетитом и съел – позабыв и посты – штук 5 бутербродов с ветчиной! Такой аппетит появился! И пошло – старое. Через 3 недели стал входить в норму, да, должно быть, переборщил уже с лечением: дня три тому, должно быть, от излишнего приема порошков (висмут + кодеин + беладонна) в соединении с мигренью (ужасные головные боли), ночью поднялась такая рвота, что меня чуть не вывернуло наизнанку. Теперь – слабость, потеря всякого аппетита, потеря воли что-нибудь делать… А боли все же возвращаются, и я больше лежу, и никуда не годен. А тут близится срок отъезда (ужас это для меня!), и надо работать. И все, все падает на бедную мою Ольгу Александровну, святую! – слабеющую, но вида не подающую!! Это убивает душу. И как понимаешь радость (вспоминаемую!), когда ты здоров, когда вдруг вспомнится детское (и потому – здоровое) восприятие полоски солнца в комнате, несказанный запах струйки теплого, весеннего ветерка!.. (Только бы не гуденье аэропланов!) Жизнь прекрасна, – даже ущемленная (только не болезнью), – только мы никак не можем научиться понимать ее и слушаться ее.
Ну, устал. Будьте же здоровы, крепки, и – к норме!
Обнимаем Вас оба + Ивик. Ваш Ив. Шмелев.
Дорогая Павла Полиевктовна, милая кумушка!
Спасибо за весточку об Антоне Владимировиче. Будьте бодры, все будет хорошо. Возьмите Антона Владимировича в ежовы рукавицы! без поблажек. Оградите от сверх-норм. Спасибо Вам за сочувствие и ободрение. Ольга Александровна целует Вас и Антона Владимировича. Я благодарственно и родственно-душевно целую Вашу руку. С наступающим Днем Христова Воскресенья! – друзья наши!! Сердечно Ваши Ив. Шмелев со присными.
15. V. 1930 г.
Capbreton (Landes)
Дорогая Павла Полиевктовна,
Припадаю к стопам Вашим: не откажите написать со слов Антона Владимировича (его не беспокою на письмо) указание мне: основная мысль молитвы, которую священник читает после литургии за вечерней (?), коленопреклоненно, с цветами. Там повторяются слова – «лето благоприятное»72??.. Что-то не помню, а мне нужно для работы. О чем молятся? или – восхваляют? Мне нужно для очерка «Троицын день»73. Почему украшают церковь и дома ветвями и идут с цветами? Праздничные [проводы] весны или – воспоминание символического явления Трех Странников Аврааму у дуба Мамврийского74? Пожалуйста, отпишите в ближайшие дни, – насколько возможно кратко, в нескольких словах. Самое важное – какие-то повторяющиеся важные слова молитвы? Получили ли вчерашнюю открытку?
Сообщите о здоровье Антона Владимировича и о Ваших планах на лето.
Целуем Вас обоих с парнем в придачу. Ваш Ив. Шмелев.
Хочу скорей начать писать (продолжать!) очерки «праздники», – церковно-бытовое, светлое наше.
Как денежное положение? Я говорил с Михаилом Владимировичем Бернацким, он был очень взволнован и уверен – это надо устроить.
7/20 мая 1930.
Capbreton
Дорогой Антон Владимирович,
Сердечно благодарю за Ваши разъяснения о Св. Троице, – большего и не надо. Вы мне напомнили о далеком детстве: ведь и у нас, – я помню – запрещалось ковырять землю, т. к. земля на Троицу – именинница, и когда мы играли в пятнашки и делали каблуками «лунки», старуха-кухарка (от бабки-прабабки Устиньи, должно быть, восприявшая) ругалась, что ковыряем, и кричала: «Да ноне святая она, матушка, у ней Господь в гостях!» Вот оно – именинница-то! Но какая же красота души! Правда, это остаток язычества, олицетворений и обожествлений, но как же это чудесно слилось и осветилось! У нас даже коровник украшался березкой, и все уголки двора. С Божьей помощью попытаюсь написать очерк «Троицын день». Да, да, помню: на Святой день земля – именинница. И явление Трех Аврааму – знамение изобилия и оплодотворения (обещание Сарре – сына!75) Какая красота!
Болеем о Ваших болях и молим Господа посетить Вас и дом Ваш и благословить на полное выздоровление. «Сокровище благих и жизни подателю»!..76 А со мной – очередная гнусность (я привык): в День инвалида (газета «Русский инвалид») под моим очерком «Мирон и Даша»77 исхитрились поставить автором – Ивана Лукаша78! Кто-то все еще старается.
Напрасно Вы благодарите меня за хлопоты: никаких хлопот с моей стороны, лишь простой разговор – дружеский с Михаилом Владимировичем Бернацким, который был удручен и озабочен сам. Прекрасный человек он, дай ему Господи сил, как и Вам, милый Антон Владимирович.
Душевный привет Вам и кумушке от нас.
Я все еще лечусь, очень разбит нервами и все еще нет воли работать, а надо, надо писать: хотя бы закончить свои очерки – «Лето Господне»79. Ваш Ив. Шмелев.
18. VI. 1930 г.
Capbreton s/m (Landes)
Дорогая кумушка, Павла Полиевктовна, Сегодня, оторвав забытые листки календаря, усмотрел, что
16-го было – мч. Павлы Девы. Справился по святцам – еще бывает, 10 февраля. Наудачу, – с призапозданием – поздравляем Вас – увы – с прошедшим днем Ангела, и будьте здоровы! Смущен, что не во время: плохая у меня манера – не записывать «дни» друзей и близких. Вот, например, и Антон… Голова закружилась – сколько их! Чуть ли не ежемесячно, а то и по паре в месяц. Ну, когда же настоящий-то? Шепните, невзначай.
Поздравьте от нас и Антона Владимировича с черствой именинницей. Сообщите, как его здоровье. Я уже писал ему благодарность за справки о Троицыне дне. Глубокое спасибо. Не знаю только, как показался ему и Вам мой «Троицын день». Справки Антона Владимировича подняли во мне многое прошлое, были добрым толчком. Теперь приступаю к «Богомолью»80, оставил пока роман81, – для передышки. А писать буду, коли Господь дней и сил даст. У меня есть допинг: «Последним новостям» (Александров-Кулишер) претит82 – значит, надо. Я лишь один пальчик героя дал, и уж какой гевалт поднялся!
Как, как здоровье Антона Владимировича? Известите, ничего мы не знаем. И куда – отдыхать-долечиваться?
А я все в плохих нервах, в усталости. Хочу бросить читать газеты. Прочтешь – и отравишься, и ничто светлое-здоровое не лезет в голову, не поет в душе. А при этом – какая же радостная работа!? Вот, может быть, на «Богомолье» забудусь… И еще… что-то поет в душе, – хочу написать «Иконку»83 – так, пустячок, – рассказ няньки… Знаете, такие старые няни еще уцелели здесь… (вот, у Карповых такая!84) – отражение России – ее «иконка». Напишу! Пока вот вертится фразочка, как русская интеллигентная девушка-барыня (?), уже все, все здесь изведавшая (и в Америке!), бросится вдруг (истерично), будто вспомнив себя и свое, бывшее, светлое, бросится на шею старухи и – «иконка ты моя..! ведь ты у меня иконка..!» И заплачет. А сама уж по Холливудам и прочим местам прошла! И американец при ней, и – все ветры мира ее обдули!..
Ну, целую Вашу ручку, милая кумушка. Поцелуйте Антона Владимировича от нас. Ваши Ив. + Ольга Шмелевы.
26. VI. 1930.
Дорогой Иван Сергеевич!
Не отвечал Вам, – не было энергии. Всю расходовал на экзамены. Только вчера кончились. У меня на дому! Все 10 экзаменов были отложены ради меня на конец, – и были каждый день (!), кроме воскресений.
Теперь бы надо ехать в Bagnoles de lʹOrne (dept. Orne)85, но я еще без ног. Не выходил из дома, не в силах мерять вокзалы. Надо еще дней 10 на укрепление ног. На днях Павла Полиевктовна поедет туда одна (это 4 часа от Парижа, билет aller et retour* 75 fr.), чтобы нанять комнату без пансиона с правом самим готовить, ибо пансион и глупо дорог, и вреден по диете. Придется там провести месяц. А дальше? Не знаем. У меня есть право на даровое гощение месяца на 1½ в Англии у сельского священника, куда я стремился ради английского языка. Но после ванн и после плеврита, во 2-й 1/2 августа и в сентябре может быть рискованно удаляться на север. Хороши были бы солнечные ванны на свирепом юге, но после лечения ваннами, может быть, на это не хватит уже пороху. Во всяком случае, главное – лечение теперь обеспечено.
А 16-го (3-го старого стиля) действительно Павла86 – именинница. Из-за экзаменов мы оба забыли, а за неделю еще помнили. Память отшибают заботы. Утром позвонили, что на экзамен приедет митрополит Евлогий. Надо его в 1 час – 2 часа покормить. В Bourg-la-Reine87 не в Париже, чего хочешь не купишь. Рыбы нет, а пост. Вот Павле Полиевктовне и пришлось спешно нечто стряпать. И сама она только перед обедом вспомнила о своих именинах.
А я – Антоний Римлянин, в Новгород приплыл на камне из Рима. Коренной новгородец, купец-землевладелец XII века. Житие сочинено только в конце XVI в. Моя гипотеза, что он был из ганзейских купцов-славян, из «римского патриархата», «римлянин» в смысле «западноевропеец», и в монастырь подарил кадило, колокола, подсвечники «заграничной» ганзейской работы, вот и прослыл «римлянином».
Память 3-го августа. В Новгороде «в Антоновом монастыре»88 находится искони Духовная семинария89, ныне, конечно, опоганенная…
Я «Троицын день» читал с большим наслаждением, как бы свою старину. Павле Полиевктовне не хватает знания Москвы (почти не видала ее, проездом – на 1 день…), чтобы прочувствовать детали, например Воробьевых гор, замосковского простора излучин Москвы-реки, откуда видны все «золотые маковки». Рад, что и мои комментарии пригодились.90
«Иконка»91 – Ваша тема подлинная. Надо только, чтобы не превратилось в вид «народничества» и не отжило свой век скоро, как Глеб Успенский92 и Златовратский93, а зажило бы в слове так же вечно, как Петербург Пушкина. В болезни, в лечебнице Павла Полиевктовна читала мне «Полтаву» Пушкина. Триумф победы Петра и явление Великой России, как всегда, заставили меня восторженно плакать святыми слезами не только любви, но и поклонения и долга пред Россией… Вот эти слезы цель слова, – поющего гимн родному-русскому…
Здоровейте, отдыхайте. Год (зима) для России опять трагический. Голод, страдания, а навязчиво думается и – муки освобождения. Победит тот, у кого крепче нервы. Нам надо крепиться. Я мню о славном будущем эмигрантов в России…
Низкий поклон Ольге Александровне. Павла Полиевктовна где-то по делам в городе. Кланяюсь и от нее. Все шьет себе из старья нечто «новое» на лето, чтобы показаться «нá люди», а то уже привыкла на своей кухне быть одетой «ни в чем».
Целую. Ваш А. Карташев
4/17 июля 1930 г. Преп. Андрея Критского
(Так это чудесно, что делаете Вы, дорогой Антон Владимирович, обозначая день – славой, как делали православные в былое время. Отныне, пиша добрым людям, буду и я так делать, прочитывая Святое Евангелие и Апостола на сей день. Ныне чудесное выпало (не правда ли?!): Матф. 13, 36–4394 и 1 Коринф. 3, 18–2395. Да будет благословен Господь! Как хочу научиться молиться!)
Дорогие друзья наши, Павла Полиевктовна, Антон Владимирович!
Первое – будьте здравы и бодры духом! Мне так это понятно, ибо я часто нездоров и часто дух мой слабеет и – тревожен, и – удручен бывает. Веруем, что, даст Господь, – окрепнете.
Живем тихо, приехал Ивик (6-го), Юля наспех привезла и в тот же день уехала, – дела, кормиться надо. Кульманы здесь с 8-го, очень довольны лесной дачкой, где они как помещики (с керосинчиком!). Николай Карлович погибает на рыбном лове, на Океане, и я посему составил злые стихи. Бальмонт сегодня-завтра вернется из Литвы, – давно в Париже. Начинаются жары. Мне Господь послал написать за «Троицыным днем» – «Царский золотой», – вступление в «Богомолье». Засим написал 1-ю часть (очерк) «Богомолья» – «Сборы». А должно быть их 4–5. Считаю душой, что это трудное дело, святое дело. Помоги, Господи! Второй очерк будет – «Москвой (ю)», третий – должен быть «Дорога», 4-й «У Троицы», 5-й «Под стенами»… Справочку: где был о. Варнава – у Черниговской? Что это – скит? или – рядом? А Вифания?.. Дело в том, что Ваша Троице-Сергиева лавра – в Севре, а в записках моих (заметках) упущено. Читал Кульманам – «Сборы» и «Золотой», – говорят – прости, Господи! – восхитительно. Правда, пиша, я в одном месте поплакал. Грустно, что приходится печатать в «России и славянстве»96 – круг узкий, и оплата..! Сам себя обрезал, с людской помощью. Но, взвешивая все, – не так уж скорблю. Бог поможет – выйдут эти очерки отдельными книжками (полагаю – на две хватит!). Есть уже 18, нужно по плану – еще до 12–15. Пока – издавать не могу, писалось враздробь. С «Солдатами», за которых меня ругают левые97 (и даже делают доносы левым и правым), на две книжки позадержусь98 – великое утомление было, надо было душу осветить. А бросить не могу: я ведь лишь ноготок моего героя дал, – да и то, как бы, грязноватый. Глупые, не видят, что это лишь приступок, а «дома» еще и не видать. Удивлен, слыша от Н. К. Кульмана: горячим хвалителем «Солдат» является… Василий Алексеевич Маклаков! Он говорил Н.К. Кульману: я постигаю замысел Шмелева. Может быть… Но он и для меня самого – неясен еще. 3-я книжка будет отдана – «Лизе Корольковой» (самоубийце-девочке). Этот роман – не баловство мое: я его с мýкой пишу (может быть, и не удастся!). Я хочу через него искать человека. Это не гимн «солдату»: это искание оплота от зла, на фоне былóго нашего. И вовсе я не хотел бы, чтобы роман имел характер учительный, гимновый. Просто – потребность идти с фонарем по раскопкам и – учиться и постигать. Сцены «любовные»… – да это же ноготок Бураева, его забавка, ибо он и сам пока еще не сознает, что он и зачем. «Лиза Королькова»99 – первый звонок тревоги. Война – второй. Революция – 3-й. И еще должны быть «звонки», пока все не сольется в гул набата, через который, – кто знает, – может быть, и услышится – святая песнь?.. На этот роман (не для забавы и заполнения времени и не для выгоды!) надо, кажется, всего себя истратить. Но тогда у меня на тихое, мое, наше – на «Лето Господне» – не останется ни сил, ни времени, ни «усыпленной» души. А роман предполагается – Россию пораскрыть. А хватит ли уменья, воли и сердца – ох, не знаю. Вслепую иду… – и, пока, может быть, неясно и раздражающе для читателей.
Сегодня узнал, что вышла, наконец, в июльской книге (1 июля) revue «Les Oeuvres Libres» – «Неупиваемая чаша», в переводе H. Mongault100. Кажется, целиком. Еще не видал. Это на 8-й язык уже101. А на два еще – в пути102. С огромным наслаждением прочел «Откровенные рассказы странника» (переиздание YMCA)103. Не совсем удовлетворен Николаем Арсеньевым – «Православие, католичество и протестантизм»104 – очень уж поверхностно, как бы газетно взято. Видимо – для толпы? Об этом надо бы писать с глубокой душой и – глубоко. В этой области «общедоступность» вредит. А опечаток, как комаров на пруду, – щелкай да щелкай, и пейзажа не увидишь.
Поправляйтесь же! Было бы важно Вам, действительно, на ярый юг уехать после ванн. Именно – на ярый, где суше. И это надо сделать. У нас все время лили дожди, заплеснела вся обувь и платье (редкий год!), только 2–3 дня жары, но сейчас, пока писал, замолаживает, будет гроза, ливень. А если все же вдруг вздумаете в наши места, известите: может быть, что поприглядим. У нас пока остановитесь, тесно только, да на время не обессудите. На Океан я не хожу – нервы никуда, сплю плохо после. И так сон плохой. Скрипим помаленьку. Вот – сочинил стишонки:
- …Ивик звонкий прилетел,
- Мало денег, мало дел… (!)105
- Все идет в порядке дней.
- То светлее, то темней.
- Дождь отлил – так солнце льет,
- Солнце скрылось – дождь прольет…
Эх, пошел бы пешком к Угоднику! С посошком бы… с чувством! Попробую – на бумаге… Здоровейте, обнимаем Вас, дорогой. А к «злобе дня сего» у меня – устал, с болью. Стена, тьма. Сохранить бы силы – на свое, к чему призван. Иначе – я с винтов сорвусь, – ни-куда нервы, плáчу порой, – и хотел бы стать маленьким-маленьким, и чтобы кто-нибудь взрослый водил меня за ручку! Этим «взрослым» ныне может быть только – Святой, Господня Сила, но надо уметь принять ее, надо уметь молиться. Хочу, учусь… Годы ведь не молился! А умел ли когда? Вряд ли. Разве лепетал ребенком..?
Ну, будьте же здоровы, сильны. Господь да поможет Вам! Ваши Ольга и Ив. Шмелевы.
Дорогая кумушка, Павла Полиевктовна, Оля так измучена хозяйством (о, казнь наша!), что не в силах писать. Я за нее. Спасибо за письмецо. С квартирой не решили и не ведаем, что решим. Куда нам рипаться?! На это лишние нервы надо и – деньги. Так что спасибо за предложение помочь нам с мебелью, – где нам обзаводиться, постояльцам жизни! Будем протирать чужое – за свои денежки-гроши. Помнится мне, что у Metro в конце парка, когда ездили в Сергиевское подворье, строится дом с маленькими квартирами. Я даже сам было загорелся – ах, ко всенощной-то ходить! – Юля побежала справиться (на Пасхе было), а контора заперта. С тем и уехали. Мы как бы – в ветре, куда понесет. Даст Бог день – даст и кров, и пищу. Отсыпайтесь и оздоровляйте Антона Владимировича и себя. В Париж – как всегда, ибо связаны хозяином, который там садовничает. Ивик целует Вас и Антона Владимировича. Отдыхает, заморился паренек, перешел в 7-й класс (их 11 там, в лицее). По арифметике вторым! Остальное – среднее. Да 2 месяца был без присмотра, без репетиторства. Мать-то – в хлопотах! Хорошо и так. Лишь бы идол-то не потревожил.
Ольга Александровна с утра до ночи – на ногах, ужас. Одной посудой подавиться. 4 еды в день, с чаями-то! Да еще, для экономии, тайно от меня – стирает. Я, говорит, тряпки для кухни, нельзя же их прачке! А какое там тряпки! Борюсь, умоляю… Убивает себя, внутреннее свое, работой. Да, итоги. 14-го ст. ст. (не для поздравления сие пишу!) – 35 лет нашей свадьбы106… Ах, как все больно. А 1-го было 35 лет, как я напечатал 1-й рассказ «У мельницы» в «Русском обозрении» (толстый журнал покойного К. Леонтьева), зеленый студент107! Подарил на свои, заработанные невесте, за неделю до свадьбы (бедные мы были) конфеты, цитру и эмалевые краски для раскрашивания глиняных кувшинчиков… Вот, сидел вечером 1-го числа, – и заплакал, все вспомнил… И такая скорбь, боль… Она подошла тихо, тихо поцеловала в голову, постояла. А у меня слезы, слезы боли и горечи… – за что отнято единственное, наше?! Правда, светлое не помнится, будто. Было и его, и много. Но… боль все кроет. Вот и наши юбилеи, у семи дорог. Но – Господи! – мы хоть под хорошим кровом, а сколько, сколько… что говорить! Простите, расписался. Скулю. Не надо бы так. Да эгоистичен человек, отдать часть из себя грезит, растрепать… Да где!.. Надо уметь клапаны затыкать – и не смотреть «в ту сторону, где больно». Тут – нужна духовная пристань. Где – она? Надо и ее уметь найти, и причалы иметь, чалки-то… и крючки-кольца, а то сорвет. К св. Отцам идти. Да неопытен я. И свой голос еще не затихает. А надежд у меня, у нас – никаких. На починку-то сердца. Надо его как-то другим сделать, – новое. Хожу около Господа, и не вижу. Глаза надо новые… Где же сей хирург-окулист?!
Ну, простите скулу. Будьте здоровы. Затянуло все небо, вихрь. Дождь будет. Я люблю дождь. Солнце – раздражает. Когда душу теснит – солнце особенно режет. Дождь, лей не жалей. Помните Короля Лира108? Все мы – в некотором роде такие Лиры, только вот зрячие. И можем мерить его мерой: тигр страшнее волка, пропасть – огня. И спасение наше – в относительности. А кругом – мир пляшет!
Ну, целуем Вас все трое. Олечка просит простить ее, что не черкнула: Павла Полиевктовна, говорит, поймет меня. Ну, а я, как присяжный писать, – расписался.
Любящие Вас – Ольга, Ив. Шмелев и на довесок Ивик.
26/13. VII. 1930.
Bagnoles
Дорогой Иван Сергеевич!
Начну со справки. «Черниговская» – это скит новой, великолепной красно-кирпичной постройки рядом (подальше на север, поглубже) со скитом Гефсимания109, который лежит к северу от «Троицы» (в версте–двух? – забыл, пешком ходил). Жемчужиной Гефсимании является деревянная церковь постройки св. игумена Дионисия XV в. (!), обновленная в XVII, пощаженная огнем польского нашествия – очень интересно быть в ней (будто в гостях у самого Сергия Преподобного, во всеобъемлющей древесной стихии). Подальше, только через каменную ограду, новую железно-решетчатую калитку – к Черниговской. Тут на «буржуазном» кладбище под черным мраморным крестом, с золотой надписью на черном камне лежит К. Леонтьев. Розанов В.В. хотел лечь рядом, не знаю, исполнили ли его волю110? Храм новый, шаблонная имитация стиля конца XVII в. шатровой формы. Чтимая икона в подспудной часовне – весь день открытой. Пришел я туда помолиться в начале августа 1918 г. перед бегством из России, а направо в уголке земно молится А.Д. Самарин (бывший обер-прокурор Синода111), и я знаю – о том же. Я приложился и, «не заметив его», вышел. Он выехал с поездом на Оршу и на границе был схвачен, долго сидел. Но Богородица пощадила – выпустили. Потом снова дважды сидел за патриарха Тихона, и опять выпущен. Долго стоял на страже православия против живоцерковников в Москве112; не знаю, устоял ли, не сослан ли113? Вместе с М.А. Новоселовым, П.И. Новгородцевым114, В.А. Тернавцевым115. Последний давно в Сибири…
Вот человек, который поразил бы Вас своим пророческим ясновидением и, может бы, обогатил116.
А Вифания117 – это большой монастырь с белокаменными корпусами и знаменитым храмом, построенным в самом конце XVIII – начале XIX в. знаменитым митрополитом Платоном (Лёвшиным), со зданием Вифанской духовной семинарии (второй для Московской епархии, 1-я в самой Москве на Садовой-Каретной118). Это прямо на восток от Посада119, верстах в 6-ти. Это граница Московской губернии и Владимирской. Поэтому часть духовенства Владимирской губернии учила своих детей в Вифании. Тут близко уездный город Владимирской губернии Александровск120, бывшая Александровская слобода, куда уезжал из Москвы Грозный перед объявлением опричнины.
А на север от Посада по железной дороге, станции через четыре, станция Арсаки и от нее в двух верстах Зосимова пустынь121. Там я тогда же говел, исповедовался у старца Иннокентия122 и соборовался в день Преображения. Это таинство елеосвящения, в первый раз мною принятое, я пережил и как броню духовную против большевицкого меча и пули, и как напутствие в иную жизнь, ибо готовился к бегству. На юг не удалось, на восток не удалось. Почти сказочно, без моих забот меня перевезли на северо-запад: с 18 на 19 декабря (новый 1919 год нового стиля) я очутился в «счастливой» (против советского ада) Финляндии123. И потом долго, годами ощущал на себе защитную броню елеосвящения. Для чего-то Бог пощадил и дал еще вторую жизнь…
С болезнью и отрывом от всего мы еще не видали ваших «Солдат». Но заранее понимаю и приветствую Вашу потребность «идти с фонарем по раскопкам» и… «Россию пораскрыть». «Растратить на это всего себя» – стóит!! Бояться не надо. Бог даст сил. «Тихое, свое»… придет само собой как отдых от трагедии. Ведь цель – не бури, не апокалипсис, а «благоденственное и мирное житие». А апокалипсис нечего накликать, – он приходит сам собой, как смерть историческая и иная уже жизнь, за историей.
Вот «стяжать Духа Святого», как говорит преп. Серафим124 или – «сердце новое» (Иеремия125 и Иезекииль126) это задача наиобязательнейшая. И исполнимая – в капельке. Но «мал квас все смешение квасит», говорит Павел. Где найти эту каплю «дрожжей»? Где «тихая пристань»? Не у свв. отцов, как у книги. Они могут литературно и психологически даже раздражить кажущейся мертвостью. Ибо – люди иного времени, иной психики (даже чисто исторически). Но и к ним дорога только через Церковь (в простецком смысле), т.е. через обедни и всенощные, через богослужение, через слова богослужебных книг и через их церковное пение и чтение. Вот книги – всем книгам книги!! И само священное писание в богослужебном же произнесении и перепевах. Эти слова пленяют душу и дают ей иную родину, иную мать родную, иное золотое детство нашей душе-младенцу, иные блаженные сны, мечты и радости юности духовной, иные слезы счастья, иное родство, иной крепкий, нестареющий дом вековой. Это не только «пристань», но твердыня неразрушимая, покой души навеки, «у Христа за пазухой». С поселением в сей обители просто исключается всякое «удручение» духа, всякая «слабость и тревога», всякая «стена и тьма». Никогда, никакой тьмы, особенно «тьмы» – Боже сохрани! Уныние, сомнение – да! Но «стен и тьмы» – нет!! Конечно, человеческая психология и физиология свое возьмут. Но это плотское не перельется в духовное отравление и духовной трагедии никогда уже не будет. Не может быть, душа уже отдалась в плен красоте церковной, ибо там огни и свет не угасают. А в минуту искушения, когда лукавый эту «тьму» незаметно сгущает, когда вдруг чувствуешь, что уже упал в яму, и хочется зверино завыть от уныния, тогда (как упавший в колодец напряжет же через силу мускулы и удержится на брошенной ему веревке) с усилием и натугой до боли надо ухватиться за молитву, да, начитавшись святых слов, переломиться, да намолиться до сна и молитвенно заспать удушье дьявола. Это все на крайний случай. Обычно легче и проще. Надо следить за собой. И когда уныние еще за 100 верст – бежать скорее в церковь или немедленно впиваться в красно-черные слова богослужебных книг, и часто вмиг, как на крыльях, ангел отнесет тебя с рельс черного дьяволова поезда с тьмой, «с души как бремя скатится».
Молиться проще простого, если смириться. Возгордившись над простым, теряют все пути к молитве. Это сектантская гордыня – всегда молиться своими словами, всегда экстатически. Это недоступно, и потому сама молитва становится недоступной. Плотин лишь два-три раза в жизни испытал экстаз погружения в «Не-Сущее»127. А сектанты, сбившись с дороги, вынуждены добиваться «вы́деланного» экстаза вплоть до хлыстовских верчений. Все это пошлó от гордыни, от отказа от простоты. Преп. Серафим по часовнику, каноннику да псалтыри – дошел до ангельства, не торопился со своими словами. А особенно нам, одичавшим вне церкви, не под силу свои слова. Пусть они будут, без них нельзя, но на втором месте. Детям для ходьбы дают Gängel-wagen – рамку-тележку, чтобы научиться шагать. Вот такой Gängel-wagen высокой пробы дан нам в церковных молитвах.
Не бойтесь начать механически. Читайте, соблазняйтесь, критикуйте. Но не торопитесь бросать. Начните с того, чтó в церкви слышите, с чтения литургии, всенощной, часов, псалтири. Например, по Часослову128: «Иже на всякое время и на всякий час…»129 Или заключительная молитва 6-го часа: «Боже и Господи сил и всея твари Содетелю…» Какой ритм, какое величие и бесстрастие, «безэкстатический» восторг, без чувственности!..
- «Есть речи – значенье
- Темно иль ничтожно,
- Но им без волненья
- Внимать невозможно…»130
Как без Пушкина, Лермонтова жить скучно, так и без часослова и канонника. А возьмите акафисты – Божией Матери (древнейший – Георгия Писиды VII века!)131 или Иисусу Сладчайшему – афонский132. Унесут Вас на крыльях и убаюкают в небесном, в бесстрастном, успокоят и усладят. Но нельзя от молитвы требовать всегда сладости и восхищения. Мы плотяны, сóнны и грешны. Мы недостойны молитвы всегда небесной. Мы должны еще вылезать из нашей ямы, из канавы Мити Карамазова133. А потому молитву надо начинать труднически, с насилием над собой, не боясь механики на первых шагах. Потом несмазанная телега разойдется. Отцы именно настаивают на этом насилии над собой в молитве. И эти регулярные упражнения приучат к молитве и облегчат более частые восхождения ввысь. И повторяю – по готовой лесенке церковных молитв, а не своих убогих и будничных слов. А поэтому надо молитвы заучить и творить их везде, когда в душе есть досуг: в дороге, в метро, в вокзале, в ванне, особенно когда надо чего-нибудь ждать, томительно «терять время». Молитвам нет конца, и никогда их не перечитаешь. И никакой «скуки» быть не может. Молитва – это будничная гигиена, это – мытье лица души, ее причесывание. Посмотрите, как латинские попы себя дисциплинируют. Бревиарий134 всегда в кармане, и он всегда может начать свою horam canonicam*. Это не из лицемерия, а ради дисциплины, упражнения. Почему Рубинштейн135 в вагоне может перебирать немые клавиши, а кюре нет?
Итак, попробуйте с этого самого нормально-методического конца. Конечно, люди различны и психика капризна, пути поэтому неодинаковы. Но все-таки надо знать метóду. Германия в науке и в дисциплине национальной вся стоит на метóде. «Без снасти и вши не убьешь», грубо говорит русский народ. Без методы, анархически ничему не выучишься и в духовной жизни. Нужна работа, труд, но нужно и знание, выучка. Странник-то ведь все ходил, искал научения, что значит «непрестанно молитеся» и как это сделать?
Словом, не своими силами и не своими выдумками, а только в церкви и через ее средства и пути можно уйти далеко: «утаил от премудрых и разумных и открыл младенцам» (Мф.)136.
В церкви не боятся и прозы и скуки будней, знают, что пройдет и вот-вот сейчас же падет росинка с неба, которая скрасит все утро, а другая вечер и ночь и т.д. – вся жизнь украсится этими жемчужными нитями. Не думайте, что надо сотворить из себя молитву, надо ее взять готовую в церкви, щедро предлагаемую, как хлеб в лавке: нá, бери и насыщайся.
Светские всё думают о творчестве, о «героическом» пути, а церковь дает силы всем «малым сим» – не героям, но их питает и дает им силы более героические, чем героям по профессии.
У апостола Павла наряду с «непрестанно молитеся» сказано тут же: «присно радуйтеся»137. Всегда радоваться – это еще труднее. Но это – прямое следствие молитвы. Если она непрестанна – непрестанна и радость.
Как только радость потеряна, через молитву ее найдешь.
Ну, вот наговорил до устали. Завтра воскресенье, а с февраля я всенощной не слыхал и обедни. Надо внутренно постараться вспомнить то и другое. Но этого мало. Нужна всенощная и обедня – физически, как чай и обед.
Не дивитесь моей сухости и доктринерству. Бог, Христос, Богородица, молитва – все это – реальное, как наше тело, пища, одежда. И нéчего особенно жеманиться – об этом не говорить, якобы из-за «несказанности». Посмотрите, простые верующие люди говорят об этом за едой, за чаем вперемежку с «делами», куплей и продажей. И это естественно. А интеллигентские «несказáнности» часто «кокетство» или словесность.
–
Вылечиваюсь понемножку. Большая забота по приезде найти квартиру и переехать. Ни о каких поездках больше нельзя думать.
Целую – А. Карташев
1/14 авг. 1930.
«Riant Sejour»
Полагаю, что Вы дома уже.
Дорогой, милый Антон Владимирович,
Всей семьей приветствуем Вас в день Ангела – Антония Римлянина (упо-мнил!), с сердечнейшими пожеланиями Вам полного восстановления здоровья, душевной крепости и благоденственного и мирного жития. По силе-слабости своей молюсь за Вас и за близких Вам, аз неумелый, несчастный «приготовишка» в великом делании – молитве.
Ваше вдохновенное письмо-послание о молитве обрадовало меня – не высказать. Читал и перечитывал его – и себе, и Н.К. Кульману с Натальей Ивановной, и – Бальмонту138. Всех растрогало и умилило, и – радостно осияло оно. Бальмонт даже захотел молиться, – а вчера заявил, – «как это верно, что надо, действительно, всегда молитву думать, не стыдясь, ибо все это – реальность». Удивительные есть места в письме. В целофан его надо обрамить и держать на глазах, на столе. Ивик удивительно чисто молится! Выучил я ряд молитв, – особенно мне чудесным кажется – «Иже на всякое время…» И насколько Пушкинское «Владыка дней моих» – слабее (и как бы парфюмеристо!) в сравнении с Ефремом Сириным – «Господи и Владыка»! Вдохновенное слово сказали – в душу мою (и не одну мою!). Спасибо, дорогой. Поцелуйте за нас Павлу Полиевктовну.
Погода – дожди и (после) холод. Осень непогожая. Удивительно! Помаленьку пишу, надо больше. Все еще не кончил «Богомолье». Бо-юсь. Должен кончить в августе. А печатать – где будешь! Получил ряд писем за «Царский золотой»! Уди‐ви‐тельное одно! Проф. И.А. Ильин прислал вдохновенное139. Это – укрепляет. Жить – живем. Ивик очень почернел, окреп, несмотря на погоду: все под небом. Кульманы заходят каждый вечер, – все рыбку удит. А мне трудновато ходить далёко. Как с квартирой Вы? Неужели это мешает Вам поехать куда – погреться? Верю, что сентябрь будет хорош здесь. Подумайте-ка. Думали мы обосноваться на годовой квартире, да видим – не выдержать, дорого Юля подыскала, – не взяли мы. Опять на старое, за 300 фр. – случай ведь! Опять переезды, таскание, утомление для Ольги Александровны. – Ну, будьте же, дорогой, здоровы, с милой кумушкой Павлой Полиевктовной и не забывайте нас. Обнимаем Вас. Ваши Ольга, Ив. Шмелев + Ивик.
3 сент. 1930. [Открытка]
Дорогой Иван Сергеевич!
Получил Ваше письмо. Но еще не мог ответить: расслабел от ванн, а затем начались сборы и переезд на новую квартиру (!!), хаос и утомление… И пока ни о чем не пишу, кроме нового адреса: 3, rue Manin, Paris–XIXe. Это в 10 минутах ходьбы от Сергиевского подворья. Наконец-то и близко от дела и от церкви! Целую – А. Карташев
Monsieur I.S. Chmélov Villa «Riant Sejour»
Capbreton (Landes)
19. Х/1 ноября 1930 г.
[Севр]
Дорогая наша кумушка, Павла Полиевктовна,
С песков перебрались на глину, – говорят, севрский фарфор, а на деле – живая грязь! – и так эти переезды утомили Ольгу Александровну, что еще никуда не выбирались. Для нее, главным образом, эти наши переезды, дважды в год – самоистребление! Не сможем попасть пока в Подворье и к Вам: всякие недочеты – и телесные, и хозяйственные. А так хочется к обедне и – беседы с Вами и дорогим болящим, милым душе Антоном Владимировичем! Эх, тянет меня за святые стены! Оплесневела душа от всего «европейского»-готтентотского и от всей грязи «дней сих». Мы пока ничего не установили, в какой день можем принимать друзей – добрых людей. И во мне усталость великая, хоть и мало работал. Ду-шевное недомогание. Ивик все время был с нами, – привезли, учится, часто ночует у нас: Юле не углядеть за ним.
Надо работать, зарабатывать на хлеб и угол, а так душевные косточки расслабли, что боюсь и к столу приближаться: оторопь. И не лень это, а какая-то – моркотня.
И терпеть не могу осенней слякоти, ладонности – гнили лесовой. Эх, снежку бы!..
Поцелуйте Антона Владимировича за нас. Будьте здоровы. Душевная дряблость помешала мне (с укладками) написать Вам на юг. Не взыщите.
Ваш Ив. Шмелев с супругой.
Летом (14.VII. ст. ст.) стукнуло нам 35-летие свадьбы и неразлучности. – И – сколько же было все-го!.. И где очутились!..
И – что́ – мы, сироты!.. Ну, да будет Господня Воля.
15/28. XII. 1930, вечер
Дорогой Антон Владимирович,
Как бы хотел знать все жития Святых! Ведь невежда я, а как тянет последнее время к познанию высокого в человеке! Когда-то была Павленковская библиотека – «Биографии великих людей»140. Где же специалистами составленные биографии – Святых людей? Простецы писали, но больше «сытинские и шарапово-манухинские и леухинские»141? За 2–3 копейки. Ах, и их бы почитал.
На «Богомолье» иду, а пока застрял в трактире Брехунова. Прочтете 3-й очерк, сдал на днях, а еще надо 3: «К Угоднику», «Лавру» и «У стен». И блинницы будут с карасиками, с блинками, с кашничками заварными – «ушки», и проч. И торг игрушками, и – житейско-грешное под стенами. Дал бы Господь мне написать еще 15 очерков! Ничто больше, кроме нашего, тихого, не идет в душу!
Да, дорогой, знаю, что добрый друг был в некотором роде виновником моего «литературного юбилея». Да простит ему Бог, а я, его слабости человеческой – низко кланяюсь. А «пресса»… – у прессы свои друзья и враги, своя грязь и пыль, свои звезды… и проч. Знаете, я уже, – чую, – перерастаю в душе – прессу, знаю ей цену. Мне дорог друг-читатель, а теперь он у меня по всему свету. 26 книг издано на 10 языках. Да еще до 8 рождаются. Универсальная библиотека Reclamʹа142 пишет, что ввиду «необычайно благоприятных» отзывов немецкой прессы, несмотря на кризис, видим, что будет материальный (так и воняет прямо) доход, и «мы подумываем о другой книжке». Это дураки так могут писать? Издатель?! Дескать, задирай нос и дери!? Ладно.
Получил вчера венгерского «Человека» и «Забавное приключение»143. В Сербии вышел «Человек», но… денег пока не дают, а судиться – адвокат просит на предварительные расходы – 1000 динаров – 500 фр. Нне-эт.
Статья Ваша о Богословском институте появилась в среду 24 декабря № 355, высылаю одновременно.
В храм сердце стремится! Спасибо за доброту Вашу, лишь бы невралгические боли стихли, а то эту неделю валялся. Сегодня – погода ясная – лучше. Будьте здоровы. Целуем Вас обоих. Ваш Ив. Шмелев.
Дорогая кума, Павла Полиевктовна,
Правильно, об Юлином «нéщечке» и я того же мнения. Полюбила сатану пуще ясна сокола! Ваши гости, если Господь сподобит. Ольга Александровна целует Вас, а я – к ручке. И Ивик целует крестную. Он все время у нас, слава Богу. А Юля заболела гриппом, и дня три уже лежит у себя. Ивик ходит под окно к ней – на воздушные поцелуйчики. Ваш преданнейше – кум Ив. Шмелев.
25. VII. 1931 г.
Capbreton (Landes)
Посылаю Вам с Антоном Владимировичем – «Родное»: может быть, на досуге прочитаете «Росстани».
Дорогая Павла Полиевктовна,
Ольга Александровна очень благодарит Вас и Антона Владимировича, что вспомнили нас грешных. Низко Вам кланяемся. Пишу за Ольгу Александровну: у ней пальцы держать пера не могут – болят, лечить бы надо, а трудно. Такая наша жизнь цыганская: сиди, куда приткнуло. А мы, простите, за всеми болями (и я все полеживал-перемогался), забыли день Вашего Ангела, 3-го июля, – сейчас по календарю разглядел. Уж простите, примите запоздавшее наше поздравление и душевнейшие пожелания здоровья и благополучия! С прошедшим днем Ангела, а Антона Владимировича – с дорогой сердцу именинницей! Да то Ивик приехал (привезла одна француженка-попутчица), то на днях Юля, у которой та же, оказывается, болезнь, что и у Вашего кума: язва желудка, будто, Аитов144 предполагает, до радиографии. Вот Ольга Александровна и в хлопотах, одна про все. Жизнь, не отмахнешься. А у Ольги Александровны душа-то вселюбящая, всеболеющая. Мне, прямо, больно болеть, ее тревожить. Болел и помалости писал рассказы. Все «богомольствую». А хотелось бы в романе поплавать, не дождусь. Финансы наши хуже немецких, и никаких мораториев не предвидится. Спасибо еще, что с немцев весной за роман получил аванс, выйдет в сентябре, а кому покупать? У Reclamʹа (универсальная библиотека) книжечка, вышедшая в декабре, прошла вся (10 тыс. экземпляров), думал 2-е издание делать, да вот – крах. Правда, за эти 10 тыс. (дешевое издание) я 1200 фр. всего выручил. Зубы на полок, как говорит один немец. – Рады мы душевно, что нога Антона Владимировича исцелилась, – дай Бог здоровья! А что Розанова читаете… и – интересно? – Для меня содрогание этот Розанов. Это – «занозы» и «очистки» от Достоевского145. Это обостренное и больное самооголение, с бесстыдством, со смакованием голости своей, верх заостренности и пустопорожности (больной) русской fin-«интеллигенции»146. Это, часто, такая гниль и прóваль (без взлетов), это кошмарное порождение больных чувствованьиц, Федор Карамазов + Смердяков + Лебядкин + Иван Карамазов + подпольный человек147… И знаменательно: восприемник г-жи Сусловой после Достоевского. Это, скажу, высморканный маленький «достоевский», возведенный в… философы! Я его не переваривал никогда. То-то «мережковские» с ним носились148. Потемошный человёнок с искрами Света. Но… – покаявшийся, мир его духу, пребывавшему в смердящем мраке. Он – весь половой психопат, клинический субъект, «расейский Нитцше». Слова уж очень просты и подкупающи оголенностью. Высоколитературная непристойность, не менявшая никогда белье. Простите, под руку попало.
Привет сердечный от всех нас, от Ольги Александровны, Юли, Ивика, меня – грешника. Поцелуйте Антона Владимировича. Целую Вашу ручку, кумушка. Не серчайте за Розанова. Он – си-ний! Ваш Ив. Шмелев.
21 авг. 1931 г.
Ланды
Черкните, получили ли мое письмо сие.
Дорогой Антон Владимирович,
За своими болями да хлопотами (приезжал отец Ивушкин149 и брал его с собой на неделю погулять, боялись, что заберет совсем, – спасибо, не забрал, расходов испугался) пропустил я Ваш день Ангела – Антония Рымлянина – 3 августа ст. ст. и не поздравил. Не вмените мне сего в небрежение. Как раз в сие время у нас была тоска, Юля, отпустив Ивика, плакала, ездила потом за ним в Royan*, принять от отца, а мы тревожились за Ивика.
Шлем вам запоздалое поздравление и пожелание укрепления здоровья, а дорогую куму Павлу Полиевктовну – с дорогим именинником, пусть и подсохшим.
Все же я, в извинение как бы, – да будет! – послал Вам на место лечения – не помню уж куда, – новую книжечку «Родное»150. Может быть, не читали мои (в 1913 г. писаны!) «Росстани».
И еще – в извинение да послужит! – прочитал из древней письменности русской – житие Антония Рымлянина, как он из Средиземного моря объявился в Волхове и судился с рыбаками, чтó бочку выловили с деньгами. Картинно написано! Нет, ясно, что не Новгородский был, а сущий рымлянин.
Будьте здоровы обои, не знаю, где пребываете, а посему пишу на Париж.
Ольга Александровна благодарит за привет ко дню св. Ольги.
А я опять болею, все эти дни лежал. Да семейные дела-то – с мальчиком-то – расстроили. Все это мешает работе, пишу мало, а надо хоть «Богомолье» закончить.
Спасибо, навещают нас Н.К. Кульман с Натальей Ивановной да Бальмонты. Надеюсь, Павла Полиевктовна получила мое письмецо на водах. Ваши Ив. и Ольга Шмелевы.
3 окт. 1932.
Paris–XIX, 3, rue Manin
Дорогой Иван Сергеевич!
Где вы теперь? Куда писать? А… Федоров торопит писать. Вероятно, Вы получили от него слезницу о студентах. Для настоящей минуты он хлопочет, чтобы группа писателей («правых» и «левых» – Алданов согласен) написала от себя воззвание ему в поддержку, при начале учебного года151. Просит меня попросить Вас. Коротенькое, простое воззвание, но чтобы не федоровским канцелярским стилем. Ответьте ему (79, Bd. St. Michel, Paris–V), согласны ли подписать или и написать воззвание?
А мы Ваше аячское письмо (от 31.VIII) получили уже дома, вернувшись 1 сентября. Нескладна была наша поездка на Корсику. Соблазнил коллега проф. С.С. Безобразов (ныне уже иеромонах о. Кассиан)152. Особенно хотела Павла Полиевктовна. Но Безобразов ездил на «пансион», денег у него втрое больше, а мы «со своей керосинкой». И получилось недоразумение. В этой дикой стране нельзя с налету устроиться со своим хозяйством, как мы избаловались делать на Ривьере. На Корсике трудно достать провизию. И жилища ужасны. Понятия об отхожем месте нет. Тысячи лет эта еще римская «Сибирь», населенная ссыльными лодырями, живет в лености и грязи. Делают все в огороде, если есть, или дома в ведро и выбрасывают в окна прямо на улицу. Неудобства и вонь ужасающие. За каждой овощинкой, за каплей козьего молока, за яичком надо кланяться, чтобы соблаговолили продать. За водой надо ходить за версту. Об электричестве и газе понятия не имеют: керосиновые лампы – последнее достижение. Помучились мы, истратили те деньги за 3 недели, каких нам хватило бы на удобную и сытую жизнь на Ривьере на 5 недель, и с облегчением удрали домой к чистоте, к ванне, к сытости… Берег для купанья был трудно доступен, но когда купались – блаженствовали: чистота воды, песка, девственность и пустынность природы, запахи трав и кустарников – чарующие. И эти мгновения райской ласки – почти все искупали.
К Корсике надо уметь подойти. Надо или иметь деньги на «пансион» и (не думая о воде, клозете и пище) пожить в избранных и «европейских» местах, как Calvi, L’Île-Rousse153. Или – по-студенчески, котомки за плечами, пересечь ее в день по железной дороге и прогуляться по шоссе. И – долой. Тогда вкушаются одни красоты и скрыта проза. А мы себя и людей насмешили. Ну, ничего, пока еще не так стары, чтобы унывать. Но я бы один все-таки этой нелепости не сделал. А дороговизны дороги нет. От Марселя до Аяччо – всего 39 fr., конечно, в IV классе, на палубе. Это тяжко. Вышло тревожное лето. Особенно для меня. С 25 июня я уехал на съезд национальных меньшинств в Вену. Оттуда меня забрали на Велеградский католический съезд в Моравию. Вернулся только 20 июля. Это путешествие с небольшим минусом было мне оплочено. Еще не собрался написать о своих впечатлениях.
Начинаем учебный год с новых бюджетных сокращений. Все расплачиваемся за американский кризис. Оскудели «наши» миллионеры.
Павла Полиевктовна Ваше майское письмо получила и ответила. Но, очевидно, ответ ее не дошел. Часы лежат.
Помоги Вам Бог с изданием «Няни». Все это «против шерсти» не только нашим, но и всему миру. Оттого и не содействуют распространению «реакции».
Я перед Вами виноват, что не спросил еще YMCA-издателей154 о «Богомолье». Никогда почти с ними не встречаюсь, а летом (4 месяца) и тем более. Да и не особенно любят они меня: я для них «злой активист-кутеповец»155. Им нужен привкус соглашательства… Часть их у еп. Вениамина156, а он благословляет ехать в советскую Россию и там «служить» русской церкви. Как??? По «безбожной 5-летке» к 1 мая 1937 г. должны быть закрыты все церкви, так чтобы ни единого «дома молитвы» и ни единого служителя культа более уже не оставалось на территории коммунистического «отечества»157(!!)
Ультра-гнусности еще впереди. Любители «по‐революционных достижений» в СССР еще будут иметь удовольствие полюбоваться на свою «Третью Россию»…
В субботу Сергиев день. В Воскресенье – Иоанна Богослова, вечером молебен, а с понедельника утро – лекционная поденщина.
Факты провокации, подкупа и разложения эмиграции кругом умножаются. Видимо, большевики боятся за крепость власти, и оттого им ненавистнее сохранность эмигрантов.
Дай Бог Вам здоровья. Павла Полиевктовна особенно часто вспоминает про хозяйственное бремя Ольги Александровны. Какие у вас планы насчет зимнего житья? Сердечно Ваш А. Карташев.
18. Х. 32.
Простите, дорогой Антон Владимирович, – и болел, как полагается, и пишу большую вещь – роман? – так что волю на письма утратил, забыл, как и письма-то пишутся. Виноват перед Михаилом Михайловичем Федоровым, просившим меня написать о помощи учащейся молодежи: не смог. А раз нужно, чтобы братья-писатели подписали, и совсем отказался: на всех не потрафишь, и давно зарок дал не писать никаких «зовов», – пусть другие составляют, а я всегда готов на доброе дело подпись свою поставить. Да и какая разница, Михаил Михайлович ли пишет, другой ли кто: суть одна: молодежь надо поддержать, образование ей надо давать, – у кого есть сознание и совесть – дадут. А лишним «словом», правильней или чище сказанным, вряд ли что проймешь. Да и, скажу, сейчас я совершенно неспособен думать о чем другом, как о своей повести-романе, над которым, с перерывами, работаю больше полугода. Не откажите, как увидитесь, сказать Михаилу Михайловичу Федорову, что виноват перед ним, – мне ему и писать-то стыдно, – много времени прошло, – и пусть, если угодно, и мою подпись возьмет158. А я – выдохся: днями или Гегеля читаю, для отвлечения от мрака годов наших, или – свое маракую.
А чтобы на Корсики ездить, надо иметь великую фантазию и вкус к экзотике, страстную любовь к Наполеону – не Мережковского159! – и – или чугунное здоровье, или капиталы, или мощных почитателей, кои дадут деньжонки или даже сами провезут, что и бывает иногда. Вы же ахнули, как храбрый Левингстон или Стэнли160. Ох, уж эти экзотические места! Хотя и в сем есть некая приятность, ата-ви-стическая!
Куда и когда тронемся – не знаю. Может быть, и зазимуем здесь, ибо нет и воли, и – капиталов. Я же в газетах не работаю, текущего заработка не имею. А что получил за новую немецкую книгу, – увы, съедено. Куда же рипать-ся-то! И за русскую – «Лето Господне» – потреблено. Начала идти корректура «Лета Господня», берет время и выбивает из «романа». И роман, почти законченный, надо еще снова переписывать. Боюсь романа своего. Читал большую его часть Кульманам… – они, будто, в восторге, – за язык-то я не опасаюсь – «нянькин язык», а вот Наталья Ивановна обиделась, словно, за интеллигенцию… уж очень, правда, нянька моя махровую семейку выбрала! Но это, думаю, недоразумение. Распад интеллигенции в годы перед войной и разброд ее, столичной-то, – я его видал! – был чудовищный. Были святые, да… но греха что было!.. грязцы и грязи, и всего… – нянь-ка-то – народная-то представительница, – видала! И спрашивает меня Наталья Ивановна: «Значит, большевизм – по заслугам?» Странный вопрос. Какие «заслуги»?! Просто – одно из последствий и возможностей такого российского поганства и соблазна, т. е. – интеллигенции! Большевизм – да, к горю и боли и разгрому нашему – большевизм уго-то-ван был, отчасти (и очень даже!), и самой интеллигенцией, оголившимся человеком, утратившим «человеческое», по слову няньки – Бога позабыли. Да пускай ругает меня интеллигенция, и правая, и левая, ибо и правая – хо-ро-ша! – я пишу так, как пишет сердце. Да и политики нет никакой, а просто – быт, болтовня старухи, а мало ли чего старуха «во сне видит»! Никогда не считал интеллигенцию за «праведников», и «Нянька» моя – как бы довершение «Человека из ресторана». Я – весь от народа, весь с ним, и чувствовать дал бы Бог мне, как на-род чувствует, т. е. его совесть. Он не так глуп, чтобы истинного интеллигента обидеть. Он может грешить, но почитать грех за добродетель или никак не считать его – он не может. Т. е. нянька-то.
Поклоны наши Павле Полиевктовне – кумушке милой, и Вам, дорогой.
Будьте здоровы. Ваш Ив. Шмелев.
19. Х. 1932.
3, rue Manin, Paris–19
Дорогой Иван Сергеевич!
Вчера (за полгода в первый раз) увидел Вышеславцева, вручил ему вырезки с Вашим «Богомольем» и предложил к изданию. Он взял с положительным настроением, ибо уже слыхал похвалы с разных сторон161. Буду напоминать ему.
М.М. Федоров вопиет, ждя отклика от писателей на его циркулярное письмо. Если тяжелы индивидуальные отклики, он просит создать от группы коллективное воззваньице. Он вспоминает какое-то Ваше воззвание, как идеал162. Черкните ему, если не вдохновитесь написать сами, то – что подпишете групповое, чтобы он знал, что осуществимо.
Все сборщики в этом году в муке – деньги оскудели у русских. А «великодержавность» все та же: и культурная, и политическая.
А младороссы, утвержденцы, новоградцы163 стараются добить нас как якобы «живых мертвецов», ненужных «Третьей России»164.
А мы упорно собираемся опять отметить собранием «День скорби» 6 ноября. Что-то выйдет? Все – в мелочных разделениях.
Слышали, что вы долго собираетесь оставаться в Капбретоне? Вероятно, это экономнее? Тогда приветствую благоразумие. Я до утомительности ярко ношу это ощущение денежного сжатия и опасаюсь еще худшего.
Павла Полиевктовна где-то, нет дома. Но присоединяю ее к поклону Вам и Ольге Александровне. Сердечно ваш А. Карташев.
P.S. Дошла ли до Вас моя книжка летом? Нынешнюю зиму (из-за нового курса по сектоведению) ничего не напишу (кроме 3 статей в сборник). Но буду готовить 1-й том курса по истории Русской Церкви165.
29/16 ноября 32 г. [Открытка]
Дорогой Иван Сергеевич, вот ответы на Ваши вопросы.
1) Вышеславцеву сейчас лучше ничего не писать: Антон Владимирович находит это целесообразным по тактическим соображениям.
2) О Вашей книге Антон Владимирович с удовольствием напишет в «Возрождении», откуда уже и согласие имеется на помещение этой статьи. Семенов просил только не задержать, а потому, зная медлительность Антона Владимировича, присылайте Вашу книжку, как только она появится.
Простите за небрежное письмо, тороплюсь послать, чтобы не задержать интересующих Вас ответов.
Привет от нас обоих милой Ольге Александровне и Вам. П. Карташева.
P.S. Сегодня мои руки болят после стирки!! Не столько ревматизм, как кожа.
13. XII. 32.
Дорогая Павла Полиевктовна,
Очень меня обрадовало Ваше сообщение, что дорогой профессор, а главное – чуткая родная душа, глубоко постигающая тайники народного-православного духа, – не золочу пилюлю и не комплиментствую! – дорогой Антон Владимирович, дает внимание моей книжечке – «Лету Господню», которая пока еще не дородилась166. Остается последний лист корректуры. И как только получу верстку, то, не ожидая выхода книжки, пошлю на его благоусмотрение. А когда книжка выйдет, немедленно извещу, и пришлю авторский экземпляр. А верстку заблаговременно, чтобы Антон Владимирович сам распорядился занятым своим временем. Крепко благодарю. За честь почитаю. Лестно, когда к писателю подойдет профессор, да еще – душа, родственная твоей!
Ах, что за чудесное письмо получил я от Томаса Манна167! Какое душевное, и… – приятное русскому писателю. Обещает заехать ко мне, в Париже будет. Он меня теперь почти знает, ведь уже 8 книг вышло по-немецки.
Ивушка болел с неделю, не видали его дней десять. Живется тру-дно. Все еще не кончу никак роман, – но уж с хребта съехал, осталось заключение. Немцы уже просят, тогда и полегче станет, чего-нибудь дадут.
Привет от нас Вам и Антону Владимировичу. Поцелуйте его за нас. А Вам целую руку, почтительно, как добрый кум. Живем пустынниками. Вчера навестили нас Кульманы, чайку попили. Ваш Ив. Мизантропов.
С подлинным верно Ив. Шмелев.
2/15. VI. 1933.
Со днем Ангела поздравляем Вас, милая кумушка, Павла Полиевктовна! Наконец-то, не пропустил я дня, усмотрел в Святцах – Павлы-Девы, а прошлые годы все упускал: схватишься – ан уж давно прошло! Желаем Вам от Господа здоровья, в делах успеха. С дорогой именинницей поздравляем дорогого Антония-Рымлянина, статью его с большим интересом прочитал в «Современных записках». И Стиву поздравляем с дорогой именинницей. Живем мы отъединенно, как старосветские-с… да и старосветские, на самом деле, – вдали от шума городского и «дней культуры», и всяческой суеты-маеты. Хотя маета-то всюду достает и щиплет. «Скучно на этом свете, господа!..» – выкрикнул в оны времена Гоголь… А живи он в наше великолепное времячко, сказал бы с омерзением: «И окаянно же стало с человеком на этом мраке!»
Пожарились вы, слыхать, в Париже недельку прошлую! А у нас с Троицы как пошло лить – так и стегает и по сию пору, – залило. И прохладно, огурцы посадил – рвань, а не огурцы. Думал Ольгу Александровну потешить, а тешатся пока одни лимасы да эскарги, великолепная наша флора-фауна. Событий у нас, слава Богу, нет, окромя газет. И никто нас с прозой Тургенева не знакомит на вечерах культуры. И «безумных стариков» никто не выражает, – и то хорошо.
Из «светлых явлений»… – только солнышко в тучах выглянет и померкнет. Ивка предвкушает отдых, считает дни. И мы тоже. Получил исписанный громкими именами привет из Сент-Женевьев дэ Буа168 – трогательный привет! – за «Праздники» и «Богомолье»: оказывается, кто-то там ряд вечеров читал вслух обитателям сохраненные бережно вырезки из газет с моими очерками. Это меня порадовало, и присоединил я сей лист исторических имен к другим заветным. До слез растрогали. Из «хлебного» – плохо, туго, кризис. Но все же Германия хочет печатать две мои повестушки, а вот заплатит ли при моратории – вопрос. «Няня» переводится, а для соотечественников – спит пока, судьбы ждет, – не дам порвать на клочья169. «Богомолье» – издаю, и за этот месяц проработал его, все 12 очерков, увеличив объем на треть. Кажется, оно с «Летом Господним» облюбовывается Англией. Дай-то Бог. Пусть познают Россию в лучшем издании. А кто прочтет? Любители уклада, быта, – старый читатель, ныне переводящийся. Так для людей-то и пишешь, а не для аэропланников-мотоциклистов.
Тревожит меня здоровье Ольги Александровны: стала жаловаться на боли в груди, стеснение, а к доктору показаться не желает. О себе не говорю, – побаливаю с перерывами. Книг нет, а выписывать – копеек нет. Эх, Сократа бы почитал, что ли… – «диалоги»… – а где достать? Тургеневская библиотека за-лог требует! Вот какая, а еще ту-рге-невская! А газет не могу читать.
Приступаю к продолжению «очерков», только печатать негде. Хочу дать картину – «Крестный ход», «Именины», «Похороны», Поминки, «Кончину праведника» – Горкина, – «Зиму», «Целителя-Пантелеимона», «Гулянье»… – хватит170. Или – начну «Иностранца»171, – все будет зависеть от «хлебных средств».
Вспомните о нас грешных и не оставьте в молитвах. И да сохранит Вас Господь. Очень скучаю по церкви.
Сердечный привет от нас, милые. Ваш, неизменно, Ив. Шмелев – с супругой.
Понедельник 11/24. VII [1933]
Дорогая Ольга Александровна
Поздравляем Вас с днем Ангела и шлем самые лучшие пожелания здоровья, бодрости духа, все так необходимое в нашей многотрудной беженской жизни.
Конечно, было бы вернее поздравлять с прошедшим Ангелом, т.к. наше послание прибудет поздно. Простите!! Пишу Вам с юга из La Napoule172. Живем здесь с Денисовыми (из квартета)173. Устроились довольно хорошо, хотя и дороже, чем обычно. Жаль только, что Антон Владимирович страдал флюсом. Продуло в вагоне. Выехали мы из Парижа 10-го (по demi-tarif*) сего месяца. Сегодня две недели, как мы здесь. Антон Владимирович начал было купаться, но из-за флюса прекратил. Очень жалею, т.к. солнечные ванны (у нас на террасе) и морские соленые обмывания замечательно хорошо прекращают зуд больной ноги. После первого же купания прекратился! Я тоже чувствую себя много лучше, чем в Париже. Главное сон лучше. Здесь тихо. Автомобили редки. Мы живем на окраине деревушки с видом на море и на горы. Воздух то горный, то морской: смотря по тому, откуда ветер.
Думаю, что Ивик с Вами, и радуюсь за него. Слышала от Юли, что она его устроила к скаутам174 недалеко от Вас. Ольге Александровне меньше хлопот! Берегите себя, Ольга Александровна! Теперь не время хворать! Для беженцев это занятие – роскошь!
Первая книжка, которую мы здесь прочитали, была Ваше «Лето Господне», теперь только дело за флюсом – а то рецензия дело какого-нибудь часа! Много удовольствия нам доставило это чтение! Ведь мы оба воспитаны в русской православной семье, в ее быте со всеми традициями. Читали, переживая все мелочи, вспоминая наше детство! Оба Денисовы тоже вышли из православной русской среды, а потому нам вместе хорошо!
Спешу послать запоздавшее поздравление от всего нашего здешнего дома вкупе с Денисовыми нашей милой хорошей имениннице, и Ивана Сергеевича – с дорогой именинницей! Храни Вас Господь! Ваши Карташевы и Денисовы (Иван Кузьмич и Надежда Михайловна).
P.S. Простите за наспех написанное!
1. VIII. 1933.
Ланды.
Здравствуйте, милые, Павла Полиевктовна и Антон Владимирович,
Ольга Александровна горячо благодарит Вас за привет-поздравление, сама никак не удосужится писать, – так устает от хлопот нашей, правда, несложной жизни. Но при «несложной»-то жизни, когда приходится изворачиваться, хлопот больше, чем при широкой, вольной: легче, ведь, новое платье шить, чем переделывать-выворачивать. Да и болезни ее замучили, только вот пять последних дней стали проходить боли груди и шеи, – помог совет заочный Серова-друга175. Благодарение сердечное и Вашим милым хозяевам и добрым русским людям – Надежде Михайловне и Ивану Кузьмичу. Кстати: когда-то, на первых порах моей литературной работы был у меня рассказ «Иван Кузьмич», напечатанный в «Журнале для всех» Миролюбова176, – не взял я его в книги, ранний, и шло там дело о старике-купце… помнится, добрый был старик, богомольный, как молоди́к Иван Кузьмич.
Итак, Вы в Ривьере, так сказать, купаетесь. А мы лесуем, шишки сбираем на растопку, поим чайком гостей. Много здесь нашей братии – бродяжной – 70 человек мальчиков-скаутов, фермеры еще, Поповы, утонувшие в куриных топях, так сказать – в курином царстве, утином государстве, индюшачьем королевстве. Сии фермеры забирают нас на воскресенье на автомобиль, и мы часа четыре гуляем в зоологическом саду, ибо и четвероногие имеются.
Ивик еще у отца, в Руаяне, на океяне, в Шарант-Инферьер, пробудет, думается, до 20 августа. К скаутам его не устраивала Юля (и не думала!), и будет он у нас, велосипед его уже привезли знакомые. Аз, грешный, перемогаюсь, всячески, как безработный, что поделаешь, такова судьба, значит. Роман пребывает в девстве, и на поругание не отдам его. Пока переводится на немецкий язык177. Вышла только что у немцев в журнале «Эккарт» в переводе д-ра Артура Лютера повесть «Про одну старуху» – «Вальфар нах Брот»178. В этом № есть и статья проф. И. А. Ильина о русской эмиграции, где говорится и о Вас, милый Антон Владимирович. Ага, попались! Но я не рискую посылать №, не зная точного адреса. Шлю письмо сие наудачу, на град «Ля Напуль», как указано – только – в письме Павлы Полиевктовны. Когда скажете, куда выслать, – вышлю для ознакомления. Обещают немцы заплатить 50 марок, да у них мораторий179, вышлют ли? И книжечкой обещали выпустить. Но что удивило и порадовало меня, – издательство и редактор журнала разослали циркулярное письмо 120 Дихтер унд Шрифтштеллер ин Дейтчлянд, с приложением № журнала, и заявляют – ! – что «все должны признать, что повесть Шмелева не может не остановить внимания, как…» И тут навалили мне словес… – и потому де каждый обязан писать о ней в газетах и журналах своих, дабы еще более широкую дорогу получил названный Шмелев в Германии, – на славу нам, на страх врагам. Ну, пущай их… – мне не жалко, лишь бы и марки слали. Перевод блестящий. Мне повезло: Артур Лютер не удосуживается переводить современников, – он лучший переводчик, между прочим, Пушкина. Это мне – аванс, будто. По секрету скажу: как будто есть маленькая надежда, что он не откажется переводить «Лето Господне», по поводу которого прислал он мне трогательное письмо, – о ритме жизни той и современной: ритм он уловил в «Лете», особый ритм180. Но сейчас в Германии трудно с издателями, – стеснены всячески. И как еще меня, иностранца, терпят?
Спасибо, Антон Владимирович, за Вашу работу «Соединение церквей в свете истории»181. Для меня многое явилось откровением! Написано, как всегда, проникновенно, с щедрой сгущенностью мыслей, с богатым прикровенным содержанием, – что заставляет вдумываться и плодотворно всячески обогащаться. Я полагаю, что лицемеры-церковники, – не православные! – сочтут Ваши предложения – дерзновенно-революционными и… – горделивыми. Я вполне с Вами согласен, предаваясь в руки Ваши, бо малосведущ, веря в правоту Православия. Если не революционер Вы тут, то, конечно, свободомыслящий сын Церкви, дерзающий любовно. Полагаю, что втуне не полежит Ваша работа-булла, а будет доведена до лика Его Святейшества и прочих – монсиньоры постараются. И – прекрасно.
Слушал с упоением «соловья», певшего песню мне… – И. А. Ильина в «Возрождении»182. Пли-ятно, будто младенчику в темячко теплотцой подули. Принимаю, яко должное, ибо верю в искренность и интуитивность мастера-философаэстета-гегелианца. Не малый труд положил он – познать автора. Ура! Получил сейчас из Милана привет от неведомой дамы, русской, с двумя стихотворениями, посвященными мне за «Лето Господне» и за «Богомолье», которое она раздобыла, собрав все очерки из «России и славянства». Очень недурные стихи! С внутренним теплом и светом. Все-таки посылает порой радость Господь. На сей неделе таких было – ТРИ! А четвертая бу-дет… – не оскудеет милость Господня. Всем берем-принимаем – и духовным, и – со звоном, и – с шуршаньем… – да мало сего, звонно-шуршащего.
Да минуют Вас флюсы – а также и минусы! – зуды, и всякие «физиологии и микрологии», Вы под солнцем Божьим, и охранит Вас творящая сила Его!
Счастлив, что мое «Лето Господне» при Вас, – благодарю Бога, что дозволил мне и даровал написать тихую эту книжечку, спасавшую меня от «потемок» духа… – в тяжелые месяцы жизни уходил я в прошлое и забывался, и одолевавшая меня муть-отчаяние – уходили, как от струн арфы Давидовой183.
Сегодня – т. е. верней третьего дня, в бытность у фермеров, одна дама приезжая – когда-то миллионерша, ныне отдавшаяся Евангелию и Добротолюбию, – гостит у Поповых – Цатуровой бывшей, – попросила меня в свою комнату и показала молитвенный стол… – и я увидал… мою книжечку – рядом с Библией! «Вот где Ваша книга…» – сказала дама. Тут она и еще сказала… Так она хотела выразить мне свои чувства. И я понял, что тут не комплимент, а – восторженность души, сконфуженно утерся и отретировался. Но… не возгордился, ибо недостатки свои и своего я знаю лучше всех критиков, хвалителей и хулителей. Сколько я о себе-то!.. Но это я не в похвальбу, а… – хоть этими крупицами света поделиться с друзьями, своей подлинной радостью… – мало у нас радостного было, много горей. А ныне… – такое удручение от свершающегося, что – отчаяние берет. И хоть в свою «подушку» уткнешься, снами забавишься, сам себе соловушка.
Поздравляем заблаговременно – отложите чтение сего места на 16 дней! – дорогого Антония-Рымлянина со днем Ангела, а дорогую кумушку с сияющим именинником, и да будет у Вас радость в день сей, солнце, море синее, и кулебяка с… капустой! Мне нельзя сие вкушать. Но и у нас была кулебяка на Ольгу, – как же без кулебяки! – с вязигой, уцелевшей от прошлого года на чердаке, с рисой, с семушкой из коробки! И – произвела потрясение. Все опосля проговаривались, что съели бы и по второму кусу, да – совестно. Но зато хватило на всех. День сей был радостный, и я не в пример был радостный, и подарил имениннице… плитку шоколада с молоком и одеколончику. Ибо… нежданно дослали мне – считавшиеся пропащими 50 франков гонорара из Бухареста, от скряги издателя «Нашей речи»184. Как раз на Ольгу и принес почтарь, и я ры-скнул! И встречен был – кроткой улыбкой св. кн. Ольги. Да, Филемон и Бавкида… – да, погасающая вечерняя заря. Но не придет Юпитер, и не превратит хижинку в чертоги, ее в березку, меня – в кленок хотя бы. Прошла пора метаморфоз! А мы бы угостили его… огурчиками с собственной грядки, – в квадр два аршина, – и – укропцем. И огурчики-то держу для княгини, а мне стррого воспрещёно.
Ну, расписался. Будьте здоровы, не забывайте. Жаль, если не дойдет письмо. Я ведь писал Павле Полиевктовне к ее Ангелу, на Париж, и не знаю, получили ли. Уловил день Павлы-Девы, и написал. Целуем. Кланяйтесь от нас Ивану Кузьмичу и Наталье Михайловне.
Душевно Ваши Ольга-княгиня и аз, многогрешный раб Иван Шмелев.
6 сентября 1933.
Villa «Riant-Séjour» Capbreton (Landes)
Дорогой Антон Владимирович, дай Вам Господь сил!
Сейчас, из письма В.Н. Буниной, узнали о страшном несчастьи с дорогой кумой. Поняли из письма одно только, что опасность миновала, слава Богу. Очень просим, известите нас, как здоровье. С дрожью читал краткие строки Буниной. Ну, как Вы теперь… пожалуйста, черкните открытку. Эти примусы иногда вспыхивают, если сильно накачивать, особенно, когда упустили момент потухания спирта в чашечке. Горячо все трое желаем полного выздоровления и успокоения. Пишу письмо наудачу, на Напуль. Я Вам писал в июле, просил известить, дошло ли письмо, – не получил ответа. Мы очень встревожены горем Вашим, пожалуйста, черкните. Поцелуйте за нас страдалицу. Слышали, как она терпеливо переносила мучительные боли. Браво, милая Павла Полиевктовна! Вот эта бодрость, эта волевая сила – лучшие целители, после молитвы с верой! Да, лучшие. Да хранит Вас обоих Господь, да дарует Вам сил духовных побороть все невзгоды! Ольга Александровна целует страдалицу.
Известите! Ваши сердечно: Ив. Шмелев, Ольга Александровна и Ивик, недавно прибывший от отца с 5 переэкзаменовками (!!) и… без книг! Вот это так – «огоньки»!
И не можем от укатившей отдыхать матери добиться высылки книжек! Подрядили на последние (продали колечко, жиду) немецкого учителя, а книг нет! Тьфу!
[На полях:] Дорогая кумушка, целую Вас, Ваши бедные ручки! Потрясены с Ольгой Александровной – онемели! Все-то испытания, испытания… А ха-мы – жируют. Иван Шмелев.
[На обороте:] Ради Бога, напишите, Антон Владимирович, если Павла Полиевктовна не держит еще перышка!
10 сент. (28 авг.) 1933.
Villa «Les Jasmins», Bd. Paul Doumer, Le Cannet (A.M.)(Вот где мы очутились не по доброй воле!!?)
Дорогой Иван Сергеевич!
Все Ваши письма дошли: и от 2/15.VI – в Париж, и от 1.VIII – в Напуль. Вина в неответе на нас. Но есть некоторое извинение. Разрешите быть эгоистом, – откликнуться на многое в Ваших письмах в моем следующем письме, которое надеюсь написать в ближайшие дни, а сейчас написать о своей болячке. Так легче.
Лето и отдых наш не задались и завершились почти катастрофой.
Все как-то не клеилось. А у меня и предчувствие было, что ничего, никакой поездки из Парижа не надо было. Мотив на поверхности как будто безденежье, а внутри: «не хочу, не надо, юное баловство, надобна какая-то аскеза». С весны я почувствовал какой-то столбняк в голове, неспособность работать и писать. Надеялся, что лето подымет энергию, оживит, как бывало часто. В июне меня Институт послал в Голландию на протестантский съезд благотворительности гонимым христианам в России. После съезда я еще проработал там дней 10 по подготовке концертов хора нашего Богословского института (как древние киевские бурсаки пением промышляем…). Приехал, чувствую, что еще больше устал. Долго хлопотали о билете demi-tarif. Наконец, получили, 10 июля выехали. Идеалом Павлы Полиевктовны было какое-нибудь новое местечко, поглуше и уединеннее. Вылезли в Сен-Рафаэле. Сунулись, поискали, дороговизна бешеная. Бросились в старое и не-уединенное место – в Напуль. И там дорого. Но – нечего делать – осели. Сейчас же кончилось уединение. В тот же дом приехали Денисовы (певец). Пошло общее хозяйство и психологическое неспокойство. На меня напала апатия и полный паралич деловой; кроме газетного листа ничего не одолевал за день, не написал ни единого письма. Уныние духовное. В тот же дом въехали какие-то жидки-большевики, с автомобилем, с дешево-развратным шиком. Стало противно. Павла Полиевктовна заметалась: уезжать в другое место. Начались поездки и пешие хождения по окрестностям. Жизнь не в жизнь. У меня флюс, – нельзя купаться, и больно есть. У Денисова болевая болезнь глаза и слезоточивого канала. Павла Полиевктовна шла тихо из лавочки, тихо поскользнулась и глубоко, широко и кроваво рассекла себе ногу под коленом. (Не зажила еще до сих пор). Я упал на пляже на камни, чуть не сломал спину. Это уже «знамения». Решили, что уедем куда-нибудь. Но не успели… 14 августа утром в 6¾ мы с Павлой Полиевктовной, как обычно, начали готовить кофе. Мы привезли свою спиртовку. Но тут услужливый сосед (художник Д.С. Стеллецкий185) ради Денисовых подсунул свою керосинку – primus. Сложная машинка, неприятная, держи ухо востро. Многие ее справедливо боятся. Вот и мы, со сна, что-то не так сделали. Произошел взрыв петрольного газа. Вмиг загорелось полкомнаты – все бумажки и тряпки. Струя кинулась на Павлу Полиевктовну. Она, сама горя, еще тушила пожар… Я едва сорвал с нее горевшее платье. Прошло не более полминуты. Но дьявол огня сделал свое дело. Павла Полиевктовна была жестоко обожжена от чела до пояса (1/5 часть тела). Бог миловал, целы остались глаза, но даже ресницы и брови погорели. Коснулось пламя и венчика волос. Если бы занялись волосы, может быть, был бы конец… Минута ужасная… Не стану говорить о ней. Сострадание и жалость к ее нечеловеческой боли потрясли меня до глубины… До сего дня хожу как раненый. Потом наступили сутки каких-то смертных страданий… На следующее утро перевезли в лечебницу в Cannes*











