Читать онлайн Кариатиды
- Автор: Алиса Ханцис
- Жанр: Современная русская литература
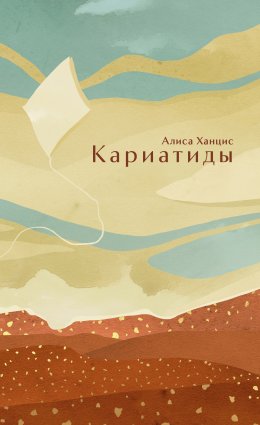
Из всех ночных кошмаров мне чаще всего снится тот, где я становлюсь кариатидой. Мы на даче у бабушки, сияет солнце, пахнет липовым цветом и сладким пирогом. «Пойдем скорее пить чай», – говорит мама. Она прыгает через грядки, легко, как девочка, и взбегает на крыльцо. И тут я вижу, что шиферный навес над ним начинает сползать. Еще миг – и он обрушится маме на голову. Я бросаюсь вперед и успеваю подхватить навес. Мне тяжело, болит спина и хочется позвать дедушку, чтобы он избавил меня от ноши. Но дедушки нет. Мама испуганно кричит: «Смотри не урони, там же люди!» Какие люди? – думаю я; и тут же вспоминаю: ведь я кариатида и держу на плечах многоэтажный дом. С другой стороны его подпирает атлант, почему-то в больничном халате и с лицом молодого Баталова. Он подмигивает мне, и я просыпаюсь.
1
Над покатой, свинцово блестевшей крышей раскачивалась антенна. Рядом с каминной трубой, несгибаемо спокойной, она казалась истеричкой, паникершей, и хотелось протянуть руку, чтобы успокоить или отрезвить. Поздно метаться. Слезами горю не поможешь. Я коснулась пальцами оконного стекла; оно чуть вздрагивало всякий раз, когда прибоем накатывал тяжелый рокочущий гул.
– Нет, – сказала я и плотнее прижала к уху телефон, нагревшийся до потной липкости. – Нет. Просто немного ветрено.
Здесь, внутри, мне не хватало воздуха, а снаружи его потоки разбивались об угол дома и свистели неистово, люто, как метель. Хотя на Тасмании это змеиное слово – blizzard – едва ли было в ходу.
– Конечно, я приеду. Вот прямо сейчас посмотрю билеты. Ты только не волнуйся, слышишь? Доверься врачам. От нас сейчас ничего не зависит.
Еще не погас оранжевый экран телефона, а я уже поднималась по узкой скрипучей лестнице. В моей комнате было тише, чем на кухне: ветер дул с юга. Я села за стол, разбуженный монитор просветлел, явив страницу почтовой программы. Но прежде, чем я занесла руки над клавишами, взгляд зацепился за верхнюю строчку в папке входящих. «От: 30e4ka. Тема: Re: Осиное гнездо». Я вдруг представила, что не получу больше ни одного письма с этого адреса. Будут меняться даты, и заголовок будет опускаться все ниже, пока не исчезнет за границей видимого поля.
Снова сдавило в легких, так что пришлось, откинувшись на спинку кресла, закрыть глаза и начать медленный счет. Всё это глупости; чистая психосоматика. Но выйти все-таки надо, хотя бы просто постоять во дворе. Надеть свитер потеплее – добротный свитер из овечьей шерсти. Моя самая дорогая покупка здесь, расплата за легкомысленную веру в то, что на сорок второй широте не может быть слишком холодно. Сверху штормовку – в ней я ездила когда-то на практику, в ней спасалась от сырости тасманийских болот. Теперь не страшен никакой ураган.
Затянула потуже тесемки капюшона и вышла, придерживая хлипкую дверь застекленной веранды. Улица была безлюдна – не так, как в обычный день, когда за низким забором можно было заметить то садовника, то домохозяйку. В соседском дворе ветром мотало детские качели на кряжистом суку, у дома напротив с сухим шумом плескала вечнозеленая листва. До перекрестка мне дуло в спину, но за автобусной остановкой – никто не прятался сейчас под ее зеленой крышей – идти стало трудней. Не знаю, почему я свернула; ноги сами несли меня на пляж. Боком, словно краб, я спустилась по тропинке от пустынного шоссе. Непродуваемая куртка защищала от холода, и здесь, у реки, было бы хорошо, если бы не острые песчинки, летевшие в лицо.
Я встала у самой кромки прибоя. Этот пляж не был похож на морской – даже теперь, когда вода вздымалась и пенилась. Но я чувствовала себя Филифьонкой [1], чья катастрофа наконец произошла.
Порыв ветра толкнул меня, и я ступила в набежавшую волну. «Доверься врачам. От нас сейчас ничего не зависит». Я раскинула руки, чтобы увеличить парусность, и представила, будто от меня и правда ничего не зависит. Хотелось стать маленькой, ощутить, насколько мы ничтожны с нашим печеньем и нашими коврами. Забыть о том, как силен – как опасно силен – человек. В ушах стоял неумолчный брезентовый шелест, струи ледяного воздуха хлестали по щекам. Всё напрасно. Моя катастрофа не принесет облегчения. Такое бывает только в сказках.
Подходя к дому, я увидела, что во дворе паркуется машина Дженни. Я дождалась, пока хозяйка выпростает наружу низенькое тело в кургузом пальтишке, и поздоровалась – громко, чтобы перекричать шум ветра.
– Боже мой, ты гуляешь! По радио сообщили: штормовое предупреждение.
Я подумала: надо ведь сказать ей, что я уезжаю. Им понадобится время, чтобы найти новых жильцов. Но Дженни уже хлопала дверями в доме, переговаривалась через коридор с бабушкой; потом заверещал телевизор, и стало совсем трудно вклиниться со своей новостью в их мирные будни.
– Выпьешь с нами чаю, милая?
– Нет, спасибо.
– Что-то случилось?..
Она стояла у подножия лестницы и смотрела на меня снизу вверх, как бабушка из своего кресла-каталки. Я никогда не замечала, что они так похожи. А может, мне просто засыпало глаза колючим песком.
– Моя мама больна.
Фраза была ходульной и беспомощной, как из учебника английского за пятый класс. Всё, что я знала, всё, что помнила, размело ветром по окраинам сознания.
– Надо же, бедняжка, – хозяйка сокрушенно поцокала языком. – И ты так далеко от нее… У тебя есть братья или сестры?
Затренькал телефон, и она, извинившись, скрылась на кухне. Я стала подниматься по лестнице, и тут голос Дженни произнес мое имя. Или мне показалось? Я ведь давала всем только номер мобильного.
Оранжевый экран мигнул в полумраке: так горят предупреждающие сигналы на дорогах.
– Это тебя.
– Меня? – переспросила я, как глупая.
– Это Лёнька, – сказала мама. – Наверное, уроки хочет узнать.
Я посмотрела на маленький бумажный треугольник у меня в руке. Аккуратно приклеить его на место я сейчас не успею, а когда вернусь, клей высохнет, и зубец свернется в трубочку. Придется вырезать новый.
– Чего тебе? – Я отпихнула ногой сапог, торчавший из-под табуретки в прихожей.
– Мы с папой воздушного змея сделали, – Голос был радостный, не хвастливый. – Сейчас на пустырь пойдем. Будешь с нами запускать?
– А то!
Теперь я, конечно, не могла сердиться. Бросив трубку, вбежала в комнату, сдернула со стула колготки. За окном светило солнце, но вчера было прохладно, а на пустыре уж точно будет ветер. Ведь без ветра змея не запустишь! Это я точно знала, хотя никогда не пробовала сама.
– Мам, я гулять.
– А как же твой шлем?
– Потом доклею.
Я сунула руку в рукав ветровки и чуть не споткнулась о сапог, который теперь валялся посреди прихожей. Сапог был зимний, мамин. В этом году я сама перемыла всю теплую обувь, когда сошел снег, но мама всё никак не могла убрать ее в кладовку. Я поставила сапог возле табуретки, чтобы она видела, и выскочила за дверь.
А на улице было лето! Еще вчера пахло сыро, безвкусно, а сегодня – как будто в саду. Пахло травами и чуть-чуть, издалека, цветами. Качели во дворе поскрипывали весело, тоже по-летнему. Рыжий кот со второго этажа растянулся на капоте легковушки, накрытой брезентом. Я почесала его за ухом и пошла в сторону железной дороги. За ней был частный сектор, а дальше начинались поля и пустыри. Там мы с Ленькой ловили кузнечиков, а зимой катались на санках и играли в белое безмолвие. Мне очень нравился этот рассказ Джека Лондона про Север и настоящую дружбу. А мама говорила, что он слишком жестокий и мне еще рано его читать.
– Славка! – окликнули сзади. – Куда бежишь?
Я обернулась – меня широким шагом нагонял дядя Володя, а следом Ленька. Они всегда так смешно выглядели вместе: длинная жердь и маленькая. Ленька нес прямоугольную картонную коробку.
– Боялась, что опоздаю.
– Не дрейфь! – заорал он. – Без тебя не начнут!
Мы поднялись на пригорок. Здесь и правда дул ветерок, но не очень сильный, и я подумала, что змею его не хватит. Коробку поставили на траву, сняли крышку – там лежали будто бы свернутые флажки, с какими ходят на демонстрацию.
– Погоди, – сказал дядя Володя. – Вот эту сначала.
Так ловко у них вышло: раз-два-три – и змей у Леньки в руках. Полотнище яркое: в середине – желтый ромб, по бокам два узких крыла, как у ласточки, одно красное, другое голубое. Я все еще не верю, что он полетит. Ленька пятится, держа змея над головой. «Стой!» – кричит отец; он тоже пятится, разматывая леску. «Отпускай!» Он рывком тянет на себя – и змей уходит в небо, быстро и почти вертикально. Я почему-то удивляюсь, что нет звуков: ни треска, ни шелеста.
– Дай мне!
Это Ленька, ему не терпится подержать леску самому. Но в его руках змей резко дергается и валится вниз. Ленька сконфужен, дядя Володя что-то горячо объясняет ему. Я стою в сторонке.
– Славка, – прервавшись, он оборачивается. – Иди ты попробуй.
Ленька все еще держит змея и кусает губу, словно не хочет с ним расставаться. Но мне дают катушку и командуют: «Отходи!» Я помню, я видела, как это делают. Начинаю разматывать леску, дядя Володя вскидывает руки, как дирижер оркестра. «Давай!» – я дергаю, змей взлетает, но не так уверенно, как в первый раз.
– Потяни на себя, чуть-чуть. Вот так, чтоб он поток поймал.
Я тяну, боясь отвести глаз от цветного треугольника, который словно размышляет, упасть или нет. Но в следующий миг он вдруг сам начинает тянуть! Он поднимается всё выше, и мне делается очень странно при мысли, что змей, такой невесомый, тянет сильную меня, опираясь на воздух, который ни пощупать, ни увидеть. Интересно, сколько килограммов он может выдержать? Я начинаю потихоньку прибирать леску. К моему разочарованию, змей не хочет больше бороться и неуклюже падает в траву.
– Надо было, наоборот, ослабить, – сказал дядя Володя. – Ветра же было достаточно. А вот когда он стихает, надо тянуть.
– А высоко он может подняться?
– Если ветер хороший, то может и метров на тридцать. Насколько леера хватит.
Я запрокинула голову, пытаясь понять, сколько это – тридцать метров.
– Будет вон как те птицы?
– Думаю, дальше, – авторитетно встрял Ленька. – Только в бинокль разглядишь.
– У меня дома есть бинокль, – сказала я. Хотела добавить: «Папин», но промолчала. Ленькин отец, хоть с биноклем, хоть без, все равно лучше моего.
По пути домой дядя Володя рассказывал нам про дельтапланы и маленькие самолеты, которые могут парить, выключив двигатель. Я видела по телевизору, как парят орлы, как медленно кружат в вышине, зорко высматривая добычу. Ведь сверху видно лучше – это всякий знает. Раньше мы жили в старом доме, и за окном вечно болталось на веревке соседское белье. А теперь у нас тринадцатый этаж, да еще с большой лоджией на зюйд-ост. Железная дорога сверху – совсем как игрушечная, а какие красивые рассветы!
– Ну что, – дядя Володя хлопнул нас обоих по плечам, – может, в другой раз на озере попробуем?
– Да ну его, – сказала я. – На пустыре веселей.
Это озеро в центре города я и правда не любила. Оно казалось больным: берега были голыми и осыпались, сползали к воде, а на другом берегу дымили трубы завода. Вот парк возле озера был хороший, большой и лесистый. Но там змею не развернуться.
Дома было тихо, и сапог стоял там же, где я его оставила, – посреди прихожей. Мама не спала, читала книгу, забравшись в кресло и подтянув к себе голые колени. Веки ее были опущены, и ресницы загибались, будто кукольные.
– Мам, ты красивая, как фея.
Мне не терпелось рассказать ей всё-всё: и про змея, и про воздух, который на самом деле не так прост, как кажется. Она всегда слушала внимательно и откладывала даже самую интересную книжку, стоило мне открыть рот.
– Да, со стихией шутки плохи, – сказала мама, когда я закончила. – Знаешь, ветер – он как судьба. Вроде легкий, невидимый, а ты над ним не властен. Куда тянет, туда и летишь. И хорошо, если в теплые края, а ведь кого-то и на север заносит.
Я задумалась. Мне бы хотелось побывать везде: и на севере, и на юге, увидеть полярное сияние и тропические пальмы. А больше всего я мечтала попасть на Огненную Землю и в Патагонию, где горы и пампасы. Наверное, если очень-очень сильно пожелать, то ветер принесет тебя туда, куда нужно. Надо только не бояться высоты.
По понедельникам всегда трудно вставать, но первый урок – природоведение, и настроение сразу улучшается. По дороге в школу я снова думаю про змея и чувствую в руках натянувшийся леер. Вот было бы здорово уцепиться за него и взлететь! Стало бы видно весь наш город, как на карте. Это совсем не то, что смотреть с тринадцатого этажа. Мне нравились большие карты вроде той, во всю стену, что была у нас в школе, в красном уголке. Даже встав на цыпочки, я не дотягивалась до Москвы, а из всех континентов только Австралию могла охватить целиком, с севера до юга. Но даже на этой огромной карте не было улиц. А мне хотелось, чтобы были улицы и дома. Я спрашивала в библиотеке, есть ли такая карта. Мне дали одну, топографическую, на ней был город под названием Снов. Где он находится, никто не знал; а нашего города в библиотеке не было.
До конца урока оставалось совсем чуть-чуть, когда в класс постучали и кто-то, невидимый за дверью, громким шепотом позвал нашу Витаминовну. Любопытные с первых парт тут же вытянули шеи, как жирафы. Невидимка произнес мою фамилию, и шеи, как по команде, выкрутились в другую сторону.
– Тебя в учительскую.
Теперь уже весь класс пялился на меня, даже Ленька. Глаза у него округлились так, что стали с куриное яйцо, не меньше.
– Но я ничего не сделала.
– Да иди уже. – Витаминовна махнула рукой. – Тебе с маминой работы звонят.
В учительской тихо, за столом – одна только завуч. Она протягивает трубку, и мне становится неловко из-за того, что придется разговаривать при ней.
– Яся! – Голос архивариуса я узнаю не сразу, она как будто бежала и запыхалась. – Ты только не волнуйся. Мама в больнице, сосуд у нее лопнул. Вроде в нашу повезли, не в московскую. Я им пока дозвониться не могу. А ты, слышишь, после уроков сразу к нам. Пойдешь к тете Наташе ночевать. Слышишь, Яся?
«Сосуд», – проносится у меня в голове. Я не могу сообразить, что это и где это, помню только, что сосуд бывает стеклянный. Он лопается вдребезги, и осколки летят во все стороны. Я тоже лечу со всех ног. Маковка церкви горит так ярко, что слезятся глаза. Церковь – это полпути, больница за парком, я лежала там, и мама теперь лежит на столе, а над ней склонились врачи, как в кино: «Скальпель! Пинцет!» Почему на всех светофорах красный? Мне надо успеть, машина далеко, перебегу. Вот больничная улица, там детское отделение, тут взрослое. Дверь тяжелая, за ней пахнет мятным холодом, и внутри всё немеет, как десны после заморозки. По коридору везут кого-то на каталке, но меня туда не пускают и говорят подождать. Я жду очень долго, так долго, что, кажется, не смогу вытерпеть больше ни минуты.
– Кто тут к Ерёминой? – Старенькая медсестра, в руках лоток, в нем позванивают баночки. – Прижигание ей сделали, положили в палату.
– А к ней можно?
– График посещений читала? – Она уже шаркает тапками к дверям. – С четырех часов.
Я выхожу на улицу. Тут светит солнце и ветерок шелестит листвой, а у меня в горле до сих пор привкус больницы. До четырех часов еще ужасно долго, но домой идти почему-то не хочется и в школу тоже. Ноги будто чугунные, и ранец давит на спину, как гиря. Какое из этих окон – мамина палата? Я даже не спросила, какой у нее номер, дурочка. Все окна пустые, никто не смотрит оттуда, как когда-то смотрела я, взобравшись на подоконник. А мама стояла внизу и махала мне рукой. Она приносила огромные красные яблоки – они были завернуты в пакет, и из него еще долго пахло летом и домом. Нужно купить маме что-нибудь вкусное. Хорошо бы найти бананы – она их больше всего любит. От этой мысли ноги начинают шагать веселей. «От печали до радости, – играет у меня в голове, – всего лишь дыханье». Я вдыхаю всей грудью и чувствую свежий запах ветра. Я легкая, как пушинка, и ветер несет меня над землей.
2
В тот год Зое невероятно повезло.
В глубине души она всегда знала, что ей должно повезти. Она заслуживала этого, как любой, кому выпало многое пережить. Непроглядная темень предыдущих лет вдруг рассеялась, и от яркого луча, упавшего ей на лицо, заслезились глаза.
Она торопливо вытерла мокрые ресницы. Не хватало еще, чтоб зеваки начали ее жалеть. Но людей вокруг было не много: стайка мальчишек, старуха с бидоном – только их и привлек рев мотора и грохот, отскакивавший эхом от бетонных стен новостроек. Зоя прильнула к щели между досками. Грязно-рыжий экскаватор тяжело ворочался в апрельской грязи, вминая в нее куски штукатурки. Под железным ковшом стены рушились, словно картонные, открывая взору серые бруски балок. Вглубь дома тянулся длинный ряд оконных проемов; Зоино окно было пятым по счету – в середине коридора, на полпути между кухней и туалетом. Еще неделю назад на подоконнике стояла Ясина пластилиновая лошадка, а рядом зацветала герань, доставшаяся по наследству от свекрови.
Сердобольный прохожий, взглянув на Зою, решил бы, что эта кареглазая девушка в вязаном беретике, на вид – студенточка, оплакивает сейчас свое прошлое, вспоминая беззаботные дни в стенах родного дома.
Но ей было двадцать шесть, и она плакала от счастья.
Самый первый ее приезд сюда случился зимой. Вагон вечерней электрички был полон, гремели чьи-то лыжи, пристроенные в углу у дверей, а они с Юрой всю дорогу смеялись невесть чему и украдкой держались за руки. За стеклом, чуть тронутым морозцем, проплывали станции и городки, мигали гирлянды в окнах пятиэтажек, и ей хотелось ехать и ехать, прислонясь щекой к его колючему шарфу, сырому от растаявших снежинок.
Юра с мамой жили в фабричном бараке, еще довоенном, с печными трубами на крыше и хлипкими с виду деревянными балкончиками. Комнатка была маленькой, но свисавшая с высокого потолка лампочка в тряпичном абажуре, казалось, не могла ее всю осветить. В одном из темных углов притаилась елка – искусственная, полускрытая тусклым серебристым дождиком. В другой угол была задвинута высокая старушечья кровать с никелированными шарами на спинке. Вторая кровать, очевидно, помещалась за шкафом, делившим комнату на две неравные части.
В тот момент Зое подумалось, что она никогда не сможет тут жить. Просторная комната в общаге на проспекте Вернадского превращалась в хоромы рядом с Юриной каморкой. Потом, перемывая на общей кухне посуду после тихого, совсем не праздничного застолья (будущей свекрови, перенесшей инсульт, было противопоказано спиртное), они жарко шептались. Юра говорил, что они сразу встанут на очередь, как только поженятся, но Зоя, пропуская мимо ушей его слова про метраж, про законы, твердила с отчаяньем: ты только представь, сколько лет надо будет ждать! Как им ютиться тут все эти годы – вчетвером, впятером? Наконец Юра сдался и дальше уже молча вытирал тарелки, понурив глаза. Прежде они никогда не спорили.
В июле, сдав сессию, они отнесли документы в загс. А через неделю у свекрови случился второй инсульт. Все последующие годы, оглядываясь назад, Зоя понимала, что это было предзнаменование. Но тогда ей чудилось только, что она стала вдруг книжной героиней. Подвенечное платье и крахмальное кружево в изголовье гроба – они сходятся вместе только в романах, где вересковые пустоши, и бледные девы, и всадники на черных конях. Что с этим делать в жизни, ей было совершенно неясно. Наверное, поэтому на свадебных фотографиях у нее такой печальный, растерянный вид.
Брак действительно не удался.
Поначалу все было неплохо. Соседям Зоя понравилась, и они охотно помогали ей: то передвинуть мебель в комнатушке, то поднять на второй этаж тяжелую сумку с продуктами. К зиме она сильно похудела, и, если бы не медосмотр, она не поверила бы, что беременна. Не желая бросать учебу, перевелась на заочное. Юра остался на вечернем, а днем все так же работал на стройке. Домой приезжал поздно, уходил рано, пока она еще спала. В выходные звал ее гулять, как раньше, но она чувствовала себя ужасно и раздражалась из-за его настойчивости.
Странным образом, не сговариваясь, они ждали мальчика. Зоя даже имя придумала заранее: Ярослав. Ей хотелось благородства и силы, хотелось чувствовать себя прекрасной дамой рядом с рослым, возмужалым сыном. Позже она стыдилась своего мимолетного разочарования. Имя, однако же, приклеилось накрепко. Зоя перебрала все возможные варианты и даже невозможные, включая Джульетту и Лауру, а потом махнула рукой: если малышка сама выбрала себе имя, значит, так тому и быть.
Девочка была похожа на Зою – так, во всяком случае, все думали сначала, глядя на смуглую Ясину кожу и черные брови. Глаза со временем тоже потемнели, а вот черты лица начали тяжелеть, и в них проступило отцовское. Но если Юрин взгляд часто блуждал (раньше Зое это казалось романтичным), то дочь смотрела спокойно и твердо, даже когда была маленькой. Тонкие волосы цвета жженой умбры, которые, увы, не унаследовали гладкости и блеска ее собственных, Зоя заплетала в косички, пока классе в третьем девочка не взбунтовалась. Сама Зоя с юности была верна стрижке шапочкой, «под Мирей Матье», что очень ей шло. Ясина же способность спать на бигуди и ловко создавать из крупных кудрей одну прическу за другой вызывала в ее душе восхищение и гордость. Улыбка красила широкоскулое лицо девочки, и ни у кого не повернулся бы язык назвать ее дурнушкой. В конце концов, журнальные красотки с точеными носиками редко бывают счастливы. Зоя прекрасно это знала.
Вскоре после выхода из роддома ее охватило необъяснимое предчувствие беды. В окно стучали птицы, солонка падала из рук, и майский воздух явственно пахнул грозой. В университете Зое дали отсрочку до осени. В редкие минуты отдыха, когда Яся спала, а пеленки уже сохли во дворе, она пыталась заниматься, но со страхом обнаружила, что ничего не запоминает. Юра пробовал ее утешить, потом начал отмахиваться, а однажды просто накричал, так что она весь вечер потом не могла прийти в себя. Врач прописал бывать на свежем воздухе, и Зоя добросовестно гуляла, толкая перед собой коляску с мирно спящей дочкой. А потом волнение как-то само собой прекратилось, сменившись спасительным безразличием. Ее уже не огорчало, что муж редко бывал дома – он все чаще брал сверхурочные и работал по выходным; не пугала гора домашних дел, которая росла тем быстрее, чем больше она работала; и даже отчисление из университета не стало для нее ударом, словно никогда и не было мечты.
В итальянское Возрождение Зоя влюбилась давно, еще школьницей. Увиденный краем глаза, в каких-то гостях, альбом с репродукциями перевернул весь ее маленький мирок. До той поры у нее была лишь семья, скучные уроки да грезы, в которые она бросалась страстно, как в шелковистое, нагретое южным солнцем море. Люди вокруг часто бывали враждебны, грубы; город, хоть и древний, и красивый местами, душил и мучил. Как знать – может, она и вовсе не выжила бы там, посреди смрада и грохота, если б из волшебного альбома не брызнуло родниковой свежестью Боттичеллиевых полотен. Закружилась голова от радости, и она даже вскрикнула, чем удивила всех.
Зоины родители, люди практичные и земные – он Козерог, она Дева, – не видели в дочкином увлечении ничего полезного и уж тем более судьбоносного. Оба работали инженерами на оружейном заводе, и робкое «Мне бы на исторический» было встречено, натурально, в штыки. Пропадать бы Зое машинисткой или учительницей, но в последний момент на пороге воссиял ее спаситель и твердой рукой окунул в дула родительских ружей по красной гвоздике.
У него было сказочное, вальяжное, золотистое имя Лев, за которым тянулось – то ли царской мантией, то ли павлиньим хвостом – ветхозаветное отчество Давидович. Человеку послабее и попроще такое имя было бы безнадежно велико и комично сползало бы то на лоб, то на затылок. Однако старый отцовский друг, некогда яростный его оппонент по физико-лиричьим спорам, выглядел именно так, как Зоя с перепугу навоображала: он был грозен, тяжел и прекрасен до рези в глазах. Парадная люстра, подаренная родителям еще на свадьбу, почти касалась его буйно заросшего темени, когда он вставал во весь рост, с жаром доказывая важность будущей Зоиной миссии. «Возрождение! – восклицал он, поднимая палец к завитушкам бронзовых подсвечников, в которых ровно горело электрическое пламя. – Нам всем это нужно. А то расползлись по диванам, как тюлени. Что, Шурка, скривился? Терпи. На молодых теперь вся надежда».
От раскатистого львиного рыка Зоя вздрагивала и вся обсыпалась мурашками, будто с холода ступив в нестерпимо горячий душ. Однокоренная душа при этом стекала куда-то в тапочки, стыдливо льнущие друг к другу: коричневое школьное платье вдруг стало чересчур коротким, и она, ерзая на стуле, украдкой пыталась натянуть подол на круглые коленки. Еще ни разу за свои пятнадцать лет Зоя не испытывала такого упоительного испуга.
Лев Давидович профессорствовал в местном педагогическом на факультете истории и права, и его домашняя библиотека была богаче и обширней той, где Зоя впервые увидела Боттичелли. Он начал, забегая к ним по выходным на чай, приносить ей то сонеты Шекспира, то художественный альбом, а то и вовсе неожиданные вещи вроде книг о путешественниках, с коричневыми картами, где материки выглядели совсем не так, как в школьных учебниках. «Дайте ей загореться по-настоящему!» – так он всякий раз отбивал родительские протесты. А она давно уже пылала, без всяких книжек, и почти глохла от шуршащего и мерного, как прибой, тока крови в ушах. «Слово! – говорил он пылко. – Это ключевое понятие в Ренессансе. Слово как символ разума и познания». Зоя готова была преклоняться перед Словом – любым, лишь бы оно произносилось этим гулким, бездонным голосом с пластичными интонациями настоящего оратора.
На шестнадцатилетие он подарил ей двухтомник «Итальянское Возрождение» Гуковского. Это богатство поразило всю их семью, но в особенности родителей, которые принялись бурно шептаться на кухне, немедленно смолкая при Зоином появлении. А потом Лев Давидович вдруг перестал к ним заходить. Родители отмалчивались, и от этого молчания веяло чем-то двусмысленным, стыдным, как хихиканье мальчишек на уроке биологии. До самых каникул Зоя томилась мучительными снами и шальными, горячечными грезами и только на даче наконец очнулась. Что не выбелило солнце, то отмыла прохладная речная вода.
А Возрождение так и осталось с ней. Гуковский, честно прочитанный, не понятый вполне и все-таки бесконечно дорогой, все последующие годы переезжал с ней из одного пристанища в другое и везде стоял на самом видном месте, напоминая о юности, мечтах и первой любви.
Однажды, сидя в очереди к врачу в обветшалой и темной детской поликлинике, Зоя услышала, как дочка – ей было лет пять – с гордостью заявляет кому-то из взрослых: «А моя мама – искусствовед!» Как сжалось сердце при мысли о несбывшемся! Но лицо не выдало волнения, и она улыбнулась незнакомке, протянувшей уважительно: «Вона как». На Ясины вопросы, почему она не идет работать в музей, Зоя отвечала, что скоро обязательно пойдет, вот только отправят на пенсию злых старушек, которые заняли там все стулья. Она, кажется, и сама верила в это, хотя в местном краеведческом музее никакого Ренессанса не было и в помине. А пока старушки держали оборону, Зоя водила дочку в московские картинные галереи и потом, разложив на полу журналы и календари, вырезала вместе с ней черноглазых красавиц Брюллова и нежных Боттичеллиевых Венер.
Можно ли жить, не надеясь? Она всегда чувствовала, что всё на свете подчинено вечному круговороту и развитию. На месте снесенного барака рождается многоэтажный дом, революция сметает отживший строй; а ее Возрождение – разве не на костях Средневековья оно расцвело? Первые годы их с Юрой брака стали испытанием, но из слез и споров неопытных супругов должно было зародиться и вырасти с годами то молчаливое и мудрое взаимопонимание, какое она видела в своих родителях.
Вместо этого случилось предательство.
Даже если бы он раскаялся тогда, сразу, Зоя вряд ли сумела бы его простить. Как можно простить лицемерие и обман, тянувшийся почти два года? Вместо поддержки – трусливый уход от проблем, вместо понимания – недовольство и злость. В памяти навеки отпечаталось его искаженное злобой лицо, его змеиное шипение: «Тише ты, Славку разбудишь!» Во всем его облике было что-то бабье. Он готов был прикрыться ребенком, лишь бы только не слышать ее. Но самым сокрушительным ударом стали слова, что она, Зоя, сама виновата в его измене! Никогда в жизни ей не было так больно, как в тот вечер – ядовитый, душный, черный.
Потом, стараясь себя утешить, она думала: а ведь могло быть еще хуже. Будь Юра поуверенней в себе, он сразу подал бы на развод и, чего доброго, попытался бы отсудить ребенка. Ничего этого не случилось. Он просто исчез – как Зоя узнала потом, уехал на Север. Так спешил, что даже не стал выписываться, поэтому при сносе им досталась двухкомнатная в панельной «брежневке». Правда, этаж тринадцатый, от чего у Зои нехорошо екнуло в груди. Зато большая лоджия, кухня десять метров. Зоя, конечно, боялась, что Юра объявится и потребует свою долю жилплощади. Но, видимо, мужского в нем было слишком мало, чтобы отстаивать свои права.
Когда стало ясно, что он действительно бросил ее одну с трехлетним ребенком, Зоя собрала чемодан – почти ощупью, не переставая плакать, – и уехала к родителям в Тулу. Она и представить не могла, что город, некогда враждебный, может стать для нее надежной крепостью. Родители были здоровы, оба работали, и места у них было достаточно для нее с дочкой. Зоя подумывала остаться; восстановилась бы на заочном, доучилась наконец… Судьба распорядилась иначе: младший брат, вернувшись из армии, женился, и комнату пришлось уступить молодой семье. «Тебе ж есть где жить. – В голосе матери звучало сочувствие, но сковородка в ее руках погромыхивала раздраженно и осуждающе. – И дела так не оставляй, ходи по инстанциям. Пусть ищут его. Он тебе алименты платить должен».
Ни по каким инстанциям Зоя, конечно, не пошла. Хамоватые чиновницы и очереди в приемных вызывали у нее приступы отчаяния. Попыталась устроиться в местный музей, в библиотеку – всё без толку. Лишь в детском саду для нее нашлась работа – мыть полы. Зоя, смирив гордость, согласилась: ниже падать некуда. Зато Ясю удалось пристроить в тот же садик быстро, по блату. Она росла общительной и веселой, и Зоя, забирая дочку по вечерам, невольно поддавалась ее настроению и сбрасывала бремя усталости от тяжелой, неблагодарной работы.
А потом наступил тот счастливый год, и Зоя почувствовала себя пешкой, которая, отстучав по доске положенное число шажков, превратилась в королеву. В апреле им дали квартиру, а через месяц она устроилась через подругу в районный архив. Это, конечно, была не та работа, о которой стоило мечтать, и тесная комнатка в полуподвале администрации мало походила на музейные хранилища. И все-таки Зоя чувствовала, что судьба улыбается им – пока еще сдержанно, уголками губ. Совсем как Джоконда.
3
Не выпуская из рук щипцов, я отошла от зеркала, насколько позволял провод, и вернула иглу в начало пластинки. Несколько секунд тишины – и из недр динамика поплыл, пульсируя и нарастая, бесконечно долгий синтезаторный аккорд. Меня всегда завораживало самое начало песни, там, где мелодия ползет по этому аккорду, подобно виноградной лозе. Казалось бы: как просто сделано, но надо быть гением, чтобы такое придумать. Я разжала щипцы, горячая челка выскользнула и свернулась на лбу темной блестящей пружиной. Теперь музыка разрасталась, теснила другие звуки – бормотание соседского радио, чей-то топот наверху – и текла в окно вместе с запахом нагретых волос и лака. Я отступила на полшага в сторону, чтобы видеть в зеркале конверт от пластинки, стоявший на полке серванта. На мне была черная футболка с почти таким же рисунком; но если объятый пламенем человек у меня на груди держался прямо и даже горделиво, то на обложке он сутулился и не смотрел в глаза тому, кому пожимал руку. Да и фон был совсем другой – это я заметила только сейчас.
Стрелка часов уже подбиралась к двенадцати, а мне так не хотелось прерывать песню. Ленька наверняка опоздает; я послушаю еще немного. Однако едва успел начаться первый куплет, как в него врезалась трель звонка – до того фальшиво, что я поморщилась. Оставив музыку играть, я вышла в прихожую и повернула ключ.
– Как ты…
Это был не Ленька. Человек за дверью оказался на голову выше него, старше лет на тридцать, но самое странное в нем было не это. Лишь спустя несколько секунд я осознала, что пришелец одет в костюм с галстуком, как персонажи на моей футболке.
– Вам кого?
Наверное, мое удивление было слишком сильным и передалось ему. Он открыл рот, потом снова закрыл и только после этого неуклюже выговорил:
– Славка, ты, что ли?
– Ну я. А вы кто?
Лицо незнакомца посветлело, но улыбка не получилась, и он сконфуженно отвел глаза.
– Вот так вот, Славка… Давно не виделись. А ты меня совсем не помнишь?
– Вы хоть войдите. – Я посторонилась, пропуская его. – Что в коридоре-то стоять.
Он переступил порог и замер в уголке, неловко держа на весу полиэтиленовый пакет с яркой картинкой. В прихожей непривычно и крепко запахло одеколоном. Я прикрыла дверь в комнату, чтобы было потише.
– Любишь музыку? – Вопрос был глупый, и он, кажется, сам это понял. – А я, понимаешь, всё собирался… Поздно, конечно. Может, надо было хоть позвонить сначала… Я ж, понимаешь, папка твой. Вот так вот.
Под моим взглядом он опять понурился. Он был совсем не таким, как описывала мама. Обыкновенным. Костюм сидел на нем словно чужой, ранняя седина в волосах не придавала ни мудрости, ни благородства. И еще он сутулился, точь-в-точь как горящий пинкфлойдовский человек.
Наверное, его смутило мое молчание, потому что он, волнуясь, затараторил:
– Ты не думай, я без всяких… Я вмешиваться в вашу жизнь не буду и не жду, что ты мне на шею кинешься. Времени много прошло… Я понимаю.
– Вы мешок положите. – Мне стало его нестерпимо жаль. – Вон там кухня. Я сейчас.
Я набрала номер Леньки – он, к счастью, был еще дома – и сказала, что спущусь через полчаса. Потом выключила радиолу, закрыла окно и вышла на кухню. Человек с пластинки, во всех смыслах потухший, примостился на краешке стула, уперев руки в колени. Я поставила чайник и села за стол, не зная, что сказать.
– А где Зоя? – Он огляделся, как будто мама могла прятаться в одном из шкафов.
– В Москве, у друзей. Завтра вернется.
– А у тебя каникулы? Отдыхаешь?
Я пожала плечами. Рассказывать ему о том, чем я занимаюсь, не было смысла.
– Ты ведь в десятый класс перешла?
– В одиннадцатый. – Увидев его замешательство, я добавила: – Сейчас так считается. Один год пропускают.
– Да. – Он вздохнул. – Большая.
Я встала, чтобы достать чашки, и он тут же засуетился, зашуршал своим пакетом. На столе появилась коробка шоколада, какие-то еще приношения – мне отчего-то стыдно было на них смотреть. Чтобы отвлечься, я стала думать о том, что завтра сказать маме. В глубине души я надеялась, что он больше никогда не придет. Тогда обо всем можно было бы забыть.
Чай пили молча, если не считать пустых незначительных реплик на отвлеченные темы. Я мельком взглянула на часы, думая, что он не заметит; но он заметил и тут же вскочил.
– Да, тебе ведь надо идти… Извини.
Он смотрел на меня снизу вверх, суетился, и это смяло мимолетное удовольствие от его готовности уйти. В прихожей он замешкался; постоял, рассеянно озираясь вокруг.
– Хорошая у вас квартира. Просторная… Ты помнишь, как мы раньше жили? Барак наш помнишь?
– Конечно, помню. Мне шесть лет было, когда мы переехали.
– Да, – повторил он, словно не слыша меня. – Хорошая квартира…
Мне показалось, что он сейчас заплачет. Он стоял такой несчастный и одинокий посреди нашей прихожей, посреди вещей, к которым не имел никакого отношения. Руки у него бессильно повисли: пустой пакет остался на кухне.
– Да вы проходите. – Это было невыносимо. – Посмотрите, как мы живем.
Вопреки ожиданиям, он не просиял и последовал за мной осторожно, будто бы не верил услышанному. А может, это была просто природная стеснительность. Я попыталась представить, как он ведет себя дома, в собственной квартире: свободно, по-хозяйски или так, как сейчас? Так выглядят посетители музеев – им вроде и любопытно, и давит бесцеремонное внимание старушек-смотрительниц. На роль последней я не претендовала, а скромная наша комната, с маминым раскладным диваном, старым телевизором в углу и журнальными репродукциями на стенах, ни в ком бы не вызвала музейного трепета. Однако единственному посетителю она явно понравилась. На радиоле он задержал взгляд, склонился над пластинкой и что-то пробормотал. Я переспросила.
– Неправильно перевели, – сказал он тихо. – Там «блеск», а должен быть глагол. Shine on. «Сияй»…
– Да, в самом деле.
Я произнесла это машинально и только в следующую секунду вспомнила, что на пластинке нет английских названий. Наверное, он уловил обрывок песни, когда вошел к нам. На человека, который мог знать, он был совсем непохож. Но когда мы вернулись в прихожую, я почему-то сказала:
– А вот тут – моя комната.
О чем он мог думать сейчас, стоя в дверях? О том, что он не видел, как эти бледно-зеленые обои постепенно исчезают под слоем плакатов? Как меняется галерея картинок под стеклом на столе и размер одежды в шкафу? И с чего, собственно, меня вообще это волнует?
– Смотри-ка, целая коллекция! – Он обернулся ко мне, приглашая разделить с ним восхищение, как будто эти минералы, лежавшие на полке под лианой, были не моими трофеями. – Кремень леопардовый, халцедон… Сама собирала или кто подарил?
– Конечно, сама.
Непонятно было, как с ним говорить: на отца я могла бы рассердиться за его поддразнивания, на плохого отца – за желание лезть не в свое дело. Но этот человек был мне совершенно чужим.
– Молодец. Тебе в геологи надо идти.
Я мысленно усмехнулась: всяк кулик свое болото хвалит. Хотя, по маминым рассказам, он и геологом-то был ненастоящим. После деревенской семилетки закончил техникум и уехал в Зауралье. Вернулся бородатым здоровяком, чтобы доучиваться, да так и бросил всё – и нас, и МГУ.
– Я буду геодезистом.
Мне показалось, что он сейчас протянет руку, чтобы погладить меня по голове. Я уже хотела отстраниться, но он лишь кивнул, будто мысленно соглашался сам с собой. Собравшись уходить, заметил на кровати мои раскроенные заготовки для тапочек.
– Ты еще и рукодельница?
– Да это так, ерунда. Помогаю одной кооператорше. Мне ж не трудно в каникулы подработать.
С него тут же слетело иллюзорное спокойствие: он вновь засуетился, забормотал: «Да, конечно…» – и начал хлопать себя по карманам. Выудил, не считая, несколько тысячных купюр из бумажника и заторопился прочь – видимо, пытаясь избежать киношных сцен. Но я и не собиралась догонять его и швырять вслед эти деньги. Их было слишком мало, чтобы что-то изменить.
Я подождала минут пять – вряд ли он стал бы караулить меня у подъезда – и вышла в распаренный после дождя июньский зной. Двор был пуст, лишь в песочнице возились малыши под присмотром бабушек в панамках. Я обогнула вереницу гаражей и увидела знакомую худую спину в серой футболке на два размера больше. Раскинув руки, Ленька не спеша катил по дорожке в своих новых роликах.
– Тренируешься?
Он взглянул через плечо и, лихо заложив вираж, остановился.
– Классная майка. На Горбушке купила?
Меня вдруг охватила злость. Еще сегодня утром я думала о том, как выйду гулять, как буду наслаждаться последним школьным летом, которое прекрасно уже тем, что оно последнее. И тут врывается какой-то призрак из прошлого. Блудный отец. Индийская мелодрама. Тьфу!
– Ты ролики-то снимай. Обещал ведь.
Ленька хмыкнул, но возражать не стал. Молча сел на бордюр, смахнул капли пота с веснушчатых щек и принялся развязывать шнурки. Я заметила на его локте свежую ссадину.
– Что не промыл-то? Засорится.
Он тряхнул белобрысой головой, как жеребчик.
– Ага, я бы ушел, а ты бы меня по всему двору искала. – Потом добавил, помолчав: – А чего у тебя голос был странный какой-то?
– Когда?
– Да по телефону.
Я присела рядом и сняла кроссовки. Отшучиваться не хотелось, да и какой смысл: все равно правда всплывет наружу рано или поздно.
– Ко мне сейчас отец приходил.
– Кто приходил? – Ленька вытаращил глаза. – Ты ж говорила, он вас бросил.
– Ну, значит, передумал.
– Ни фига себе. Он теперь с вами жить будет?
– Ты что, больной? С какого он нам сдался?
По дорожке, ведущей к подъезду, зацокали каблуки, и я смолкла. Мне всегда были противны скандалы на людях, но еще больше я ненавидела домыслы и сплетни. Проводив взглядом крашеную блондинку в мини-юбке, едва торчащей из-под пиджака, я сунула ногу в жесткий раструб Ленькиного ботинка. Даже туго зашнурованный, внизу он был великоват, но голень обхватывал плотно, и я почувствовала себя как в гипсе. Поднялась, держась за ребристую стенку «ракушки». Стоило ее отпустить, как ноги дрогнули, потеряли опору. Серый асфальт с подсыхающими лужами больше не был привычным и надежным, как и наша с мамой жизнь.
– Цепляйся, а то упадешь.
Я перевела взгляд с Ленькиной растопыренной пятерни на ствол молодой березы у обочины. До нее было метров пять.
– Не надо, я сама.
В воскресенье вечером – я читала, сидя на кухне, – в прихожей щелкнул замок, и впорхнула мама. Она всегда так возвращалась из своих московских поездок: посвежевшая, легкая, со шлейфом чьих-то дорогих духов и с полураздавленным куском торта в пакете.
– Ох, как душно в электричке, – сказала она весело, без жалобы. – А у станции всё перекопали, видела? Трубы, что ли, меняют.
Звякнул чайник за спиной: мама с наслаждением пила кипяченую воду. Я не знала, с чего завести разговор. Она обычно спрашивала, как я провела время, но это была всего лишь беззаботная реплика, форма приветствия, и отвечать следовало ей в тон.
– Что на ужин будем, капитан? – Мамина рука потрепала меня по волосам. – Есть идеи?
– Я картошки начистила. Сейчас поставлю.
Пока шумела, закипая, вода в кастрюле, я попыталась снова окунуться в мир романа, который лежал распахнутым на кухонном столе. Но на сей раз побег не удался. Мне чудились шаги на лестничной площадке – такие вроде осторожные, вкрадчивые, но в то же время неотвратимые, как поступь Командора. Да, он именно вкрался, этот анти-Командор, дрожащий и робкий; вкрался в нашу жизнь, как опечатка, разом меняющая весь смысл написанного.
За ужином, болтая о ерунде, я продолжала думать о нем. Мне представлялось, как человек в плохо скроенном костюме стоит во дворе и, задрав голову, ищет среди освещенных окон то, за которым мы сидим.
Перед сном, когда уже выключен был телевизор, я не выдержала и всё ей рассказала.
– Как он выглядел? – спросила мама после долгой паузы. – Всё бороду носит?
– Нет, чисто выбрит. Одет как начальник. Руки чистые.
– Выбился, значит, в люди при новой власти… Хотел меня сразить. Богач. Триумфатор.
Губы ее кривились, и в голосе проскальзывали интонации, которых я не слышала прежде. Мама никогда не ругалась, но сейчас ее слова звучали как брань.
– Я таких знаю, – продолжала она. – Теперь подарки дарить начнет, в рестораны тебя приглашать… Пусть. Ты большая, сама выбирай, с кем ты будешь.
– Ну мама, что за глупости! Не нужны мне его деньги.
– А сам он? Нужен тебе?
Я промолчала. Мне не нравилось, куда она клонит.
– Ну смотри, Яся, – сказала мама с деланым равнодушием, которое было мне хорошо знакомо. – Тебе решать.
4
Из кабинета биологии школьный двор был как на ладони. Я отжала тряпку, шлепнула ее на пол у порога и снова выглянула в окно. Бетонная площадка с парой елок уже совсем опустела, не было никого и на крыльце. Теперь можно идти. Я не стала дожидаться биологички. Вымыла руки и, оставив дверь приоткрытой, спустилась на первый этаж, где одиноко маячил в раздевалке мой синий пуховик.
От утреннего снега не осталось и следа. Сырой ветер трепал колючие кроны деревьев, и опрокинутая картинка в лужах рябила, как в телевизоре. Тропинка, ведущая в парк, вся раскисла, и я порадовалась, что надела сегодня дутые сапоги-вездеходы, а не хлипкие демисезонные ботинки. Земля под деревьями была черна, лишь кое-где виднелись серые островки ледяной коросты. У родника, где мы договорились встретиться, возился мужичок в ватнике. Рядом стояла сумка, набитая пустыми пластиковыми бутылками. Я огляделась: над лавочкой неподалеку темнела знакомая меховая шапка и кусок воротника.
– Здрасьте. – Я так и не решила, как к нему обращаться: на «ты» или на «вы».
Он охнул, с готовностью закрыл книгу и рывком поднялся.
– А я сел в сторонке, чтобы не мешать. Ну, пойдем? Ты, может, голодная? Тут раньше пирожки продавали, возле каруселей…
– Нет уже никаких пирожков, и карусели не работают. Давно вы тут не были.
Мне не нравилось его панибратское оживление. Он, должно быть, принимал эти встречи за проявление симпатии, а мне всего лишь хотелось понять, что он за человек. Оказалось, что мама говорила о нем много неправды, пытаясь настроить меня против. Теперь я должна составить собственное мнение. Но ведь отцу этого не объяснишь.
Мы вышли на асфальтовую аллею, обсаженную вековыми, в два обхвата, липами. В детстве я любила субботники, когда жители окрестных домов, и стар и млад, собирались здесь по весне, чтобы белить стволы. Приятно было находиться среди людей и чувствовать себя полезной. Я всегда тщательно соскребала старую кору, замазывала ранки, чтобы дереву было хорошо. Потом традиция субботников прервалась, а я повзрослела, и стало трудно поступать как хочешь, без оглядки на других. В школе не любят активистов и выскочек. Выбирай сам, кем быть: одиноким Зорро, который слишком много на себя берет, или душой компании. Будь у меня настоящий отец, я бы спросила, что мне делать.
– Да. – Он вздохнул, как будто соглашаясь. – Всё изменилось… Я ведь, кажется, лет десять назад приезжал. Тогда парк был ухоженным, чистым…
Я невольно замедлила шаг.
– А чего ж тогда не захотели повидаться? Человек в семь лет еще не человек?
– Зря ты так, Яся. – Он понурился, и в голосе впервые зазвучало подобие укора. – Я к тебе и ехал. Зоя сказала, если разведемся без шума, то даст мне тебя повидать. А потом передумала: что, мол, ребенка зря расстраивать, если жить все равно врозь. И запретила…
– Запретила! Да вы ее знаете? Может она что-нибудь запретить? Топнули бы ногой, настояли на своем.
– Есть такая вещь, как уважение, – сказал он спокойно, не обидевшись на мой тон. – Не всегда надо пользоваться тем, что ты сильнее.
– А она, значит, вас не уважает.
– Это ее дело.
Господи, как у них всё сложно.
Аллея начала забирать вправо и свернула к озеру. В погожие летние дни отсюда открывался чудесный вид: сияла золоченая маковка церкви, косматые облака висели в неподвижной воде, и даже берега, частично скрытые травой, уже не казались безобразными. Зимой снег маскировал морщины на покатых бурых склонах. Но в межсезонье озеро нагоняло на меня такую тоску, что я старалась сюда не ходить. Поэтому, когда отец сказал, меняя тему: «Хорошо здесь», я только буркнула:
– Чего уж хорошего. Запустили всё.
Рассеянное выражение исчезло с его лица, и он стал вглядываться вдаль, серьезно и чуть нахмурившись.
– А знаешь, отчего оно такое? Ну, озеро?
– Эрозия почвы? – предположила я не очень уверенно.
– Это уже не просто эрозия. Тут целый оползень.
– Разве они такие бывают? Мы же не в горах.
Я не поверила ему: слишком серьезным было слово, с какими-то трагическими, репортажными обертонами. А здесь было тихо и буднично, даже вороны не каркали.
– Еще как бывают. Масштабы, конечно, разные, и скорости тоже. А механизм один: движение материала под действием силы тяжести. Оползень – штука коварная. Иногда годами дремлет, а потом что-то запускает процесс: сильный дождь или стройка рядом…
– А овраг вон там вы видели? – Я показала на другой берег, где в озеро, змеясь, впадал ручей. – Это тоже оползень?
– Видел. Он, кстати, растет. Это, собственно, часть одного большого оползня. Если ничего не делать, он может со временем всё это захватить, – отец обвел рукой крыши домов, стоящих вдоль берега.
Я представила, как склон осыпается, глубокая трещина вспарывает дорогу и движется вглубь квартала, заставляя фабричные трубы накрениться, как Пизанская башня.
– А кто их изучает – геологи?
– А это, кстати, как раз по твоей специальности. Геология – это ведь в первую очередь состав пород. А геодезисты могут измерить, как оползень движется. Опять же, карту составить… Ты уже факультет себе выбрала?
– Нет еще, – созналась я. – Сперва на картографию и хотела, но это вроде бумажная работа в основном. Ненастоящая какая-то…
– Ну, это глупости. По полям придется бегать будь здоров. А ты любишь карты рисовать? Небось сокровища искала в детстве?
– Было немножко, – сказала я с неохотой. Его неловкие заигрывания уже почти не раздражали, но я хорошо помнила, зачем я с ним встречаюсь. – Потом в геологический кружок пошла.
– И что, не легло на душу?
– Типа того. Все-таки надо к этому страсть иметь. У меня с точными науками хорошо, но что же мне теперь, как все, в экономисты? И в информатику неохота, всю жизнь на заднице. Я мир хочу посмотреть.
– А ты знаешь, ты съезди в институт. Походи там, поспрашивай, среди студентов потолкайся. Сама почувствуешь, что твое, а что нет.
Я не ответила, но про себя решила, что непременно так и сделаю, пусть для этого пришлось бы прогулять школу. Надо всё увидеть самой, узнать как можно больше и сделать выбор. Сейчас это самое важное. Один шаг определит мою жизнь на много лет вперед, и некого будет винить, если я ошибусь.
– Ты серьезная стала, Яся. В детстве такая хохотушка была, а сейчас даже не улыбаешься. У тебя всё хорошо? Друзья есть?
– Всё у меня есть. – Я сунула руки в карманы. – Может, дальше пойдем? Стоим тут на одном месте…
– Да, конечно… Прости.
До самой церкви он покорно молчал – то ли и правда понял, что сказал лишнего, то ли демонстрировал обиду. А потом, словно вспомнив о чем-то, озабоченно спросил:
– А мама знает, что ты здесь?
Я покачала головой.
– Н-да. – Он вздохнул. – Город-то маленький… Может, как-нибудь по Москве погуляем? Если ты хочешь, конечно.
– Я подумаю. У меня сейчас дел полно: экзамены и все такое.
– Это понятно. Ты учись. Я верю, что ты поступишь.
Он сделал неопределенный жест, потоптался и добавил:
– Счастливо тебе, Яся. Не сердись на меня.
По дороге домой я едва удержалась от соблазна купить в ларьке шоколадный батончик, чтобы утолить голод. Маме опять задерживали зарплату, а мои деньги, заработанные на тапочках, таяли слишком быстро. Войдя в квартиру, я первым делом открыла все форточки: батареи грели по-зимнему, невзирая на календарь. Вскипятила воду, высыпала в кастрюльку суп из пакета – всё лучше, чем жевать сухие бутерброды, – и тут же, на кухонном столе, разложила учебники. Если я сделаю все уроки сегодня, то в выходные хватит времени и на уборку, и на шитье. А еще хорошо бы снова пойти в бассейн. Последний месяц спина болит сильнее обычного.
Когда буквы в тетради начали терять четкость, я встала и зажгла свет. Мне хотелось побольше успеть до прихода мамы, чтобы потом вместе готовить ужин. Она часто возвращалась с работы уставшая, особенно в такие вот оттепельные дни, когда от сильного жара батарей в полуподвале становилось душно и болела голова. Я снова углубилась в сочинение – с удовольствием: свободные темы были моими любимыми. Лучше написать десять страниц о счастье, чем три – о Печорине, эгоистичном нытике, зря растратившем годы. Я не взяла бы его в свое идеальное общество, о котором писала сейчас. Эта тема занимала меня и раньше, когда я впервые читала «Город Солнца». Там было много ерунды, но одно автор понял верно: мир погубят невежество и тунеядство. Каждый человек должен делать что-то полезное, причем исходить надо не только из его склонностей, как сказано у Кампанеллы. Если у меня абсолютный слух, это не значит, что я должна идти в консерваторию; и как я рада, что его обнаружили пару лет назад, а не в детстве. Иначе я возненавидела бы музыку. А как без нее можно жить?
Перевернув страницу, я мельком взглянула на часы – и сердце екнуло: без четверти шесть. Я и не заметила, как быстро стемнело. Где же мама? Она редко заходит в магазины после работы. Может, поручили сделать что-то сверхурочно? Нет, тогда бы она позвонила… Я включила телевизор, надеясь отвлечься; нашла что-то нейтральное, с тихой музыкой, и села на диван. Но взгляд не фокусировался, и неприятно вздрагивали мышцы: бежать, бежать. Только куда? Стрелки на часах еле двигались. Из коридора не доносилось ни звука: все соседи уже были дома.
Только бы с ней ничего не случилось.
В половине седьмого я набрала номер маминой работы. Долго слушала гудки, растягивая пальцами скользкую спираль шнура; потом опомнилась: что же это я, ведь могут позвонить, а тут занято… В комнате холодно мерцал экран. Надо было что-то делать. Я вышла на лестничную площадку и прижалась лбом к щели между створками лифтовых дверей. Виден был черный трос в ярко-желтой шахте, он подрагивал: значит, в самом низу началось движение. Звук постепенно нарастал, затем оборвался, двери чавкнули. Не к нам. Я решила считать, как считала поезда метро, стоя на платформе и мысленно кляня опаздывающего друга. Один. Два. У нас предпоследний этаж. Три. Прекрати панику. Четыре. Куда мне звонить? Кабина приближается, но я не верю, что она остановится именно сейчас, поравнявшись со мной. Пять.
– Где ты была?!
Мама делает шаг из лифта. Она слегка запыхалась, на лице смущение, но крови нет, и одежда в порядке. Зеленое пальто с меховым воротником, шерстяная шапка – мама тоже обманулась утренним снегом, последней агонией зимы.
– Ох, прости, котик. – Она быстро целует меня, щека нежная и пахнет свежестью. – Я к девчонкам зашла из отдела, а они день рождения справляют. Не думала, что так долго получится… А ты чего, испугалась?
Наверное, она права, что так легко всё забывает, думала я, разогревая ужин. Мне бы тоже стоило забыть, ведь прошло уже столько лет. Но почему-то всякий раз, когда мама где-то задерживается, я вижу синие всполохи маяков на крыше скорой. Маму увозят с сильным кровотечением из носа. После прижигания оно затихает, но затем начинается снова. Бледная и исхудавшая, она три дня не встает с больничной койки. Вечером, уложив меня спать, мамина подруга тетя Наташа долго шепчется с мужем, кивая в мою сторону заплаканным лицом. Она спрашивает, есть ли у меня еще родные и где они живут, и в груди леденеет так, что трудно вдохнуть.
Наверное, глупо вспоминать об этом и мучительно решать – идти ли мне в поход с геокружком, ехать ли на дачу к друзьям. Все равно невозможно быть с ней рядом всегда. Так я себя утешаю, а сама думаю: вот если бы отец был тут. Сильный, надежный, веселый. Как у Леньки. Мы бы все вместе запускали змеев, а дома пили бы чай за большим столом. Мама бросила бы свой архив и нашла настоящую, любимую работу. Ведь человек без этого чахнет, даже здоровый. А у нее анемия.
Я снимаю сковородку с огня. Гречка с мясом – железо, яблочный сок – витамин С. Лучше делать что-то, чем мечтать о несбыточном. Мы не в голливудском фильме, где дети заставляют родителей снова полюбить друг друга. Я ставлю тарелки на стол и улыбаюсь маме, которая выходит из ванной с полотенцем на голове.
5
Зое не спалось. Весь вечер ее мучила слабость, затылок налился свинцом – трудно было даже смотреть телевизор. После чая она легла и сразу задремала, а потом душный, путаный сон оборвался, и стало слышно, как тикают часы, словно парящие во мраке. Было уже за полночь – она чувствовала это, не глядя на циферблат, по особенной тишине вокруг и по черной пустоте окна, обращенного, как в небытие, в беззвездное небо. Зоя подождала еще, но сон не шел. В голову полезли суетные, мелкие мысли: о сапогах, которые надо сдать в ремонт, о повышении квартплаты. Во рту было сухо, от батареи тянуло жаром сауны – или саванны? Она встала, вышла на кухню, не включая света, – дочь поддерживала тут образцовый порядок, так что легко было на ощупь найти и стакан, и чайник. Спать расхотелось совсем. На полу в дальнем конце прихожей лежала бледно-желтая полоса, и Зоя, поколебавшись, осторожно приоткрыла дверь.
– Ты чего сидишь? Поздно уже.
Кудрявая голова, темневшая на фоне ярко освещенных страниц, повернулась не сразу, будто бы нехотя. Подойдя поближе, Зоя увидела, что глаза дочери красны, а лицо усталое, с розоватой полосой там, где рука подпирала лоб.
– Мне надо закончить.
– Что, трудно? – прошептала Зоя, чувствуя острую жалость оттого, что не может помочь.
– Да нет, я свое уже сделала. Это Маринке. Она много пропустила, теперь догнать не может. Предметы новые…
Зоя скользнула взглядом по тетради – сплошные формулы, какая-то китайская грамота. Яся не раз пыталась объяснить, в чем суть ее специальности под громоздким названием «Фотограмметрия и дистанционное зондирование». Это, говорила она, измерение Земли с воздуха при помощи аэрофотосъемки, радиоволн и лазеров. «А разве она еще не измерена? – удивлялась Зоя. – И глобусы есть, и карты». Ей казалось невыносимо скучным улучшать уже известное, копаться в деталях, погрешностях, миллиметрах. Нет, в том, что касается глобуса, все открытия давно позади. Каравеллы Колумба и Магеллана избороздили океан пятьсот лет назад, и «Земное яблоко» [2] созрело уже к прошлому веку, покрывшись пятнами шести материков. А нынешним ученым достаются чужие огрызки. Какой смысл тратить на это жизнь? На свете еще столько загадок – Бермудский треугольник, НЛО… Но Яся не желала слушать об этом, и Зоино сердце сжималось при мысли о том, сколько времени, сил уйдет впустую. Надо радоваться юности, а не сидеть над формулами. Ах, как быстро промелькнут эти годы, окутанные лиловой весенней дымкой. Сама она слишком рано повзрослела и в неполные сорок уже почти похоронила себя, как вдруг в воздухе снова запахло сиренью.
Яся и раньше, в школьные годы, умела одеваться – вернее, умела выглядеть хорошо хоть в платье, хоть в молодежной футболке. Лишних денег у них никогда не водилось, выбор одежды в магазинах был беден и безвкусен, но дочь находчиво украшала себя то шарфиком, то брошкой, комбинировала одни вещи с другими и носила их аккуратно и подолгу. В комиссионках (их теперь называли иностранным словом «секонд-хенд») она выкапывала настоящие драгоценности вроде того вязаного платья в этническом стиле. Прямое и длинное, с широким кожаным поясом, оно превращало Ясю в индейскую принцессу. Броский геометрический орнамент удивительно шел к ее крупным чертам, и Зоино воображение охотно дорисовывало вплетенные в косы соколиные перья и воинственные росчерки красной охры на смуглых щеках.
В жизни, впрочем, этих щек долго не касалась ни кисть, ни пуховка. В отличие от сверстниц, дочь не спешила краситься и выщипывать в ниточку свои густые брови. Сама Зоя пользовалась косметикой только в юности, когда ей хотелось выглядеть постарше. А теперь на трюмо снова выстроились футляры с помадой и палитры теней. Скулы и виски Яся припудривала темным, отчего лицо становилось изящней; смягчался взгляд в золотистых веках, а твердо очерченные губы, которые она оживляла под настроение то бежевым, то вишневым, вызывали у Зои невольную зависть – у нее самой рот был маленький, сердечком. Волнующе-сладкие флюиды поплыли по комнатам: земляничные нотки незнакомых духов, запах импортного лака для волос и утюга, которым Яся без конца наглаживала блузки. Это пьянило Зою, и она, как гончая, взявшая кровавый след, кружила около дочери, заводила разговоры по душам, всматривалась, вслушивалась, стараясь не пропустить ни знака. Ей хотелось дышать чужой любовью, но Яся делилась с ней крайне скупо. Зоя была готова в пылу доверительной беседы поведать ей о своих сердечных опытах; вот только рассказывать было нечего. После Юры она так и не сумела влюбиться, если не считать кинозвезд, чьи портреты стыдливо прятались в ее уголке среди картин. Мужчины вокруг были безлики, скучны, думали только о деньгах и сводили семейное счастье к кооперативной квартире и мастерице жене, которая будет эту квартиру обставлять.
А Юра… Его она когда-то любила, а теперь могла лишь пожалеть. Зоя со слов дочери знала о его мытарствах: о том, как в перестройку закрыли региональное отделение НИИ, где он работал; как он, вернувшись в Москву, вложил накопленные деньги в частный банк. Вскоре банк прогорел, директор его сбежал, а Юра, отчаявшись, схватился за первое же попавшееся объявление о работе и стал машинистом в метро. В сорок лет ему не стыдно было менять профессию. Где тот успешный делец в дорогом костюме, которого она воображала? Теперь Зоя уже не мешала дочери: пусть видится с ним – отец-неудачник не представляет опасности. Да и о чем им говорить? Встретятся раз-другой и забудут друг о друге. Однако вышло иначе. Яся вдруг кинулась его опекать, будто и зла не держала. Он подарил ей на семнадцатилетие свой старый «Зенит», и теперь по выходным дочь пропадала в фотокружке, а вечерами запиралась в ванной, занавесив дверь покрывалом. Зоя украдкой всматривалась в черно-белые скользкие квадратики, висевшие на прищепках; но там были всё больше пейзажи да лица незнакомых девчонок – должно быть, институтских подруг. Юноши попадались редко и выглядели уж очень обыкновенными. Вряд ли среди них мог быть он.
Всё закончилось так же внезапно, как началось. Вместе с летом пришла череда гроз, пахнущих тревожно и резко. А потом налетели пыльные ветра, заглушив истончившийся аромат сирени. Косметика лежала нетронутой, Ясины губы сохли, а в глазах – они тоже оставались сухими – отражались стальные тучи. Зоя мучительно прислушивалась к ней, пытаясь понять, что случилось. Походка, движения – всё оставалось прежним. Тело ее, уже совсем взрослое, было аскетически-спортивным; и лишь изредка, застав дочь в постели или в ванной, Зоя видела, как внутри у нее перекатывается тяжелая рубенсовская чувственность.
«Мужчины такие негодяи», – сокрушенно вздыхала Зоя, помогая дочери убрать со стола. Но та молчала, игнорируя уловки. Как удавалось ей хранить спокойствие, заниматься делами, словно ничего не случилось? Зоя и раньше замечала в ней эту сдержанность; не раз она обиженно смолкала посреди обсуждения книги или фильма, понимая, что дочь не разделяет ее чувств. А порой именно это качество спасало их обеих, когда мир ощетинивался штыками со всех сторон.
Ясе было семь лет, когда Зоя впервые ощутила в ней свою опору. Они жили в новой квартире уже почти год, и вот однажды пришлось вызывать сантехника. Раковина в ванной была плохо подогнана с самого начала, но Зоя надеялась, что и так всё будет держаться, если быть поаккуратней. А в тот день она, забывшись, неловко схватилась за край раковины и сорвала ее. Из трубы хлынуло прямо на пол. Как страшно стало при мысли, что сейчас они зальют соседей! Зоя в панике металась от телефона к ванной, пробовала заткнуть трубу тряпками. В бараке ее постоянно окружали люди и, если что-то случалось с краном или с газовой колонкой, всякий раз находился кто-то знающий, чтоб разобраться с неисправностью. А разве дозовешься помощи в квартирной многоэтажке? К счастью, Яся отыскала вентиль, которым перекрывают воду, – он был спрятан в туалетном шкафу.
Сантехник пришел только вечером, и Зоя вся изнервничалась, пока ждала его. Она боялась, что окажется виноватой в том, что вовремя не сообщила о кривой раковине. Вдруг за это положен штраф? Наконец грянул звонок, резкий, как пожарная сирена. Затопали по линолеуму грязные ботинки. После двух лет работы уборщицей это стало Зоиным ночным кошмаром. Ей до сих пор снилось, что она исступленно трет пол, а на нем снова и снова проступают рифленые следы. Лицо у сантехника было красное и сердитое, от одежды тянуло затхлой сыростью подвала. Он осмотрел раковину, сказал, точно сплюнул: «Дрянь дело», и взялся за работу. Зоя укрылась на кухне, стараясь не слушать лязга инструментов, кряхтения и мата. Время ползло невыносимо долго, на чтении сосредоточиться не получалось. Увидев мастера в дверях кухни, Зоя облегченно вздохнула.
– Всё на соплях было, – буркнул сантехник.
– Спасибо. – Она мялась, не зная, что еще сказать. – Вы меня прямо спасли…
– Спасибо, хозяйка, в карман не положишь.
Зоя растерялась. Она подумала, что мастер шутит, но тот, собрав свои железяки, всё еще топтался в прихожей и шумно сопел. Поникнув, она прошла мимо него в комнату, достала из сумки кошелек – там лежал только мятый рубль.
– Столько хватит? – робко спросила она.
– Смеешься, что ли?
Красная от стыда, Зоя полезла в шкаф и выудила десятку. Ничего мельче у нее не оказалось, и она надеялась, что мастер даст ей сдачу. Но он сгреб купюру как должное и, пробурчав что-то на прощание, ушел. От хлопка двери по квартире пробежала дрожь, тоненько зазвенели висячие кристаллики люстры, и Зоя, не в силах больше сдерживаться, разрыдалась. Душу словно бы заляпали черным, как стены в ванной. Никогда еще она не испытывала такого унижения – на нее повысили голос, ей говорили «ты», отняли деньги; а страшней всего было ее собственное бессилие. Чернота внутри разрасталась, пятна сливались в одно. И вдруг откуда-то, разгоняя мрак, зазвучала нежная музыка – ее любимый Поль Мориа. Неужели по радио передают? Зоя вытерла опухшие глаза, вошла в комнату – там крутилась на радиоле пластинка, но дочери не было, зато из ванной доносилось звяканье ведра и шум воды.
– Он всё починил! – весело объявила Яся, увидев ее. – А насвинячил-то как!
«Что это я, в самом деле, – опомнилась Зоя, – ну подумаешь, деньги. Они вдвоем, музыка прекрасна, а остальное завтра забудется». На душе стало легко, и Зоя, прижав к себе дочку, покрыла поцелуями ее душистое личико. Какая она стала большая! Годы летят так быстро – не успеешь оглянуться, как вчерашний несмышленыш начнет давать советы. При мысли об этом Зоя, сама того не ожидая, испытала облегчение. Она так устала всё решать сама.
6
Я выскочила из метро – и будто всплыла из придонных глубин к поверхности озера, залитого тонким слоем маслянистого солнца. Для начала октября было сказочно тепло, и громоздившиеся над вокзальным шпилем облака казались скорее майскими, холерически-взрывными. Сухой воздух пахнул поездами, женский голос из динамика расслаивался эхом – необъятное пространство под крышей было пусто, люди держались лишь одной, нижней плоскости, толпились на ней и толкались, и в этом была какая-то досадная неэффективность.
Ленька опоздал всего на десять минут – я даже не успела рассердиться. Этим летом мы не виделись, и теперь я сразу заметила в нем перемены. Вместо футболки и джинсов – цивильная рубашка, брюки со стрелками; в руках – чудовищно безвкусная барсетка «под змею». Он по-прежнему выглядел щупловатым, но уверенная, слегка расхлябанная походка демонстрировала, что с ним считаются и, быть может, где-то даже уважают.
– Задолбали электрички, – сказал он с чувством, когда мы сели в вагон. – Квартиру хочу снять, чтобы не мотаться каждый день. Думал, общагу дадут в этом году, так фиг…
– Богатенький. Родители небось спонсируют?
– Да не, я на работу устроился. Еще в августе. Там фирма одна, сигнализации ставит. – Он подмигнул. – Платят нормально. Я ж головастый.
– По вечерам работаешь?
– Да всяко…
– А учеба как же?
Ленька сделал неопределенный жест – мол, да уж как-нибудь.
– Зря… Далеко еще до диплома.
– Ой, Славка, ты как маленькая. Кто на четвертом курсе на пары ходит?
Вагон быстро заполнялся: одни ехали домой с работы, другие – на дачу, пожинать плоды. А Ленька, значит, не дождался, пока созреют ягоды, и кинулся рвать их зелеными.
– А ты чего поговорить-то хотела?
– Мне твоя помощь нужна, головастик. Ты змеев еще не разучился делать?
– Каких змеев?
– Обычных. Которые летают.
– А. – Ленька засмеялся. – В детство потянуло?
Я достала из сумки тетрадь, заложенную вырезкой из американского журнала. Краснощекий парень с фотографии держал на вытянутых руках модель планера, к которой снизу была прикреплена миниатюрная камера-мыльница.
– И где тут змеи?
– В статье, – терпеливо сказала я. – Тут написано, что для съемки с воздуха можно использовать любой портативный аппарат, необязательно планер. Можно со змея или с воздушного шара.
– А что, с кукурузников вам уже съемки не делают?
– Делают, но я хочу попробовать сама. Надо только придумать, как камеру к змею прикрутить.
Двери вагона с шипением захлопнулись, и платформа за окном пришла в движение. Ленька нехотя морщил лоб, рассматривая журнальную фотографию.
– Да никак не прикрутишь…. Трепыхаться же будет. Змей тебе не планер.
– А ты пошевели мозгой. – Я раскрыла тетрадь и вынула из сумки карандаш. – Если жестко зафиксировать, ничего не будет трепыхаться.
Голубые Ленькины глаза были по-прежнему благодушно-ленивыми, а поза расслабленной. Казалось, он уже настроился на свою будущую сытую жизнь: прибыльная работа, не требующая таланта, практичные и доступные цели – машина, квартира. Разве не с ним мы изобретали ракетные двигатели и разбирали на части все механизмы, что попадались под руку? Поезд катил все дальше, а я крутила свои схемы и так и этак, поминутно толкая Леньку в плечо. «Смотри, можно сделать жесткую рамку, чтоб фиксировалась на разный угол наклона». Я должна его растормошить, выбить из него это сонное довольство. Но он только вяло скользил взглядом по тетради: «Ну попробуй так, если хочешь», – словно не знал, что из инструментов у нас дома есть только молоток.
– Что-то не верится мне, что тебя в фирму взяли, – сказала я. – Ну неважно. Спроси отца, даст он мне в своей мастерской поработать?
– Да там всё паутиной заросло, – пробурчал Ленька. – Ладно, забегай. Я в субботу вечером дома буду.
Войдя в квартиру, я тут же уловила непривычный запах, густой и приторный до тошноты. В большой комнате играла восточная музыка, а на кухне натужно сипел чайник, кипящий, судя по всему, давно.
– А я чуть не заснула, – смущенно сказала мама, приподнявшись с подушки. Ноги ее были закутаны старым шерстяным одеялом. – Так успокаивает…
На тумбочке у дивана стояла пустая кружка из-под чая, а рядом – брошюрка по гаданиям Таро. Я сделала музыку потише и открыла форточку. Источник запаха был в шкафу: там, на полке, курилась тонкая коричневая палочка.
– Ты что, с работы отпросилась?
– Да что-то плоховато стало после обеда. Голова…
Я тронула мамин лоб – он был лишь немного теплым со сна. Но выглядела она и впрямь неважно: кожа была бледной, под глазами залегли тени.
– А ты еще палку эту зажгла. Давай я выкину.
– Не надо, хороший запах. И для энергетики полезно…
Я вздохнула. Книжки на маминой тумбочке менялись каждую неделю: хиромантия, тайна имени, толкование снов. К счастью, охладевала она так же быстро, как загоралась.
– Ты бы все-таки сходила к врачу. Слишком часто у тебя голова болит, это плохой сигнал.
– Ох, Ясь, опять ты за свое. – Она поморщилась. – У нас просто душно в подвале.
– Ты ж недавно в отпуске была, так же мучилась.
– Не так, – сказала она упрямо, как ребенок. – Что ты меня гонишь вечно к этим мясникам?
– Мама! Ну не все же врачи такие. Один раз ошиблись, ну и что теперь…
Диван скрипнул: она приподнялась на локте и смерила меня едким взглядом.
– «Ну и что»?! Я чуть не умерла из-за них, и ты говоришь «ну и что»?
Я села рядом и притянула к себе ее растрепанную голову. Мне хотелось сейчас подумать о чем-нибудь другом; о том, как завтра утром я прыгну в прохладную воду бассейна, которая сверху кажется голубой; о том, как снова буду делать змея. Но мамино темя, сладко пахнущее импортным шампунем, рождало во мне какой-то болезненный стыд за эти мысли. Чувство было неуклюжим, угловатым, оно тыкало под ребра, и я не знала, как мне устроиться, чтобы его не замечать. Иногда, лежа в постели, я представляла, что меня посылают в далекую экспедицию, куда-нибудь на Камчатку. Я буду измерять движения земной коры, исследовать поствулканические деформации, делать прогнозы землетрясений. А вечерами приходить в свой гостиничный номер и просто читать. В такие моменты мне становилось очень хорошо, но лишь на мгновение: откуда ни возьмись выползал холодный чешуйчатый стыд и жалил, отрезвляя. Видение рассеивалось, всё снова было как всегда.
– Я пойду ужин готовить. Ты отдыхай. Принести тебе чаю?
Утром в субботу солнце еще светило, хотя стало ветрено; а после обеда зарядил дождь и пустился заштриховывать бабье лето – увлеченно, как школьник, чиркающий карандашом в тетрадке наблюдений за природой. Был белый квадратик, стал черный. Не успел подсохнуть мой зонт, распяленный в прихожей, как пришло время собираться снова. Я проверила, выключен ли газ, чмокнула маму, сидевшую перед телевизором, и вышла во двор. Окна глухо желтели сквозь пелену влажных сумерек, бледный асфальтовый круг под фонарем был усеян кожистыми листьями. Ленька жил совсем рядом, в одной из девятиэтажек, однако в последние годы мы редко встречались. Как-то раз, на первом курсе, я подошла к нему во дворе. Он сидел на качелях рядом с высокой блондинкой; траурные вьюнки на ее ажурных чулках оплетали длинные, изящно скрещенные ноги, теряясь в темноте джинсового мини, едва прикрывающего бедра. Все те пять минут, что я разговаривала с Ленькой, болотные глаза блондинки сверлили меня взглядом, в котором было, пожалуй, всё: и гнев, и страх, и презрение. Теперь, встречая Леньку на улице, я делала вид, что не замечаю его.
Я позвонила в домофон – его поставили недавно, в детстве мы бегали друг к другу без всяких замков и кодов. Поднялась пешком на третий этаж, чтобы не ждать лифта. Знакомая дверь была теперь спрятана под грозно-серой, неприступной с виду броней. А вот звонок, как и прежде, переливался птичьей трелью, и в квартире уютно пахло пирогами.
– Ух ты, как видоизменилась! – Дядя Володя заулыбался и крикнул в сторону кухни: – Глянь, Ир, какая мадама! Встретил бы – не узнал.
– Да ладно вам, – отмахнулась я, стаскивая ботинки. – Не сто лет ведь прошло.
Я хотела отказаться от чая, но меня усадили за стол чуть ли не насильно и завалили вопросами – об учебе, об отце. В маленьком городе ничего не утаишь.
– Не женскую профессию ты себе выбрала. – Ленькина мама всегда выражалась прямо, и эта ее манера жила в согласии с коренастым телом и простоватым, деревенским лицом. – Но если душа просит, что ж теперь. Главное – людям пользу приносить. А ты отлынивать не будешь, я тебя знаю.
– Ну ладно, мать. – Дядя Володя хлопнул по столу ладонью. – Пойдем мы.
Он отпер кладовку – чулан, как называла ее вся семья: непропорционально просторный для малогабаритной двушки, с деревянными полками, сделанными отцом любовно, на совесть, с верстаком и хорошей лампой на пантографе. В детстве мы мечтали залезть в чулан сами, когда дома никого нет, но без присмотра трогать инструменты строго-настрого запрещалось.
– Показывай, Славка, что ты хотела сделать.
Я протянула ему журнальную страницу и свой тетрадный листок. Объяснила идею. Дядя Володя слушал внимательно, глядя то на меня, то на схемы. Потом забормотал: «Так-так…» – стал шарить ладонью по полке, словно припоминая, где что лежит. Ленька не врал: хоть паутины я не заметила, но спертый воздух чулана и пыль праздности – не железная стружка, не сыпучая деревянная труха – говорили о том, что мастерской давно не пользовались. Кем бы Ленька ни был в своей фирме, работу на дом он явно не брал.
– А змей камеру выдержит? – спросил дядя Володя с сомнением. – У тебя какая?
– Я мыльницу хочу купить. Я уже знаю, какую надо. Полкило будет, не больше.
– Ну, а как с болтанкой? Надо ж уравновесить как-то… Погоди, если мы крестовину такую сделаем поверх…
Я заглядывала ему через плечо: карандаш уже метался по моему листку, вычерчивая новую схему. Да, это будет правильно. Рамку подвесить за стропы в верхнюю часть леера. А змей нужен большой, ну да это не сложно. Господи, сколько лет назад мы сделали последнего – классе в пятом, кажется? Он был огромный, по плечо мне, и отлично управлялся как на слабом ветру, так и при десяти метрах в секунду. Такой змей поднимет мыльницу как пушинку.
– А на кнопку как будешь нажимать? – вмешался Ленька. Все это время он стоял в стороне, прислонившись к дверному косяку. – Гномиков посадишь?
– Там режим есть специальный. Камера сама может снимать, с нужным интервалом.
– Жалко. А то можно было бы радиоуправление придумать…
Он подошел к нам – вразвалочку, но глаза уже горели – то ли интересом, то ли просто ревностью. В узком проеме чулана стало тесно, и не верилось, что когда-то мы без труда помещались тут втроем.
7
Наверное, я выглядела очень одинокой, сидя в самом углу ресторана, у стены, выкрашенной наполовину в красный, наполовину в белый. Незнакомец занял столик напротив, долго ждал заказа, кидая на меня любопытные взгляды. Потом сказал: «Как у вас ловко получается. А я вечно мучаюсь с этими палочками. Вы, наверное, часто тут бываете?» Я ответила – нет, не часто. Слишком сложно было бы объяснять, что в этом ресторане я впервые, а палочками научилась орудовать просто так, из спортивного интереса. Мне давно хотелось прийти сюда, перенестись в чужой мир хотя бы мысленно. Но ожидания не оправдались. Суши мне не понравились – я любила рыбу, но йодистый привкус водорослей вызывал в памяти сиротливые холмики салата из морской капусты, из года в год украшавшие наш с мамой праздничный стол. А главное – невозможно было никуда перенестись, зная, что эта простая еда, японский аналог бутерброда, доступна здесь только людям с достатком. Неважно, сидишь ли ты внутри, под коробчатыми фонариками, свисающими с потолка, или идешь по улице мимо стилизованной Фудзи на стекле витрины, – отовсюду видно, что это не более чем потемкинская деревня, островок мнимого благополучия.
Наверное, поэтому я не стала возражать, когда незнакомец, спросив разрешения, подсел за мой стол. На вид чуть постарше меня, типичный белый воротничок из новых. Мне хотелось поболтать, чтобы смягчить разочарование от еды. Он оказался приятным собеседником – из тех, кто умеет хотя бы делать вид, что слушает другого.
– Геодезист, надо же, – удивленно повторил он. – Такая милая девушка… И как, трудно было работу найти?
– Да как везде, наверное. Кто ищет, тот найдет. Меня после института сразу на две работы взяли, хоть разорвись. Одна в экологическую экспедицию, за копейки. Другая здесь, в строительной фирме.
– И вы, конечно, выбрали второе.
Выбирала ли я? Мне хотелось поехать на казахскую границу, где задыхается в нечистотах великая река, сгорая, как раковый больной. Но мама, узнав об этом, вся сникла. Я решила, что она боится расставания, и стала объяснять, что это совсем ненадолго, что Урал – не край земли. «Да я не про то». – Она по-прежнему не поднимала глаз. На расспросы не отвечала, пыталась уйти из комнаты под любым предлогом и лишь потом, сделав усилие, сказала: «Наташка со своим из Турции приехала. Говорит, красота, лучше всякой Ялты. А мы с тобой на море ни разу не были».
Море… Для меня оно всегда было рядом – глянцево синело с настенной карты, пойманное в невод широт и долгот; шумело в персиковом устье рапаны, которую мама много лет назад привезла из Сухуми. Я должна была подарить ей это – настоящий курортный отпуск, излечивающий и душу, и тело. Сил не было смотреть, как она мучается.
Было ли это моим выбором?
– Конечно.
Он кивал – одобрительно, понимающе. Говорил банальные комплименты, шутил; предложил заплатить за меня. Наверное, это было бы приятно, но кровь моя, давно загустев, текла еле-еле – хоть сажай пиявок. Я рассчиталась первой и ушла, оставив его сидеть в углу.
Так непривычно было никуда не спешить. До прихода отца с работы оставался еще как минимум час, а торчать одной в его холостяцкой съемной квартире мне сегодня не хотелось. По широкому проспекту катили, как на параде, иномарки всех мастей, брызгая из-под колес бурой жижей. Рваное, в облаках, солнце стекало каплями с прозрачных сталактитов, которые украшали без разбору и старые фасады, и безвкусный новодел. А в витрине мехового магазина продолжалась зима и царственные шубы отливали искристым серебром на безупречном искусственном снегу. Серенькая кроличья куртка, которую я купила маме на весну, казалась рядом с ними деревенской простушкой. Но мама, сослав на антресоли свое подростковое пальтишко, была так рада, будто облачилась в горностая.
Отец опередил меня минут на пять. Он выглядел уставшим: тоннели метро заливало грунтовыми водами, и работа, без того нервная, изматывала его еще сильнее. Я не раз заводила разговоры о смене места, но сама понимала, что всё это лишь попытки очистить совесть. Кому нужен бывший геолог в возрасте за пятьдесят? До пенсии еще далеко, а сидеть на моей шее он не будет.
– Мама-то не против, что ты ночуешь? – спросил отец, нарезая хлеб.
– Нет, она сама предложила у тебя остаться.
После суши мне хотелось пить, и я, отказавшись от ужина, налила себе чаю в большую щербатую кружку. Рассказывать отцу про ресторан я не стала.
– Слушай, Ясь, – начал он, едва усевшись за стол, будто заранее приготовил речь. – У нас на работе мужик есть, у него сын в Англии учится. Я подробностей не знал, а тут разговорились что-то. Он МИФИ закончил, а потом на иностранную стипендию подался. На Западе же стипендию не платят студентам, но можно получить что-то вроде гранта на исследование. Он сейчас докторскую там пишет. Всё оплачено: и учеба, и жилье, и на еду хватает. Ты бы прозондировала почву – вдруг по твоей специальности тоже такое есть?
Я продолжала машинально звякать ложкой, глядя, как чай закручивается в атласную воронку. Уехать за границу, на несколько лет? Оставить маму одну? Ведь с первой же зарплаты я купила то, о чем уже давно втайне мечтала: два мобильных телефона. Себе – всепогодный «Эрикссон», оранжевый, как строительная каска, и такой же надежный. Ей – маленькую изящную «Нокию», который можно было одевать, как куклу, в разноцветные панельки. Мама хмурилась: «Я прямо как арестант себя чувствую!» – и часто забывала свой телефон дома, нечаянно или намеренно. Но мне все-таки стало немного спокойней.
– Не знаю… Я не уверена, что хочу.
– Да ты что! Это ж такой опыт, такие возможности. Разве тебе неинтересно? Можно было бы экологией заниматься – ты ж хотела.
– Не знаю, – повторила я. – Надо подумать.
Пока отец мыл посуду, я разобрала лежавшие в прихожей газеты. Он постоянно покупал газеты, читал их от корки до корки и решал все кроссворды. Это помогало ему расслабиться. Я развернула одну, и взгляд упал на фотографию: голубая Земля в прожилках облаков, черный треугольник неба в углу кадра и на этом контрастном фоне – крестовина космической станции, похожая на гибрид планера с телеантенной.
Да, я ведь видела по телевизору.
– Ты читал? – я протянула газету отцу. – Станцию «Мир» затопили.
– Читал…
Он сполоснул последнюю тарелку, выключил воду и начал вытирать посуду ветхим полотенцем, сосредоточенно наморщив лоб.
– Знаешь, я когда в школе учился, у нас все пацаны хотели быть космонавтами. Все! Ты представь, мы ж были деревенские, коровам хвосты крутили. Где ты сейчас такое найдешь? А тогда все смотрели в небо. Время было особенное… Понимаешь?
Конечно, я понимала. Мне самой не верилось, что можно одним махом похоронить столько надежд.
– Поезжай учиться, Яся. Тут мозги все равно никому не нужны.
Апрель принес небывало теплую погоду: накануне Дня космонавтики термометр показывал плюс двадцать. Прохожие надели рубашки с коротким рукавом, по сухим дорожкам застучали каблуки летних туфель. Зелень разливалась вокруг – по бурым газонам, по тонким остовам деревьев. Когда в середине дня дружно погасли мониторы в нашем офисе и туалеты погрузились во мрак, никто будто бы не удивился: какая может быть работа, когда за окном льнут друг к другу полуодетые юные парочки? Все сорвались с мест, как школьники, у которых заболела училка. Весенним безумием захлестнуло и меня. Захотелось поехать в Коломенское и гулять там до темноты, как когда-то на первом курсе. Надо только предупредить маму, что вернусь поздно, а то и вообще заночую у отца. Мобильник она, судя по всему, опять где-то забыла, и я позвонила в архив.
– Нет ее, – буркнула начальница, взяв трубку. – Отпросилась.
В сердце кольнуло. Я набрала домашний, но там никто не отвечал. Неужели так крепко спит? Или ушла в магазин? Я постояла в опустевшем офисе, слушая непривычную тишину; а потом, стряхнув оцепенение, бросилась по лестнице вниз.
Электричка тащилась сегодня медленно, как никогда. Я вышла в прокуренный тамбур задолго до прибытия и, едва раскрылись железные створки дверей, выскочила наружу и кинулась домой, не разбирая дороги. Я должна успеть.
В прихожей было темно: сквозь матовое стекло дверей, ведущих в большую комнату, едва пробивался свет. Зачем мама опустила шторы? Я сделала шаг, нога запнулась о ботинок – большой, в нашем доме никто таких не носил. Из комнаты донесся торопливый шепот, что-то со стуком упало на журнальный стол.
Господи, какая я дура.
С той стороны стекла замаячил смутный силуэт, но я не стала дожидаться, пока они выйдут. Спустилась во двор, посидела на лавочке. Я знала, что долго мне ждать не придется: они наверняка уже складывают диван, путаясь в простынях, – нелепый киношный эпизод. Однако домой идти не хотелось. Я двинулась обратно, в сторону железной дороги. За ней виднелись крыши частного сектора, затуманенные молодой листвой; а дальше горбился холмами пустырь, на котором мы запускали змеев. Последний раз это было больше двух лет назад, когда я испытывала новую модель, сделанную для диплома. И вот уже всё заснято, посчитано, и диплом лежит в ящике стола, а скатанное полотнище змея – в чехле. Пустырь больше не нужен. Зачем я иду туда?
Домой я вернулась под вечер. Мама уже замела следы и сидела на кухне, вся напряженная, как линия электропередачи.
– Я давно хотела тебе сказать… Он очень хороший, правда. Тебе смешно, наверное, что люди на старости лет…
– Мама, ну что за глупости. Когда я над тобой смеялась?
– Он вдовец. Сын школьник, дочка в садике еще. Вечером все дома, в выходные тоже… Мы, как подростки, в парке гуляем.
Ее лицо розовело от смущения, глаза блестели – она в самом деле казалась юной, еще более юной, чем прежде.
А я почувствовала себя змеем, которому обрубили леер.
Я включила компьютер без особой цели: проверить почту, заглянуть на форум. Настольная лампа горела тускло, то и дело мигая, будто готовилась покрывать чей-то заговор. Громко тикал будильник. Надо бы уже ложиться. Вместо этого я запустила поисковик и набрала в строке запроса: «research scholarship» [3].
С этого момента я стала тенью самой себя. Каждый вечер заставал меня у монитора, из зеркала смотрело красноглазое чудовище, а информации всё не было конца. Я завела таблицу, куда выписывала данные о вузах; я рассылала профессорам электронные письма с вопросами – и они отвечали, эти Джоны и Линды, все как один приветливые и готовые помочь. Я решила ограничиться только англоязычными странами. В Канаде меня давно притягивал остров Ванкувер, где находилась уникальная по масштабу оползневая зона, но сайт тамошнего университета сухо молчал о стипендиях. Подходящих программ в Британии нашлось немного, и я никак не могла нащупать проблематику, которая захватила бы меня с головой. Мне до смерти надоели фасады, сыпучие исторические памятники, к которым страшно прикоснуться даже лучом дальномера. Хотелось живого, природного. Я обратилась к Новой Зеландии с ее сейсмической активностью, но это удлинило список всего на одну строку. И все-таки южное полушарие манило зазеркальностью, парадоксальной эндемичной фауной и ощущением первозданной чистоты. В соседней Австралии возможностей оказалось гораздо больше. Я нашла с десяток вузов, где преподавали землемерную науку, а интересных тем было столько, что разбежались глаза: алмазные месторождения на западе материка, лесные пожары, эрозия морского побережья… Но больше всего меня привлекли невиданные прежде соленые болота Тасмании. Воображение нарисовало мелеющий водоем посреди безжизненной австралийской степи. Его берега год за годом размываются, болото меняет очертания, сжимаясь, как шагреневая кожа. Если оно достаточно большое, то мониторинг можно делать по спутниковым снимкам. А если нет – змей будет незаменим.
Я тут же, повинуясь порыву, написала куратору Тасманийского университета. Ответ пришел быстро – как всегда, дружелюбный и почти лишенный формальности. Они с радостью готовы помочь. Да, у них есть стипендии по этому направлению. Вот здесь можно прочитать все требования к кандидатам и порядок оформления документов. И в конце письма – пожелание удачи, такое искреннее, будто мне и правда были рады.
У меня появилась теперь параллельная жизнь. Я никому не говорила о том, чем занимаюсь, даже отцу. Ездила на работу, готовила ужин и, поцеловав маму на ночь, уходила к себе, где гудел не переставая ящик компьютера. Почти все выходные я проводила в библиотеке Британского совета, готовясь к экзамену по английскому. Список дел был бесконечен: перевести документы, собрать характеристики, написать заявку на тему диссертации. А во время передышек я надевала наушники, включала музыку и пускалась в странствия по глобусу. Вот она, Вандименова Земля – крошечное, в полногтя, пятнышко под австралийским материком. До Москвы – больше двух обхватов ладони. Чудовищное, немыслимое расстояние. Вот Новая Зеландия, где утро встречают на десять часов раньше нас. Еще дальше на восток, невидимое под толщей воды, лежит кладбище космических станций. А потом – сплошное голубое поле без единой песчинки островков, до самой Южной Америки.
В феврале я отправила документы в четыре университета. А в мае, накануне дня рождения, достала из почтового ящика письмо – обычное с виду, в белом конверте и с попугаем на марке. Дрогнув сердцем, вскрыла конверт прямо тут, на площадке первого этажа. Всего один листок, в верхнем углу – красный геральдический лев, эмблема ЮниТас.
Мне дали стипендию.
Я действительно могу уехать.
В следующий миг мне стало страшно. Так бывает во сне, когда паришь над пропастью, раскинув руки, и вдруг понимаешь, что крыльев-то у тебя нет, лишь жалкое перышко в рукаве. В письме сказано, что я должна приехать до конца августа. А мама вообще ни о чем еще не знает. Я так мало думала о ней в эти месяцы. Сбыла с рук, успокоилась, отвлеклась.
С конвертом в руке я шагнула из лифта и вздрогнула от неожиданности, услышав голос соседки:
– Ты чего такая? Случилось что?
Она возилась с ключами у двери, а рядом плясала пучеглазая собачка на паучьих ногах.
– Меня за границу зовут, в университет.
– Так что ж, молодец. Куда зовут-то?
– В Австралию.
– Это хорошо. Там солнышко, пляжи.
Повисла пауза, и соседка, недовольная, что я не поддакиваю, добавила ворчливо:
– Отдохнуть тебе надо, Слав. Мама у тебя еще молодая, красивая. Что ты ее опекаешь?
Вздохнув, она повернулась ко мне широкой спиной, с усилием толкнула дверь, и они исчезли, как растворились, – ни соседки, ни собаки.
8
Самолет тряхнуло, и под полом задрожала твердая земля. «Ladies and gentlemen, welcome to Hobart», – донеслось из динамиков невнятной скороговоркой, какой объявляют остановки в трамвае. Самолет не спеша сворачивал с полосы, и пейзаж в иллюминаторе карусельно двигался по дуге: приземистая коробка терминала с пухлым облаком в стеклянном фасаде; цепочка холмов на горизонте; бетонная лента, убегавшая вдаль. Мой марафон, начавшись позавчера, вышел на финишную прямую.
Едва я ступила на трап, как в лицо дохнуло свирепой антарктической свежестью. Австралийцы в шортах и толстовках беззаботно шлепали подошвами вьетнамок, вереницей огибали притихший самолет, катя за собой, как игрушечные машинки, до нелепости миниатюрные чемоданы с ручной кладью. После озверелой толчеи Шереметьево и футуристического размаха Сингапура мне казалось, я прилетела в деревню: наш самолет был на поле единственным, а в зальчике терминала – ни намека на суету. Длинноухая таможенная собака потыкалась носом в мой рюкзак, выискивая фрукты, и стеклянные двери с готовностью разъехались.
Плоскомордый микроавтобус с прицепом для багажа стоял прямо у выхода. Водителем была смуглая женщина с добродушным широким лицом. Она тоже никуда не спешила: болтала с пассажирами, собирая плату, гремела снаружи дверцами прицепа. Когда свободных мест не осталось, автобус тронулся. Гул мотора начал меня убаюкивать, но спать было жалко, и я, пересиливая себя, таращилась на фермерские угодья, где паслись лошади в попонах. Скоростное шоссе было прорублено в желтоватых скалах, напоминавших песчаниковые обнажения на Дзержинском карьере. А вот деревья вдоль дороги выглядели непривычно: сквозь пыльную, с оттенком хаки, зелень проглядывали кривые белые стволы. Потянулись бесконечные поселки, похожие на дачные: пологие скаты крыш, цветы в палисадниках. Лишь за мостом, перекинутым через широкую реку, начался город: светофоры, бетонные многоэтажки, к которым лепились колониальные особняки. А над городом, упираясь в облако, темнел могучий скалистый хребет с тонкой, как спичка, радиомачтой наверху.
Меня высадили, как я просила, на углу проспекта в самом центре. Название хостела красовалось над лепным карнизом с надписью «1877». Рыженькая девушка за стойкой охотно сообщила, что свободных мест много, потому что зима. Есть отдельные комнаты, есть места в женском… как же они называются по-русски? Я ведь это слово вычитала когда-то в «Джейн Эйр». Порывшись в памяти, я выудила оттуда неуклюжее слово «дортуар». Воображение нарисовало вереницу узких кроватей и тазики для умывания с замерзшей за ночь водой. Немудрено, что места в дортуаре так дешевы. Отличный способ перекантоваться денек-другой. Заселение через час – как раз хватит времени прогуляться и перекусить.
Ближайшее кафе находилось на причале, с которого открывался вид на безмятежную речную гавань, окаймленную на горизонте молочной полосой тумана. Внутри дощатого павильона пахло жареной рыбой. Пластиковые столы навевали мысль о дешевой забегаловке, однако цены в пересчете на рубли оказались почти ресторанными. Я заказала фиш-энд-чипс и, произнеся знакомое по книгам туманно-альбионовское название, вновь ощутила себя за границей. Огромная порция жареной картошки со вкусным рыбным филе в кляре согрела меня и отогнала сонливость. Выйдя из кафе, я побрела вдоль набережной. За длинными ангарами темнели голые кроны могучих платанов, зябко сцепляясь ветвями. Журчал фонтан у подножия мраморной глыбы, увенчанной моделью Земли и планет. Я улыбнулась, как давнему знакомому, Абелю Тасману – ведь это он, с мушкетерской бородкой, склонил голову над глобусом. С другой стороны улицы, напротив коричнево-серых платанов, росли такие же по цвету дома – каменные, очень старые на вид, с английскими окнами в частых переплетах. Они жались друг к другу плотно, без проулков, и их разновысокий ряд напоминал не то крепость, не то тюрьму. При этом место выглядело оживленным: тротуар был заставлен столиками, а на стенах пестрели яркие вывески. Эта оживленность (казалось мне после двух бессонных ночей) шизофренически спорила с угрюмой аутентичностью стен. Работая в Москве, я видела только два вида исторических фасадов. Те, что покрепче, густо штукатурились, как лицо японской гейши, и красились в жизнерадостные цвета – розовый и желтый, чтобы фасад улыбался младенчески, беззубо. Тогда он был достоин поддерживать золоченую вывеску банка или ювелирного салона. Внутри же всё сносилось подчистую, до последней балки. Это называлось «фасадизм» – маска старины, охраняемой государством. Но такие здания считались везунчиками: остальные просто сносились, чтобы дать место молодой поросли. «Реставрация обошлась бы дороже», – говорили мне. Я знаю: так было со станцией «Мир». Проверенный способ.
Я вернулась на проспект, где торчал старинный почтамт с башней, похожей на Биг-Бен. Стрелки показывали без пяти двенадцать. Я попыталась высчитать, сколько сейчас времени в Москве, и у меня закружилась голова. Пока я летела сюда, часы и минуты были всего лишь условными единицами, вешками, отмечающими рейсы и пересадки. Самолет висел над снежно-белой равниной, экран с картой, где проплывали страны и города, казался компьютерной игрушкой. Только теперь я смогла наконец поверить, что действительно пересекла полмира. Между мной и теми, кто остался в Москве, пролегла трещина шириной в шесть часов, и это рождало странное чувство, одновременно радостное и тревожное.
Отоспавшись в натопленной комнатке хостела, тесной, как купе, я принялась за неотложные дела: надо было оформить документы в университете, открыть банковский счет, найти жилье… За день я ухитрялась нашагать километров десять, и как минимум треть из них – в горку. Сонная провинциальная столица оказалась на редкость холмистой: ее нарядные западные пригороды раскинулись на склонах, будто разодетая публика в театральной ложе. Улочки спускались амфитеатром, и парадные окна домов были обращены туда, где у всякого амфитеатра находится сцена. Зрелища не отличались разнообразием: лишь синевато-стальная полоска реки в чаше холмов да разноцветные крыши внизу; и все-таки это лучше, чем каждый день видеть только коттеджи соседей. Они тут были сплошь одноэтажными, не то что в Сити или университетском Сэнди-Бэй, где я уже смотрела квартиры. Но деревней тут тоже не пахло: никто не колол дрова для бани, не бродили в высокой траве белые козы, а палисадники были слишком малы, чтобы выращивать там что-то всерьез. Гудела газонокосилка, ровняя лужайку перед домом, а на перекрестке, сонном и пустом, мерно тикал пешеходный светофор в ожидании, пока кто-нибудь нажмет кнопку, чтобы перейти.
Я свернула на соседнюю улицу, и тут что-то зацепило мое внимание – тоненько, как кусок проволоки, натянувший подол. Окинув взглядом безлюдный пейзаж, я тут же отыскала виноватого. Им оказался телеграфный столб, накренившийся градусов на пять. Ни следов, ни предупреждающих знаков вокруг не было. Я прошлась чуть дальше, внимательно изучая асфальт, стены домов и деревья. Очень скоро на глаза мне попался просевший участок бордюра, также без видимых повреждений. Рядом, за низкой деревянной оградой, буйствовали дикие травы. Мощенная булыжником дорожка почти вся заросла, у крыльца валялись скомканные газеты; а левее, на грязно-серой стене, зияла ветвистая длинная трещина.
Вот теперь я поставила бы тысячу против одного, не глядя больше ни на землю, ни на телеграфные столбы.
Это оползень.
Он был совсем не похож на своего русского собрата, увековеченного в моей дипломной работе. Тот, первый, был идеальным, как тщательно выстроенный опытный полигон. Десять минут пешком от дома – и пожалуйста, учись: фотографируй, делай замеры. Все механизмы у него были наружу. Оползень-экстраверт. А сейчас передо мной был хитрец, молчальник. Залитый асфальтом, он продолжал дышать и копить силы для рывка. А может, он уже однажды просыпался?
Нужно всё узнать о нем. Пойти в библиотеку, в архивы. Я ускорила шаг: пора было возвращать ключи в агентство, – а глаз сам собой искал новые детали, и в голове раскручивался маховик. Тему диссертации утвердили только вчера; еще не поздно всё поменять. Я достала из сумки мобильник и набрала номер руководителя. В ухе запищали непривычные двойные гудки – они всегда вызывали в памяти самый конец «Empty Spaces», где в утихающий песенный ритм внезапно вклинивается обрывок телефонного диалога. Чужеземное «Алло» в моей трубке тут же стерло иллюзию: руководитель был индийцем и говорил на беглом, но совершенно непонятном английском. Когда можно прийти на консультацию? «В четверг», – ответил он, и я живо увидела, как узловатый коричневый палец поправляет на переносице очки. Прасад занимался изучением динамики полярных льдов методами дистанционного зондирования, и это вызывало во мне уважение. Должно быть, в антарктических экспедициях ему приходилось мерзнуть сильнее, чем остальным.
Пригород, где находился последний вариант из моего списка, назывался Howrah – я понятия не имела, как это произносить: все время получался какой-то «овраг». Другой берег реки – это совсем не то место, где я хотела бы жить, но ни одна из квартир, что я смотрела, не легла мне на душу. То район был шумным, то смущала подвальная сырость жилища или слишком высокая цена. Койка в хостеле подъедала сбережения незаметно, по-козьи, и так же неотвратимо. А до стипендии еще больше недели.
Полупустой автобус ехал быстро, притормаживая лишь на редких остановках по требованию. Вот уже осталась позади река с белыми яхтами, лебяжьей стаей заполонившими гавань, и теперь дорогу с обеих сторон обступали жилые кварталы. Табличка с номером дома была прилеплена к почтовому ящику – железному скворечнику на ножке, из которого легкомысленно торчали белые конверты. Этаж был один, хотя под крышей угадывался еще и чердак со слуховым оконцем. Я поднялась на крыльцо и, не найдя никаких кнопок, постучала. Изнутри не донеслось ни звука. Я постучала еще раз, потом дернула ручку – заперто. Странно, ведь хозяйка сказала по телефону, что будет меня ждать. «Я вообще-то тут не живу, – прибавила она громко, перекрикивая какой-то шум. – Но вы приезжайте, с часу до трех я здесь». Потоптавшись у дверей, я достала мобильный, и дом откликнулся долгим звонком.











