Читать онлайн Призрак оперы
- Автор: Гастон Леру
- Жанр: Зарубежная классика, Мистика
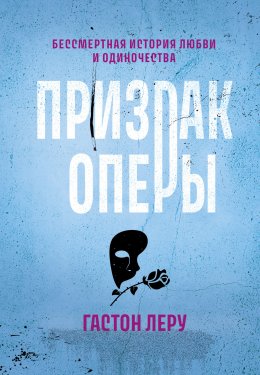
© Оформление: ООО «Феникс», 2023
© Перевод: Михайлова Л.
© В оформлении книги использованы иллюстрации по лицензии Shutterstock.com
ПРЕДИСЛОВИЕ,
в котором автор этой необычной книги рассказывает, что его привело к уверенности в том, что Призрак Оперы действительно существовал
Призрак Оперы существовал на самом деле. Он не был, как считалось долгое время, выдумкой художников, суеверием директоров, плодом пылкого воображения девушек из кордебалета или рабочих сцены, уборщиц, билетеров и консьержей.
Да, он существовал во плоти, несмотря на то, что всеми силами стремился проявляться как настоящий призрак, тень.
Когда я только начал изучать архивы Национальной академии музыки[1], поразило меня удивительное совпадение явлений, приписываемых Призраку, и событий самой загадочной, самой фантастической из трагедий. И вскоре я пришел к мысли, которая могла бы рационально объяснить мистические факты. Не более тридцати лет прошло с той поры, но даже сегодня не составляет труда найти в Опере весьма почтенных пожилых людей, в честности которых невозможно усомниться, живо помнящих таинственные и печальные обстоятельства похищения Кристины Даэ, исчезновения виконта де Шаньи и гибели его старшего брата графа Филиппа, чье тело было найдено на берегу подземного озера в подвалах Оперы. Но ни один из этих свидетелей до сих пор не верил, что эти ужасные события связаны с легендарным Призраком Оперы.
Правда медленно проникала в мой разум, ибо расследование мое на каждом шагу наталкивалось на события, которые на первый взгляд казались сверхъестественными. Не раз я был близок к тому, чтобы бросить это занятие, преследуя ускользающий образ. Но наступил момент, когда я был вознагражден, получив наконец доказательства того, что Призрак Оперы являлся чем-то более значительным, чем просто привидением.
В тот день я провел много часов за чтением «Мемуаров директора Оперы» – легкомысленной книги Моншармина, который всегда был чрезвычайно скептически настроен. За все время своего пребывания в Опере он так ничего и не понял в загадочном поведении Призрака, бесконечно высмеивая его. Однако именно этот писатель стал первой жертвой любопытной финансовой операции – так называемого волшебного конверта.
Отчаявшись что-либо раскопать, я покидал библиотеку, когда на лестничной площадке встретил достопочтенного администратора нашей Национальной академии. Он вел непринужденную беседу с маленьким, энергичным, франтовато одетым пожилым человеком, которого охотно представил мне. Господин администратор был в курсе моих исследований и того, с каким нетерпением и безнадежностью я пытался выяснить местонахождение следователя по знаменитому делу Шаньи, мсье Фора. Никто не знал, где он обосновался, жив или мертв. Оказывается, вернувшись из Канады, где провел пятнадцать лет, Фор первым делом приехал в Париж, намереваясь получить удобное кресло в секретариате Оперы. Этим маленьким старичком и был сам мсье Фор.
Мы провели вместе большую часть вечера, и он рассказал мне о деле Шаньи все, что знал. Из-за отсутствия доказательств ему пришлось сделать вывод о безумии виконта и случайной смерти старшего брата, но он по-прежнему сохранял уверенность, что между двумя братьями произошла ужасная драма из-за Кристины Даэ. Судьба девушки и виконта так и осталась для него загадкой. Когда я рассказал ему о Призраке, он, конечно, только рассмеялся. Мсье Фор был осведомлен о странных событиях, свидетельствующих о присутствии сверхъестественного существа в Опере. Он также знал историю «волшебного конверта», но не счел ее достойной внимания судьи, расследующего дело Шаньи. Тем не менее он все же выслушал показания свидетеля, который явился добровольно, утверждая, что встречался с Призраком. Этот свидетель был ни кем иным, как личностью по прозвищу «Перс», известной всем завсегдатаям Оперы. Судья принял его за блаженного.
Естественно, я чрезвычайно заинтересовался Персом. Мне не терпелось найти, пока еще не поздно, этого ценного и удивительного свидетеля. Удача снова оказалась на моей стороне, и мне удалось обнаружить Перса на улице Риволи в маленькой квартирке, которую он почти не покидал и где впоследствии ему суждено было умереть через пять месяцев после моего визита.
Поначалу я был осторожен. Но когда Перс с детской откровенностью рассказал мне все, что он лично знал о Призраке, и предоставил мне доказательства его существования: занятную переписку Кристины Даэ – переписку, которая пролила свет на эти странные события, – я больше не мог сомневаться! Нет! Нет! Призрак не был мифом!
Разумеется, мне возражали, что эта переписка, скорее всего, не является подлинной и что ее мог сфабриковать человек, чье воображение, бесспорно, питалось фантастическими выдумками. Но, к счастью, мне удалось найти оригинал, написанный рукой Кристины, не входящий в пресловутую пачку писем, и благодаря сравнительному анализу обоих образцов почерка последние мои сомнения отпали.
Я также разузнал все, что сумел, о Персе и в результате признал в нем честного человека, не замешанного в каких-либо преступных махинациях.
Таково же мнение друзей семьи Шаньи, весьма порядочных людей, которые тоже оказались вовлечены в дело. Когда я выложил перед ними все документы и выводы, к которым пришел, то получил самую горячую поддержку, и позволю себе воспроизвести по этому поводу несколько строк, адресованных мне генералом Д.:
Уважаемый мсье!
Не считаю себя вправе обязывать Вас публиковать результаты Вашего расследования. Я прекрасно помню, что за несколько недель до исчезновения великой певицы Кристины Даэ и драмы, повергнувшей в печаль все предместье Сен-Жермен, танцовщицы в театре – да и все мы – постоянно говорили о Призраке. И я убежден, что загадка этого дела до сих пор будоражит многие умы. Но если возможно – а после беседы с Вами я поверил в это – объяснить роль Призрака в событиях этой драмы, я буду очень признателен Вам, мсье, услышав Вашу собственную версию.
Какой бы странной ни казалась на первый взгляд Ваша теория, все равно она представляется более логичной, нежели мрачные выдумки злобных людей о том, как два брата, которые обожали друг друга всю жизнь, разорвали один другого на куски…
Наконец, со всеми доказательствами на руках, я снова путешествовал по обширному владению Призрака, по зданию Оперы, из которого он сделал свою империю, и все, что видели мои глаза, все, что обнаруживал мой разум, прекрасно подтверждало свидетельства Перса. И удивительная находка окончательно вознаградила мой труд.
Напомню, что недавно, открыв подвал оперного театра, чтобы захоронить там голоса певцов в «капсулах времени»[2], рабочие обнаружили труп. Едва увидев его, я сразу же понял, что передо мной труп Призрака Оперы! Доказательство этому я собственноручно передал администратору, и теперь мне абсолютно безразлична трескотня газет о том, будто мы нашли там одну из жертв Коммуны.
Несчастных, которых убили во время Коммуны в подвалах Оперы, не хоронили на этой стороне. Я скажу вам, где можно найти их скелеты: далеко от этого огромного склепа, где во время осады хранились всевозможные запасы провианта. К захоронениям этих бедолаг меня привели именно поиски останков Призрака Оперы, которых я бы не нашел, если бы не удивительная случайность во время погребения «живых голосов»!
Но мы еще вернемся к этому трупу в нашем рассказе. Сейчас мне важно закончить это весьма необходимое предисловие, поблагодарив участников и очевидцев тех событий за неоценимую помощь: комиссара полиции мсье Мифруа (именно он вел предварительное расследование после исчезновения Кристины Даэ), бывшего секретаря мсье Реми, бывшего администратора мсье Мерсье, бывшего хормейстера мсье Габриэля. Особую признательность хочу выразить мадам баронессе де Кастело-Барбезак, которая когда-то была «маленькой Мэг» (и не краснеет от этого), – самой очаровательной звездочке нашего замечательного кордебалета, старшей дочери достопочтенной мадам Жири, ныне покойной билетерши, обслуживавшей ложу Призрака. Свидетельства этих людей оказались для меня полезным подспорьем, давшим возможность теперь мне – вместе с читателем – в мельчайших подробностях пережить те часы чистой любви и страха[3].
ГЛАВА I.
Был ли это призрак?
В тот вечер, когда господа Дебьен и Полиньи – директора Оперы, уходившие в отставку, – устраивали по этому случаю торжественное представление, гримерная Ла Сорелли, одной из прима-балерин театра, внезапно оказалась заполненной полудюжиной девиц из кордебалета. Они только что покинули сцену, исполнив танец в «Полиевкте»[4]. Девушки ворвались в комнату в сильном замешательстве, перемежая чрезмерный неестественный смех с криками ужаса.
Ла Сорелли, желавшая уединиться на некоторое время, чтобы подготовить речь, которую она должна была произнести перед Дебьеном и Полиньи, с недовольным видом встретила их вторжение. В недоумении она повернулась к девицам, желая узнать причину такого возбуждения. Тогда маленькая Жамме – носик из тех, что так нравятся Гревену[5], незабудковые глаза, розовые щечки, точеная шейка – изложила эту причину в двух словах дрожащим, срывающимся голосом:
– Там Призрак!
И заперла дверь на ключ.
Уборная Ла Сорелли была обставлена с комфортом и безликой элегантностью. Здесь имелись большое зеркало, диван, туалетный столик и гардероб. Несколько гравюр украшали стены – в память о матери, которая знавала прекрасные дни старой Оперы на улице Ле Пелетье. Портреты Вестриса, де Гарделя, Дюпона, Биготтини. Эта гримерная казалась дворцом девочкам из кордебалета, которые размещались в общих комнатах, где они проводили все свое время, напевая, ссорясь, поколачивая парикмахеров и костюмеров и угощая друг друга маленькими стаканчиками черносмородинного ликера, пива или даже рома, пока не зазвонит колокольчик, вызывающий их на сцену.
Суеверная Ла Сорелли, услышав, как юная Жамме говорит о Призраке, вздрогнула и пробормотала:
– Маленькая глупышка!
И поскольку она была в числе первых людей, которые верили в призраков вообще и в Призрака Оперы в частности, она сразу же захотела все выяснить.
– Ты его видела? – спросила она.
– Так же ясно, как тебя! – простонала маленькая Жамме и, не удержавшись на ногах, рухнула в кресло.
И миниатюрная Жири – глаза цвета чернослива, черные волосы, смуглая кожа, тонкая кость – добавила:
– Если это он, то какой же он уродливый!
– О да! – хором подхватили танцовщицы и защебетали все разом.
Призрак предстал перед ними как джентльмен в черной одежде, неожиданно возникнув посреди коридора. Его появление оказалось настолько внезапным, будто он вышел из стены.
– О! – заметила одна из девиц, которая сохраняла наибольшее самообладание. – Вы теперь повсюду видите призраков.
И это правда: в течение последних нескольких месяцев в Опере только и пересудов было, что о призраке в черном одеянии, который бродит, словно тень, по всему зданию, никому не говоря ни слова – да и с ним никто не осмеливался заговорить, – и исчезает, лишь только его заметят, неведомо куда и как. При этом он остается абсолютно бесшумным, как и подобает настоящему призраку. Несмотря на насмешки и шутки и в адрес привидения, и в адрес видевших его, легенда о Призраке становилась все более популярной, доходя до абсурда в кордебалете. Все девушки утверждали, что так или иначе встречались с этим сверхъестественным существом либо стали жертвами его злобных выходок. И даже те, кто смеялся над слухами громче всех, не испытывали на самом деле такой уж уверенности в своей безопасности. А когда призрака не видели, общее суеверие делало его ответственным за любые смешные или зловещие события. Несчастный ли случай, розыгрыш ли одной из девиц кордебалета, устроенный своей подруге, пропажа ли пуховки от пудры – во всем виноват призрак, Призрак Оперы!
Но положа руку на сердце – кто его видел? В Опере можно встретить множество мужчин в черных фраках, которые не являются привидениями. Однако у этого фрака имелась особенность, которой обладают не все черные одежды. Под ним находился скелет.
Так, по крайней мере, утверждали девицы.
И у него, разумеется, была мертвая голова.
Можно ли относиться к этому серьезно? В действительности идея скелета возникла из описания Призрака, сделанного Жозефом Бюке, главным рабочим сцены, который и вправду видел его. Он столкнулся – ну не то чтобы «нос к носу», потому что у привидения носа не было – с таинственной фигурой на маленькой лестнице, которая вела от рампы в подвал. И все, что он успел заметить за эту секунду – потому что Призрак тут же скрылся, – накрепко впечаталось рабочему в память.
И вот что рассказывал Жозеф Бюке о Призраке всем, кто соглашался его слушать:
– Он невероятно худ, и его черная одежда болтается на костях. Глаза настолько запали, что их невозможно различить. Видны только две большие черные дыры, словно на черепах мертвых. Его кожа натянута, как на барабане, и она не белая, а отвратительно желтая. А нос настолько мал, что он незаметен в профиль, и отсутствие этого носа – самая ужасная вещь, которую я видел. Из волос у него – только три или четыре длинных коричневых пряди на лбу и за ушами.
Жозеф Бюке попытался преследовать этого странного типа. Но тот исчез как по волшебству, совершенно бесследно.
Главный рабочий имел репутацию серьезного, рассудительного человека, лишенного воображения, и он был трезв. Его слова выслушали с изумлением и интересом, и тотчас же нашлись очевидцы, которые рассказали, что они тоже встречали черного человека с мертвой головой.
Здравый смысл подсказывал людям, прознавшим об этой истории, что Жозеф Бюке просто стал жертвой шутки одного из своих подчиненных. Однако затем начали происходить настолько любопытные и необъяснимые инциденты, что даже самые злые языки приумолкли.
Вот, к примеру, лейтенант пожарной охраны – смелый человек, как и все пожарные! Не боится ничего, в том числе огня!
И что ж? Лейтенант пожарной охраны, о котором идет речь[6], отправился осмотреть подвал и, по-видимому, углубился немного дальше, чем обычно. Внезапно он появился возле сцены, бледный, испуганный, дрожащий, с глазами, вылезшими из орбит, и почти потерял сознание на руках достопочтенной матери маленькой Жамме. И почему? Потому что он увидел, как к нему двигалась на уровне глаз огненная голова без тела! И я повторяю – это лейтенант пожарной охраны, он не боится огня.
Этого лейтенанта звали Папен.
Весь кордебалет был потрясен. Прежде всего, эта огненная голова никоим образом не соответствовала описанию Призрака, которое дал Жозеф Бюке. Тщательно допросив пожарного, а потом еще раз главного рабочего сцены, девушки в результате пришли к убеждению, что у Призрака имеется несколько голов, которые он меняет по своему усмотрению. Естественно, они сразу же вообразили, что им грозит смертельная опасность. Если даже лейтенант пожарной охраны не удержался и упал в обморок, балерины и ученицы имели полное основание чувствовать ужас, заставлявший их бежать со всех ног, когда они проходили мимо темного угла в плохо освещенном коридоре.
Испытывая неодолимую потребность как-то защитить здание, где обитала потусторонняя сила, сама Сорелли в сопровождении танцовщиц и юных учениц в трико на следующий же день после рассказа лейтенанта пожарной охраны подошла к столу консьержа в вестибюле со стороны служебного входа и водрузила на него подкову. Теперь любой, кто входил в Оперу (это, конечно, не касалось зрителей), должен был дотронуться до этой подковы, прежде чем ступить на первую ступеньку лестницы. Иначе он рисковал стать жертвой темной силы, захватившей здание от подвалов до чердаков!
Указанную подкову – честное слово, я не выдумал ее, как и эту историю – вы и сейчас можете видеть на столе консьержа в вестибюле, если войдете в Оперу через служебный вход.
Итак, вы получили лучшее представление о душевном состоянии девиц из кордебалета в тот вечер, когда они ввалились в гримерную Ла Сорелли.
– Там Призрак! – повторила маленькая Жамме.
Беспокойство танцовщиц при этих словах возросло. Гомон прекратился, и теперь в уборной царила тревожная тишина. Слышался только звук прерывистого дыхания. И наконец Жамме в неподдельном испуге отбежала в самый дальний угол комнаты, пробормотав единственное слово:
– Послушайте!
И действительно – всем показалось, что за дверью послышался шорох. Не шаги, а будто скольжение легкого шелка по стене. И больше ничего. Ла Сорелли постаралась вести себя не столь малодушно, как ее спутницы. Она подошла к двери и спросила как можно спокойнее:
– Кто здесь?
Но ей никто не ответил.
Поэтому, чувствуя на себе взгляды всех присутствующих, ловящие малейший ее жест, она собралась с духом и сказала очень громко:
– За дверью кто-нибудь есть?
– О! Да! Да! Определенно, за дверью кто-то есть! – воскликнула Мэг Жири, изо всех сил удерживая Сорелли за ее газовую юбку… – Главное, не открывай! Боже мой, не открывай!
Но Сорелли, вооруженная стилетом, с которым никогда не расставалась, набралась смелости повернуть ключ в замке и открыть дверь, в то время как танцовщицы отступили к туалетному столику, а Мэг Жири выдохнула:
– Мама! Мама!
Ла Сорелли отважно выглянула в коридор. Он был пустынен; лишь газовый фонарь, словно огненная бабочка в стеклянной темнице, отбрасывал тусклое красное свечение в окружающий мрак, не в силах рассеять его. И танцовщица решительно закрыла дверь с тяжелым вздохом.
– Нет, – сказала она, – никого нет!
– И все же мы хорошо его видели, – настаивала Жамме, мелкими боязливыми шажками возвращаясь к Ла Сорелли. – Должно быть, он бродит где-то там. Я не рискну возвращаться, чтобы переодеться. Нам следует сейчас спуститься всем вместе, ты произнесешь свою речь, а потом мы также все вместе поднимемся наверх.
При этом малышка благоговейно прикоснулась к миниатюрному коралловому оберегу в виде пальчика, который должен был защищать ее от злых чар. А Ла Сорелли обвела кончиком розового ногтя крест Святого Андрея на деревянном кольце, надетом на безымянный палец левой руки.
Ла Сорелли, – писал один известный обозреватель, – высокая, красивая танцовщица с серьезным и чувственным лицом, с гибким, как ветка ивы, станом; о ней обычно говорят, что она «прекрасное создание». Ее светлые, чистые, как золото, волосы венчают матовый лоб, под которым сияют изумрудные глаза. Ее голова поворачивается на длинной, как у цапли, шее, изящная и гордая. Когда она танцует, неуловимое движение бедер ее вызывает у зрителя невыразимое томление. Когда она поднимает руки, собираясь сделать пируэт, контуры бюста, изгиб талии и все линии тела этой восхитительной женщины, кажется, разжигают в вас такое пламя, которое способно испепелить ваш разум.
Что же касается разума, то его, если честно, у нее было мало. Правда, этого от дивы и не требовалось.
Она снова обратилась к танцовщицам:
– Девочки, вам надо взять себя в руки!.. Призрак? Может, его никто никогда и не видел!..
– Неправда! Мы видели его!.. Видели только что! – перебили ее девицы. – У него была мертвая голова и тот же фрак, как в тот вечер, когда он появился перед Жозефом Бюке!
– И Габриэль тоже его видел! – вставила Жамме. – …Буквально вчера! Средь бела дня…
– Габриэль, хормейстер?
– Да! Разве ты об этом не слышала?
– И он был во фраке средь бела дня?
– Кто? Габриэль?
– Да нет же, Призрак.
– Конечно, он был во фраке! – подтвердила Жамме. – Об этом мне рассказал сам Габриэль… поэтому он его и узнал. Вот как это произошло. Габриэль находился в кабинете режиссера. Внезапно дверь распахнулась, и вошел Перс. Все знают, что у Перса дурной глаз.
– О да! – тут же хором подтвердили остальные танцовщицы, которые при одном только упоминании Перса делали «рожки» судьбе, выставляя мизинец и указательный палец и прижимая остальные пальцы к ладони.
– …А Габриэль суеверен! – продолжала Жамме. – Однако он всегда вежлив и, увидев Перса, обычно довольствуется лишь тем, что просто кладет руку в карман и трогает ключи… Но не в этот раз! Вчера, едва Перс открыл дверь, Габриэль прыжком поднялся с кресла, в котором сидел, и подбежал к шкафу, чтобы прикоснуться к железному замку на нем! Там он зацепился за гвоздь и порвал пальто. Торопясь выйти, он стукнулся лбом о вешалку и посадил себе огромную шишку; затем, резко отступив назад, он схватился рукой за ширму возле пианино и поцарапался; после он хотел опереться на пианино, но сделал это так неудачно, что крышка упала ему на руки, ударив прямо по пальцам. Наконец он выскочил из кабинета как сумасшедший, но так торопился, спускаясь по лестнице, что споткнулся и проехался по всем ступеням до первого этажа. Мы с мамой как раз проходили мимо и поспешили поднять его. Он был весь в синяках и в крови – мы так испугались! Но он тут же заулыбался и начал восклицать: «Слава тебе господи! Спасибо, что я отделался так легко!» Когда мы спросили его, что случилось, он объяснил нам причину своего ужаса. Оказывается, за спиной Перса он увидел Призрака! Призрака с черепом – как описывал Жозеф Бюке.
Испуганный шепот сопровождал конец этой истории, которую Жамме рассказывала так быстро, будто ее саму преследовал Призрак. Затем снова воцарилась тишина, которую прервала маленькая Мэг Жири, в то время как взволнованная Сорелли лихорадочно полировала ногти.
– Жозефу Бюке лучше было бы помолчать, – заметила смуглая Жири.
– С чего бы ему молчать? – спросила другая танцовщица.
– Так считает моя мама… – объяснила Мэг, на этот раз совсем тихо и оглядываясь по сторонам, словно боялась, что ее услышит кто-то еще, кроме присутствующих.
– Почему она так считает?
– Тихо! Мама говорит, что Призраку не нравится, когда его беспокоят!
– И почему она так говорит, твоя мать?
– Потому что… Потому что… Просто так…
Это явное умалчивание только подхлестнуло любопытство девиц, которые толпились вокруг маленькой Жири и теперь умоляли ее объясниться. Они жались друг к дружке, локоть к локтю, заражая одна другую суеверным страхом и получая от этого странное, леденящее кровь острое удовольствие.
– Я поклялась ничего не говорить! – снова выдохнула Мэг.
Но они не оставляли ее в покое и так убедительно обещали сохранить тайну, что Мэг, которая на самом деле сгорала от желания рассказать все, что ей известно, начала, уставившись на дверь:
– Все… это из-за ложи…
– Какой ложи?
– Ложи Призрака!
– У Призрака есть ложа?
При мысли о том, что у Призрака в Опере была своя ложа, у изумленных танцовщиц захватило дух. Они стали нетерпеливо подгонять Жири:
– О! Боже мой! Рассказывай… Рассказывай!..
– Потише! – скомандовала Мэг. – Это ложа номер пять, вы хорошо ее знаете, первая ложа слева после директорской.
– Не может быть!
– Все так, как я вам говорю… Моя мама работает билетершей и обслуживает эту ложу… Но вы должны поклясться, что ничего никому не скажете!
– О да, конечно!..
– Ну что ж… Это ложа Призрака! Никто не появлялся там больше месяца, кроме Призрака, и администрации было приказано никогда не сдавать ее…
– И это правда, что Призрак приходит туда?
– Да…
– Значит, там кто-то есть?
– Нет!.. Призрак приходит туда, но никто его там не видит.
Молоденькие танцовщицы посмотрели друг на друга. Если бы Призрак входил в ложу, его бы узнавали по черному фраку и мертвой голове.
Так они и сказали Мэг. Но, несмотря на их возражения, Мэг продолжала твердить то же самое:
– Нет! Призрака никто не может видеть! У него нет ни фрака, ни головы!.. Все, что говорят о его мертвой или огненной голове, – все это чушь! У него вообще ничего нет… Его можно только слышать, когда он находится в гримерке. Мама никогда его не видела, но слышала. Она не ошибается, ведь именно она дает ему программку!
Ла Сорелли сочла необходимым вмешаться:
– Маленькая Жири, ты смеешься над нами?
Но Мэг Жири заплакала.
– Лучше бы я промолчала… Если мама когда-нибудь узнает об этом!.. Но Жозеф Бюке наверняка пожалеет, что болтает о вещах, которые его не касаются… Это принесет ему несчастье… Мама еще вчера вечером говорила об этом…
В этот момент в коридоре послышались тяжелые торопливые шаги, и запыхавшийся голос прокричал:
– Сесиль! Сесиль! Ты здесь?
– Это голос моей мамы! – прошептала Жамме. – Что случилось?
И она открыла дверь. Почтенная мадам, всем своим обликом напоминающая померанского гренадера, ввалилась в комнату и со стоном упала в кресло. Ее выпученные глаза закатились, лицо приобрело цвет обожженного кирпича.
– Какое несчастье! О, какое несчастье!
– Что за несчастье?
– Жозеф Бюке…
– Что – Жозеф Бюке?..
– Жозеф Бюке мертв!
Тотчас же гримерная наполнилась испуганными восклицаниями, недоверчивыми протестами и просьбами объяснить…
– Да… его только что нашли повешенным в третьем подвале!.. Но самое ужасное, – продолжала, задыхаясь, бедная достопочтенная мадам, – самое ужасное! Рабочие сцены, которые нашли тело, утверждают, что возле трупа слышали нечто похожее на пение мертвых!
– Это Призрак! – вскричала маленькая Жири, но тут же спохватилась, зажав ладошками рот: – Нет!.. Нет!.. Я ничего не говорила!.. Я ничего не говорила!..
Все вокруг в ужасе повторяли, приглушив голоса:
– Да! Точно! Это Призрак!..
Ла Сорелли побледнела…
– Уже никогда я не смогу произнести свою речь, – прошептала она.
Мама Жамме опустошила забытый на столе маленький бокал с ликером и заключила:
– Да, без Призрака здесь не обошлось…
Правда в том, что мы так и не узнали, как умер Жозеф Бюке. Краткое расследование не дало никаких результатов, кроме версии об «обычном самоубийстве». В «Мемуарах директора» Моншармина, который был одним из двух директоров, сменивших Дебьена и Полиньи, сообщается об инциденте с повешенным:
Произошла досадная случайность, нарушившая небольшую вечеринку, которую мсье Дебьен и Полиньи устроили по случаю своего ухода. Я был в кабинете директора, когда туда внезапно вбежал Мерсье, администратор. Он был в ужасе: только что обнаружили тело рабочего сцены, повешенного на третьем этаже, между декорациями к «Королю Лахорскому»[7]. Я предложил: давайте снимем его! Однако к тому времени, когда мы спустились по лестнице и подошли к повешенному, веревки на трупе уже не было!
Итак, это событие мсье Моншармин счел вполне обычным. Человека повесили на веревке, и пока туда шли, чтобы его снять, веревка пропала. О, мсье Моншармин нашел очень простое объяснение. Послушайте его:
…Приближалось время представления. Балерины и ученицы быстро приняли меры предосторожности против дурного глаза[8].
Вот и все.
Вы можете себе представить, как девушки из кордебалета мчатся по лестнице, снимают веревку с повешенного и рвут ее на части, разделив между собой, – быстрее, чем можно об этом написать? Это же несерьезно. Напротив, когда я думаю о месте, где нашли тело – в третьем подвале под сценой, – я полагаю, что кому-то было очень нужно, чтобы веревка исчезла сразу после того, как труп обнаружили. Далее мы посмотрим, прав ли я.
Зловещая новость быстро распространилась по всей Опере, где Жозефа Бюке очень любили. Гримерные опустели, и юные танцовщицы, сгрудившись вокруг Ла Сорелли, как испуганные овечки на пастбище, направились в танцевальное фойе по плохо освещенным коридорам и лестницам, торопливо семеня миниатюрными ножками в розовых трико.
ГЛАВА II.
Новая Маргарита
На первой ступеньке Ла Сорелли столкнулась с поднимавшимся графом де Шаньи. Граф, обычно такой спокойный, на этот раз выглядел взволнованным.
– Я как раз шел к вам, – сказал граф, со всей галантностью приветствуя молодую женщину. – Ах, Сорелли, сегодня чудесный вечер! А Кристина Даэ – какой триумф!
– Не может быть! – запротестовала Мэг Жири. – Полгода назад ее голос звучал как ржавая дверная петля! Но позвольте нам пройти, дорогой граф, – дерзко обратилась к нему девушка, сделав вызывающий реверанс. – Мы спешим разузнать побольше о бедном человеке, которого нашли повешенным.
В этот момент мимо проходил встревоженный администратор, который, услышав это, сразу остановился.
– Как?! И вы уже знаете об этом? – произнес он довольно грубо. – Тогда уж помалкивайте. Главное, чтобы мсье Дебьен и Полиньи не были в курсе! Это стало бы слишком тяжелой новостью для них в последний день.
Все направились в уже переполненное танцевальное фойе.
Граф де Шаньи оказался прав: никогда еще гала-концерт не был таким чудесным! Те, кому посчастливилось присутствовать на нем, до сих пор рассказывают об этом своим детям и внукам с трогательным чувством. Сами подумайте: Гуно, Рейер, Сен-Санс, Массне, Гиро, Делиб по очереди поднимались к пюпитру дирижера и лично дирижировали своими произведениями. Среди исполнителей же были Форе и Краусс. И именно в тот вечер Париж был ошеломлен и опьянен той самой Кристиной Даэ, о загадочной судьбе которой я и хочу рассказать в этой книге.
Гуно исполнил «Траурный марш марионеток»; Рейер – свою прекрасную увертюру к «Сигурду»; Сен-Санс – «Пляску смерти» и «Вечернюю грезу» из «Алжирской сюиты»; Массне – неизданный еще «Венгерский марш»; Гиро – свой «Карнавал»; Делиб – «Медленный вальс» и «Вальс часов» из балета «Коппелия». Пели неподражаемые Мари-Габриэль Ла Краусс и Дениз Блох, первая пела болеро из «Сицилийской вечерни», а вторая – бриндизи из «Лукреции Борджиа».
Но главный триумф выпал на долю Кристины Даэ, которая исполнила несколько отрывков из «Ромео и Джульетты». На сцене Оперы они звучали впервые. До этого оперу долгое время ставили в Комическом театре, а премьера произведения состоялась в Лирическом театре с мадемуазель Карвальо в главной роли. Ах! Мы можем только посочувствовать тем, кто не слышал Кристины Даэ в роли Джульетты, кто не лицезрел ее наивной грации, кто не трепетал от переливов ее ангельского голоса, кто не почувствовал, как душа взлетает вслед за ее душой над могилами влюбленных из Вероны:
– Господь, прости меня!
Но даже это не шло ни в какое сравнение с ее изумительным, почти сверхчеловеческим исполнением сцены в тюрьме и финального трио «Фауста», которое она спела вместо заболевшей Карлотты. Никто никогда не слышал ничего подобного!
Даэ явила миру новую Маргариту[9] – великолепную, полную дотоле невиданного блеска и сияния.
Весь зал приветствовал ее несмолкающими криками восторга, когда Кристина, заливаясь слезами от переполнявших ее чувств, рухнула без сил на руки своих товарищей, которые отнесли ее в гримерную. Казалось, она вывернула душу наизнанку. Великий критик П. де Сен-В. запечатлел незабываемые воспоминания об этих чудесных мгновениях в статье, которую он так и назвал: «Новая Маргарита». Будучи отменным знатоком в музыке, он сразу распознал, что это прекрасное и нежное дитя принесло в тот вечер на подмостки Оперы намного больше, чем просто искусство – свое сердце. Все друзья Кристины знали, что сердце ее оставалось чистым, как и в пятнадцать лет. И П. де Сент-В. заявил:
Объяснить, что же произошло с Даэ, можно только одним: она только что впервые полюбила!…Может быть, я и слишком дерзок в своих догадках, – добавил он, – но уверен: только любовь способна совершить такое чудо, такое удивительное преображение. Два года назад мы услышали о Кристине Даэ на конкурсе в консерватории, и тогда она всего лишь подавала большие надежды. Но сегодняшний успех – это что-то невероятное! Если он – не плод любви, мне придется думать, что он явился из ада и что Кристина, подобно Офтердингену[10], тоже заключила договор с дьяволом! Кто не слышал, как Кристина пела финальное трио «Фауста», не знает «Фауста»: игра голоса и священный экстаз чистой души не могут выйти за эти пределы!
Однако некоторые завсегдатаи Оперы были возмущены. Почему театр так долго скрывал от них такое сокровище? Ведь только благодаря внезапному и необъяснимому отсутствию Ла Карлотты на этом торжественном вечере маленькая Даэ смогла взять на себя часть программы, предназначенной для испанской дивы! И почему оставшиеся без Карлотты Дебьен и Полиньи обратились именно к Даэ? Получается, они знали о ее неявленном миру гении? И если они знали о нем, почему скрывали? И почему она сама это скрывала? Странное дело, никто не слышал, чтобы у нее имелся наставник. Кристина неоднократно заявляла, что намерена заниматься самостоятельно. Все это было совершенно необъяснимо.
Стоя в своей ложе, аплодировал певице и граф де Шаньи.
Графу Филиппу-Жоржу-Мари де Шаньи тогда исполнился сорок один год. Он был красивым мужчиной – ростом выше среднего, с приятным лицом, несмотря на крупный лоб и немного холодные глаза. Держался он с изысканной вежливостью по отношению к женщинам и с некоторой надменностью к мужчинам, которые не всегда прощали ему успехи в свете. У него было благородное сердце и чистая совесть. После смерти старого графа Филибера Филипп сделался главой одной из самых прославленных и древних семей Франции, чьи дворянские владения восходили к Людовику X[11]. Состояние Шаньи было огромным, и необходимость управлять таким громоздким наследством стала для Филиппа несчастьем едва ли не большим, чем смерть овдовевшего старого графа. Две его сестры и брат Рауль не хотели даже слышать о разделении, оставаясь в неразлучности и предоставив бразды правления Филиппу, как будто право первородства никогда не прекращало своего существования. Когда обе сестры вышли замуж – в один и тот же день, – они забрали свои доли из рук брата не как вещь, принадлежащую им, а как приданое, за которое они выразили ему признательность.
Графиня де Шаньи, урожденная Мурож де Ла Мартиньер, умерла, подарив жизнь Раулю, родившемуся на двадцать лет позже своего старшего брата. Когда почил старый граф, Раулю было двенадцать лет. Филипп активно занимался воспитанием мальчишки. В этом ему прекрасно помогали сначала сестры, а затем пожилая тетушка, вдова моряка, жившая в Бресте и привившая молодому Раулю вкус к мореплаванию. Юноша прошел полное обучение на борту учебного судна «Борда», а по его окончании с легкостью совершил кругосветное путешествие. Благодаря хорошим рекомендациям Рауля сразу назначили в состав официальной команды судна «Акула», получившей задание искать в полярных льдах выживших участников экспедиции «Д’Артуа», от которой в течение трех лет не было никаких известий. Тем временем ему предстоял длительный отпуск, который должен был закончиться только через шесть месяцев, и все обитательницы благородного предместья Сен-Жермен, видя такого милого юношу, казавшегося чрезмерно хрупким, уже сетовали о том, какая тяжелая работа его ждет.
Застенчивость этого молодого человека, я бы даже сказал невинность, была удивительной. Казалось, он только что покинул кормилицу. Избалованный двумя сестрами и старой теткой, Рауль сохранил очаровательную простодушность, которую ничто не могло испортить.
В ту пору ему исполнился двадцать один год, но выглядел он лишь на восемнадцать. У юноши были маленькие светлые усы, красивые голубые глаза и девичий цвет лица.
Филипп тоже очень баловал Рауля. К тому же он очень гордился им и с радостью предвкушал для младшего брата славную карьеру офицера в военно-морском флоте, где один из их предков, знаменитый Шаньи де Ла Рош, служил в звании адмирала. Филипп воспользовался отведенным молодому человеку отпуском, чтобы познакомить его с Парижем, о роскошных удовольствиях и изысканных радостях которого тот почти ничего не знал.
Граф считал, что в возрасте Рауля не стоит слишком усердствовать в добродетели. Сам он обладал весьма уравновешенным характером, отдавая должное и работе, и удовольствиям, всегда имел безупречный вид и просто неспособен был подать брату дурной пример. Филипп везде брал его с собой. Он даже представил юноше балерин. Поговаривали, что граф состоял в «тесных дружеских отношениях» с Ла Сорелли. Но что с того? Разве это преступление для джентльмена, который оставался холостяком и, следовательно, имел много свободного времени – особенно с тех пор, как вышли замуж его сестры, – чтобы провести час или два после ужина в компании хорошенькой танцовщицы? Пусть она не очень умна. Но зато не у нее ли были самые красивые глаза в мире? К тому же истинный парижанин, каковым и являлся граф де Шаньи, должен показывать себя, и гримерные танцовщиц оперного театра в то время как нельзя лучше подходили для этого.
Впрочем, возможно, Филипп и не повел бы брата за кулисы Национальной академии музыки, если бы тот сам не стал просить его об этом с застенчивым упрямством, о котором граф не раз вспоминал позже.
В тот вечер Филипп, аплодируя Даэ, повернулся в сторону Рауля и обнаружил его таким бледным, что испугался за него.
– Ты разве не видишь? – прошептал Рауль. – Эта девушка на грани обморока!
И действительно – Кристину Даэ на сцене поддерживали ее партнеры.
– Да ты сам сейчас упадешь в обморок… – произнес граф, наклоняясь к Раулю. – Что с тобой?
Но Рауль уже вскочил на ноги.
– Пойдем, – сказал он дрожащим голосом.
– Куда ты хочешь пойти, Рауль? – спросил граф, пораженный тем, в каком волнении находится младший брат.
– Пойдем посмотрим! Ведь она еще никогда так не пела!
Граф с любопытством посмотрел на брата, и легкая улыбка тронула уголки его губ.
– Ба… – и тут же добавил: – Ну хорошо. Пойдем!
Он выглядел заинтригованным.
Вскоре они оказались у сцены, где уже толпились люди. Ожидая возможности подняться, Рауль бессознательным жестом сорвал с себя перчатки. Филипп из любви к брату не стал насмехаться над его нетерпением. Но с его глаз словно спала пелена. Теперь он знал, почему Рауль становился временами таким рассеянным и почему ему доставляло такое удовольствие возвращать все темы разговора к происходящему в Опере.
Они поднялись на сцену.
Мужчины в черных фраках спешили в гримерные и в комнаты отдыха танцовщиц. К крикам рабочих сцены примешивались громкие возгласы администраторов. Удаляющиеся статисты последнего акта, рабочие, уносящие декорации, задник[12], спускаемый с чердака, окно, которое крепят громкими ударами молотка, постоянные окрики «дорогу!», заставляющие вас оглядываться, чтобы не оказаться сбитым с ног и не остаться без шляпы… Вся эта обычная суматоха антрактов обычно так будоражила новичков вроде нашего молодого человека с маленькими белокурыми усиками, голубыми глазами и девичьим цветом лица, пересекавшего сцену так быстро, как только позволял беспорядок. Ту самую сцену, на которой Кристина Даэ только что испытала триумф и под которой Жозеф Бюке только что нашел свою смерть.
Никогда еще неразбериха здесь не достигала таких пределов. Но и Рауль никогда еще не был настолько решителен. Он расталкивал крепкими плечами всех, кто ему мешал, не обращая внимания на происходящее вокруг, не слыша испуганных криков рабочих сцены. Его поглотило лишь одно желание – увидеть ту, чей волшебный голос завладел его сердцем. Да, он прекрасно осознавал, что его бедное юное сердце больше не принадлежит ему. Рауль очень старался не поддаваться очарованию Кристины с того самого дня, когда она, которую он знал еще в детстве, снова появилась в его жизни. Он пытался прогнать нежные чувства к ней, потому что поклялся – в соответствии со своими убеждениями и верой – любить только будущую жену. Ведь не мог же он жениться на певице! Но сегодня он испытал настоящее потрясение. Восторг? Ошеломление? Это чувство переживалось Раулем почти физически. Грудь болела, как будто ее вскрыли, чтобы вынуть сердце. Он ощущал там ужасающую, настоящую пустоту – пустоту, которую никогда не сможет заполнить ничто другое, кроме сердца Кристины! Таковы события особого мира – мира души, которые, вероятно, могут быть поняты только теми, кто сам пережил тот странный удар, который в просторечии называется «любовь с первого взгляда».
Граф Филипп едва поспевал за братом, продолжая улыбаться.
В глубине сцены, миновав двойную дверь, выходящую, с одной стороны, на ступени, ведущие в фойе, а с другой – в левые ложи на первом этаже, Рауль был вынужден остановиться перед небольшой группой учениц балетной школы, загородивших проход в гримерную. Несколько насмешливых слов сорвалось с их алых губ в его адрес, однако он не ответил, молча обойдя их и скрывшись в тени коридора, наполненного шумными обсуждениями восторженных свидетелей этого вечера. Одно имя звучало чаще прочих: «Даэ! Даэ!» Граф, поспешавший за Раулем, подумал: «А ведь мой шельмец знает дорогу». И это его заинтриговало. Сам он ни разу не водил Рауля к Кристине. Надо полагать, брат ходил туда один, пока граф болтал с Ла Сорелли, которая часто просила его оставаться с ней до выхода на сцену. Помимо этого, Филиппу было вменено в приятную обязанность подержать ее маленькие гетры, в которых она спускалась из гримерной, чтобы поберечь блеск атласных туфелек и чистоту чулок телесного цвета. Ла Сорелли объясняла свой каприз просто: она рано потеряла мать.
Граф, отложив пока визит к Ла Сорелли, проследовал за братом по коридору, ведущему к гримерной Кристины Даэ, и обнаружил, что никогда еще этот коридор не выглядел таким людным, как сегодня вечером. Весь театр, казалось, был потрясен успехом певицы не меньше, чем ее обмороком. Прелестное дитя до сих пор не пришло в себя, и поэтому послали за доктором. Доктор пробирался сквозь толпу, расталкивая людей и искоса поглядывая на Рауля, шедшего за ним по пятам.
Таким образом врач и юноша оказались в одно и то же время рядом с Кристиной. Доктор оказал ей первую помощь, и девушка наконец открыла глаза. Граф, как и большинство наблюдателей, остался на пороге в дверях.
– Доктор, не находите ли вы, что этим господам следует покинуть комнату? – спросил Рауль с невероятной дерзостью. – Здесь буквально нечем дышать.
– Конечно, вы совершенно правы, – кивнул доктор и выставил за дверь всех, кроме Рауля и горничной.
Служанка смотрела на Рауля расширенными от искреннего изумления глазами. Она никогда его раньше не видела.
Однако она не осмелилась возражать.
Доктор же подумал, что если молодой человек так себя ведет, то, очевидно, потому, что у него есть на это право. Так что Рауль остался в гримерной, не сводя глаз с возрождающейся к жизни Кристины, в то время как два директора, Дебьен и Полиньи, сами были выдворены вместе с остальными в коридор. Граф де Шаньи, изгнанный со всеми прочь, громко рассмеялся.
– Ах! Негодяй! – и добавил тихонько: – Вот и полагайтесь на этих скромных молодых людей, которые ведут себя как маленькие девочки! – Филипп так и сиял: – Да он настоящий Шаньи!
И граф направился к гримерной Ла Сорелли; но та уже спускалась ему навстречу по лестнице со своей маленькой паствой, дрожащей от страха.
В гримерной Кристина Даэ глубоко вздохнула и услышала в ответ что-то похожее на стон. Она повернула голову, увидела Рауля и вздрогнула. Перевела взгляд на доктора, улыбнулась, посмотрела на горничную, потом снова на Рауля.
– Мсье! – обратилась она к нему слабым голосом. – Кто вы?
– Мадемуазель, – ответил молодой человек, опустившись на одно колено и пылко поцеловав руку дивы. – Мадемуазель, я тот маленький мальчик, который когда-то кинулся в море, чтобы достать ваш шарф.
Кристина снова посмотрела на доктора и горничную, и все трое рассмеялись. Рауль встал, покраснев.
– Мадемуазель, поскольку вы, вероятно, меня не узнаете – или не желаете узнать, – я хотел бы сказать вам кое-что наедине. Нечто очень важное.
– Нельзя ли позже, мсье, когда мне станет лучше?.. – ее голос дрожал. – Будьте так добры…
– И сейчас вы должны уйти… – добавил доктор с самой любезной улыбкой. – Позвольте мне позаботиться о мадемуазель.
– Я не больна, – вдруг произнесла Кристина с неожиданной и странной силой.
И она встала, быстрым жестом проведя рукой по векам.
– Благодарю вас, доктор… Мне нужно побыть одной… Уходите оба! Прошу вас… позвольте мне… Я очень нервничаю сегодня вечером…
Доктор начал было протестовать, но, видя волнение молодой женщины, решил, что лучшее средство от такого перевозбуждения – не расстраивать ее. И он вышел в коридор вместе с растерянным Раулем. Доктор сказал ему задумчиво:
– Я что-то не узнаю ее сегодня вечером… Обычно она такая милая…
И ушел.
Рауль остался один. Коридор опустел. Церемония прощания должна была теперь проходить в танцевальном зале. Рауль подумал, что, возможно, Кристина отправится туда, и стал ждать в одиночестве и тишине. Он притаился в благословенной тени ниши в стене. Та пустота в груди, где когда-то находилось его сердце, все еще болела. И именно об этом он хотел поговорить с Кристиной без промедления.
Внезапно дверь открылась, и он увидел, как из комнаты вышла служанка с пакетами в руках. Рауль тут же остановил ее и спросил, как чувствует себя ее хозяйка. Девушка рассмеялась и ответила ему, что все в порядке, но не стоит ее беспокоить, потому что та хочет побыть одна.
После этого служанка спешно удалилась. Раулю вдруг пришли в голову мысли: Кристина захотела остаться одна… Не для того ли, чтобы встретиться с ним?.. Разве он не сказал ей, что хочет сообщить ей нечто важное? И не в этом ли причина, по которой она удалила всех от себя? Едва дыша, он подошел ближе к двери и, прижав ухо, дабы услышать ответ, приготовился постучать. Но его рука сразу опустилась. Он услышал в гримерной мужской голос, который говорил с особенной, властной интонацией:
– Кристина, вы должны любить меня!
И голос Кристины, дрожащий, со слезами, ответил:
– Как вы можете мне это говорить? Я ведь пою только для вас!
Рауль прислонился к стене, боль в груди стала нестерпимой. Сердце, которое, как он считал, ушло навсегда, вернулось в его грудь и с громким стуком забилось. Казалось, весь коридор наполнился этим оглушительным стуком. Еще немного, и биение сердца станет слышно за дверью. И тогда его с позором выгонят отсюда! Его, Шаньи, подслушивающего под дверью!
Он прижал обе руки к груди, пытаясь унять волнение. Но сердце – это не собачья пасть, а ведь даже если пасть рассерженной собаки держать двумя руками, все равно будет слышен если не лай, то рычание.
Снова раздался мужской голос:
– Вы, должно быть, очень устали?
– О! Сегодня вечером я отдала вам свою душу – и теперь словно умерла.
– Ваша душа прекрасна, дитя мое, – серьезно отозвался мужской голос. – Я так благодарен вам. Ни один император не получал подобного подарка! Ангелы плакали сегодня вечером.
Это было последнее, что услышал Рауль.
Он продолжал ждать, лишь отступил обратно в тень коридорной ниши, чтобы не оказаться застигнутым врасплох, когда мужчина покинет комнату Кристины. Только что он испытал и любовь, и ненависть. Кого любит, Рауль знал. Теперь он хотел увидеть того, кого ненавидит. К его изумлению, дверь отворилась, и Кристина Даэ, закутанная в меха и укрытая кружевной вуалью, вышла – одна. Рауль наблюдал, как она закрыла дверь, но не заперла ее. Девушка прошла мимо, однако он даже не взглянул ей вслед, потому что его глаза были прикованы к двери, которая так и не открылась больше. Когда шаги Кристины стихли в пустом коридоре, Рауль скользнул внутрь комнаты и тут же закрыл дверь за собой. Он оказался в кромешной темноте. Газовый светильник был потушен.
– Здесь кто-то есть? – нарочито громким голосом спросил Рауль. – Почему он прячется?
Говоря это, виконт все еще прислонялся спиной к закрытой двери.
Тьма и тишина были ему единственным ответом. Рауль слышал только собственное дыхание. Он даже не отдавал себе отчет, насколько неосмотрительно и дерзко себя ведет.
– Вы выйдете отсюда только с моего позволения! – крикнул молодой человек. – А если не ответите мне, значит, вы трус! Но я сумею вас разоблачить!
И чиркнул спичкой. Пламя осветило комнату. В гримерке никого не было! Рауль предусмотрительно запер дверь на ключ и зажег все лампы. Он обыскал гримерную, открыл шкафы, ощупал дрожащими руками стены. Ничего!
– Что это? – произнес он вслух. – Я схожу с ума?
Он простоял минут десять, слушая шипение газа в тишине пустой комнаты. Влюбленный, он даже не помыслил украсть ленточку, хранившую аромат той, которую он любил. Он вышел, уже не зная, что делает и куда идет. В какой-то момент его бессвязного блуждания ледяной воздух ударил ему в лицо. Рауль обнаружил себя стоящим внизу возле узкой лестницы, по которой спускалась процессия рабочих с неким подобием носилок, покрытых белой простыней.
– Где здесь выход, скажите, пожалуйста? – обратился он к этим людям.
– Да вот же, прямо перед вами, – ответил один из рабочих. – Дверь открыта. Но сначала дайте нам пройти.
Почти машинально Рауль поинтересовался, показывая на носилки:
– Что это такое?
Рабочий ответил:
– Это Жозеф Бюке, которого мы нашли повешенным в третьем подвале, между задником и декорациями к «Королю Лахорскому».
Рауль сделал поклон и посторонился, пропуская процессию, затем тоже вышел.
ГЛАВА III,
в которой Дебьен и Полиньи открывают новым директорам Оперы Арману Моншармину и Фирмину Ришару подлинную и загадочную причину своего ухода из театра
Тем временем началась церемония прощания.
Я уже говорил, что этот великолепный праздник был дан по случаю отставки директоров Оперы мсье Дебьена и мсье Полиньи, которые хотели, что называется, уйти красиво.
В осуществлении этой практически идеальной программы им помогли все, кто играл тогда хоть какую-то роль как в парижском обществе, так и в искусстве.
Гости собрались в танцевальном фойе, где ждала Ла Сорелли с бокалом шампанского в руке и небольшой речью, приготовленной для уходящих директоров. Позади нее толпились юные танцовщицы кордебалета. Одни вполголоса обсуждали события дня. Другие переключили внимание на своих друзей, многословная толпа которых окружила столики с едой, поставленные между картинами мсье Буланже[13] «Танец воина» и «Деревенский танец».
Несколько балерин уже переоделись, но большинство из них все еще оставались в легких газовых юбках. Все старались держаться серьезно и торжественно, сообразно обстоятельствам. Одна лишь маленькая Жамме в свои пятнадцать лет – о счастливый и беззаботный возраст! – похоже, успела забыть о Призраке и смерти Жозефа Бюке. Она не переставала хихикать, болтать, пританцовывать, и сердитая Сорелли резко призвала ее к порядку, едва только в фойе появились Дебьен и Полиньи.
Все заметили, что уходящие директора выглядят веселыми. В провинции это никому не показалось бы естественным, но в Париже считалось признаком хорошего тона. Тот никогда не станет парижанином, кто не научится надевать маску радости на свою боль, а под вуалью печали, скуки или безразличия не скроет свои личные радости. Если вы знаете, что один из ваших друзей в беде, не пытайтесь утешить его: он скажет вам, что у него все в порядке. Но если у него случилось счастливое событие, не вздумайте поздравлять его: он находит свое счастье настолько естественным, что удивится, если ему напомнят об этом. Париж – это всегда бал-маскарад, и уж конечно, здесь не то место, где такие утонченные господа, как Дебьен и Полиньи, могли бы позволить себе показать истинное отношение к происходящему. Они широко улыбались Ла Сорелли, которая начала произносить заготовленную речь, когда возглас маленькой легкомысленной Жамме стер их улыбки, безжалостно обнажив отчаяние и страх на лицах:
– Призрак Оперы!
Жамме произнесла эту фразу тоном невыразимого ужаса, указывая пальцем на лицо в толпе – бледное, мрачное и уродливое, с глубокими черными провалами на месте глаз. Все взгляды сразу обратились туда.
– Призрак Оперы! Призрак Оперы!
Гости засмеялись и, толкаясь и теснясь, устремились в указанное место, желая предложить Призраку Оперы выпить, но он исчез! Он словно растворился в толпе, и его тщетно искали, пока два почтенных мсье пытались успокоить громко всхлипывающих Жамме и Жири.
Ла Сорелли была в ярости – она не смогла закончить свою речь; мсье Дебьен и мсье Полиньи поцеловали ее, поблагодарили и ретировались почти так же быстро, как сам Призрак. Никто не удивился этому, ведь все знали, что уходящие директора должны пройти ту же церемонию еще и на верхнем этаже, в певческом фойе, а затем, наконец, состоится прощальный прием в кругу близких друзей в большом вестибюле возле директорского кабинета, где их ждет настоящий ужин.
Именно там они и встретились с новыми директорами, мсье Арманом Моншармином и мсье Фирмином Ришаром. Они едва знали друг друга, но тут же обменялись восторженными комплиментами и заверениями в дружбе; так что те из гостей, кто боялся, что вечер будет испорчен, сразу же расплылись в улыбках. Ужин оказался почти веселым. А когда представилась возможность произнести несколько тостов, правительственный комиссар проявил особую сноровку, ловко соединив славу прошлого с успехами правительства в будущем. Вскоре среди собравшихся воцарилось величайшее радушие.
Передача административных полномочий состоялась накануне, в менее официальной обстановке. Последние оставшиеся вопросы были улажены при посредничестве правительственного комиссара. С обеих сторон было проявлено большое желание достичь взаимопонимания. Поэтому неудивительно, что в этот памятный вечер присутствующих радовали улыбающиеся лица всех четырех директоров.
Дебьен и Полиньи уже передали Арману Моншармину и Фирмину Ришару два крошечных универсальных ключа, которые открывали все двери – а это несколько тысяч дверей! – Национальной академии музыки. Наступил момент, когда эти маленькие ключи, предмет всеобщего любопытства, перешли из рук прежних владельцев в руки новых. Но тут внимание некоторых гостей привлекла странная, бледная фантастическая фигура с глубоко запавшими глазами, сидевшая в конце стола. Тот самый незнакомец, который уже появлялся ранее в танцевальном фойе и на которого маленькая Жамме указала, воскликнув: «Призрак Оперы!»
Он был здесь и вел себя как любой из посетителей – разве что не ел и не пил.
Те, кто начинал смотреть на него с улыбкой, в конце концов отводили взгляды, настолько мрачные мысли навевал его вид. Никто не стал снова отпускать шутки в его адрес, никто не воскликнул: «Вот Призрак Оперы!»
Он сам не произнес ни слова, и сидевшие рядом не могли бы сказать, в какое именно время он появился здесь, но каждый подумал, что, если бы мертвые иногда и возвращались, чтобы сесть за стол живых, они не могли бы иметь более жуткого лица. При этом друзья Фирмина Ришара и Армана Моншармина полагали, что странный гость был близким приятелем Дебьена и Полиньи, в то время как друзья Дебьена и Полиньи считали, что он хороший знакомый Ришара и Моншармина. Таким образом, никто не требовал объяснений, не отпускал дурных шуток и никак не комментировал происходящее, дабы ненароком не обидеть этого ужасного человека.
Несколько посетителей, которые слышали легенду о Призраке и описание, данное главным рабочим сцены, – о смерти Жозефа Бюке они еще не знали – решили, что человек в конце стола вполне мог оказаться живым воплощением персонажа, созданного, по их мнению, навязчивым суеверием сотрудников Оперы. Правда, согласно легенде, у Призрака отсутствовал нос, а у этого персонажа он имелся. Однако Арман Моншармин утверждал в своих мемуарах, что нос посетителя был прозрачен. «Этот нос, – по его словам, – был длинным, тонким и прозрачным». Я бы добавил, что это мог быть и фальшивый нос. Моншармин мог принять за прозрачность то, что в действительности просто блестело. Всем известно, что наука делает замечательные фальшивые носы для тех, кто был лишен их от природы или в результате, например, операции.
В самом ли деле Призрак без приглашения пришел той ночью на банкет директоров? И можем ли мы быть уверены, что эта фигура и вправду являлась Призраком Оперы? Кто знает?.. Если я упомянул об этом инциденте здесь, то вовсе не для того, чтобы заставить читателя поверить в призраков или попытаться убедить его в том, что призраки способны на такую невероятную дерзость. Я просто хотел сказать, что это весьма возможно. И у меня есть к тому достаточно веская причина.
Вот что Арман Моншармин говорит в своих мемуарах:
Когда я думаю об этом первом вечере, я не могу отделить друг от друга два события: первое – то, что рассказали нам по секрету в кабинете мсье Дебьен и мсье Полиньи, и второе – присутствие на ужине странного, никому не знакомого персонажа.
А произошло следующее:
Дебьен и Полиньи, сидевшие во главе стола, еще не успели разглядеть человека с мертвой головой, как тот внезапно заговорил.
– Танцовщицы правы, – сказал он. – Смерть бедного Бюке, возможно, не настолько естественна, чтобы о ней просто забыть.
Дебьен и Полиньи вздрогнули.
– Бюке мертв? – воскликнули они.
– Да, – спокойно ответил мужчина или тень мужчины. – Сегодня вечером его нашли повешенным в третьем подвале, между задником и декорациями к «Королю Лахорскому».
Оба директора, вернее бывших директора, тотчас встали, подозрительно уставившись на своего собеседника. Они оказались взволнованы больше, чем можно было бы ожидать от людей, узнавших о смерти главного рабочего сцены. Оба посмотрели друг на друга. И стали бледнее скатерти. Наконец Дебьен сделал знак Ришару и Моншармину. Полиньи произнес несколько извинительных слов в адрес гостей, и все четверо прошли в директорский кабинет.
Далее я вновь предоставляю слово мсье Моншармину:
Дебьен и Полиньи выглядели очень взволнованными, – рассказывает он в своих мемуарах, – казалось, им есть что сказать нам, но они сильно смущены. Сначала они спросили нас, знаем ли мы человека, сидящего в конце стола, который сообщил им о смерти Жозефа Бюке, и, когда мы ответили отрицательно, они встревожились еще больше. Они забрали у нас из рук ключи, какое-то время задумчиво рассматривали их, а затем, кивнув друг другу, дали нам совет поменять все замки, держа это в строжайшем секрете, во всех помещениях, шкафах и местах, которые мы пожелали бы надежно запереть. Дебьен и Полиньи были так забавны, говоря это, что мы рассмеялись, спросив их, есть ли в Опере воры. Они ответили нам, что есть нечто похуже – призрак. Мы снова начали смеяться, убежденные, что они подшучивают над нами и что это входит в программу нашего маленького праздника.
И затем, вняв их просьбе, мы напустили на себя серьезный вид, решив доставить им удовольствие и подыграть. Они сказали, что никогда бы не рассказали нам о призраке, если бы им не было дано строгое указание от самого призрака обязать нас быть любезными с ним и предоставлять ему все, о чем он нас попросит. Однако, будучи исполнены нетерпения покинуть театр и избавиться от тирании призрака, они до последнего момента не решались сообщать нам об этой странной ситуации, поверить в которую, безусловно, наши скептические умы были не готовы. Однако известие о смерти Жозефа Бюке жестоко напомнило им, что всякий раз, когда они не подчинялись желаниям призрака, какое-нибудь сверхъестественное и ужасное событие быстро возвращало им чувство зависимости от него.
Во время этих удивительных речей, произносимых в тоне важной и даже торжественной доверительности, я смотрел на Ришара. Еще со времен студенчества Ришар имел репутацию шутника, он знал тысячи розыгрышей, и консьержи на бульваре Сен-Мишель могли бы это подтвердить. Поэтому он, казалось, оценил по достоинству блюдо, которое ему подавали. Он не упустил ни кусочка, хотя приправа в виде смерти Бюке была немного жуткой. Ришар печально кивал, и по мере того, как говорили остальные, его мина становилась все более трагичной, как у человека, который горько сожалеет о своем назначении быть директором Оперы, где бесчинствует призрак. Я не смог придумать ничего лучше, чем просто скопировать его поведение. Однако, несмотря на все наши усилия, в конце концов мы не смогли удержаться от смеха. Дебьен и Полиньи, увидев, как резко мы перешли от мрачности в дерзкое веселье, решили, что мы спятили.
Поскольку розыгрыш слишком затянулся, Ришар спросил полушутя: «Но что, в конце концов, ему нужно, этому призраку?»
Полиньи направился в свой кабинет и вернулся оттуда с копией книги для администрации.
Книга начиналась следующими словами: «Руководство Оперы обязано придавать представлениям Национальной академии музыки все великолепие, которое должно быть присуще лучшему французскому оперному театру», и заканчивалась статьей 98, гласившей:
Администратор может быть отстранен от занимаемой должности:
1. Если директор нарушает положения, изложенные в этой инструкции…
Эта копия была сделана черными чернилами и полностью соответствовала той, что имелась у нас.
Однако мы обнаружили, что в документе, представленном мсье Полиньи, был добавлен абзац, написанный красными чернилами. Почерк выглядел странным и неловким, как если бы фразы выводил ребенок, еще не вполне освоивший письмо и не научившийся соединять между собой буквы. И этот пункт, так странно удлинивший статью 98, гласил дословно:
5. Если директор задерживает ежемесячную плату, которая полагается Призраку Оперы, более чем на две недели, и которая составляет, пока не последует дальнейших уведомлений, 20 000 франков в месяц, или 240 000 франков в год.
Мсье де Полиньи нерешительно показал нам этот последний пункт. Такого мы, конечно, не ожидали.
– Это все? Больше он ничего не хочет? – спросил Ришар с величайшим хладнокровием.
– Есть еще пожелания, – ответил Полиньи.
Он снова пролистал инструкцию и прочитал:
Статья 63.
Ложа № 1 первого правого яруса на все выступления должна быть зарезервирована для главы государства.
Ложа № 20 по понедельникам и ложа № 30 первого яруса по средам и пятницам предоставляется министрам.
Ложа № 27 второго яруса должна быть забронирована на каждый день для префектов Сены и комиссариата полиции.
И снова – в конце этой статьи оказалась добавлена строка, написанная красными чернилами:
Ложа № 5 первого яруса на всех представлениях предоставляется в полное распоряжение Призраку Оперы.
После этого нам оставалось только встать и тепло пожать руки нашим двум предшественникам, поздравив их с тем, насколько очаровательную шутку они придумали, доказав, что старое французское чувство юмора никогда не устареет. Ришар даже добавил, что теперь понимает, почему господа Дебьен и Полиньи так охотно покинули управление Национальной академии музыки. С таким требовательным призраком иметь дело крайне сложно.
– Это очевидно… – со всей серьезностью ответил Полиньи, – 240 000 франков на деревьях не растут. А во что обходится невозможность сдавать ложу № 5, зарезервированную для призрака? Не говоря уже о том, что мы вынуждены были возместить неустойку зрителю, который за нее заплатил… Это ужасно! И мы решили, что не собираемся работать на призрака!.. Мы предпочитаем уйти!
– Да, – подтвердил Дебьен. – Мы предпочитаем уйти! И как можно скорее!
Он встал.
Ришар сказал:
– Но мне кажется, что вы слишком снисходительны к этому призраку. Если бы у меня был такой назойливый призрак, я без колебаний отправил бы его под арест.
– Но каким образом? – воскликнули они оба хором. – Мы никогда его не видели!
– Например, когда он приходит в свою ложу.
– В ложе его тоже никто не видел.
– Тогда нужно сдать ее.
– Сдать в аренду ложу Призрака Оперы? Ну что ж, господа, попробуйте!
После чего мы все четверо вышли из директорского кабинета.
Мы с Ришаром никогда еще так не смеялись.
ГЛАВА IV.
Ложа № 5
Арман Моншармин написал такие объемные мемуары, что мы вправе задаться вопросом, находил ли он когда-нибудь время заняться Оперой, пока описывал, что там происходило. Он не знал ни одной ноты, но был на дружеской ноге с министром общественного образования и изящных искусств, пробовал себя в бульварной журналистике и имел довольно большое состояние. Ко всему прочему, он был весьма обаятелен и не имел недостатка в интеллекте, поскольку, решив стать директором Оперы, сумел выбрать того, кто окажется наиболее полезным для него партнером, и отправился прямиком к Фирмину Ришару.
Фирмин Ришар был незаурядным музыкантом и галантным мужчиной. Вот характеристика, которая на момент его вступления в должность стала достоянием театральной публики благодаря публикации в «Театральном ревю»:
Мсье Фирмину Ришару около пятидесяти лет, он высок ростом, широкоплеч, но совсем не имеет лишнего веса. У него яркая внешность и приятные черты лица, волосы заходят низко на лоб и коротко подстрижены. Его борода очень гармонично сочетается с прической. В выражении его лица есть что-то немного грустное, однако это впечатление сразу смягчается честным и прямым взглядом и обаятельной улыбкой.
Мсье Фирмин Ришар – выдающийся музыкант. Он весьма искусен в гармонии и контрапункте. Отличительная черта его композиций – монументальность. Им опубликованы несколько произведений камерной музыки (которую высоко оценили критики), фортепианные пьесы, сонаты и небольшие, но обладающие оригинальностью сочинения, а также сборник мелодий. Его «Смерть Геркулеса», исполняемая на концертах в консерватории, наполнена эпическим влиянием Глюка[14], одного из почитаемых мсье Фирмином Ришаром мастеров. Однако, отдавая должное Глюку, не меньше его он любит и Пиччинни[15] – мсье Ришар наслаждается им везде, где только его услышит. Полный восхищения к Пиччинни, он преклоняется перед Мейербером[16], упивается Чимарозой[17], и никто не оценит неподражаемого гения Вебера[18] лучше, чем он. Наконец, что касается Вагнера[19], то можно смело утверждать, что мсье Ришар – первый и, возможно, единственный во Франции, кто понимает его музыку.
На этом я завершу цитату, из которой, как мне кажется, довольно ясно следует, что, хотя Фирмин Ришар любил почти всю музыку и всех музыкантов, долг каждого музыканта – любить Фирмина Ришара. Заканчивая этот беглый портрет, добавлю лишь, что мсье Ришар был достаточно авторитарным и отличался скверным характером.
Первые несколько дней, которые оба партнера провели в Опере, были очень радостными, когда они почувствовали себя хозяевами такого огромного и прекрасного учреждения. И они, конечно же, забыли странную и забавную историю с Призраком, когда произошел инцидент, который доказал им, что в этом фарсе – если он был фарсом – точка еще не поставлена.
Фирмин Ришар тем утром прибыл в офис в одиннадцать часов. Его секретарь, Реми, показал ему полдюжины писем, которые он не распечатал, потому что на них стояла пометка «личное». Одно из этих писем сразу же привлекло внимание Ришара не только потому, что надпись на конверте была сделана красными чернилами, но еще и потому, что ему показалось, будто он уже где-то видел этот почерк. Директор сразу вспомнил: это был тот по-детски трогательный почерк, которым кто-то так странно дополнил инструкцию. Ришар вскрыл конверт и прочитал:
Мои глубокоуважаемые директора!
Прошу прощения за то, что беспокою вас в эти столь драгоценные моменты, когда вы решаете судьбу лучших оперных артистов, когда вы возобновляете важные договоры и заключаете новые. И все это с деликатностью, со знанием своего дела, с прекрасным пониманием театра, публики и ее вкусов. Ваш авторитет близок к тому, чтобы потрясти меня, учитывая мой прошлый опыт. Я знаю, как много вы сделали для Ла Карлотты, Ла Сорелли и для маленькой Жамме, а также для других, в которых распознали талант и оценили их замечательные качества. (Вы прекрасно знаете, кого я имею в виду, говоря про талант, – очевидно, это не относится ни к Ла Карлотте, которая поет как мартовская кошка и которой никогда не следовало покидать кафе «Жакин»; ни к Ла Сорелли, которая особенно успешна в демонстрации своих прелестей; ни для маленькой Жамме, которая танцует, как теленок на лугу. Это также не относится и к Кристине Даэ, которая, несомненно, гениальна, но которую вы с ревнивой осторожностью держите подальше от любого важного выступления.) Конечно, вы свободны вести дело в своем учреждении так, как вам заблагорассудится, не правда ли? Несмотря на это, я хотел бы воспользоваться тем, что вы еще не выставили Кристину Даэ за дверь, и услышать ее сегодня вечером в роли Зибеля[20], поскольку роль Маргариты после ее недавнего триумфа ей запрещена. И я попрошу вас не занимать мою ложу ни сегодня, ни в последующие дни. Заканчивая это письмо, не могу не признаться вам, как неприятно я был удивлен в последнее время, придя в Оперу, узнав, что абонемент на мою ложу был продан по вашему приказу.
Я не стал протестовать, во-первых, потому что не люблю скандалы, а во-вторых, потому что подумал: может, ваши предшественники, господа Дебьен и Полиньи, которые всегда были ко мне добры, забыли перед уходом рассказать вам о моих маленьких причудах. Однако я только что получил ответ от господ Дебьена и Полиньи на мою просьбу объясниться – ответ, который доказывает мне, что вы ознакомлены с пунктами инструкции и, следовательно, посмеялись надо мной самым оскорбительным образом. Если вы хотите, чтобы мы жили в мире, вам не следует начинать с того, чтобы отнимать у меня мою ложу!
После этих небольших наставлений, мои дорогие директора, остаюсь вашим скромным и покорным слугой.
Призрак Оперы.
К этому письму прилагалась вырезка из колонки личных объявлений в «Театральном ревю», где значилось следующее:
П. О.: Р. и М. непростительны. Мы предупредили их и оставили им Вашу инструкцию. С уважением!
Едва Фирмин Ришар закончил чтение, как дверь его кабинета открылась и перед ним появился Арман Моншармин с точно таким же письмом. Они посмотрели друг на друга и расхохотались.
– Итак, шутка продолжается, – заключил Ришар, – но она перестает быть забавной!
– Что они хотели этим сказать? – спросил Моншармин. – Неужели Дебьен и Полиньи думают, что раз они были директорами Оперы, то могут требовать предоставлять им ложу до конца жизни?
Ибо как для первого, так и для второго не было никаких сомнений в том, что двойное послание было результатом шутливого сотворчества их предшественников.
– У меня нет ни малейшего желания позволять и дальше себя разыгрывать! – объявил Ришар.
– Это довольно безобидно! – возразил Моншармин. – Собственно, чего они хотят? Ложу на сегодня?
Фирмин Ришар приказал секретарю прислать билеты в ложу № 5 первого яруса господам Дебьену и Полиньи, если она еще не зарезервирована.
Она оказалась свободной. Дебьен жил на углу улицы Скриба и бульвара Капуцинов, а Полиньи на улице Обера. Оба письма Призрака Оперы были отправлены из почтового отделения на бульваре Капуцинов. Это заметил Моншармин, осматривая конверты.
– Хорошее наблюдение! – оценил Ришар.
Они пожали плечами и выразили сожаление, что люди такого почтенного возраста все еще развлекаются детскими забавами.
– Все-таки они могли быть повежливее! – заметил Моншармин. – Ты видел, как они отозвались о Ла Карлотте, Ла Сорелли и маленькой Жамме?
– Ну что ж! Дорогой мой, эти люди во власти болезненной ревности! Удивительно – они зашли так далеко, что заплатили за небольшую переписку в «Театральном ревю»!.. Неужели им больше нечего делать?
– Кстати! – снова заговорил Моншармин. – Похоже, они очень заинтересованы в маленькой Кристине Даэ…
– Ты не хуже меня знаешь, что у нее репутация целомудренной девушки! – ответил Ришар.
– Мы очень часто имеем фальшивую репутацию, – возразил Моншармин. – Вот у меня – разве нет репутации знатока музыки? А ведь я не отличу скрипичный ключ от басового.
– Успокойся, у тебя никогда не было такой репутации, – заверил его Ришар.
После этого Фирмин Ришар приказал швейцару пригласить артистов, которые уже в течение двух часов бродили по большому коридору в ожидании открытия директорской двери – той двери, за которой их ждали слава и деньги… Или увольнение.
Весь оставшийся день прошел в обсуждениях, переговорах, подписаниях или расторжениях контрактов. Поэтому можете мне поверить: в тот вечер – 25 января – оба наши директора, уставшие от тяжелого дня, полного гнева, интриг, рекомендаций, угроз, протестов, заверений в любви, ненависти… оба они легли спать пораньше, даже не испытывая любопытства, чтобы заглянуть в ложу № 5 и узнать, пришлось ли Дебьену и Полиньи по вкусу представление. После ухода прежнего руководства в театре велись ремонтные работы, и Ришар приложил немало труда, чтобы спектакли в это время не прекращались.
На следующее утро Ришар и Моншармин нашли в своей почте, во-первых, благодарственную открытку от Призрака, составленную таким образом:
Мои глубокоуважаемые директора!
Благодарю вас. Это был прекрасный вечер. Даэ великолепна. Хоры требуют доработки. Ла Карлотта отличный инструмент – но и только. Ожидайте скорого сообщения по поводу 240 000 франков – точнее, 233 424 франков 70 сантимов. Господа Дебьен и Полиньи прислали мне 6 575 франков 30 сантимов, что составляет оплату первых десяти дней в этом году – так как их полномочия закончились 10-го числа вечером.
Ваш покорный слуга
П. О.
Во-вторых, там было письмо от Дебьена и Полиньи:
Мсье!
Мы благодарим вас за оказанную любезность, но вы легко поймете, что перспектива вновь послушать «Фауста», как бы ни мила она была для бывших директоров Оперы, не может заставить нас забыть, что мы не имеем права занимать ложу № 5 первого яруса. Ведь она принадлежит исключительно тому, о ком мы говорили вам, перечитывая вместе с вами инструкцию. Взгляните еще раз на последний пункт статьи 63.
Примите наши уверения и пр.
– Они начинают меня раздражать! – заявил Фирмин Ришар, яростно вырвав письмо у Моншармина из рук.
В тот вечер ложа № 5 первого яруса была сдана в аренду.
На следующий день, придя в свой кабинет, Ришар и Моншармин нашли отчет капельдинера[21] о событиях, произошедших накануне вечером в ложе № 5 первого яруса. Вот главный отрывок этого краткого отчета:
Этим вечером у меня возникла необходимость, – написал капельдинер, – дважды вызывать полицейского (в начале и в середине второго акта). Лица, занявшие ложу № 5 первого яруса, прибыли туда лишь в начале второго акта. Вскоре они вызвали возмущение публики оглушительным смехом и громкими неуместными шутками. Я вошел туда и сделал им замечание, призвав к порядку и потребовав вести себя подобающе. Эти люди, казалось, были не в себе, они хихикали и говорили глупости. Я предупредил их, что, если они продолжат в том же духе, мне придется их выдворить. Не успел я выйти, как снова услышал их смех и протесты зрителей из зала. Я вернулся с полицейским, который вывел их. Продолжая смеяться, они заявили, что не уйдут, пока им не вернут деньги. В конце концов они, казалось, успокоились, и я позволил им вернуться в ложу; однако смех тотчас же возобновился, и на этот раз я удалил их окончательно.
– Пусть позовут капельдинера, – крикнул Ришар секретарю, который первым прочитал этот отчет и уже сделал на нем пометки синим карандашом.
Секретаря звали Реми – это был умный и застенчивый молодой человек, двадцати четырех лет, с тонкими усами, элегантный, высокий, всегда безупречно одетый (в любую погоду он носил фрак). Жалование его составляло 2 400 франков в год. Он просматривал газеты, отвечал на письма, распределял ложи и пригласительные билеты, назначал встречи, общался с посетителями, навещал больных артистов, подыскивал замену, вел переписку с главами департаментов. Но самой главной его обязанностью было служить своеобразным замком директорского кабинета, непреодолимой преградой для тех, кого директора не желают видеть.
Секретарь уже вызвал капельдинера и теперь пригласил его в кабинет.
Тот вошел, немного обеспокоенный.
– Расскажите нам, что произошло, – резко приказал Ришар.
Капельдинер нахмурился и указал на отчет.
– Но эти люди – почему они смеялись? – спросил Моншармин.
– Господин директор, они, должно быть, хорошо поужинали и выглядели более готовыми к шалостям, чем к прослушиванию музыки. Едва появившись в ложе, они сразу вышли обратно и позвали билетершу. На ее вопрос, что им угодно, они сказали: «Осмотрите ложу – там действительно никого нет?..» – «Никого», – подтвердила билетерша. «А мы, – заявили они, – когда вошли, услышали голос, который говорил, что ложа занята».
Моншармин не мог сдержать улыбки, но Ришар выглядел мрачным. Будучи опытным мистификатором, он слишком хорошо разбирался в вещах такого рода, чтобы не распознать в рассказе следы одной из тех отвратительных шуток, которые сначала забавляют своих жертв, а в конечном итоге приводят их в ярость.
Капельдинер, глядя на улыбающегося Моншармина, счел нужным тоже ухмыльнуться в ответ. Это было ошибкой. Ришар одарил служащего таким испепеляющим взглядом, что тот сразу же стер улыбку с лица и постарался изобразить встревоженную озабоченность.
– Когда эти люди прибыли, – грозно продолжил допрос Ришар, – в ложе кто-нибудь был?
– Никого, господин директор! Никого! И в соседних ложах тоже никого не было, ручаюсь! Я могу поклясться в этом на Библии! Уверен, что все это просто шутка.
– А билетерша – что она сказала?
– О! Для билетерши все объясняется довольно просто. Она сказала, что это Призрак Оперы. Вот и все!
Капельдинер снова усмехнулся. Но тут же пожалел об этом. Потому что как только он произнес слова «Призрак Оперы», Ришар окончательно пришел в ярость.
– Пусть вызовут билетершу! – приказал он. – Немедленно! Сейчас же пришлите ее ко мне! И отошлите прочь всех остальных!
Капельдинер хотел было возразить, но Ришар рявкнул ему: «Молчать!» Затем, когда губы несчастного подчиненного, казалось, сомкнулись навсегда, господин директор потребовал, чтобы они снова открылись.
– Что еще за «Призрак Оперы» такой?.. – свирепо спросил он.
Но теперь капельдинер был не в силах вымолвить ни слова. Отчаянной мимикой он пытался дать понять, что ничего об этом не знает и даже не хочет знать.
– Вы видели этого Призрака Оперы?
Капельдинер энергично замотал головой в знак отрицания.
– Очень плохо! – зловеще заявил Ришар.
Капельдинер в ужасе расширил глаза, которые и так уже вылезали из орбит, и пролепетал:
– Почему?
– Потому что я уволю каждого, кто его не видел! – объяснил директор. – Это просто недопустимо: не видеть столь вездесущего призрака! Мои служащие должны делать свое дело – и делать его хорошо!
ГЛАВА V.
Ложа № 5 (продолжение)
После этих слов Ришар повернулся к только что вошедшему администратору и занялся обсуждением с ним текущих дел. Капельдинер решил, что может теперь незаметно ускользнуть, и тихо-тихо стал пятиться к двери, когда Ришар, заметив этот маневр, пригвоздил служащего к месту громовым окриком:
– Стоять!
Благодаря расторопности Реми быстро нашлась билетерша, которая работала еще и консьержкой на улице Прованс, в двух шагах от оперного театра. Вскоре она вошла.
– Как вас зовут?
– Мадам Жири. Вы меня хорошо знаете, господин директор: я мать Мэг Жири, маленькой Жири, как ее еще называют!
Это было сказано настолько серьезным и торжественным тоном, что на мгновение даже произвело впечатление на Ришара. Он посмотрел на мадам Жири (выцветшая шаль, стоптанные туфли, старенькое платье из тафты, шляпка цвета копоти). По его взгляду стало очевидно, что он никоим образом не знал и не помнил ни саму мадам Жири, ни даже маленькую Мэг Жири.
Но гордость мадам Жири не позволяла и допустить такое. Билетерши всегда воображают, будто их знают все.
– Нет, я вас не помню, – покачал головой директор. – Но дело не в этом… Мне бы, мадам Жири, хотелось знать, что случилось здесь прошлым вечером, из-за чего вам и мсье капельдинеру пришлось вызвать полицейского…
– Я как раз хотела встретиться с вами, чтобы поговорить об этом, мсье, и предупредить, чтобы с вами не случилось тех же неприятностей, что и с господами Дебьеном и Полиньи… Они ведь тоже сначала не хотели меня слушать…
– Я не просил вас предупреждать меня. Я спросил вас, что случилось здесь прошлым вечером!
Мадам Жири покраснела от возмущения. С ней еще никогда не разговаривали в подобном тоне. Она встала, словно намереваясь уходить, и уже подобрала складки юбки, с достоинством встряхивая перьями на потемневшей шляпке; однако затем передумала, села и сказала с достоинством:
– Случилось то, что кто-то снова обидел Призрака!
Ришар уже собирался разразиться новым гневом, когда Моншармин вмешался и взял допрос в свои руки. В результате выяснилось, что мадам Жири считает совершенно естественным, что в пустой ложе раздается голос. Это явление было для нее не в новинку, и она могла объяснить его только вмешательством Призрака. Его никто никогда в ложе не видел, но слышали многие. Она и сама его слышала, и ей нужно верить, потому что она никогда не лгала. Можно спросить об этом у Дебьена и у Полиньи, и у всех, кто ее знал, а еще у бедного Исидора Саака, которому Призрак сломал ногу!..
– Что-что? – прервал ее Моншармин. – Призрак сломал ногу бедному Исидору Сааку?
Мадам Жири распахнула большие глаза в изумлении перед таким дремучим невежеством. Но все-таки она согласилась просветить двух несчастных наивных простачков.
Этот инцидент произошел во времена господ Дебьена и Полиньи, в той же ложе № 5, во время представления все того же «Фауста».
Мадам Жири откашлялась, прочистила горло – словно готовилась пропеть всю оперу Гуно.
– Так вот, мсье. В тот вечер в первом ряду ложи сидели мсье Маньера и его жена, торговцы-ювелиры с улицы Могадор, а позади мадам Маньера – их близкий друг, мсье Исидор Саак. На сцене пел Мефистофель. – И мадам Жири запела: – «Вы так крепко спите…» И тогда мсье Маньера услышал в правом ухе (а его жена была слева от него) голос, который сказал ему: «Ха-ха! Жюли как раз не спит!» (Жюли – это его жена). Мсье Маньера повернул направо голову, чтобы посмотреть, кто это с ним разговаривает. Никого! Он подергал себя за ухо и решил, что ему почудилось. Тем временем Мефистофель продолжал свою арию… Но, может быть, вам неинтересно?
– Нет, нет! Продолжайте…
– Господа директора слишком добры ко мне! – отозвалась мадам Жири с жеманной миной. – Итак, Мефистофель продолжил арию. – Мадам Жири опять запела: – «Катрин, я обожаю вас, молю, не откажите в сладком поцелуе». И в этот момент мсье Маньера снова слышит в правом ухе голос: «Ха-ха! Вот Жюли не отказала Исидору в сладком поцелуе». Он вновь поворачивается, но на этот раз в сторону жены и Исидора, и что он видит? Исидора, который взял сзади руку мадам Жюли и осыпает ее поцелуями в маленькое отверстие в перчатке… Да-да, вот так, мои добрые господа! – и мадам Жири поцеловала свою руку в том месте, где ее ажурная перчатка обнажала кожу. – Итак, поцелуй оказался не таким уж сладким! Бах! Бах! Звонкий звук пощечин! Мсье Маньера, высокий и сильный, как вы, мсье Ришар, отвесил пару оплеух мсье Исидору Сааку, худому и слабому, как мсье Моншармин, при всем моем уважении. Вот это был скандал! В зале раздались крики: «Хватит! Хватит! Он убьет его!..» И наконец мсье Исидор Саак смог сбежать…
– Значит, Призрак не сломал ему ногу? – спросил Моншармин, немного раздосадованный замечанием мадам Жири по поводу его телосложения.
– Он сломал ее, мсье, – обиженно возразила мадам Жири. – Но не там. Он сломал ее прямо на большой лестнице, по которой Исидор Саак спускался слишком быстро, мсье! И так хорошо сломал, что, боюсь, бедняга не скоро сможет по этой лестнице подняться!..
– А Призрак вам сам рассказал, что это он шептал в правое ухо мсье Маньера? – спросил Моншармин самым серьезным тоном, подчеркивая комичность ситуации.
– Нет! Мне это сказал мсье Маньера. Так…
– Но вы тоже разговаривали с Призраком, о храбрая мадам Жири?
– Точно так же, как разговариваю сейчас с вами, о не менее храбрый мсье…
– И что же этот Призрак обычно говорил?
– Он просил меня принести скамеечку для ног!
При этих торжественно произнесенных словах мадам Жири величаво застыла, словно колонна из желтоватого с красными прожилками мрамора, поддерживающая парадную лестницу Оперы.
На этот раз даже Ришар расхохотался вместе с Моншармином и секретарем Реми. Однако капельдинер, наученный горьким опытом, больше не смеялся. Прислонившись к стене, он размышлял, лихорадочно теребя ключи в кармане, чем закончится эта история. И чем более высокомерным становился тон мадам Жири, тем больше он боялся следующей вспышки гнева господина директора! Но мадам Жири, как назло, видя всплеск веселья директоров, заговорила с ними самым угрожающим тоном!
– Вместо того, чтобы смеяться над Призраком, – возмущенно воскликнула она, – вам лучше поступить так, как мсье Полиньи, который наконец признал…
– Признал что? – спросил Моншармин, которому еще никогда не было так весело.
– Признал существование Призрака!.. Я все время пытаюсь вам объяснить… Послушайте!.. – Мадам Жири внезапно успокоилась, видимо, решив, что настал ее звездный час. – Я помню это как вчера. В тот раз играли «Жидовку»[22]. Мсье Полиньи захотел сам присутствовать на представлении в ложе Призрака. Мадемуазель Краусс добилась безумного успеха. Она только что спела, вы знаете, это место во втором акте… – мадам Жири торжественно запела: – «Рядом с тем, кого люблю, я хочу жить и умереть, и сама смерть не может разлучить нас…»
– Хорошо! Хорошо! Я знаю… – с кислой улыбкой заметил Моншармин.
Но мадам Жири продолжала петь, покачивая перьями старой шляпки:
– «Уходим! Уходим! И здесь, внизу, и на небесах нас обоих теперь ждет одна и та же участь…»
– Да! Да! Мы знаем это место! – повторил Ришар, теряя терпение. – Что дальше? Ну?
– И тогда именно в этот момент Леопольд воскликнул: «Бежим!» Но Елеазар остановил их: «Куда бежите вы?» Так вот, как раз в этот момент мсье Полиньи, за которым я тихонько наблюдала из соседней ложи, потому что она оставалась пустой… Мсье Полиньи встал и пошел из ложи, прямой и негнущийся, как статуя. Я только успела спросить его, подобно Елеазару: «Куда бежите вы?» Но он мне не ответил и был бледнее мертвеца! Я наблюдала, как он спускался по лестнице, но ногу не сломал… И все же он шел как во сне – в дурном сне! И словно не мог найти дорогу… а ведь ему платили за то, что он хорошо знал театр!
Мадам Жири выпалила свою речь на одном дыхании и сделала паузу, чтобы оценить, какой эффект произвели ее слова. Моншармин сдержанно кивнул.
– Ваш рассказ не объясняет мне, при каких обстоятельствах и зачем Призрак Оперы просил скамейку для ног? – настойчиво проговорил он, пристально глядя прямо в глаза мадам Жири.
– Ну, это было после того вечера… Потому что с того вечера его оставили в покое и больше не пытались занимать его ложу. Мсье Дебьен и мсье Полиньи приказом закрепили ложу за Призраком на все представления. И когда он приходил, он просил меня приносить скамейку…
– Что же это? Призрак, просящий скамейку для ног? Может, ваш Призрак – женщина? – спросил Моншармин.
– Нет, Призрак – мужчина.
– Откуда вы знаете?
– У него мужской голос! Приятный мужской голос! Вот как это происходит: когда он приходит в Оперу – а приходит он обычно примерно в середине первого акта, – он делает три коротких удара в дверь ложи № 5. Когда я впервые услышала эти три удара, то была в полном недоумении, ведь я прекрасно знала, что ложа пуста. Туда еще никто не заходил, и это меня заинтриговало! Я открыла дверь, прислушалась, осмотрелась: никого! И вдруг я услышала голос, говорящий: «Мадам Жюль» (так зовут моего покойного мужа), «не могли бы вы принести мне небольшую скамеечку для ног?» При всем уважении к вам, господин директор, от ужаса я покраснела как помидор… но голос продолжал: «Не пугайтесь, мадам Жюль, это я, Призрак Оперы!» Я посмотрела в ту сторону, откуда доносился голос, который, впрочем, был таким ласковым и приветливым, что почти перестал пугать меня… Голос, господин директор, доносился из первого кресла первого ряда справа. Хоть я никого и не видела в кресле, могла бы поклясться, что там кто-то сидел, кто-то разговаривал оттуда, и он был очень вежливым.
– Ложа справа от пятой была занята? – спросил Моншармин.
– Нет; ни ложа № 7, ни ложа № 3 слева не были заняты. Представление еще только начиналось.
– И что же вы сделали?
– Ну, я принесла маленькую скамеечку. Очевидно, он просил ее не для себя, а для своей дамы! Но ее я никогда не слышала и не видела…
Что? У Призрака, оказывается, еще и дама была?! Моншармин и Ришар переглянулись, посмотрели на мадам Жири, затем на капельдинера, который, стоя за спиной билетерши, отчаянно размахивал руками, пытаясь привлечь внимание директоров. Он с выражением сожаления постучал себя по лбу указательным пальцем, давая понять директорам, что мадам Жири, безусловно, сумасшедшая. Эта пантомима окончательно убедила Ришара расстаться с капельдинером, который держал на службе помешанную. Добрая женщина тем временем продолжала, вся погруженная в мысли о привидении, теперь восхваляя его щедрость.
– В конце спектакля он всегда давал мне монету в сорок су, иногда в сто су, а иногда даже в десять франков – если он несколько дней не приходил. Только с тех пор, как вы начали его снова раздражать, он больше чаевых мне не оставляет…
– Прошу прощения, моя храбрая женщина… – от такой грубой фамильярности перья на старой шляпке мадам Жири возмущенно заколыхались. – Прошу прощения!.. Но каким образом Призрак вручает вам ваши сорок су? – спросил любознательный Моншармин.
– Очень просто! Он оставляет деньги на перилах ложи. Я нахожу их там с программкой, которую всегда приношу ему; по вечерам я, бывает, нахожу цветы на полу – например, розу, которая наверняка выпала из корсажа его дамы… Потому что он, несомненно, иногда приходит с дамой. Однажды они даже забыли веер.
– Что? Ха! Призрак забыл веер? И что вы с ним сделали?
– Ну что… я принесла ему веер на следующий вечер.
Тут раздался голос капельдинера:
– Вы нарушили правила, мадам Жири! Я оштрафую вас!
– Замолчите, идиот! – рявкнул басом Фирмин Ришар и снова обратился к мадам Жири. – Вы принесли веер! И что?
– Они забрали его, господин директор. После спектакля вместо веера они оставили коробку английских конфет, которые мне так нравятся, господин директор. Это еще одно доказательство доброты Призрака…
– Спасибо, мадам Жири… Вы можете идти.
Едва мадам Жири почтительно, но с достоинством, которое никогда не покидало ее, поклонилась двум директорам и покинула кабинет, те заявили капельдинеру, что они твердо намерены избавить себя от услуг этой сумасшедшей старухи. И затем уведомили капельдинера, что он тоже уволен.
Никакие протесты и уверения в преданности театру не помогли, и, когда служащий наконец ушел, секретарь получил указание рассчитать и уволить капельдинера в кратчайшие сроки.
Оставшись одни, оба директора сошлись на одной и той же мысли, которая пришла им в головы одновременно: надо бы прогуляться в ложу № 5 и посмотреть, что там происходит.
Последуем за ними и мы, но чуть позже.
ГЛАВА VI.
Зачарованная скрипка
Став жертвой интриг, к которым мы еще вернемся, Кристина Даэ не смогла повторить в Опере триумф знаменитого гала-концерта. Однако она получила возможность быть услышанной в доме герцогини Цюрихской, где спела самые красивые арии из своего репертуара. Вот что написал о ней известный критик X. Y. Z., который был среди почетных гостей:
Когда мы слышали ее в «Гамлете» Амбруаза Тома, то задавались вопросом, не явился ли Шекспир с Елисейских полей, чтобы поделиться с ней тайной очарования Офелии… И я не сомневаюсь, что, когда она надевает звездную диадему Царицы ночи, Моцарт готов покинуть на время вечную обитель, чтобы прийти послушать ее. Но ему не нужно об этом беспокоиться, потому что сильный и трепетный голос удивительной исполнительницы его «Волшебной флейты» достигает небес и с легкостью поднимается к райским кущам гения – точно так же, как без особых усилий она перебралась из хижины в деревушке Скотелоф в золотой и мраморный дворец, построенный мсье Гарнье.
Однако после вечера у герцогини Цюрихской Кристина больше не пела на публике. Она стала отклонять любые приглашения, в том числе и на платные выступления. Без какого-либо правдоподобного предлога она даже отказалась прийти на благотворительный вечер, в котором ранее обещала участвовать. Девушка вела себя так, будто больше не являлась хозяйкой своей судьбы, словно боялась нового триумфа.
Она знала, что граф де Шаньи, желая доставить удовольствие брату, предпринял очень активные шаги в ее пользу, побеседовав с Ришаром. Она написала ему письмо с благодарностью, но просила его больше не говорить о ней директорам. Каковы же причины такого странного поведения? Одни утверждали, что ею движет непомерная гордость, другие – наоборот, считали это проявлением божественной скромности. Но слишком скромные не оказываются на сцене в театре! По правде говоря, я знаю только одно объяснение: страх. Да, я действительно уверен, что Кристина Даэ тогда боялась всего, что с ней случилось. У меня в руках оказалось письмо Кристины, относящееся к событиям того времени. Перечитав его, я пришел к выводу, что Кристина была не просто ошеломлена или даже напугана своим триумфом, – она была в ужасе!
«Я больше не узнаю себя, когда пою!» – пишет она.
Бедная, чистая, милая девочка!
Она нигде не показывалась, и виконт де Шаньи тщетно пытался искать с ней встречи. Он написал ей, прося аудиенции, и уже отчаялся получить ответ, когда однажды утром она прислала ему следующее письмо:
Мсье, я не забыла маленького мальчика, который кинулся в море за моим шарфом. Я не могла не написать Вам об этом сегодня, когда уезжаю в Перрос, ведомая священным долгом. Завтра годовщина смерти моего бедного отца, которого Вы знали и который Вас очень любил. Он похоронен вместе со своей скрипкой там, на кладбище, окружающем маленькую церковь, у подножия холма, где мы детьми так часто играли – у обочины той дороги, где, немного повзрослев, мы с Вами прощались в последний раз.
Прочитав письмо, Рауль тотчас же уточнил железнодорожное расписание, поспешно оделся, написал несколько строк брату и вручил записку камердинеру. Затем вскочил в экипаж, который все же слишком поздно высадил его у вокзала Монпарнаса: виконт не успел на утренний поезд, как рассчитывал.
Рауль провел тоскливый день и вернулся к жизни только ближе к вечеру, когда наконец-то сел в свой вагон. Всю дорогу он перечитывал письмо Кристины, вдыхал его аромат, воскрешал в памяти сладкий образ ее юных лет. Нескончаемую ночь он провел в лихорадочном сне, от начала и до конца заполненном Кристиной Даэ. Уже начинался рассвет, когда поезд прибыл в Ланьон. Рауль подбежал к дилижансу до Перрос-Гирека – он оказался единственным пассажиром.
Расспросив кучера, виконт узнал, что накануне вечером молодая женщина, по виду парижанка, приехала в Перрос и остановилась в гостинице «Заходящее солнце». Это могла быть только Кристина. Рауль глубоко вздохнул. Теперь он сможет поговорить с Кристиной спокойно наедине. От нахлынувших чувств у него перехватывало дыхание. Этот большой ребенок, объехавший весь мир, оставался чистым душой, как девственница, которая никогда не покидала дом матери.
По дороге он с нежностью вспоминал историю жизни маленькой шведской певицы. Многие детали ее биографии до сих пор неизвестны публике.
В небольшом шведском поселке неподалеку от Упсалы жил один крестьянин вместе с семьей. Он возделывал землю, работая всю неделю, а по воскресеньям пел в церковном хоре. У этого крестьянина росла маленькая девочка, которую он обучил нотной грамоте раньше, чем чтению. Отец Даэ был великим музыкантом, возможно, не подозревая об этом. Он играл на скрипке и считался лучшим скрипачом во всей Скандинавии. Слава о нем широко распространилась, и отовсюду его звали играть на свадьбах и праздниках.
Мать девочки умерла, когда Кристине пошел шестой год. Вскоре отец, любивший только свою дочь и музыку, продал участок земли и отправился на поиски счастья в Упсалу. Но нашел там лишь страдания и бедность.
Поэтому он вернулся в родные места, где, переходя от ярмарки к ярмарке, играл свои скандинавские мелодии, а его дочь, которая никогда не расставалась с ним, пела под аккомпанемент отцовской скрипки. Однажды на ярмарке в Лимби их услышал профессор Валериус и пригласил обоих в Гетеборг. Он утверждал, что отец – лучший скрипач в мире, а его дочь имеет все шансы стать великой певицей. Профессор обеспечил образование и воспитание ребенка. И всюду девочка очаровывала окружающих красотой, грацией и жаждой к самосовершенствованию. Ее успехи были поразительными.
Профессору Валериусу и его жене потребовалось переехать во Францию, и они увезли Даэ и Кристину с собой. Супруга Валериуса полюбила девочку, как свою дочь. Что касается отца Кристины, то во Франции он начал постепенно чахнуть от тоски по дому. В Париже он никогда ни с кем не встречался. Жил словно во сне, наполняя его музыкой своей скрипки. Целыми днями он сидел, запершись в комнате вместе с дочерью, и было слышно, как он играет что-то протяжно и нежно, а Кристина тихонько напевает. Жена Валериуса иногда приходила послушать их за дверью, тяжело вздыхала, вытирала слезу и на цыпочках уходила. Она тоже тосковала по светлому скандинавскому небу.
Отец Даэ, казалось, оживал только летом, когда они все вместе выезжали на отдых в Перрос-Гирек, в уголок Бретани, который тогда был почти неизвестен парижанам. Даэ любил там подолгу смотреть на море, напоминавшее ему родину. Часто, сидя на берегу, он играл свои самые грустные мелодии – и утверждал, что море смолкает, чтобы их послушать. Он настойчиво умолял жену профессора позволить ему играть, как когда-то раньше, во время проведения религиозных шествий и деревенских праздников, и та наконец согласилась.
Теперь он брал с собой дочь и уезжал со своей скрипкой, проводя по нескольку дней среди простых людей. Крестьяне не уставали их слушать. Музыкант и маленькая певица бесплатно выступали в маленьких деревушках и ночевали в сараях, отказываясь от кровати в гостинице и тесно прижимаясь друг к другу на соломе, как в те времена, когда они были так бедны в Швеции.
Крестьяне не понимали, почему так странно вел себя этот прилично одетый скрипач, бродивший по дорогам в сопровождении прекрасного ребенка, голос которого напоминал пение небесного ангела. И люди тоже следовали за музыкантами из деревни в деревню.
Однажды мальчик, приехавший из Парижа с чопорной гувернанткой, заставил ее проделать долгий путь, потому что был восхищен маленькой девочкой, чей нежный и чистый голос, казалось, наложил на него чары. Мальчик с гувернанткой добрались до края бухты, которую до сих пор называют Трестрау. В те времена в этом месте было только небо, море и золотой песчаный берег. Внезапно порыв сильного ветра унес шарф гуляющей по пляжу Кристины. Кристина вскрикнула и протянула руки, но шарф уже качался далеко на волнах. И тут девочка услышала голос, который говорил ей:
– Не беспокойся, я достану твой шарф.
И она увидела мальчика, который бежал в море, несмотря на возмущенные крики и протесты строгой дамы в черном. Мальчик бросился в воду прямо в одежде, поймал и принес Кристине ее шарф. И мальчик, и шарф, конечно, промокли насквозь! Дама в черном никак не могла успокоиться, но Кристина рассмеялась от всей души и поцеловала отважного юного кавалера. Этим мальчиком и был виконт Рауль де Шаньи. В то время он жил со своей тетушкой в Ланьоне.
Тем летом Кристина и Рауль виделись почти каждый день и играли вместе. По просьбе тети Рауля, переданной через профессора Валериуса, добрый Даэ согласился давать уроки игры на скрипке юному виконту. Так Рауль научился любить те же мелодии, которые все детство окружали Кристину.
Их души оказались похожими – мечтательными и романтичными. Оба любили волшебные истории, старые бретонские сказки. Главным их развлечением стало ходить, словно нищие, от дома к дому и просить жителей:
– Мадам (или добрый мой господин), не могли бы вы рассказать нам какую-нибудь небольшую историю?
Редко кто им отказывал. Разве есть в Бретони хоть один старик или старуха, которые ни разу в жизни не видели танцующих фей и гномов на вересковых пустошах при лунном свете?
Но самым чудесным временем для детей были вечера, когда в сумерках, в великом покое приближающейся ночи, солнце опускалось в море. Отец Даэ садился рядом с ними у обочины дороги и рассказывал вполголоса, словно боясь спугнуть прилетевших духов, прекрасные, веселые или страшные легенды своей северной страны. Иногда они были красивы, как сказки Андерсена, иногда печальны, как стихи великого поэта Рунеберга. Когда Даэ замолкал, дети тотчас просили:
– Еще!
Одна из историй начиналась так:
Однажды король сидел в маленькой лодке у берега одного из тех тихих и глубоких озер, которые открываются, как сияющие глаза, среди гор Норвегии…
А вот другая:
Маленькая Лотта думала обо всем – и ни о чем. Словно летняя птица, она парила в золотых лучах солнца, украсив светлые локоны венком из весенних цветов. Ее душа была такой же ясной и небесной, как и взгляд. Она нежно любила мать и была преданна своей кукле. Лотта тщательно следила за чистотой платьица, красных туфелек и скрипки. Но больше всего ей нравилось, засыпая, слушать Ангела музыки.
Пока Даэ говорил, Рауль как зачарованный смотрел на голубые глаза и золотистые волосы Кристины. А Кристина думала, как приятно, должно быть, малышке Лотте было засыпать под пение Ангела музыки. Почти ни одна история Даэ не обходилась без участия Ангела музыки, и дети все время расспрашивали про этого Ангела. Отец Кристины утверждал, что всех великих музыкантов и композиторов хотя бы раз в жизни посещает Ангел музыки. Иногда этот Ангел склоняется над их колыбелью, как это случилось с маленькой Лоттой, – именно так появляются маленькие вундеркинды, которые в шесть лет играют на скрипке лучше, чем иные в пятьдесят, что, согласитесь, совершенно необычно. Иногда Ангел приходит намного позже – если дети неразумны, не хотят учиться и пренебрегают своими способностями. К некоторым Ангел не приходит никогда – к тем, у кого злое сердце и совесть нечиста.
Ангела нельзя увидеть, но его слышат те, кому это предначертано. Такое обычно случается в те моменты, когда меньше всего этого ожидаешь, когда грустно и одиноко. Тогда ухо острее воспринимает небесную гармонию и божественный голос, и человек запоминает их на всю жизнь. В сердцах людей, которых посетил Ангел, остается внутренний огонь. Они испытывают трепет, недоступный простым смертным. И у них появляется дар: как только они прикасаются к инструменту или запевают мелодию, начинает звучать музыка такой красоты, что перед ней меркнут все остальные звуки. Другие называют таких людей гениями.
Маленькая Кристина спросила отца, слышал ли он Ангела. Но отец Даэ печально покачал головой, затем его взгляд просиял – он посмотрел на дочь и сказал:
– Но ты, дитя мое, когда-нибудь услышишь его! Когда я окажусь на небесах, я пришлю его тебе, обещаю!
В то время отца Кристины уже начинали мучить приступы сильного кашля.
Наступила осень, которая разлучила Рауля и Кристину.
Три года спустя, уже будучи молодыми людьми, они встретились снова. Это опять случилось в Перросе, и у Рауля от встречи осталось глубокое впечатление. Профессор Валериус к тому времени умер, но его жена осталась во Франции, занимаясь финансовыми делами. Она жила вместе с милыми ее сердцу Даэ и его дочерью, которые продолжали петь и играть на скрипке, увлекая романтическими мечтами свою дорогую благодетельницу. Казалось, всех троих не интересовало ничего, кроме музыки.
Молодой человек случайно приехал в Перрос и тотчас же поспешил в дом, в котором когда-то жила его подруга. Старик Даэ встал со своего места со слезами на глазах и поцеловал его, сказав, что они сохранили о нем верную память. Действительно, почти не проходило дня, чтобы Кристина не заговорила о Рауле.
Дверь отворилась, и вошла очаровательная девушка, неся на подносе дымящийся чай для отца. Она узнала Рауля и поставила сервиз на столик. Легкий румянец окрасил ее милое лицо. В нерешительности она стояла, ничего не говоря. Отец смотрел на них обоих. Рауль подошел к девушке и приветствовал ее поцелуем, которого она не смогла избежать. Она задала ему несколько общих вежливых вопросов и, решив, что исполнила свой долг радушной хозяйки, забрала поднос и вышла из комнаты.
После этого она укрылась на скамейке в уединении сада. В ее девичьем сердце вспыхнули чувства, которых она раньше не испытывала. Вскоре ее нашел Рауль, и они проговорили до вечера. Оба пребывали в сильном смущении. Они совершенно изменились и словно узнавали друг друга заново. Осторожничая, будто дипломаты, молодые люди рассказывали друг другу вещи, которые не имели никакого отношения к их зарождающимся чувствам. Когда они расстались на обочине дороги, Рауль сказал Кристине, крепко поцеловав ее дрожащую руку:
– Мадемуазель, я никогда вас не забуду!
И он ушел, сожалея об этих дерзких словах, потому что хорошо знал, что Кристина Даэ не может быть женой виконта де Шаньи.
Что касается Кристины, она пошла к отцу и сказала ему:
– Тебе не кажется, что Рауль уже не такой славный, как раньше? Мне он больше не нравится!
И она постаралась больше не думать о нем. Девушка изо всех сил погрузилась в свои занятия, которые занимали все ее время. Успехи Кристины были поистине замечательными. Те, кто слушал ее, предсказывали, что она станет одной из лучших певиц в мире.
Но потом умер ее отец. И она, казалось, потеряла вместе с ним свой голос, свою душу и свой гений. Оставшегося ей хватило, чтобы поступить в консерваторию, но и только. Она ничем не отличалась от других, без энтузиазма посещала занятия и получила награду лишь для того, чтобы порадовать старую жену профессора Валериуса, с которой продолжала жить. Когда Рауль снова увидел Кристину в Опере, он был очарован красотой молодой девушки, в нем вновь ожили нежные образы былых времен, но его поразила перемена в ней. Она выглядела отрешенной. Он приходил, чтобы послушать ее, следил за ней за кулисами, ждал ее у гардеробной, пытался привлечь ее внимание. Не раз он провожал девушку до порога гримерной, но она его не видела. Кристина будто ничего не замечала вокруг. Она была олицетворением безразличия. Рауль страдал, его тянуло к ней; робкий, он не смел признаться себе в том, что любит ее. А потом наступил торжественный вечер – и ее триумф оглушил Рауля подобно удару грома: разверзлись небеса, и голос ангела зазвучал на земле, чтобы порадовать людей и покорить их сердца…
А после этого… После этого за дверью раздался этот мужской голос:
– Вы должны любить меня!
Но в гримерке никого не оказалось…
Почему, открыв глаза, она рассмеялась, когда он сказал «я тот маленький мальчик, который когда-то отправился в море искать ваш шарф»?
Почему она не узнала его? И почему написала теперь?
Какой долгий путь… Вот этот берег – длинный и пологий… Вот распятие возле дороги… Вот торфяное болото, вересковая пустошь – неподвижный пейзаж под белым небом. Стекла в карете дребезжали, грозя растрескаться. Экипаж издавал много шума, но так медленно продвигался вперед! Рауль узнавал соломенные крыши хижин… Изгороди, насыпи, деревья вдоль дороги… Приближался последний поворот, за ним оставалось немного спуститься вниз – и будет море… Широкий залив Перрос…
Итак, Кристина остановилась в гостинице «Заходящее солнце» – единственное здесь место для ночлега, другого нет. И к тому же оно вполне приличное. Рауль помнил, как в свое время там рассказывали прекрасные истории! Его сердце забилось сильнее! Что она скажет, увидев его?
Первый человек, которого он встретил, войдя в фойе старой гостиницы, – матушка Трикард. Она сразу узнала виконта, тепло поприветствовала и спросила, что его привело сюда. Рауль покраснел и ответил, что приехал по делу в Ланьон и зашел повидаться. Матушка Трикард предложила ему позавтракать, но он пока отказался.
Казалось, он ждет чего-то или кого-то. В это время дверь отворилась, и он вскочил на ноги. Рауль не ошибся: это она! Кристина стояла перед ним, улыбаясь, нисколько не удивленная. Ее лицо было свежим, а щеки – розовыми, как клубника в тенистых зарослях. Частое дыхание говорило от том, что она быстро шла. Ее грудь, заключавшая в себе искреннее сердце, мягко вздымалась. Ясные глаза, словно прозрачные бледно-лазурные зеркала мечтательных озер далекого Севера, отражали ее светлую и чистую душу. Меховая шубка облегала гибкую талию, подчеркивая стройные линии молодого, полного грации тела.
Рауль и Кристина долго смотрели друг на друга. Матушка Трикард улыбнулась и тактично удалилась. Кристина наконец заговорила:
– Вы пришли, и меня это не удивляет. У меня было предчувствие, что я встречу вас здесь, в этой гостинице, когда вернусь со службы… Мне даже сообщили в церкви о вашем приезде.
– Кто сообщил? – удивился Рауль, беря в свои руки маленькую ладонь Кристины, которую та не отнимала у него.
– Мой бедный отец, мой бедный умерший отец.
Они немного помолчали. Затем Рауль спросил:
– А ваш отец не сказал вам, что я люблю вас, Кристина, и не могу без вас жить?
Кристина покраснела до самых корней волос и отвела взгляд, а потом проговорила дрожащим голосом:
– Меня? Вы сошли с ума, мой друг.
И она засмеялась, чтобы дать понять, насколько все это забавно.
– Не смейтесь, Кристина, я говорю серьезно.
Она заметила, помрачнев:
– Я не приглашала вас приезжать сюда, тем более, чтобы выслушивать от вас подобные вещи.
– Нет, Кристина, вы именно пригласили меня. Вы ведь знали, что ваше письмо не оставит меня равнодушным и что я помчусь в Перрос. Но как бы вы могли знать об этом, если бы не догадывались, что я вас люблю?
– Я просто подумала, что вы вспомните игры нашего детства, в которых так часто участвовал и мой отец. Хотя, если честно, я и сама не совсем понимаю, о чем я думала… Наверное, не стоило писать вам… Но ваше внезапное появление тем вечером в моей гримерной перенесло меня далеко-далеко в прошлое, и я написала вам, вновь почувствовав себя маленькой девочкой, которой была когда-то… которая в минуту печали и одиночества надеялась опять увидеть рядом близкого друга…
И снова несколько мгновений они молчали.
Что-то в поведении Кристины казалось Раулю неестественным, хотя он не мог понять, что именно. Однако он не чувствовал в ней враждебности – совсем нет… Печальная нежность в ее глазах достаточно ясно говорила ему об обратном. Но почему в ней столько печали?..
Неопределенность ставила молодого человека в тупик и уже начала вызывать раздражение.
– Кристина, скажите, до того, как вы увидели меня в гримерной, вы ведь замечали меня в театре?
Не умея по-настоящему лгать, девушка призналась:
– Замечала. Я видела вас несколько раз в ложе вашего брата. И за кулисами тоже…
– Я так и думал! – воскликнул Рауль, нахмурившись. – Но почему же тогда, в гримерной, когда я, стоя на коленях, целовал вам руку… Почему вы не признали меня? И почему вы рассмеялись?
Тон этих вопросов оказался настолько суров, что Кристина удивленно посмотрела на Рауля и не ответила ему. Молодой человек и сам был ошеломлен этой внезапной ссорой, развязать которую он осмелился в тот самый момент, когда пообещал себе, что будет говорить Кристине лишь слова нежности и любви. Так мог бы разговаривать муж или любовник, предъявляющий претензии жене или подруге, которая обидела его. Рауль уже сердился за свое глупое поведение, но не нашел другого выхода из этой нелепой ситуации, кроме как упорствовать дальше, показывая себя еще более отвратительным.
– Вы мне не отвечаете! – жалким и злым голосом продолжил он. – Что ж, я отвечу за вас! Дело в том, что некто в вашей гримерной смущал вас, Кристина! Кто-то, кому вы не хотели показывать, что можете проявлять интерес к другому человеку, кроме него!..
– Если меня кто-то и смущал в тот вечер, мой друг, – прервала его Кристина ледяным тоном, – так это были вы, потому что именно вас я попросила удалиться!..
– Да!.. Чтобы остаться с другим!..
– Что вы имеете в виду? – в сильном волнении спросила Кристина… – О ком вы говорите?
– О том, кому вы сказали: «Я пою только для вас! Сегодня вечером я отдала вам свою душу – и теперь словно умерла».
Кристина схватила руку Рауля с такой силой, которую нельзя было бы заподозрить в этом хрупком существе.
– Значит, вы подслушивали за дверью?
– Да! Потому что я люблю вас… И я все слышал.
– И что же вы слышали? – и девушка, опять став странно спокойной, отпустила руку Рауля.
– Я слышал слова: «Вы должны любить меня!»
При этих словах мертвенная бледность разлилась по лицу Кристины, ее глаза расширились… Она пошатнулась и, казалось, вот-вот упадет. Рауль подался вперед, подставляя руки, но Кристина уже преодолела мимолетную слабость и проговорила еле слышным голосом:
– Продолжайте! Пожалуйста, продолжайте, расскажите мне все, что слышали!
Рауль медлил, озадаченный реакцией девушки.
– Продолжайте же! – повторила Кристина. – Вы же прекрасно видите: мне жизненно необходимо это узнать!..
– Когда вы сказали, что отдали ему свою душу, он ответил: «Ваша душа прекрасна, дитя мое. Я так благодарен вам. Ни один император не получил такого подарка! Ангелы плакали сегодня вечером…»
Кристина прижала руку к груди и уставилась на Рауля в неописуемом ужасе. Ее неподвижный взгляд казался почти безумным и привел молодого человека в полное замешательство. Потом глаза Кристины увлажнились, и по ее щекам цвета слоновой кости покатились, словно жемчужины, две тяжелые слезы…
– Кристина!..
– Рауль!..
Молодой человек вновь протянул к ней руки, но она выскользнула из его объятий и убежала в необъяснимом смятении.
Кристина заперлась в своей комнате. Тем временем Рауль подвергал себя тысяче упреков за произнесенные грубые, жестокие слова. Но и ревность не оставляла его, продолжая бурлить в пылающих венах.
Если девушка так реагирует на то, что ее секрет раскрыт, значит, это очень важный секрет! Однако Рауль, несмотря на услышанное, не сомневался в чистоте Кристины. Он знал, какая безупречная у нее репутация, и был не настолько наивен, чтобы не понимать, что красивой молодой певице не так уж редко приходится выслушивать слова любви. Правда, она ответила незнакомцу в тот вечер, что отдала ему свою душу, но, возможно, она имела в виду пение и музыку? Но так ли это? Тогда почему же она была так взволнована сейчас?
Рауль чувствовал себя таким несчастным! Если бы он только встретил того человека, то потребовал бы объяснений!
Почему Кристина убежала? Почему заперлась и не спускается вниз?
Обедать он не стал. Чрезвычайно расстроенный тем, что не оправдались его надежды провести время с Кристиной, он задавался вопросами. Почему она не хочет побродить вместе с ним по местам, с которыми у них связано так много общих воспоминаний? И почему она, закончив дела в Перросе, не возвращается обратно в Париж? Ведь, насколько Рауль знал, она заказала службу за упокой своего отца и провела долгие часы в молитве в маленькой церкви и на его могиле. Больше у нее здесь не было никаких дел.
Печальный, обескураженный, Рауль направился к кладбищу, окружавшему церковь. Он бродил в одиночестве среди могил, разглядывая надписи, пока не добрался до участка позади апсиды[23]. Его внимание привлекла могила, украшенная яркими цветами, рассыпанными по граниту надгробия и земле, припорошенной снегом. Их аромат наполнял зимний бретонский воздух. Это были чудесные красные розы, которые выглядели так, словно этим утром выросли на снегу – островки жизни в царстве мертвых. Ибо смерть царила здесь повсюду. Ею была переполнена земля, которая укрывала усопших. Груды скелетов и черепов громоздились у церковной стены, удерживаемые лишь тонкой проволочной сеткой, которая оставляла открытым взору эту жуткую картину. Головы мертвецов, сложенные, выстроенные в ряд, как кирпичи, скрепленные в промежутках чисто выбеленными крепкими костями, казалось, составляли основание, на котором были возведены стены ризницы. Подобные нагромождения костей сохранились во многих старых бретонских церквях.
Рауль помолился за старика Даэ, а затем, окончательно упав духом от оскалов смерти, присущих мертвым, покинул кладбище, поднялся по склону холма и сел на краю пустоши, возвышающейся над морем. Ветер злобно носился над волнами, разгоняя скудные и робкие остатки дневного света, которые сдавались и отступали, оставляя лишь багровый след на горизонте. Потом ветер затих. Наступал вечер.
Рауля окутали ледяные тени, но он не чувствовал холода. Его мысли блуждали по вересковым пустошам и торфяным болотам, бередившим воспоминания. Именно сюда, на этот берег, с наступлением темноты он часто приходил вместе с маленькой Кристиной, чтобы посмотреть, танцуют ли домовые при свете восходящей луны. Что касается его, он никогда не видел их, хотя имел хорошее зрение. Кристина, которая, напротив, была немного близорукой, утверждала, что видела домовых много раз. Он улыбнулся при этой мысли, а потом вздрогнул, заметив вдруг фигуру, беззвучно появившуюся рядом с ним. Нежный голос произнес:
– Вы верите, что домовые придут сегодня вечером?
Это была Кристина. Он хотел что-то ответить, но она прикрыла ему рот рукой в перчатке.
– Послушайте меня, Рауль. Я решилась сказать вам кое-что серьезное, очень серьезное!
Ее голос дрожал. Рауль молча ждал.
Она, видимо, собиралась с мыслями.
– Рауль, вы помните легенду об Ангеле музыки?
– Конечно помню! – отозвался он. – Думаю, что именно здесь ваш отец впервые рассказал нам об этом.
– Здесь он также сказал мне: «Когда я окажусь на небесах, я пришлю его тебе, обещаю!» Ну что ж! Рауль, мой отец на небесах, а меня посетил Ангел музыки.
– Я в этом не сомневаюсь, – серьезно ответил молодой человек, поскольку решил, что его благочестивая подруга соотнесла воспоминание об отце с блеском своего последнего триумфа.
Кристина, казалось, была слегка обескуражена тем хладнокровием, с которым виконт де Шаньи воспринял сказанное.
– Как вы об этом догадались, Рауль? – спросила она, наклоняя бледное лицо так близко к лицу молодого человека, что тот мог бы подумать, будто Кристина собирается поцеловать его. Но она хотела только заглянуть ему в глаза в темноте.
– Я полагаю, ни одно человеческое существо не может петь так, как вы пели тем вечером, без невероятного чуда, без небесного вмешательства, – сказал он. – Ни один учитель на земле не мог бы научить вас подобным звукам. Вас посетил Ангел музыки, Кристина, без сомнения.
– Да, в моей гримерной, – торжественно произнесла она. – Именно туда он приходит ко мне ежедневно, чтобы давать уроки.
Тон, которым она это произнесла, был настолько проникновенным и необычным, что Рауль посмотрел на нее с беспокойством, как смотрят на человека, который говорит глупости или описывает безумное видение и верит в него всеми силами своего бедного больного разума. Но она сделала шаг назад, в темноту, и теперь стояла неподвижной тенью в ночи.
– В вашей гримерной? – бессмысленным эхом повторил он.
– Да, именно там я его слышала. И я не одна, кто его слышал…
– Кто же еще его слышал, Кристина?
– Вы, мой друг.
– Я? Я слышал Ангела музыки?
– Да, он разговаривал со мной тем вечером, когда вы подслушивали за дверью. Именно он сказал мне: «Вы должны любить меня!» Но мне казалось, я единственная, кто может слышать его голос. Теперь вы можете представить мое изумление, когда сегодня утром я узнала, что вы тоже способны его слышать…
Рауль расхохотался. И в этот момент ночь рассеялась над пустошью и луна осветила молодых людей. Кристина резко повернулась к Раулю. Ее глаза, обычно такие нежные, метали молнии.
– Почему вы смеетесь? Может быть, вы считаете, что слышали голос обычного мужчины?
– Конечно! – ответил молодой человек, мысли которого начали путаться под натиском Кристины.
– И это вы, Рауль, вы говорите мне такое? Вы, друг моего детства! Друг моего отца! Я вас больше не узнаю! Но во что же вы тогда верите? Я честная девушка, мсье виконт де Шаньи, и не запираюсь в гримерной наедине с мужчиной. И если бы вы открыли дверь, то обнаружили бы, что там никого нет!
– Это правда! Когда вы ушли, я действительно открыл дверь и никого не нашел в гримерной…
– Вот видите!..
Рауль призвал на помощь все свое мужество.
– Кристина, мне кажется, вас кто-то разыграл…
Тут девушка вскрикнула, отшатнулась и побежала прочь. Он кинулся за ней, но она бросила ему яростные слова:
– Пустите меня! Оставьте меня в покое!
И исчезла в темноте.
Рауль вернулся в гостиницу усталый, обескураженный и грустный.
Он узнал, что Кристина только что поднялась к себе в комнату, заявив, что к ужину не спустится. Молодой человек спросил, не больна ли она. Добрая хозяйка гостиницы ответила ему с улыбкой, что если девушка и больна, то ее легко вылечить. Она сразу поняла, что двое влюбленных поссорились, и ушла, пожимая плечами и тихонько ворча себе под нос, выражая сожаление по поводу легкомыслия молодых людей, которые тратят впустую драгоценное время, отпущенное им милосердным Богом на земле.
Рауль поужинал в одиночестве, сидя у камина, как вы можете догадаться, в очень мрачном настроении. Поднявшись в свою комнату, он попытался читать, затем лег в постель, но так и не смог заснуть. В соседней комнате не было слышно ни звука. Что делала Кристина? Спала ли она? А если не спала, о чем думала? А о чем думал он? Рауль и сам не мог бы сказать… Странный разговор с Кристиной совершенно его смутил!.. Он думал сейчас не столько о Кристине, сколько о том, что происходило вокруг нее. И оно казалось таким расплывчатым, таким туманным и неуловимым, что Рауль испытывал тревогу и подспудное беспокойство.
Время тянулось невыносимо медленно; было уже одиннадцать с половиной вечера, когда он отчетливо услышал шаги в соседней комнате – легкие, тихие шаги. Значит, Кристина еще не спит? Почти не сознавая, что делает, молодой человек поспешно оделся, стараясь не шуметь. И, готовый ко всему, стал ждать. Готовый к чему? Рауль не знал, что и предположить.
Его сердце екнуло, когда он услышал, как дверь комнаты Кристины тихонько скрипнула. Куда она направлялась в этот час, здесь, в Перросе? Рауль осторожно открыл дверь и в лунном свете увидел белую фигуру Кристины, украдкой скользнувшую по коридору. Она добралась до лестницы, спустилась вниз, и он, последовав за ней, перегнулся через перила. Внезапно Рауль услышал два голоса и разобрал фразу: «Не потеряйте ключ», – это говорила хозяйка. Внизу открылась дверь, выходящая к морю, и снова закрылась. Наступила тишина. Рауль тотчас вернулся к себе, подбежал к окну и открыл его. Белая фигура Кристины стояла на пустынном берегу.
Второй этаж гостиницы «Заходящее солнце» был не особенно высоким. Дерево возле стены, приветливо протянувшее ветви к нетерпеливым рукам Рауля, позволило молодому человеку выбраться на улицу незаметно для хозяйки.
Каково же было изумление доброй матушки Трикард, когда на следующее утро ей в гостиницу принесли почти обледеневшего молодого человека, скорее мертвого, чем живого, и она узнала, что его нашли распростертым на ступеньках главного алтаря маленькой церкви Перроса. Женщина побежала сообщить эту новость Кристине, которая поспешно спустилась вниз и с помощью хозяйки принялась приводить Рауля в чувство. Наконец он открыл глаза и стал возвращаться к жизни, увидев над собой очаровательное лицо своей возлюбленной.
Так что же произошло? Несколько недель спустя, когда трагические события в Опере потребовали вмешательства прокурора, комиссар полиции Мифруа имел возможность допросить виконта де Шаньи о событиях той ночи в Перросе. Вот его свидетельские показания, дословно записанные стенографистом и приложенные к материалам расследования.
Вопрос. Мадемуазель Даэ видела, как вы выбирались из своей комнаты тем необычным способом, который вы выбрали?
Ответ. Нет, мсье, нет, нет. Однако я подошел к ней, не скрываясь, не пытаясь приглушить звук шагов. Тогда я молил Бога только об одном: чтобы она повернулась, увидела меня и узнала. Потому что прекрасно понимал, что веду себя неподобающим образом, недостойным дворянина. Но она словно не слышала меня… Она тихо покинула берег и быстро пошла вверх по дороге. Церковные часы пробили без четверти полночь, и мне показалось, что этот звук подстегнул ее, потому что она почти побежала. Так она дошла до ворот кладбища.
В. Были ли ворота кладбища открыты?
О. Да, мсье, и это меня озадачило, но, похоже, нисколько не удивило мадемуазель Даэ.
В. На кладбище был кто-нибудь?
О. Я никого не увидел. Если бы там кто-то находился, я бы его заметил. Луна была очень яркой, а снег, покрывавший землю, отражал ее свет, делая ночь еще светлее.
В. Разве он не мог спрятаться за надгробными камнями?
О. Нет, мсье. Там очень маленькие надгробия, они просто утопали в снегу, и кресты поднимались практически прямо из земли. Единственные тени отбрасывали только эти кресты и мы. Церковь выглядела ослепительной. Я никогда не видел такой ясной ночи. Было очень красиво, очень светло и очень холодно. Я раньше не бывал ночью на кладбищах и не знал, что там можно увидеть подобный удивительный свет.
В. Вы суеверны?
О. Нет, мсье, я христианин.
В. В каком вы были состоянии?
О. Я был совершенно здоров и довольно спокоен. Конечно, необычная ночная прогулка мадемуазель Даэ сначала меня встревожила; но когда я увидел, что девушка отправилась на кладбище, то подумал, что она пошла туда, намереваясь исполнить какой-то обет на отцовской могиле, – учитывая ее любовь к отцу. Я нашел это настолько естественным, что перестал волноваться. Меня удивляло только то, что она так и не услышала, как я иду за ней, хотя снег громко хрустел под ногами. Наверное, она была целиком поглощена благочестивыми мыслями. Я решил больше не беспокоить ее, и, когда она добралась до могилы отца, остался в нескольких шагах позади. Она опустилась на колени в снегу, осенила себя крестным знамением и начала молиться. В это время пробило полночь. Двенадцатый удар все еще звучал у меня в ушах, когда неожиданно я увидел, как девушка подняла голову; ее взгляд устремился на небесный свод, руки потянулись к ночному сиянию. Она словно впала в транс. Я все еще задавался вопросом, что послужило причиной подобного внезапного экстаза, озираясь вокруг, когда все мое существо замерло, и я вдруг услышал музыку. Кто-то невидимый, незримый играл на скрипке. И какая это была музыка! Мы ее знали! Мы с Кристиной слышали ее в детстве. Но никогда еще скрипка отца Даэ не воспроизводила мелодию с таким божественным искусством! Я вспомнил все, что Кристина рассказала мне об Ангеле музыки. Я не видел ни инструмента, ни смычка, ни скрипача и мог воспринимать только те незабываемые звуки, которые, казалось, лились с неба. О, я знал эту восхитительную мелодию. Это «Воскрешение Лазаря», которое отец Даэ играл нам, когда бывал опечален. Ангел Кристины, если бы он существовал, не смог бы сыграть лучше. Призыв Иисуса словно поднял нас над землей, и я почти ожидал увидеть, как воспарит камень с могилы отца Кристины. Еще мне пришла в голову мысль, что Даэ был похоронен вместе со своей скрипкой… Хотя, по правде говоря, я не знаю, как далеко меня могло бы завести воображение в эти удивительные и странные мгновения на том маленьком провинциальном кладбище, рядом с мертвыми черепами, которые смеялись над нами во всю ширь своих обнаженных челюстей… Но музыка прекратилась, и я пришел в себя. Мне показалось, что музыка звучала со стороны груды костей и черепов.
В. Значит, вам показалось, что звуки музыки шли от груды костей и черепов?
О. Да, и теперь мне чудилось, что мертвые головы хохочут надо мной, и я не мог не содрогнуться.
В. А вам не пришло в голову, что за кучей костей может скрываться тот небесный музыкант, который только что очаровал вас?
О. Мне это не просто пришло в голову – эта настойчивая мысль настолько завладела мной, что я уже больше не думал ни о чем, кроме этого, мсье комиссар. Я даже забыл о мадемуазель Даэ, которая поднялась с колен и тихо вышла через ворота кладбища. Она была так погружена в себя – неудивительно, что она не заметила меня. Я не двигался с места, устремив взгляд на склеп, решив довести свою невероятную авантюру до конца и узнать, что происходит на самом деле.
В. И как же случилось, что утром вас нашли полумертвым на ступенях главного алтаря?
О. Все произошло очень быстро… Одна мертвая голова скатилась к моим ногам… Затем еще одна… Потом еще одна… Я словно стал мишенью для зловещей игры в шары. Мне подумалось, что наш неведомый музыкант неловким движением разрушил сооружение из костей, за которым скрывался. Это предположение показалось мне еще более разумным, когда вдоль ярко освещенной стены ризницы скользнула тень… Я бросился вперед. Тень уже открыла дверь и вошла в церковь. Я успел схватить незнакомца за край плаща. В этот момент мы оба стояли перед главным алтарем, и лунный свет сквозь большое витражное стекло апсиды падал прямо на нас. Поскольку я не выпускал плащ, тень обернулась, и я увидел так же ясно, как вижу вас, мсье, ужасную мертвую голову, в глазницах которой горел адский огонь. Я думал, что передо мной сам Сатана. И мое сердце, похоже, не выдержало, ибо я больше ничего не помню до того момента, когда очнулся в гостинице «Заходящее солнце».
ГЛАВА VII.
Визит в ложу № 5
Мы оставили господ Фирмина Ришара и Армана Моншармина в тот момент, когда они решили лично посетить ложу № 5 первого яруса.
Они спустились по широкой лестнице, ведущей из вестибюля администрации к сцене и служебным помещениям, прошли через сцену, затем через вход для посетителей лож, миновали первый коридор слева и вошли в зрительный зал. Между первыми рядами партера они остановились и оттуда посмотрели на ложу № 5. Им не удалось ее разглядеть, потому что в зале царил полумрак, а на красный бархат перил были наброшены защитные чехлы.
Директора сейчас находились совершенно одни в тишине огромного, погруженного в сумрак зала. Рабочие сцены уже ушли, чтобы перекусить и пропустить по рюмочке, и оставили задник закрепленным лишь наполовину. Несколько лучиков света (тусклого, зловещего света, казавшегося последним отблеском умирающей звезды) проникали через неразличимые щели в старую башню, возвышающуюся над картонной зубчатой стеной. В эту фальшивую ночь, точнее, в этот иллюзорный день, все принимало странные очертания. Полотно, покрывавшее кресла партера, напоминало бушующее море, чьи мутные волны мгновенно застыли, повинуясь властному приказу штормового гиганта, которого, как всем известно, зовут Адамастор[24]. Моншармин и Ришар выглядели матросами, потерпевшими кораблекрушение в этом неподвижном волнении моря из ткани. Они пробирались к ложам слева, словно моряки, покинувшие судно и плывущие к берегу. Восемь больших колонн из полированного камня возвышались в тени, как огромные сваи, предназначенные поддерживать угрожающе нависшие, готовые рухнуть выпуклые утесы, на которые была похожа сейчас стена с изогнутыми параллельными линиями перил лож первого, второго и третьего ярусов. На самом верху утеса, теряясь в медном небе мсье Леневё[25]











