Читать онлайн Еврейский Белосток и его диаспора
- Автор: Ребекка Кобрин
- Жанр: Популярно об истории
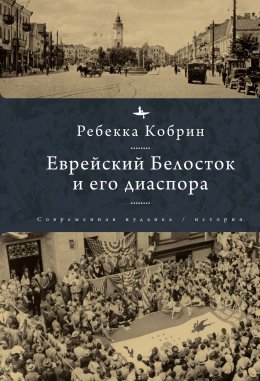
Современная иудаика» = «Contemporary Jewish Studies
Перевод с английского Ольги Чумичевой
Rebecca Kobrin
Jewish Bialystok and Its Diaspora
Indiana University Press
Bloomington
2010
© Rebecca Kobrin, text, 2010
© Indiana University Press, 2010
© О. Чумичева, перевод с английского, 2023
© Academic Studies Press, 2024
© Оформление и макет. ООО «Библиороссика», 2024
От автора
После стольких лет работы над этим проектом, претерпевшим многочисленные трансформации и изменения, кажется почти невозможным вспомнить всех, кто помогал мне, и воздать им должное в полной мере. Эта книга стала кульминацией долгого пути, на котором мне очень повезло получить поддержку целого ряда людей, учреждений и фондов. Я начну с благодарности моим родителям, которым эта книга посвящена. Рут и Лоренс Кобрин всегда поддерживали и одобряли мое стремление к знаниям. Их безграничная любовь, а также бесчисленные часы присмотра за детьми, когда я отправлялась в исследовательские поездки, сделали возможным завершение этого проекта.
Первые семена этого исследования упали в почву, когда я услышала доклад профессора Нэнси Грин из Йельского колледжа о сравнительной еврейской миграции, в ходе которого она поделилась своим растущим разочарованием по поводу невозможности найти в Париже хорошие бейглы, не говоря уже о булочках бялах. Однако родившийся тогда замысел книги никогда бы не был реализован, если бы не мои замечательные учителя. С того момента, как я вошла в классы Дэвида Рудермана и Полы Хайман в качестве студентки Йельского университета, меня вдохновляла их страсть к преподаванию и верность научной строгости. Среди сотрудников Пенсильванского университета я благодарю Майкла Каца, Дебору Дэш Мур, Еву Моравску и Исраэля Бартала за то, что они познакомили меня с новыми подходами к изучению процесса миграции и восточноевропейской еврейской истории. Я особенно признательна Бенджамину Натансу, Деборе Дэш Мур, Дэвиду Рудерману и Бет Венгер, чьи вдумчивые комментарии и высокие академические стандарты помогли мне довести проект до завершения. Острые вопросы, мудрые советы и постоянная поддержка Бенджамина Натанса подтолкнули меня к переосмыслению того, как можно успешно рассказать о транснациональной истории евреев Восточной Европы.
При этом ранние черновики не воплотились бы в эту книгу и без постоянной поддержки и мудрых советов Полы Хайман и Деборы Дэш Мур. Я благодарна им за то, что они включили меня в свои циклы исследований и бережно побуждали к продолжению работы. Они обе продемонстрировали мне, как можно лавировать между противоречивыми требованиями ученых штудий, семейными заботами и приверженностью еврейской общинной жизни. Стипендии в аспирантурах Йельского и Нью-Йоркского университетов не только дали мне возможность тесно сотрудничать с Полой Хайман и Дэвидом Энгелем, но и подарили время для расширения границ исследования, углубления знаний в польском и дали шанс учиться у ряда выдающихся преподавателей, в первую очередь у Лоры Энгельштейн, Мэтью Фрая Джейкобсона и Тимоти Снайдера. Мои коллеги с факультета религиоведения Йельского университета и факультета иврита и иудаики Нью-Йоркского университета – Айван Маркус, Шеннон Крейго-Снелл, Хася Дайнер, Геннадий Эстрайх, Стив Фрааде, Кристин Хейес, Тони Михеле, Джонатан Рэй и Людгер Вифьюс – приняли меня в свой круг и вовлекали в стимулирующие дискуссии, которые помогли усовершенствовать мое исследование.
Получение документов для поддержки транснационального исследования было непростой задачей, но ее значительно облегчили неустанные и щедрые усилия многих архивариусов и библиотекарей по всему миру. Я бесконечно благодарна Геннадию Пастернаку из Тель-Авивского университета, который нашел мне место для просмотра богатой коллекции Центра Горена-Гольдштейна по изучению еврейской диаспоры в Тель-Авивском университете. У меня не было возможности встретиться с покойным Ченом Мерхавиа из отдела редких книг и рукописей Национальной библиотеки, но если бы не его усилия, я не смогла бы завершить этот проект. Профессор Мерхавиа без устали трудился над собиранием материалов, связанных с Белостоком, где он сам родился. Он планировал написать работу, которая бы познакомила публику с жизненной силой и многообразием евреев из Белостока, показав тем самым значение этого города в общем современном еврейском опыте. В течение всей жизни Мерхавиа выпрашивал у друзей, коллег и знакомых документы, не упуская в поисках информации о Белостоке ни малейшей возможности. Как я узнала от его близкого друга Менахема Левина, Мерхавиа был невероятно требователен к себе как ученый, он считал задуманную книгу о Белостоке вершиной всей своей научной жизни. Мне лишь остается надеяться, что дальнейшие главы в какой-то мере воздают должное его мечте. В Буэнос-Айресе Сильвия Хансман любезно помогла мне сориентироваться в богатых коллекциях Фонда Института иудаики (IWO). В Америке в Институте иудаики (YIVO) на мои вопросы терпеливо отвечали Захарий Бейкер, Герберт Лазарус, Йешайю Меттл и покойная Дина Абрамович // Дина Абрамович z “I. В Варшаве Наталья Алексюн, Йаэль Рейснер и Элиза Либерман помогли мне сориентироваться в богатых архивных собраниях Польши и невероятно быстро дали мне почувствовать себя любимым членом их семей. В самом Белостоке Катаржина Штоп-Румковска не только снабдила меня сведениями о различных собраниях Белостокского архива, но и предоставила мне место для проживания. В Москве меня тепло и гостеприимно встретила Дебора Ялен, и именно благодаря ее настойчивости эта книга содержит документы и информацию, полученные из российских архивов.
Помимо исторических документов, книга во многом построена на рассказах сотен бывших жителей Белостока, у которых мне удалось взять интервью в течение последнего десятилетия. Я никогда не смогу в полной мере отблагодарить их, поскольку мы встречались во время моих коротких исследовательских поездок по Соединенным Штатам, Аргентине, Израилю и Австралии, где они делились со мной фрагментами своих жизней. Исследуя новые области, я воспользовалась советами многих людей. Эрик Гольдштейн, Нэнси Грин, Эли Ледерхендлер, Михал Лембергер, Адам МакКьюан, Мэй Нгэи, Энни Полланд, Джонатан Сарна и Дэниел Сойер, – все они щедро тратили время на прочтение отдельных частей этой книги. Их ценные рекомендации обогатили мой проект. Я особенно признательна Бетси Блэкмар, покойному Джонатану Франкелю // Джонатану Франкелю z “I, Ольге Литвак, Рону Мейеру, Дереку Пенслару и Джеффри Шендлеру, чья проницательность, искренность и внимание в процессе чтения итогового варианта рукописи помогли мне внести финальные исправления. Джэнет Рабинович и Кэти Бэйбер из Издательства Университета Индианы были скрупулезными и терпеливыми, помогая мне завершить работу. Все ошибки, разумеется, принадлежат только мне.
Проведение исследования и написание этой книги были щедро поддержаны рядом учреждений и фондов, которым я искренне обязана: Фонд Векснера по поддержке аспирантов, Департамент образования США (программа Фулбрайта), Мемориальный фонд еврейской культуры, программа Исследовательского центра Пью по изучению религии, Национальный фонд еврейской культуры, Центр иудейской истории, Исследовательский институт иудаики (YIVO), Институт латиноамериканских исследований Колумбийского университета, Институт Гарримана, Фонд семьи Канман, Фонд Корет, Американский совет научных обществ и Американское философское общество. Ни эти учреждения, ни люди, чьи комментарии помогли мне усовершенствовать работу, не несут ответственности за взгляды, выраженные в этой книге.
Наконец, я от всего сердца благодарю своих братьев и сестер, Джеффри Кобрина, Мишель Гринберг-Кобрин, Дебору Леви и Дэна Леви, которые всегда заставляют меня смеяться, особенно над собой, и которые воздерживались от вопроса, когда я закончу работу над «той книгой о Белостоке». Я в глубоком долгу перед своим мужем Кевином Фейнблюмом, чья миграция, любовь и сила повлияли на этот проект в большей степени, чем он сам когда-либо мог представить. Более десяти лет он терпел бесконечные копии малоизвестных документов из польских архивов, разбросанные по нашей квартире, поездки за границу, распечатку документов и сканирование изображений давно умерших польских евреев. Его неослабевающая поддержка, выражавшаяся бесчисленными способами, помогла мне пережить взлеты и провалы этого проекта. И последнее, но особенно важное: я должна поблагодарить своих дочерей Ариэлу и Симону. Нет ничего лучше, чем вернуться домой после долгого дня исследований или работы над текстом и спросить, когда они смогут нарисовать и раскрасить маркерами обложку моей книги. Я благодарю своих девочек за их объятия, смех и улыбки, которые остаются постоянным источником радости и поддерживают меня изо дня в день.
Несколько слов об орфографии и транслитерации оригинального издания книги
Многие из упомянутых в этой книге на разных языках используют разное написание своих имен. Во имя последовательности я использовала вариант, под которым, по моему мнению, тот или иной человек наиболее известен. В целом слова, фразы, названия организаций, топонимы и имена людей на идиш передавались в английском тексте в соответствии со схемой транслитерации Института иудаики. В остальном я не пыталась стандартизировать орфографию иноязычных слов. Многие периодические издания на идиш, использованные в этом исследовании, в частности Bialystoker Stimme, имеют названия на идиш, которые были транслитерированы редакторами на момент публикации, и они не соответствуют стандартам Института иудаики. Слова на иврите, которые являются неотъемлемой частью названий или фраз на идиш, пишутся так, как они произносятся на идиш (например, голес для библейского термина галут [изгнание, рассеяние]). Все переводы мои, если не указан автор перевода.
Европейские топонимы в английском тексте следуют книге Мокотова «Там, где мы когда-то гуляли: Путеводитель по еврейским общинам, уничтоженным во время Холокоста» (Mokotoff, Where Once We Walked: A Guide to Jewish Communities Destroyed in the Holocaust). В тех случаях, когда топоним на идиш значительно отличается от аналогов, принятых в других языках (Bialystok/ Бялыстак [идиш], Biafystok/Бялисток [польский], Белосток [русский]), в английском тексте я использую название на идиш, но без диакритических знаков восточноевропейских языков[1]. В написании названий организаций на английском языке я ориентировалась на Di yidishe landsmanshaften fun Nyu York (The Jewish Communal Register) или From Alexandrovsk to Zyrardow: A Guide to YIVOs Landsmanshaftn Archive.
Илл. 1. Карта расселения евреев из Белостока, 1870–1950 годы
Введение
Между рассеянием и империей
Представления о распространении евреев в эпоху массовой миграции
В 1921 году Хаиму Горовицу (1885–1962), журналисту, писавшему на идиш и только что сошедшему с корабля в Нью-Йорке, предложили написать очерк для новой газеты Bialystoker Stimme («Голос Белостока»). Потрясенный знакомством со страной, которой предстояло стать его домом, Горовиц был рад возможности заявить о себе в идишском литературном мире Нью-Йорка через Ландсманшафт (ассоциацию еврейских иммигрантов, приехавших из одного и того же города), одну организацию из целой сети, насчитывающей около миллиона человек[2]. В поисках правильной метафоры для описания своего настроения, Горовиц начал с горестной ноты: «Мы, еврейские иммигранты из Белостока, страдаем от острой тоски по дому… когда мы странствуем [навенад] по всей Америке… обнаруживая невозможность нигде почувствовать себя дома, как то было в Белостоке»[3]. Библейское понятие навена’д означает странствия Каина после изгнания из Эдемского сада, и Горовиц, используя эту идею, интерпретирует иммиграцию как божественное наказание, выстраивая мощный панегирик потерянному раю в Восточной Европе. В отличие от картин иммиграции, преобладающих в американской и еврейской истории и отражающих американскую националистическую мифологию (Америка была в них «землей обетованной» для евреев, исполненной «золотыми возможностями» и «исключительной» по теплоте приема), Горовиц видел Леди Свободу, стоящую у входа в гавань Нью-Йорка не с факелом на пути к новой утопии, а с мечом, открывающим новый тип еврейского рассеяния.[4] Его метафора встретила отклику читателей новой газеты: в редакцию Bialystoker Stimme писали десятки людей из больших и малых городов, разбросанных по Соединенным Штатам, Южной Америке и Европе, отзываясь на глубоко двойственное отношение Горовица к отъезду из Белостока[5]: один из респондентов даже использовал термин голес, идишский перевод библейского понятия галут (изгнание, рассеяние), чтобы поддержать идею, что эмиграция из Белостока напоминала предначертанное Богом экзистенциальное и физическое рассеяние еврейского народа, вынужденного покинуть библейские земли Израиля двумя тысячелетиями ранее.
Илл. 2. Дэвид Зон, редактор Bialystoker Stimme, за рабочим столом в Белостокском центре, около 1955 года. Печатается с разрешения Уильяма и Стивена Каве и Роны К. Мойер
Дэвид Зон (1890–1967), исполнительный директор Белостокского центра и редактор Bialystoker Stimme, разделял страсть Горовица к Белостоку, но не его печальный взгляд на иммиграцию. Скорее, он восхищался жизнеспособностью «различных белостокских колоний, разбросанных по всему миру», все члены которых чувствовали себя обязанными отозваться на ламентации Горовица[6]. С характерной для него изобретательностью Зон приходит к тому, что вводит понятие «колония» (койлония) для описания сообществ все более обширного мира выходцев из еврейского Белостока. Жадно читая и снабжая своими посланиями каждый выпуск Bialystoker Stimme, эти евреи посвятили себя тому, чтобы сделать «голос Белостока» хорошо слышным[7]. Отдавая предпочтение имперской образности, а не метафоре изгнания, Зон вторит Горовицу в его понимании Восточной Европы как вдохновляющей родины. Однако представление о восточноевропейских иммигрантах как о беспомощных изгнанниках он отвергает, вместо этого высказывая мнение, что «обширная сеть колоний» еврейского Белостока демонстрирует силу и энергию расселения мигрантов. Зону, только что вернувшемуся из Восточной Европы, где он раздал миллионы долларов из числа денежных переводов, собранных в Нью-Йорке, нравилось то, что евреи Белостока, живущие за границей, выступали в роли могущественных колониальных эмиссаров, использующих богатства своего нового дома ради поддержки, восстановления и расширения дома прежнего. Присутствие этих евреев в Белостоке изменило отношение поляков к «колониям» еврейских мигрантов, Американской «империи» и месту в ней евреев[8].
Конечно, и Горовиц, и Зон чувствовали иронию в использовании метафор изгнания и империи, к которым они прибегали для привлечения широкой читательской аудитории. В достижении этой своей цели они преуспели: около сорока тысяч евреев продолжали читать и писать в их издание на протяжении следующих семидесяти лет. И пускай сегодня многие могут посмеяться над образами, рисующими такие тесные узы, связывающие миллионы восточноевропейских евреев, разбросанных к 1920 году по Европе, Соединенным Штатам, Австралии, Африке и Азии, или просто проигнорировать подобные пассажи, Бенедикт Андерсон справедливо отмечает, что «сообщества следует различать» и анализировать «не по их ложности/подлинности, а по тому стилю, в котором они воображаются»[9]. Так почему же эти два автора-иммигранта, которые не были признанными интеллектуалами, бережно пестующими свои идеи и обдумывающими насущные вопросы эпохи, прибегают для описания новой общины, частью которой они стали в результате тихой революции восточноевропейской еврейской миграции, к столь нагруженным идеологически и политически терминам?[10]
Как будет показано в дальнейшем, выбор понятий этими двумя авторами, проживающими в Нью-Йорке, и их читателями, рассеянными по всему миру, ставит более широкий круг вопросов, касающихся концепций и нарративов о восточноевропейской еврейской миграции в современной еврейской истории, американской истории и в сфере исследований миграции. Многие исследователи обсуждают эмиграцию евреев из Восточной Европы, но лишь немногие рассматривают это массовое перемещение населения в более глобальном контексте. Триумфальный опыт еврейских иммигрантов в Соединенных Штатах продолжает привлекать львиную долю внимания ученых, затмевая, что поселение восточноевропейских евреев в Соединенных Штатах представляло собой часть продолжающегося процесса миграции, изменившей еврейскую жизнь сначала в России XIX века, а затем в начале XX века и в Европе, Африке, Австралии, Азии и Южной Америке. Соединенные Штаты, Goldene Medina («золотая земля»), не были самодостаточным анклавом еврейских иммигрантов, как это часто изображают, а были лишь одним из спутников, или «колонией», в густой сети восточноевропейских поселений еврейских мигрантов во всем мире[11].
Подчеркивая необходимость более широкой перспективы для оценки хаоса, вызванного миграцией, диаметрально противоположные образы Горовица и Зона также поднимали очень глубокий вопрос: следует ли рассматривать массовый выезд евреев из Восточной Европы – исход, который представляет собой крупнейшее добровольное перемещение населения в современной еврейской истории, – как иллюстрацию силы евреев или как иллюстрацию их бессилия?[12] Следует ли считать, что миллионы восточноевропейских евреев, эмигрировавших в другие страны, были изгнанниками, вытесненными из их домов, о чем говорит Горовиц и как их традиционно изображали ученые и популярные авторы?[13] Или они были просто экономическими оппортунистами, которые искали лучшей жизни для себя и направляли богатства Нового Света на восстановление своих восточноевропейских домов? В самом деле, поскольку восточноевропейские евреи действовали так же, как и многие другие группы иммигрантов, необходимо задуматься о том, как объяснить их расселение в эпоху всемирной массовой миграции и расширения империй[14]. На следующих страницах книги я расскажу о судьбе еврейского Белостока, его рассредоточенном эмигрантском сообществе и дам подробный исторический анализ в глобальном контексте. В своем анализе я делаю акцент на том, каким образом восточноевропейские еврейские иммигранты оставались связанными друг с другом своим ощущением нового государства как места изгнания, а также их новообретенными возможностями. С одной стороны, они отстаивали свои интересы как этнические меньшинства, занимая ниши в зарубежных странах; с другой, они пользовались относительной экономической властью, которая служила им для создания новых организаций, благотворительных обществ и газет, навсегда изменивших еврейскую жизнь в Восточной Европе, а также практику еврейской диаспоральной идентичности в новых, только возникающих центрах еврейской жизни.
В том, как Горовиц оплакивал свое изгнание, слышатся отголоски недовольства, выражаемого многими группами иммигрантов, прибывших в Соединенные Штаты. В предыдущем столетии аналогичным образом оплакивали свою коллективную и индивидуальную судьбу ирландские иммигранты[15]. Итальянские и польские иммигранты, современники Горовица, также писали ностальгические панегирики о своей утраченной родине. Но их тоска по дому высказывалась не так, как та, что запечатлена на страницах Bialystoker Stimme. Во втором случае она опиралась на хорошо развитый в библейской традиции нарратив отчуждения евреев. На протяжении веков как традиционные, так и популярные писатели выстраивали еврейскую идентичность[16], прежде всего, на неразрывной связи еврейского народа с библейской землей Израиля и их рассеянием и изгнанием с нее двумя тысячелетиями ранее[17]. Эти традиционные сочинения помогли евреям стать образцовой диаспорой для современных исследователей диаспор. Но, как показывает красноречивая ламентация Горовица, лишь немногие правильно понимают, как диаспора и рассеяние на самом деле повлияли на чувство принадлежности и самооценку евреев XX века[18]. Многие евреи вовсе не были объединены идеей травматичного рассеяния и изгнания с древней земли Израиля, для них архетипической еврейской родиной была Восточная Европа. Миграция заставила их переосмыслить фундаментальные представления о своей еврейской идентичности, а именно: задуматься о понятиях диаспоры, изгнания и родины, и создать мультидиаспорную еврейскую идентичность, связанную как с их нынешней, так и с мифической родиной[19].
В то время как Горовиц опирался на богатый библейский опыт, доступный немногим другим группам, Зон для описания тех восточноевропейских евреев, которые расселились не только в Соединенных Штатах, но и в Западной Европе, Аргентине и Австралии, использовал колониальный язык. Это стало возможным только в начале XX века, когда термин «империя» – полезный, но, к сожалению, довольно неопределенный, – получил широкое распространение для описания различных связей и политических образований[20]. Хотя сегодня понятия «империя» и «империализм» зачастую используются для описания политических образований, которые доминируют за счет военной силы, расширения сферы торговли или прямого политического давления, в начале XX века, как отмечает историк Эндрю Томпсон, они «были подобны пустым ящикам, которые постоянно чем-то заполняются и лишаются содержания»[21]. Зон с характерным для него сарказмом отмечал комизм приравнивания еврейских мигрантов, рассеянных по всему миру к обширным и мощным колониальным структурам, тем не менее он специально выбрал этот термин, способный передать не только аспект власти, которой обладали мигранты, но и глобальный масштаб, в рамках которого они действовали. Поскольку ученые все чаще обсуждают Америку, ее культуру и зарубежные акции в рамках изучения имперской структуры, на следующих страницах книги я дам анализ обращению Зона и его современников к колониальной терминологии для лучшего понимания того, каким образом даже иностранные привязанности иммигрантов формировали американскую культуру. Как показывает пример Белостока, восточноевропейские евреи в Америке рассматривали свои заграничные связи с бывшей родиной как часть более широкой имперской миссии по распространению финансовых средств и идеалов Нового Света в менее удачливые части мира[22].
В то время как восточноевропейские еврейские писатели-иммигранты на рубеже веков использовали термины «изгнание/ рассеяние» и «империя» исключительно для обсуждения своих связей с бывшими соотечественниками, проживающими в других странах, современные исследователи избегают этих терминов и обсуждают подобные связи групп мигрантов, используя концепцию транснационализма, обычно определяемого как продолжающийся через государственные границы союз народов[23]. Транснационализм в целом рассматривается как феномен конца XX века, развившийся благодаря идеологии глобализации и достижениям в области путешествий и коммуникационных технологий, однако мало кто принимает во внимание опыт евреев-мигрантов, которые на протяжении десятилетий определяли область исследования иммиграции[24]. Таким образом, хотя мы многое знаем о сложной сети внешних и внутренних связей между современными иммигрантскими сообществами из Азии, Мексики и Южной Азии[25], транснациональные финансовые, литературные, политические и культурные связи восточноевропейских еврейских иммигрантов начала XX века остаются практически неисследованными[26]. Как я показываю в своей книге, в транснационализме нет ничего нового: восточноевропейские евреи вели себя как типичные транснациональные мигранты; пользуясь словами Нины Глик Шиллер, они «создали и поддерживали многостороннюю сеть социальных отношений, связывая свои сообщества по принципу происхождения и расселения»[27]. Но восточноевропейские евреи отличились тем, что эмигрировали в темпе, беспрецедентном для любой другой восточноевропейской этнической группы[28]. В результате они создавали новые типы солидарности посредством печатной культуры, организаций и благотворительных обществ, к этому их побуждали местные проблемы (а точнее: беспредельная преданность своим восточноевропейским городам или местечкам) и вместе с этим осознание глобальной сети, частью которой они теперь становились.
Город Белосток, вдохновлявший Горовица и Зона, представляет собой идеальное окно, через которое можно увидеть, как еврейская миграция привела к столкновению глобальных, национальных и местных проблем. В течение XIX и начала XX веков около ста тысяч евреев мигрировали сперва в этот город, расположенный в густо поросшем лесами регионе, отделяющем Польшу от Белоруссии и Литвы, и потом из него. Его рост и превращение из торгового городка в крупный промышленный центр был типичен для многих региональных столиц поздней Российской империи[29], когда неравномерное промышленное развитие России побудило миллионы людей переселяться из маленьких городов в крупные[30]. На примере событий XIX века в Белостоке можно проследить драматическое перемещение евреев в западных областях Российской империи и то, как оно спровоцировало развитие новых типов политических, религиозных и общинных институтов, которые стремились облегчить адаптацию еврейских мигрантов к городской жизни. В то время как эти организации изо всех сил пытались защитить евреев от экономических перипетий эпохи, политическая нестабильность и эпизодические вспышки насилия вынудили тысячи евреев покинуть Белосток и отправиться в далекие страны, такие как Соединенные Штаты (50 000), Аргентина (20 000), Австралия (5 000) и Палестина (20 000). Независимо от того, селились ли эти мигранты на многолюдных улицах Нижнего Ист-Сайда в Нью-Йорке или на небольших фермах в аргентинских пампасах, евреи из Белостока усердно приносили в свои новые дома ранее сложившееся у них понимание политических, социальных и общественных институтов, выработанное еще в Восточной Европе[31].
Как любой крупный город, Белосток имел свои отличительные географические и политические особенности, а его диаспора, соответственно, формировала особые социальные образования. Но Белосток и его эмигрантские аванпосты не были исключением: то, что справедливо для Белостока, можно сказать и о Пинске, Вильнюса и множестве других восточноевропейских городов и местечек, прошедших через преобразования, вызванные неравномерным промышленным развитием царской России. Всякий город вызывал у своих бывших жителей глубокое чувство преданности. Хотя в дальнейшем не будет оснований утверждать, что Белосток представляет собой парадигму для изучения российской еврейской городской жизни, его трансформация из небольшого провинциального местечка в крупный промышленный город, а затем и в центр еврейской эмиграции, дает релевантное представление о глобальной истории еврейской эмиграции из Восточной Европы[32].
Глобальное и локальное в написании истории евреев
Книга «Еврейский Белосток и его диаспора» в рассказе о восточноевропейской еврейской миграции смещает предмет анализа с конкретной нации. Безусловно, сага о массовом исходе евреев из Восточной Европы вовсе не является неизведанной научной областью. Как отмечают Нэнси Грин и Франсуа Вайль, литература о миграции, и, в частности, о восточноевропейской еврейской миграции, была «решительно литературой об иммиграции»[33]. Поскольку ракурс в этой литературе развернут полностью на страны прибытия, мы много знаем о восточноевропейских евреях-иммигрантах в Нью-Йорке, Лондоне или Буэнос-Айресе, а о транснациональном характере их перемещений или связях между ними говорят совсем мало[34]. Даже те ученые, которые сравнивают опыт евреев с опытом других этнических групп, сосредотачиваются почти исключительно на сопоставлении опытов различных этнических групп в одной стране, чаще всего в Соединенных Штатах[35]. И хотя существуют новаторские работы, проливающие свет на всемирную сеть итальянских иммигрантов, основательный транснациональный анализ особых путей, избранных восточноевропейскими евреями, как отмечает Нэнси Грин, еще предстоит провести[36] – отставив на второй план вопросы, касающиеся того, как строение наций-государств, ритма миграции и экономического развития (как в регионе исхода, так и в районах итогового поселения) определяли опыт миграции, так и процесс адаптации в пространстве и времени. При этом недостаточно изученными остаются вопросы национального формирования, ритма миграции, экономического развития (как в регионе исхода, так и в районах итогового поселения), что необходимо для понимания как опыта миграции, так и процесса адаптации в пространстве и времени[37].
Эта книга охватывает пять континентов и демонстрирует, какой вклад могут внести исследователи современной еврейской жизни в текущие дебаты обо всем «транснациональном». Но, приступая к написанию такой «транснациональной» истории восточноевропейской еврейской миграции, я не собираюсь сбрасывать со счетов эвристическую ценность национального государства в историческом анализе. В самом деле, фундаментальные различия между опытом евреев Белостока в Соединенных Штатах, Аргентине, Австралии и Палестине подчеркивают сохранение центральной роли государства в современной еврейской жизни, что особенно важно для исследователей, занятых динамикой адаптации иммигрантов[38]. Однако внимание, которое уделено в книге «Еврейский Белосток и его диаспора» силе национальных государств, ра вно как и транснациональной сфере, в которой действовали еврейские иммигранты, лишь подчеркивает, почему невозможно полностью понять тот хаос, который миграция внесла в жизнь евреев в XX веке, если ограничиться изображением евреев в дихотомических рамках, заданных национальными государствами. Восточноевропейские евреи часто осознавали всю сложность своей повседневной жизни, проходившей в областях, расположенных как в сфере, так и вне сферы компетенции государства – встречая житейские проблемы в неутихающих спорах и обсуждениях насущного вопроса: что значит быть восточноевропейским евреем, когда живешь за пределами Восточной Европы?
Хотя государства, разумеется, определяли жизнь евреев-иммигрантов, верность этим политическим образованиям не имела слишком большого значения для восточноевропейских евреев начала XX века. Восточноевропейские евреи, как и их европейские соплеменники, считали свою идентичность неразрывно связанной с городами, местечками или регионами происхождения[39]. Как резюмировал Исроэль Беккер, директор известного израильского театра «Габима»: «Я не просто из Белостока, я белостокец, а это нечто гораздо большее»[40]. Идишский фольклор фиксируя преданность родине, связывает различные черты характера с определенными регионами: евреи из Вильнюса, «литовского Иерусалима» (Yerushalyim de Lita), например, славились своим благочестием и ученостью, а евреи из портовой Одессы рассматривались авторами идишского фольклора как гедонисты и люди ассимилированные, в результате чего их родной город оказался окружен семью милями образного адского огня (zibn mayl arum Ades brent der gihenumf)[41].
Физический уход из Восточной Европы не стер, а скорее укрепил региональную идентичность. Через недавно сформированные организации, обычно называемые ландсманшафтами (landsman-shaftn), восточноевропейские евреи стремились перенести свою региональную идентичность на транснациональную территорию, постоянно вычерчивая и переустанавливая границы своей отличительной общинной идентичности[42]. Исследователи жизни еврейских иммигрантов уже давно обсуждают приемы, с помощью которых евреи очерчивали свою коллективную идентичность по религиозному или политическому признаку[43]. Однако лишь немногие ученые обращали внимание на сохранение центральной роли региональной идентичности, даже несмотря на то что Ицхак Ронч, руководитель группы авторов, пишущих на идиш, еще в 1937 году утверждал, что каждый пятый еврей в Соединенных Штатах все еще связан с ассоциациями, организованными по принципу региональной верности.[44] Как показано на следующих страницах, регионализм, возможно, не вытеснил политическую или религиозную идентификацию евреев, но он соответствовал их убеждениям и определял их проявления, подталкивая мигрантов к созданию мифа о новой еврейской диаспоре или могущественной империи, укорененной в Восточной Европе и распространяющейся по всему миру.
Восточноевропейская еврейская диаспора и полевые исследования диаспоры
Мой разговор об одном фрагменте масштабного мира еврейской иммиграции из Восточной Европы оказался частью оживленной академической дискуссии вокруг понятия диаспоры – быстро растущего поля исследований, в которых зачастую предполагается, что «еврейская диаспора» является архетипом, но авторы странным образом избегают упоминания евреев как акторов этого процесса. Термин «диаспора» впервые стал популярным для описания разнообразных групп в 1980-х годах, когда ученые заинтересовались группами добровольных и вынужденных мигрантов из столь различных регионов, как Южная Азия, Карибский бассейн и Африка, а затем решили, что категория диаспоры является лучшим эвристическим решением при анализе запутанной картины идентификаций, иммигрантов после пересечения национальных границ и обоснования на новых землях, где они формировали субнациональные и/или этнические идентичности[45]. Вскоре многие исследователи стали использовать понятие «диаспора» как аналитическую категорию при описании дилемм идентичности в эпоху массовых миграций и модерного национализма – как пошутил Хачик Тололян, «там, где раньше была дисперсия, теперь диаспора»[46].
Сегодня в широких дискуссиях о современных группах мигрантов большинство исследователей уделяют огромное внимание «диаспорической ментальности» мигрантов. Однако ситуация с евреями, обстоятельства диаспоры которых часто принимают за парадигму, толкуется совершенно неправильно. Изначально термин «диаспора» был образован от греческого корня, означавшего «рассеяние», и описывал изгнание евреев с их древней родины и существование вдали от нее на протяжении последующих двух тысяч лет. За это время евреи постоянно переосмысливали и развивали свое понимание пребывания в диаспоре[47]. В самом деле, как провокативно предполагают ученые Даниэль и Джонатан Боярины, уже давно сформировался разрыв между существованием евреев в диаспоре и еврейской практикой и манифестацией своей диаспорической идентичности[48]. Прошлое евреев показывает, что еврейское понимание таких ключевых концептов, как дом, изгнание, власть, созданы не их воображаемым изгнанием с земли библейского Израиля, но выкованы в тигле их связей с иными родинами[49]. Действительно, «евреи никогда не воображали свой дом исключительно как Израиль или Сион, – отмечает Иосеф Йерушалми, – но как мириады мест, таких как Толедо, Амстердам и Гранада». Как выясняется, продолжает Йерушалми, «евреи чувствовали себя дома, и пребывая в изгнании», и «еврейская ментальность выдает внутреннюю, нестабильную двойственность», колеблющуюся между «сохранением связей с древней прародиной и освоением мест изгнания, которые начинают восприниматься как еврейские»[50]. Если земля библейского Израиля оставалась мифической родиной находившихся в изгнании евреев, Восточная Европа была на заре XX века родиной «живой диаспоры» для миллионов евреев[51].
Ставя в центр внимания этой книги стратегии евреев-иммигрантов, сохранявших связи с реальной и воображаемой Восточной Европой, в «Еврейском Белостоке и его диаспоре» я анализирую проблему восприятия диаспоры как трансисторического концепта или условия существования. Центры и периферии диаспоры со временем сдвигались, заставляя евреев пересматривать свое понимание того, что означает «быть народом в изгнании», и переосмысливать роль диаспоры и изгнания в еврейском Weltanschauung[52]. С самого начала, с первого рассеяния в 586 г. до н. э., традиционное представление еврейской диаспорической идентичности формулировалось вокруг тоски по собиранию еврейского народа на мифической родине на исторической земле Израиля[53]. Но впервые еврейская диаспорическая ментальность была создана раввинами III в., которые переосмыслили библейские темы изгнания, чтобы выразить в своих писаниях святость времени, а не места (Иерусалима)[54]. Сакрализуя акты обучения и молитвы, раввины сформулировали новое видение еврейского изгнания и искупления, выстроенное вокруг деятельности (обучения), которую можно осуществлять где угодно, а не только в одном, фиксированном месте (Иерусалиме). И хотя библейская литература вынуждала раввинов сохранять мифическое понятие шиват цион (возвращение в Сион), их сочинения превращали саму диаспору в место обучения, почти такое же священное, как сама земля Израиля[55]. Возвышая ученость над всем прочим, раввины поместили место диаспоры, бывшее прежде «периферийным» для иудейской религии, в «центр». Раввинистическая литература таким образом демонстрировала верность двум родинам: одной временной (Вавилон, центр еврейской учености) и другой абсолютной (Сион).
В философских и каббалистических трудах Средних веков и раннего Нового времени, особенно в тех, что были созданы после изгнания евреев из Испании в 1492 г., авторы часто обращаются к традиционной риторике, описывая свое стремление вернуться в прежние дома на Иберийском полуострове. Так, Моше ибн Эзра, которого в XI веке вынудили покинуть Гранаду, чтобы рассказать о своем болезненном расставании с Гранадой и Андалусией, написал цикл стихотворений с цитатами из Библии, в которых выражалось желание вернуться в Сион[56]. Евреи, жившие в Европе в раннее Новое время, обращались к библейской риторике, чтобы поделиться своим стремлением вернуться в места, где они родились, и которые представлялись им их «истинным домом»[57]. Португальские евреи в Амстердаме в XVII веке называли себя os da nação (те, из народа), чтобы подчеркнуть свое принципиальное отличие от других евреев, заключавшееся в их вынужденном переселении и воображаемой связи с временной родиной в Испании, но в то же время они признавали себя частью «микве Исраэль», тех, кто стремился вернуться в мифический Сион[58].
В современный период лишь немногие политические или интеллектуальные еврейские движения изменили способы обсуждения диаспоры так радикально, как это произошло в сионизме[59]. Если описать ситуацию кратко, современные способы определения идентичности в еврейской диаспоре неотделимы от еврейского национализма и проблемы формирования нации. В ответ на многие переплетающиеся тенденции, включая еврейскую ассимиляцию, антисемитизм в Западной Европе и продолжающееся политическое и экономическое притеснение евреев в Восточной Европе, возникла группа еврейских политических и национальных движений, которые в конечном счете стали известны как сионизм, целью которого было провозглашено построение еврейского самосознания путем создания независимого еврейского национального государства. Когда ранние сионистские мыслители, такие как Теодор Герцль, политизировали идею возвращения в Сион, они изображали еврейскую диаспору в резко негативных тонах, подчеркивая безнадежность и бессилие евреев, подчиненных репрессивным правительствам, олицетворением которых была царская Россия. Несмотря на все разногласия между сионистскими идеологами в Европе, одно из немногих убеждений, которое объединяло сионистских мыслителей всего спектра там – от идеолога рабочего сионизма Аарона Давида Гордона до культурного сиониста Ахад Хаама (Ашера Цви Гинзберга), – была их твердая приверженность «осуждению диаспоры»[60]. И хотя в Америке лишь небольшое число сионистов не принимали этот аспект идеологии, категорически отрицая, что в диаспоре невозможно сохранить традиционную еврейскую жизнь, их голоса терялись, заглушаемые утверждениями европейских лидеров сионизма, что исторические страдания и преследование евреев прекратятся только тогда, когда у них появится собственная страна. Ни один еврей, заявляли сионистские мыслители в Европе, независимо от его религиозных или национальных убеждений или места проживания, никогда не сможет чувствовать себя по-настоящему «дома», пребывая в диаспоре.
Многие евреи, в первую очередь всемирно известный российский еврейский историк Симон Дубнов, отказывались принять идею о том, что евреи не могут хранить верность своей временной родине. На самом деле, тысячи восточноевропейских евреев твердо придерживались идеологии «дойкейт» (букв, «тутошнесть»; идеология, направленная на поддержание еврейской жизни в Восточной Европе). А Дубнов выступал за еврейский «автономизм» – социально-политическую систему, позволяющую евреям вносить свой вклад в политическую и гражданскую жизнь принимающих их обществ, сохраняя при этом свободу самоопределения. Все они по-своему, но вполне решительно оспаривали мнение, что Палестина представляет собой единственную и идеальную возможность для еврейского национального обновления[61].
В полемике, что представляет лучшее место для еврейского возрождения – Палестина или Восточная Европа, лишь немногие интеллектуалы учитывали голоса и действия тысяч восточноевропейских евреев-эмигрантов. Продвигая идею, что их временной «землей обетованной» была именно Восточная Европа, еврейские мигранты предложили концепцию миграции как перемещения в новую форму еврейского изгнания. Чтобы сохранить связи с Восточной Европой, они создавали разнообразные общественные учреждения, благотворительные организации и литературные журналы. Фактически институты, ориентированные на Восточную Европу просуществовали, вероятно, лишь несколько десятилетий, однако, как показано на следующих страницах, стратегии и модели поведения, которые они поощряли среди своих членов и их детей, не исчезли вместе с тем поколением иммигрантов. Скорее, можно говорить о том, что они были включены в процесс объединения евреев-иммигрантов из Восточной Европы и их детей, которые к 1950-м годам составляли большинство евреев в мире, на почве утверждения «абсолютной» еврейской родины, воплощенной в недавно образованном государстве Израиль[62].
Для того чтобы в полной мере оценить, каким образом миграции и рассеяние изменили идентичность еврейской диаспоры за последние два столетия, необходимо начать с рассмотрения еврейского рассеяния в пределах Восточной Европы. Как подчеркивается в главе 1, еврейскую иммиграцию в Америку можно по-настоящему понять только в том случае, если принять во внимание, что на индивидуальном уровне она часто переживалась как часть более длительной серии миграций – сначала в более крупные города Российской империи и только позже за океан[63].
Евреи хлынули в Белосток из северо-западной черты оседлости в XIX веке, демографически подавляя коренное население города, то же самое произошло в Варшаве, Лодзе и других крупных городских центрах Польши. Несмотря на поразительные параллели между Белостоком и другими городами, Белосток отличался непропорционально большим количеством еврейских мигрантов: согласно российской переписи 1897 года, в Белостоке проживало 47 783 еврея, что составляло более 75 % населения города. Та же самая перепись насчитывала более 210 526 евреев в Варшаве, однако там они составляли лишь 34 % населения[64]. Таким образом, массовый приток евреев в Белостоке оказывал более существенное влияние на экономическое, политическое и социальное развитии города. Финансируя промышленный рост и создавая новые политические и благотворительные организации, эти еврейские мигранты дестабилизировали положение традиционных властей и помогли превратить Белосток в еврейское пространство. Независимо от того, какую идентификацию они выбирали: с национальными или международными движениями, такими как сионизм, социализм или эсперантизм, евреи Белостока считали свою идентичность глубоко переплетенной с их городом. Таким образом, даже после того как они покинули Белосток в ответ на экономический спад и политическую нестабильность, их опыт жизни в городе, где они впервые столкнулись с промышленностью, националистической политикой и «современными» еврейскими организациями, сформировал их подход к решению проблем, который они перевезли в новые страны. Такая интенсивная связь с Белостоком объясняется его превращением из маленького провинциального городка в крупный промышленный центр – этот процесс отражал персональную трансформацию жителей в современных городских евреев.
В главе 2 рассказывается о том, как евреи из Белостока заложили основу нового типа рассеянной еврейской общины, формируя новые организации по мере своего распространения по всему миру. Белостокский центр в Нью-Йорке, ставший экономическим эпицентром белостокской диаспоры, благодаря многочисленным публикациям и благотворительной деятельности его членов сыграл ключевую роль в активизации этого транснационального сообщества. Однако история еврейского Белостока и его диаспоры не является исключительно американской историей. Америка была лишь одним из многих направлений, куда устремились евреи из Белостока. Помимо Нью-Йорка, новые «центры» появились в Буэнос-Айресе, Тель-Авиве и Мельбурне. Белостокцы активно занимались перенесением сущности жизни на их прежней родине в новые «колониальные аванпосты» по всему миру. Хотя все белостокские организации предлагали своим членам финансовую поддержку, каждая из них переосмысляла региональную идентичность таким образом, чтобы это соответствовало практическим и жизненным потребностям общины. В главе 2 мы сравним эти четыре самопровозглашенные «новые Белостока» и рассмотрим не только общие, но и различные внутренние политические, экономические и культурные структуры, определявшие взаимодействие восточноевропейских евреев с новым миром. Раскрывая сложные связи между поддержкой евреями Белостока благополучия в Нью-Йорке, политикой рабочего класса в Буэнос-Айресе и развитием еврейской филантропии в Мельбурне, эта глава дает более глубокое понимание широких тенденций, формировавших модели еврейской адаптации и аккультурации в течение предыдущего столетия.
В главе 3 показано, как после Первой мировой войны благотворительность стала определяющим направлением деятельности рассеянной белостокской еврейской общины. Она подарила эмигрантам возможность утвердить свою новую идентичность как американских, аргентинских или австралийских евреев, а также сформулировать, как именно они хотели бы изменить мир, воссоздавая Белосток по своим образам[65]. С 1919 по 1939 год еврейские эмигранты Белостока собрали более 9 млн долларов (что эквивалентно примерно 107 млн долларов на 2008 год), которые они пожертвовали на восстановление опустошенных общинных учреждений своего бывшего дома. Американские евреи, для которых благотворительность играла важную роль в самоопределении, возглавили эту деятельность в 1920-х годах[66]. Филантропия с активным участием женщин и поощрением различных моделей лидерства создала особую культуру среди еврейских эмигрантов из Белостока. Связь благотворительности с механизмами рынка напоминала эмигрантам об их связи с Восточной Европой, поскольку побуждала их рассматривать филантропию как средство, с помощью которого они могли донести до тех, кто живет в Европе и рассеян по миру, насколько успешными стали выходцы из Белостока на своей новой родине.
Как растущая экономическая мощь еврейских эмигрантов из Белостока повлияла на жизнь в Восточной Европе? Благотворительная деятельность не только изменила представление эмигрантов о самих себе, но и фундаментально трансформировала видение евреями Белостока своей общины. При описании долгой, противоречивой и сложной истории польско-еврейских отношений в период между мировыми войнами редко учитывают, как огромные суммы, которые евреи-мигранты направляли в Польшу, повлияли на межэтнические отношения на местном уровне. Еврейские эмигранты из Белостока создали инновационные благотворительные организации, которые ставили в тупик сторонников построения нового Польского государства, поскольку выходили за рамки национальных категорий. В результате евреи в Белостоке стали сомневаться в авторитете государства в эпоху драматических социальных и политических потрясений. Хотя поляки, покинувшие Белосток, также отправляли деньги на бывшую родину своим родственникам, как это часто делают мигранты, масштаб этих переводов был намного меньше и не привлекал такого же внимания, как деятельность десятков еврейских филантропов-эмигрантов, приезжавших на бывшую родину в 1920-е годы и раздавших миллионы долларов на строительство школ, больниц и создание культурных организаций. Колоссальный поток денег еврейских эмигрантов в Белосток (как и в другие города по всей Польше) имел несколько непредвиденных последствий, изменивших взгляды поляков на влияние евреев, взаимодействие с местными еврейскими лидерами и место евреев в новом Польском государстве.
В главе 4 исследуются способы, с помощью которых пресса укрепляла финансовые связи, заложенные благотворительной деятельностью транснациональной еврейской общины. Начиная с 1921 года Белостокский центр в Нью-Йорке начал издавать ежеквартальную газету Bialystoker Stimme, которая собирала средства на поддержку одноименного издания в Европе. Однако журнал вышел далеко за рамки активизации иммигрантского сообщества, поскольку его авторы пользовались широким спектром новых идиом, которые побудили евреев по обе стороны Атлантики переосмыслить параметры своей идентичности. В изображении Белостока как истинной родины, колониальной империи или Второго Иерусалима писатели-эмигранты неоднократно искали «полезное прошлое», на котором можно было бы выстроить новую идентичность нью-йоркских евреев: так, Восточную Европу они провозгласили своей вдохновляющей родиной, а миграцию концептуализировали как новую форму изгнания[67]. Рассматривая в этой главе, как транснациональная белостокская пресса переосмысляла образ Восточной Европы, я постаралась восстановить «внутренней мир» эмигрантов, уделяя внимание не только тому, что они пережили, но и мировоззрению, в рамках которого они переживали свой опыт. Во многих отношениях творческий процесс адаптации к новому дому был переплетен, а в некоторых случаях даже способствовал укреплению благочестивой верности Восточной Европе, существовавшей в умах белостокских эмигрантов. Через почти литургическое повествование и пересказ истории своего общего прошлого и истории расселения белостокские эмигранты укрепили связи своего рассеянного сообщества и договорились о развивающихся отношениях со своей новой родиной[68].
Как показано в последней главе 5, эти глубокие связи с временной родиной подверглись тяжелому испытанию в годы после Второй мировой войны. В появляющейся сегодня все чаще литературе о диаспорах роль, которую травма играет в формировании диаспоральных сообществ, является предметом обсуждения, но мало кто задумывался о динамике, возникающей в ситуации, когда группа мигрантов сталкивается с полным уничтожением своей вдохновляющей родины. Хотя еврейские эмигранты из Белостока считали себя могущественными лидерами благодаря обладанию крупными денежными капиталами, они, как и тысячи других восточноевропейских евреев, оказались неспособны понять смысл того, что произошло во время Холокоста. Каким должен быть ответ на столь полное разрушение их бывшей родины? Первоначально евреи Белостока, выжившие по всему миру, не могли разорвать связи со своим прежним дом, несмотря на его уничтожение. В период с 1945 по 1949 год тысячи долларов были направлены на восстановление Белостока, адресованные тем нескольким сотням евреев, которые уцелели и вернулись в город. Но сохранение жестокого антисемитизма в Польше и власть сионистских лидеров в послевоенной еврейской общине Белостока заставили эмигрантов пересмотреть свое отношение. Как следствие, благотворительные организации нью-йоркских белостокцев переориентировали усилия по сбору средств для своей «временной родины» в Белостоке в сторону сбора для «конечной родины» в Израиле. И направили свою экономическую мощь на возведение «нового» Белостока в государстве Израиль, для которого они покупали машины скорой помощи, жертвовали деньги на строительство зданий, фабрик и синагог. Несмотря на то что израильские учреждения быстро вытеснили восточноевропейские организации в качестве основных получателей благотворительной помощи бывших белостокцев, один аспект остался прежним: точно так же, как Белостокский центр поощрял своих членов заботиться и поддерживать свою родину в Восточной Европе в межвоенный период – без расчета на возвращение туда, – теперь он поощрял восточноевропейских евреев в Америке поддерживать еврейскую родину в Израиле, хотя переселяться туда будут лишь немногие. Таким образом, модель филантропического поведения и верности своей «польской родине», сложившаяся в межвоенный период, определила, каким образом рассеянные по миру восточноевропейские евреи и их дети воспринимали свои отношения с новым государством Израиль и свою роль в его поддержке.
История, рассказанная в «Еврейском Белостоке и его диаспоре», детально показывает, как простое решение миллионов восточноевропейских евреев покинуть свои дома не только изменило демографические центры еврейской идентичности XIX века, но и радикально трансформировало краеугольные камни идеологии, формирующей современную еврейскую жизнь. Рассказ об этой истории еврейской миграции – это попытка побудить других выйти за пределы территориальных границ национальных государств при оценке не только еврейской миграции, но и еврейского прошлого в целом. Более того, отказываясь от узкого определения диаспоры, мы получаем возможность разобраться в том, каким образом евреи-иммигранты сохраняли разные, порой противоречивые, стремления и привязанности. Современные иммигранты, бесспорно, по праву считают себя политически бесправными и культурно отчужденными в новых домах, как и Хаим Горовиц в 1921 году. И все же иногда им стоит признать свою силу, ведь они могут изменить результаты местных выборов в Мексике, по клику перенаправив необходимую сумму, и финансируют реформы в Доминиканской Республике. И безусловно, эти современные группы мигрантов оказались так же зажаты между дилеммами изгнания и империи, как и евреи Белостока в первой половине XX века.
Глава 1
Распространение внутрь
Белосток, еврейская миграция и городская жизнь приграничья Восточной Европы
В 1862 году, когда молодой русский писатель Николай Лесков впервые увидел Белосток, город мог похвалиться лишь несколькими мощеными улицами и семнадцатью тысячами жителей. Основанный в 1320 году, в 1703 году город был завещан графу Яну-Клеменсу Браницкому, который охотно привечал евреев в своем новом доме. К концу XIX века в Белостоке было мало зданий выше двух этажей, а главными достопримечательностями были большой дворец, построенным семьей Браницких в восточной части города, – говорили, что он напоминал Версаль, и башня с часами в центре главного рынка. Несмотря на отсутствие явных признаков крупного мегаполиса, таких как широкие проспекты Санкт-Петербурга или высокие башни Москвы, оживленность главной улицы этого «нового» города, плавно спускавшейся на запад от дворца, ошеломила Лескова. Он записал в дневнике: «Улицы в Белостоке полны народом. Евреи кишат кишмя»[69]. «[В]есь город как базар», – писал Лесков: потому что евреи, которые в то время составляли 70 % населения города, наполняли улицы «шум[ом], говор[ом], спор[ами и] торг[ом]».
Илл. 3. Уличная сцена, Белосток, 1930-е годы. Из фотоколлекции Алтера Кацизне, Архив Института иудаики YIVO, Нью-Йорк
Евреи не просто заполняли ландшафт, они принесли с собой энергичный предпринимательский дух, который способствовал экономическому росту города, превратив его из небольшого провинциального городка в промышленный центр, который многие называли «Литовским Манчестером».
Соблазн потенциального богатства, которые можно было извлечь из промышленного производства, действительно привлекал тысячи евреев в Белосток. К 1897 году, когда царские чиновники провели официальную перепись, они составляли уже 75 % от 62 993 жителей города[70]. Первые еврейские мигранты, хлынувшие в Белосток в конце XIX века, строили дома в районе к западу от дворца и в южной части главной городской площади. Как вспоминал один мемуарист середины XIX века, «каждый год», когда «я шел по улице Суразер [главная улица еврейского района, расположенная рядом с главной площадью], я всегда обнаруживал, что открываются новые переулки», где семьи, только что прибывшие в город, обустраивали свои дома[71]. Такая перенаселенность побудила странствующего проповедника Цви Маслянского, посетившего Белосток в 1892 году, отметить, что в этом «новом городе» теснятся тысячи евреев. Восхищенный купцами, рабочими, промышленниками и «людьми действия», с которыми он там встретился, Маслянский заявил, что евреи Белостока своей твердой приверженностью сионизму и филантропии превратили «Белосток в Яффу Литвы»[72]. Такое сравнение вполне уместно, заключил он, поскольку, как и Яффа, быстро растущий портовый город Палестины, Белосток своим развитием обязан усилиям еврейских мигрантов-первопроходцев[73]. Иными словами, Маслянский воспринимал рост Белостока и превращение его из маленького городка в крупный промышленный центр как часть революционной миграции, меняющей еврейскую жизнь во всем мире[74].
Будучи растущим промышленным центром и центром расселения еврейских мигрантов, Белосток действительно напоминал Манчестер и Яффу, что свидетельствует о сложном взаимодействии промышленного развития городов и еврейской миграции в России и Польше XIX века. Юзеф Игнаций Крашевский, известный польский писатель-националист XIX века, однажды заметил, что на самом деле то, что заставляет «каждый польский город чувствовать себя польским… это присутствие евреев»[75]. Однако до 1658 года в Белостоке проживало совсем немного евреев, а к 1807 году только две тысячи евреев называли Белосток своим домом.
Илл. 4. Башня с часами, стоявшая в центре главной площади города с 1742 года, была общепризнанным символом города. Открытка с изображением рыночной площади, около 1920 года. С разрешения правообладателей коллекции Мерхавиа, Национальная библиотека Израиля, Иерусалим
Но к концу XIX века в Белостоке жило уже около пятидесяти тысяч евреев, привлеченных в город его центральным положением в российской железнодорожной системе и поддержкой царскими властями еврейских поселений в Польше как средства подавления польской националистической агитации. Многие евреи рассматривали Белосток как выход из своего тяжелого экономического положения[76]. Во многом из-за социального давления, вызванного еврейской демографической экспансией, а также дискриминационной государственной политики, еврейские ремесленники и мелкие торговцы, жившие в небольших городах, в XIX веке, как указывает Эли Ледерхендлер, «обрели единый статус наподобие касты», при котором между рабочими, ремесленниками и мелкими торговцами существовало мало социальных или экономических различий[77]. К 1912 году почти все из 73 950 еврейских жителей Белостока были мигрантами или детьми мигрантов, которые прибыли сюда в конце XIX века отчасти ради улучшения своих экономических перспектив. Такой демографический рост не был исключительной чертой Белостока: еврейское население Лодзи, другого польского промышленного центра, увеличилось еще стремительнее – с 259 человек в 1820 году до 98 676 в 1897 году[78]. Демографически превосходя коренное население, евреи-мигранты коренным образом изменили экономическую, политическую и гражданскую жизнь в этих и других развивающихся восточноевропейских промышленных центрах[79].
Массовый приток еврейских мигрантов в Белосток повлиял на существующие системы контроля и власти, создавая проблемы как для местных еврейских общинных властей, так и для государства. Хотя это было болезненно очевидным для большинства поляков на рубеже веков, лишь немногие современные исследователи поздней Российской империи обращают внимание на тревожные последствия, которые еврейская миграция и урбанизация оказали на жизнь в польских провинциях России, где до Первой мировой войны евреи играли доминирующую роль в основании театров, литературных клубов, школ, газет и благотворительных учреждений, которые определили многие аспекты польской городской жизни[80].
Если мы проследим рост и развитие Белостока, превратившегося за XIX век из провинциального городка в оживленный урбанистический центр, станет ясно, что недавно прибывшие еврейские мигранты произвели революцию в экономике Польши, финансируя промышленную экспансию, порождая новые этнические антагонизмы, создавая дополнительные основания для политической оппозиции российскому правительству и создавая новаторские политические и благотворительные организации. Все эти особенности способствовали дестабилизации традиционной власти и, как отмечает Питер Гэтрелл, в поздний период бросали вызов «преобладающим политическим, социальным и культурным практикам» сословной системы царской России[81].
Политическая нестабильность в регионе подстегнула усилия евреев-мигрантов по переустройству города – в течение двух с половиной столетий Белосток менял статус, оказываясь последовательно под эгидой Речи Посполитой, Пруссии, Франции, Российской империи, и наконец в 1919 году стал городом Второй Польской Республики. Каждое из этих государств оставило свой отпечаток на городе и его жителях, вынуждая немцев, русских, поляков, литовцев и евреев сосуществовать в лоскутном одеяле социальных и экономических отношений. Даже когда Белосток оставался частью Российской империи, как это было на протяжении большей части XIX века, стремление абсолютистского государства к проведению реформ по модернизации, которые осуществлялись самым неравномерным и бессистемным образом, вызывало в городе сильное внутреннее брожение, которое в начале XX века выливалось в забастовки и вспышки антисемитского насилия. Белосток стоит в одном ряду с другими большими городами царской России – например, Киев, Минск или Варшава, поскольку в нем соединялись радикально современные способы производства с важными чертами доиндустриальной жизни, такими как раввинский контроль над распределением еврейских доходов[82]. Развитие Белостока как центра промышленности и жизни еврейских мигрантов в быстро развивающейся Российской империи необходимо рассматривать именно в контексте ускоряющихся перемен, социальных потрясений и экономических преобразований[83].
В то время как надежда на улучшение своего экономического положения мотивировала многих российских еврейских мигрантов обосновываться в Белостоке, экономический успех часто оказывался переплетен с их желанием интегрироваться в культурную среду своего нового дома. Создание широкого спектра новых еврейских благотворительных организаций и еврейских политических партий, таких как социалистическая партия «Бунд», сионистская партия «Ховевей Цион» («Любящие к Сион») или движение эсперантистов, служат яркими иллюстрациями того, как евреи формировали новые организации и использовали новые стратегии для удовлетворения своих потребностей как рабочих-мигрантов, еще не имевших прочных корней в городах. Эти организации, будь то традиционные филантропические ассоциации или более радикальные политические партии – изменили жизнь в Белостоке, поощряя евреев бросать вызов власти кехиллы (местного еврейского общинного совета) и царя, одновременно заставляя их осознавать свою еврейскую идентичность с ярко выраженным региональным характером; Элияху Оран и Исроэль Пренски приходят к выводу: «…мы не только из Белостока, мы – белостокские евреи-бундовцы»[84]. Конечно, тот факт, что евреи Белостока проживали в регионе, характеризующемся интенсивной националистической агитацией – бок о бок с зарождающимися польскими, белорусскими, украинскими и литовскими национальными движениями, борющимися за признание, – усиливал активность белостокских евреев по формированию собственной местной идентичности. Однако наиболее интригующее в этих новых организациях – это то, что, связывая своих членов с более крупными идеологическими движениями, такими как сионизм или социализм, они также поощряли евреев рассматривать свою региональную принадлежность как переплетенную с их религиозной, социальной и политической идентичностью[85]. Излишне говорить, что Белосток ни в коем случае не был в этом отношении исключительным местом: несмотря на неглубокие корни, он лишь недавно вступил в круг таких быстро растущих городов, как Одесса, Варшава и Санкт-Петербург. Многие еврейские мигранты считали, что их новые города, став родными, определяют их идентичность. По всей Восточной Европе евреи отождествляли себя со своими новыми домами, поскольку превращение этих мест из небольших торговых городков в центры промышленного капитализма, революционной националистической политики и прогрессивных благотворительных организаций отражало трансформацию самих мигрантов в современных людей с урбанистическим сознанием. Они были объединены с развивающимися городами Российской империи не только местом жительства, но и новым опытом[86].
Сдвиги политического суверенитета Белостока и Восточной Европы
Расположенный в черте оседлости – определенной законом территории еврейского проживания на западных окраинах царской России, – Белосток находился на перекрестке дорог этой империи (см. табл. 1 и карту 1). Он входил последовательно в состав четырех государств, а географическое положение города привлекало поляков, русских, немцев, литовцев и, конечно же, евреев, прибывавших из разных регионов[87]. Притом что евреи с точки зрения демографии преобладали, они оставались не коренным населением, и им приходилось отстаивать свою идентичность и противостоять ассимиляции. Как и другие иммигранты или меньшинства в другие времена и в других местах, евреи Белостока, с одной стороны, хотели интегрироваться в культурную среду города, а с другой, сохранить независимую религиозную, социальную и политическую идентичность. Вместо определения себя по национальной принадлежности, белостокские евреи – как и одесские, варшавские и петербургские – воспринимали самих себя сквозь призму конкретного города и региона. Они были, прежде всего, верными белостокцами, испытывающими двойственные сомнения в том, считать ли себя лояльными российскими подданными или польскими евреями[88].
Однако отсутствие демографического давления, направленного на ассимиляцию в соответствии с моделью единого национального государства или империи, не должно затмевать тонкие сдвиги в еврейской жизни, происходившие по мере того как город переходил в состав нового государства[89]. Например, когда Белосток в 1796 году попал под прусский контроль, чиновники активно стремились «германизировать» город, ограничивая еврейскую миграцию, сокращая список профессий, разрешенных евреям, и поощряя немецких предпринимателей и прусских администраторов селиться в этом регионе[90]. Власти также проводили реформу средней школы в Белостоке с целью ускорить «германизацию» местного населения[91]. В то время как коренное польское население оставалось стойко преданным своей «польской провинции», что с горечью признавали прусские чиновники, евреи охотнее восприняли немецкую культуру. Они быстро овладевали немецким языком, осваивали новые профессии и отстаивали идеалы немецко-еврейской Хаскапы, или еврейского просвещения[92].
Знакомство с новыми идеями привело к тому, что многие представители еврейской общины Белостока стали вести себя как образованные немецкие евреи, а некоторые лидеры отождествляли себя с немецкими маскилим (сторонниками хаскалы), прилагая большие усилия к распространению «просвещенных» произведений и идеологических брошюр, выпущенных немецкими еврейскими маскилим, по всей Польше[93]. Обучая еврейскую молодежь Белостока принципам хаскалы, большую роль в развитии общины сыграл рабби Элиезер Хальберштам: он открыл новую школу для изучения идеалов маскилим и активно сотрудничал с местной еврейской газетой «Хамагид» («Проповедник»), пропагандирующей те же идеи[94]. Рабби Аарон Галеви Горовиц основал в 1804 году первую еврейскую типографию в Белостоке для распространения идей еврейской модернизации. Двойственность в отношении евреев к доминирующей культуре лучше всего иллюстрирует то, как принимались все эти инициативы. Хотя «современные» идеи были поддержаны Хальберштамом и другими, они вызвали раскол в польской еврейской общине. Более традиционно мыслящие раввины, которые придерживались старых путей, заявляли, что Белосток – «еретический город, наполненный хаскалой и бильдунгом [просвещением и светским образованием]», и его следует всячески избегать[95].
Табл. 1.1. Политические сдвиги и демографический рост в Белостоке, 1795–1939 гг.
Однако после 1807 года, когда Белосток был аннексирован Российской империей, «германизация» утратила часть своей привлекательности – евреи Белостока уже меньше были заинтересованы в идентификации с евреями Германии[96]. В тот момент, когда русские в 1807 году взяли власть в Белостоке, городской совет возглавлял мэр-христианин, но его заместитель был евреем, и двое из четырех членов городского совета также были евреями. Евреи сохраняли заметную роль в гражданских делах при Наполеоне, который правил Белостоком с!812по1815 год. После возвращения Белостока в состав России в 1815 году евреи покинули органы городского управления и сосредоточились на расширении своих коммерческих связей как внутри Российской империи, так и за ее пределами[97]. Вплоть до польского восстания 1830–1831 годов царское правительство уважало лояльность местных жителей к своему польскому наследию и культуре и прилагало мало усилий для «русификации» провинции.
Илл. 5. Русская Польша и черта оседлости евреев, около 1900 года
Город сохранил роль административного центра и даже служил столицей собственной автономной области (административного округа)[98]. Но когда в 1830-х годах началось оживление польского националистического движения, царское правительство изменило отношение к региону и стало вводить интенсивную программу по превращению местных жителей в лояльных российских подданных[99]. В рамках этой программы власти поощряли евреев, которые, несмотря на их двойственное отношение к Российскому государству, считались более лояльными, чем поляки, селиться в Белостоке, чтобы уменьшить польский революционный пыл[100].
Благодаря экономическим и культурным возможностям, которые предлагал Белосток, евреи устремились в город, в результате чего еврейское население Белостока выросло с 2116 человек в 1807 году до более чем 79 350 к 1914 году. Как показывает даже беглый взгляд на записи о рождении, смерти и браках в еврейской общине в 1862 году, некоторые евреи были выходцами из окрестных деревень, расположенных менее чем в пятидесяти километрах от города, таких как Тыкоцин, Мост и Кнысан. Тыкоцин, бывшая губернская столица, известная деревянной синагогой, – яркая иллюстрация ритмов жизни в маленьких местечках: евреи составляли 60 % его населения, а в 1897 году оно насчитывало чуть более 2000 человек. Один мемуарист вспоминал, как его набожная бабушка держала корову во дворе, чтобы обеспечить для семьи молоко и масло, даже если бы не было денег на еду, потому что это поселение «было известно лишь своей бедностью, ежегодной ярмаркой и тщательным [соблюдением] еврейских традиций». И в самом деле, основной продукцией Тыкоцина были еврейские молитвенные покровы. Однако другие мигранты приезжали в Белосток из растущих городов, расположенных за сотни километров, например из Минска, города гораздо больше Белостока с населением 91 494 человека на 1897 год. По всей видимости, значительный потенциал для быстрого экономического успеха привлекал в Белосток евреев даже из регионов, расположенных за пределами черты оседлости, в частности из прусского Кёнигсберга, где евреи не только свободно поступали в университеты, но и могли вступать в нееврейские общественные клубы[101]. Разумеется, естественный прирост населения также сыграл некоторую роль в поддержке этого демографического взрыва; однако, по воспоминаниям Майкла Фликера, все замечали, что «каждый день, когда прибывал поезд, очередная еврейская семья выходила из него, чтобы начать жизнь заново»[102]. Поток миграции еще больше усилился в последней четверти XIX века. Быстро развивающаяся экономика Белостока и его легкая доступность привлекали тысячи евреев из ближних и дальних регионов[103].
Еврейские поселенцы конца XIX века были вынуждены жить в ранее пустынных районах города возле леса, который называли Зверинец, «без мощеных улиц и дорог», как жаловался один молодой еврейский житель, который ежедневно ходил на работу «по холмам и долинам, занесенным снегом», что занимало у него более часа[104]. Кроме того, когда царские власти в 1860-х годах вложили значительные средства в расширение российской железнодорожной системы, видя в этом способ модернизации империи, Белосток стал центральным транзитным пунктом на железнодорожной линии Санкт-Петербург-Варшава. С этого времени евреи из большинства поселений черты оседлости могли добраться до Белостока менее чем за день пути. Более того, польское восстание 1863 года стимулировало российские власти оказывать еще большую поддержку еврейских поселений и промышленной экспансии на польских землях. Все эти шаги были предприняты в надежде, что возросшее военное присутствие вместе с притоком евреев и новыми экономическими возможностями поможет подавить польское националистическое движение[105].
Хотя эта политика так и не достигла поставленной цели – искоренения польского национализма, – она и в самом деле изменила население и экономическую структуру города. Согласно данным переписи 1897 года, в Белосток прибыли десятки тысяч человек из близлежащих торговых городков и соседних небольших местечек. Растущее присутствие российских военных в регионе меняло население Белостока, привлекая тысячи людей из далеких от Белостока регионов Российской империи, таких как Тверь и Казань (1634 человека)[106]. Работы на растущем числе заводов города и сопутствующие инвестиционные возможности соблазняли сотни переселенцев из городов, разбросанных по всей империи, например: Санкт-Петербург (198), Минск (701), Вильнюс (752) и Варшава (523). Привлекал Белосток и людей, проживавших за пределами географических границ Российской империи: около 600 мигрантов были выходцами из Прусской и Австро-Венгерской империй[107].
Сплетение ткани повседневной жизни: евреи-мигранты и развитие промышленности в Белостоке
Еврейская миграция в Белосток не просто изменила демографию города, радикально преобразилась и его экономическая жизнь. Быстрое превращение Белостока в промышленный центр было неотъемлемой частью промышленной трансформации России в XIX веке, но, как и в других городах Польши, этот рост в значительной степени был обусловлен еврейской продуктивностью и предприимчивостью[108]. В промышленном секторе Белостока еврейские рабочие составляли 83,9 % рабочей силы, а еврейские купцы владели 88 % городских магазинов[109]. Эти тенденции были особенно очевидны в текстильном секторе, где к 1898 году евреям принадлежало 80 % из 309 текстильных фабрик города[110]. Таким образом, в новом мире промышленного капитализма, который складывался в Белостоке вокруг текстильного производства, евреи составляли большинство элитного класса предпринимателей, доминировали в классе купцов и составляли ядро нового рабочего класса[111].
Текстильное производство впервые стало частью экономики города в начале XIX века благодаря переселенцами из Пруссии. Около 1800 года несколько немецких промышленников основали фабрики, которые обслуживали в первую очередь высококлассный рынок и производили только высококачественные дорогие шерстяные ткани для богатых клиентов. Однако после укрепления российского контроля над частью Польши в 1831 году российское правительство сделало Белосток торговым барьером между этим регионом и Российской империей. Таким образом, Белосток оказался новым приграничным городом. Это подготовило почву для его превращения в крупный индустриальный центр, который привлекал большое число еврейских предпринимателей в 1840-х и 1850-х годах. Среди них был и Зендер Блох[112]. Еврей из богатой предпринимательской семьи в Вильнюсе, он в 1842 году основал в Белостоке текстильную фабрику. Стремясь прежде всего к получению быстрой прибыли, Блох отказался от производства изысканных товаров, сосредоточившись вместо этого на синтетической шерсти более низкого качества, которую затем продавал низшему и среднему классам Восточной Европы[113].
Решение Блоха произвело революцию в текстильной промышленности Белостока. По мере роста среднего класса в России постоянно сохраняющийся спрос на эти более дешевые ткани привел к резкому увеличению числа текстильных фабрик в Белостоке. Вскоре фабрики, производившие ткани высокого качества, уже не могли конкурировать с фабриками, производившими товары более низкого качества[114]. Закономерно, что еврейские фабрики, производившие ткани невысокого качества, стали основными поставщиками материалов для пошива военной формы для российской армии[115].
Влияние еврейских предпринимателей на текстильную промышленность Белостока выходило за рамки фабричной системы. Поскольку открытие бизнеса обходилось относительно недорого, многие недавно прибывшие в город воспользовались имеющимися у них возможностями для открытия собственных магазинов. Эти люди, известные как лойнкетники (буквально «расторопные люди»), знали, как легко овладеть ткацким ремеслом, и поэтому в конечном счете наняли большинство еврейских мигрантов для работы в небольших немеханизированных мастерских[116]. Выступая в качестве подрядчиков, лойнкетники поставляли готовую продукцию для более крупных механизированных фабрик, а те, в свою очередь, снабжали лойнкетников ткацкими станками и сырьем. В своих мемуарах Макс Хавелин, еврейский мигрант из небольшой деревни в районе Могилева, описал, как разочарование из-за низкой зарплаты на маленькой мануфактуре побудило его открыть собственную мастерскую. После нескольких месяцев кропотливого труда на двух взятых в аренду ткацких станках Хавелин преуспел, смог нанять нескольких ткачей и купил еще два станка[117].
Несомненно, Хавелин был исключением из правил. У большинства еврейских рабочих было мало вариантов выбора, чем охотно пользовались еврейские лойнкетники, вынуждая многих бедных еврейских рабочих-мигрантов работать долгие часы за небольшую плату. Как вспоминал один рабочий в своих мемуарах:
Летом я работал с семи утра до восьми вечера, а зимой с восьми утра до девяти вечера. Перед праздниками я часто работал всю ночь. Только после шести месяцев такого каторжного труда я начал зарабатывать два рубля в неделю[118].
И эксплуатация рабочих, и тот факт, что текстильное производство резко различалось на механизированных фабриках и в мастерских лойнкетников, привели к двухуровневой иерархии ткачей в Белостоке. Так, в 1885 году фабричные рабочие получали почти в три раза больше, чем ткачи, работавшие по системе лойнкетников[119]. К 1900 году фабричные рабочие зарабатывали около восьми рублей в неделю, тогда как работающие на лойнкетников получали лишь четыре рубля в неделю[120]. В 1887 году еврейские фабричные рабочие объявили забастовку не в знак протеста против условий труда на механизированных фабриках, как в других городах, а скорее для того, чтобы искоренить систему лойнкетников, поскольку, по их мнению, она подрывала их статус квалифицированных рабочих и не позволяла им требовать повышения заработной платы в периоды высокой занятости[121]. В течение следующего десятилетия фабричные рабочие неоднократно объявляли забастовки в знак протеста против избытка ткачей, созданного системой лойнкетников[122].
Хотя Белосток действительно предоставил своим еврейским мигрантам широкие возможности трудоустройства, он также принес им много трудностей и страданий. Как и другие развивающиеся промышленные центры, Белосток переживал периоды стагнации и роста. Вотчетах губернатора региона подчеркивается, что в период с 1872 по 1909 год рецессия неоднократно ударяла по местной экономике[123]. Длительные периоды безработицы были обычным явлением для основной массы еврейских рабочих-мигрантов, особенно для тех, кто трудился на небольших фабриках, которые в периоды спада закрывали, чтобы сэкономить. Те, кто продолжал работать, часто избегали потери места, только если соглашались работать меньшее количество часов или делить свою заработную плату с другими работниками[124]. В ответ на эти периоды экономического кризиса многие еврейские текстильщики покинули Белосток, и их немедленно заменили польские рабочие-католики, что побудило одного российского обозревателя конца XIX века заметить: «Белосток – еврейский город еврейских фабрикантов, но без единого еврейского рабочего»[125].
Эти периоды рецессии подчеркивали шаткое положение еврейских ткачей, особенно тех, кто работал в системе лойнкетников, в рамках которой работодатели могли удерживать заработную плату на низком уровне благодаря постоянному притоку новых еврейских рабочих-мигрантов. Еврейские рабочие составляли подавляющее большинство рабочей силы на немеханизированных фабриках, однако, когда еврейские промышленники создавали крупное механизированное производство, они редко нанимали на эти продвинутые предприятия еврейских рабочих, потому что не хотели закрывать фабрики как по субботам, так и по воскресеньям (воскресенье было всеобщим официальным выходным в Польше)[126]. Инспекция 150 современных механизированных текстильных фабрик в Белостоке, проведенная в 1886 году, показала, что евреи составляли менее одной пятой рабочей силы[127]. Эта тенденция мало изменилась к концу столетия, когда по результатам переписи 1897 года выяснилось, что евреи в Белостоке составляли 83,9 % рабочей силы на немеханизированных фабриках, принадлежавших евреям, и только 36,6 % рабочих на механизированных фабриках, находившихся во владении евреев[128].
Эксплуататорские методы лойнкетников спровоцировали еврейский пролетариат из числа иммигрантов Белостока на политические действия. Волнения рабочих были более распространены среди еврейских ткачей, чем среди их нееврейских коллег[129]. Сначала еврейские рабочие обращались в еврейские общинные учреждения для разрешения своих трудовых конфликтов. Например, в 1882 году семьдесят ткачей, которые бросили свои ткацкие станки, чтобы потребовать повышения заработной платы на текстильной фабрике Аарона Сузарского (этот случай считается первой крупной забастовкой в городе), обратились за помощью к религиозным властям[130]. Поскольку большинство ткачей были членами одной и той же хасидской общины, что и владельцы фабрик, совет раввинов взялся за разрешение конфликта[131]. Религиозные соображения также сыграли роль в конфликтах 1880-х годов, поскольку многие еврейские фабриканты заменили еврейских рабочих христианами, которые требовали выходных только по воскресеньям[132]. Это привело в ярость большое число еврейских рабочих, и вместо того, чтобы обратиться к религиозным властям, они взяли дело в свои руки, организовав несколько хорошо скоординированных забастовок[133]











