Читать онлайн Государи Московские. Святая Русь. Том 1
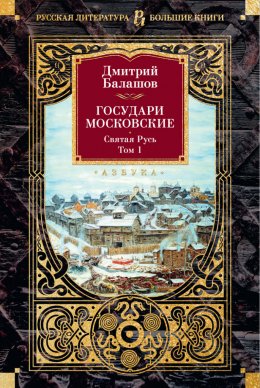
© Д. М. Балашов (наследники), 1997
© Оформление
ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2024
Издательство Азбука®
Молитва
Господнею ли волей нисходит на землю то, что мы называем «пассионарностью», а иноки-исихасты XIV столетия – «энергиями Божества»? Впрочем, последнее не совсем точно и даже совсем неточно, ибо пассионарность – биохимическая энергия вещества, а фаворский свет нематериален, – и все же!
Мужество воина, одержимость художника, дерзость купца, тяжкое упорство пахаря, незримый и повседневный героизм женщины-жены, без которого не стоят мир и все сущее в нем… Трудно назвать иначе, как творением Божьим, ту энергию, которая дает силу жить, любить, созидать и верить в чудо преображения сущего, которая волшебно и властно раздвигает века и пространства, открывая духовному взору далекие причины и грозные следствия нашего ежедневного бытия, позволяет заглянуть за грань суедневного, отринуть близкое ради дальних и великих целей, позволяет обежать мыслью тысячелетия скорби и мелких, тленных, как и все наше бытие, радостей и узреть в муравьином кишении поколений грозный очерк великого замысла и череду слепительных или же горьких свершений! Ибо жизнь человеческая – это жизнь листа на дереве. Отпадет и умрет лист, и нарастут новые в непрерывной череде и смене весен и осеней, умрет лист, но не престанет жить дерево, доколе и оно не исполнит назначения своего. Но и без кратких, с весны и до осени, жизней листьев не живет, умирает древо. Без постоянных усилий, борений, труда граждан своих не живут, исчезают великие некогда народы, оставляя векам немые могилы да каменную скорлупу былых пристанищ творческого духа своего.
Высшее ли ты во Вселенной наделенное разумом существо, о человек? И тогда, увы, согнет тебя, яко колеблемую ветром трость, всякий сильнейший тебя, и не обязательно разумом сильнейший, нет, попросту насилием силы превосходящий силу твою… Или же есть высшее тебя духовное существо, кого мы называем «Он», толкуя о Господнем промысле и незримом создателе зримого мира? И тогда, о, тогда ты лишь перед «Ним» и ответствен в деяньях своих, человек, и не побороть тебя силе земной, силе зла, во веки веков, ибо пред «Ним» и сила бессильна, и разум обнаружит тщету ухищрений своих, и, приняв на себя крест и содеявшись рабом Высшего, ты, в земном бытии, становишься всесильным, ибо ответ у тебя – токмо единому Богу, токмо ему, но не кесарю! Коему – лишь кесарево, то, что преходяще и тленно. И я вновь молю Вышняго мя: дай силы на деяние! Помоги охватить взором неохватное! Дай мне, малому, вместить великое, настолько большее крохотного и смертного моего существа, что уже прикоснуться к тому краем, узреть, почуять, догадать хотя о бывшем до меня и то будет сущее чудо, явленное тобою, Господи!
…Ночь объяла землю. И в тишине темноты не видно звезд. Но где-то там проходят, с дрожью неслышимого гула, тысячелетия, слагясь в стройный очерк народной судьбы, и я вновь ужасаюсь и дивлюсь мужеству предков, сотворивших из праха, из смертного своего существа бессмертное, и взываю, и вопрошаю их, уснувших в земле: кто дал им подобное чуду мужество, кто позволил из грязи и крови корыстных и мелких дел восстать до деяния, осветившего и освятившего последующие за ними века? Кто позволил им горечь истории претворить в мед бессмертной величавой памяти, которую даже мы, в бессилии своем, не возможем повергнуть во прах?
Туда ли взгляну, в безмерную глубину просторов Востока, откуда обрушилась на нас монгольская конница, и дали те вопрошу, и помыслю мыслию: не для того ли пришли эти всадники на своих неутомимых конях, не для того ли лилась кровь, уводились полонянники, плелись союзы и заговоры, скакали послы через половину земного круга, дабы в час иной, в час нашей из праха восставшей славы поворотили мы лик к этой безмерности и обратной волною русской предприимчивой дерзости прошли и одолили Сибирь, выйдя к бушующим волнам далекого Охотского моря? Не для того ли глухим копытным топотом пролилась оттуда чреда народов и племен, дабы Русь обрела величие свое в кровавом, кровном и братском объятии с народом степей? Что мы без Сибири? И можно ли так, небрегая трагедией женки, угнанной в татарский полон, слезою дитячьей, пожарами городов и смертями ратников, судить и править о столетьях судьбы? Но и не судить, и не править, и не вглядывать в лик вечности – как? Обречь ли себя на единые заботы сего дня, без загляда в передние и задние «полы времени», как называл их древний поэт? Не промысел ли то был и не должны ли мы теперь, по миновении кровавых и горьких лет, поклонить Востоку, давшему нам величие днешнего бытия? И, в свой черед, помыслить об ответственности нашей перед грядущими вослед нас за все то маломысленное и гибельное, что сотворяем однесь над землею предков и народом своим? Ибо не мы, не мы господа и создатели земли, мы только держатели, и суд грядет, и суд неотвратим, и гибель свою, как и спасение, сотворяем мы «своима рукама», и плата за грех не станет ли свыше сил наших? Горько быть потомком великих отцов! Но и счастье – прикоснуться к величию пращуров!
Я оставил смертных героев моих у великого рубежа, когда, неодолимое уже, нарастание сил вскоре приведет русичей на Куликово поле, когда, как подарок судьбы (упорному – дастся!), обрушились во взаимной борьбе грозные множества Орды и Литвы, могущие, в совокупности, при ином сложении событий и сил, охапить, потопивши в крови, родину наших отцов, и когда открылся наконец, с переломом военной судьбы, тот путь в грядущее, путь обратного стремления на Восток, который уже через немногие века сотворит нашу великую Родину.
Пахнет травой. Пахнет конским потом, и нога привычно упирает в железное стремя. Что там, за волнами седой травы, которую когда-то сменят хлеба? Что там, за синею далью лесов, за горами, за Камнем, за степным окоемом, за багряным разливом заката, за гранью смертной судьбы? Что там? Кони. Ветер. И далекие, за спиною, звоны колоколов – Родина, Русь. Святая Русь. Помолись обо мне, отче Сергие, и ты, владыка Алексий, благослови на труд малого и дальнего писца своего!
Книга первая
Степной пролог
Глава первая
Река мерцала лениво и сыто, как глаза отдыхающего барса. Дул холодный ветер, и листья шуршали, высыхая. Над тугаями, удаляясь к противоположному берегу, пролетела стайка серых цапель. Идигу Барлас опустил лук, не спустив тетивы, и осторожно направил коня туда, где с криком вились потревоженные птицы. Нукеры ехали за ним след в след. Шарып на ходу наложил стрелу, слегка натягивая тетиву. Лошадь с шорохом раздвигала боками стебли камыша. Долгие ветки карагачей цеплялись за стремена и одежду. Идигу запрещающим взглядом остановил нукера. Выйдя на отмель, конь, захрапев, вспятил и встал. На песке, видимо, до того, как потерять сознание, добравшись к изножию кустов, лежал полуголый, подплывший кровью человек. Лошадь первая почуяла жизнь в сизом от холода и потери крови полутрупе и тихо ржанула. Нукеры, столпясь за спиною, начали спрыгивать с седел. Идигу думал. Предчувствие говорило ему, что беспомощный беглец с того берега не был простым ратником. Он сделал разрешающий знак, и воины подступили к незнакомцу. Когда его перевернули лицом вверх, грудь раненого судорожно вздыбилась, и он застонал, не открывая глаз. Туган достал нож и, взрезав предплечье незнакомцу, извлек из раны наконечник стрелы. Тот застонал опять, все так же не приходя в сознание. Свежая кровь потекла из раны. «Будет жить!» – разглядывая незнакомца, подумал Идигу.
Туган молча и споро снимал длинные полосы коры с молодых ивовых побегов. Потом, вырвав клок войлока из потника и наложив на рану, стал заматывать в лубки предплечье раненого. Беглеца закутали в овчинный чапан, посадили верхом на круп Шарыпова коня, для верности обвязали арканом. Голова раненого безвольно болталась за спиной Шарыпа, из оскаленного рта текла слюна пополам с водой, с раскисших кожаных штанов струйки воды сбегали по крупу лошади и змеистой цепочкой следов отмечали путь идущего шагом Шарыпова жеребца…
Незнакомец был молод и жилист. Человек, сумевший со стрелою в предплечье одолеть Сайхун, должен был быть хорошим воином. Идигу теперь уже почти догадывал, кого он нашел в тугаях, и несколько раз зорко обернулся, ища на том берегу вооруженных нукеров Урус-хана. Но берег был пустынен. Видно, преследователи поверили в смерть беглеца и повернули назад.
Идигу ехал, прикидывая, к добру ли то, что он делает теперь? Ежели только он прав в предвиденьи своем и спасенный им воин не окажется попросту каким-нибудь сотником разбитого Тохтамышева войска, похожим на своего повелителя! И как встретит его теперь и как поведет себя Железный Хромец, Тимур-Ленг? Быть может, раненого надо было оставить в тугаях? Или добить? Или попросту проехать мимо, не обративши внимания на суетливую птичью возню в зарослях камыша? Быть может, это не поздно совершить и теперь? Так, ничего толком не решив, Идигу Барлас въехал на высокий берег. Теперь, миновав тугаи, возвращаться вспять было уже поздно. Он слегка сжал сапогами бока коня, выпрямившись в твердом монгольском седле с высокими, отделанными серебром, красными с исподу луками, и жеребец послушно пошел рысью.
Поступки Тимура непредсказуемы. Одинаково легко он может вновь оказать милость разбитому или казнить, но пусть решает сам! Вдали показался конный разъезд, близил Сауран, и Идигу отбросил сомнения. Теперь о беглеце надлежало решать только самому повелителю Мавераннахра. Урус-хан опять оказался сильнее. Погибли палатки, оружие, верблюды, кони… Погибли воины! Токтакия разгромил Тохтамыша в пух. Уже не первый день они проверяют убитых в этом несчастном сражении и подбирают раненых, кого еще можно спасти… Он скользом глянул на Шарыпа. Голова раненого все так же болталась из стороны в сторону за спиною нукера, и Идигу вновь подумал о том, что ежели он угадал, то далеко не ясно, захочет ли великий эмир позволить этой голове и впредь оставаться на своих бесталанных плечах?
Как знать, не пошла ли бы иначе вся история Великой степи и даже далекой Руссии, ежели бы посланцы Тимура не нашли раненного Казанчи-Бахадуром Тохтамыша в кустах и не сумели, согрев беглеца и накормив жирной шурпой, сохранить ему жизнь?
Глава вторая
Между великими реками Сейхуном и Джайхуном (Сырдарьей и Амударьей), вытягиваясь к юго-востоку, в горы древней Согдианы, а к северо-западу обтекая двумя рукавами пески и спускаясь к Аральскому морю, лежит страна. В ее древней серо-желтой земле можно отрыть наконечник скифской стрелы и стертый статир с профилем Александра Македонского, а то и обломок серебряного парфянского блюда. Кетмень земледельца то и дело ударяет по древним глиняным черепкам, оставленным народами, утонувшими во мраке времен. Заступ отрывает кости многоразличных древних захоронений. Южная часть этой земли, что простерлась у отрогов Памира, там, где стояли погибшие в арабском нашествии города согдов, у перевалов и ущелий, уводящих в сторону Сеистана и Индии, называется Мавераннахр, с древними городами: Самаркандом, Бухарой, Кешем, Термезом, Ходжентом. Северная, в низовьях Джайхуна, это – Хорезм, где главный город – Ургенч.
За Джайхуном начинаются Хорасан и Иран, так же как и Мавераннахр с Хорезмом, входившие некогда в обширное государство хорезмшахов, а дальше Азербайджан и Арран, горы Кавказа, земли язычников и христиан: страна Наири, Картли, Имеретия и прочие земли грузин, дальше – Рум, ныне почти завоеванный османами, еще далее – богатые города: Багдад, Халеп и Дамаск, и море, и земли франков, а к югу, в Аравийской земле, Медина и Мекка, святыни ислама, собирающие паломников со всех земель, подчиненных зеленому знамени пророка… К востоку же, за Сейхуном, за пограничным Отраром, придвинулась к Мавераннахру Дикая степь, Дешт-и-Кипчак. Семиречье, земли кочевых джете, и Могулистан, Синяя и Белая (на Иртыше и в Прииртышье) Орда, за которыми страна соболей и куниц, горы Алтая, бескрайние леса Сибири, Енисей, и еще дальше – монгольские степи, откуда почти два века назад вылилась на земли Мавераннахра страшная степная конница…
Много веков спустя возникла столь же красивая, сколь и далекая от всякой реальной основы легенда, что монголы сокрушили в Азии устроенное и цветущее государство хорезмшахов, не устоявшее перед ними в силу одной лишь недалекости своего повелителя, хорезмшаха Мухаммеда. Действительность была и печальнее, и страшней. Не существовало «цветущего и устроенного» государства! Было измученное поборами, сотни раз ограбленное насильственное скопление завоеванных владений, коему и название государства мало подходило, где не было закона, ибо закон – это всегда соглашение между двумя силами, а было голое право силы, определявшей и размер налогов, и саму жизнь и смерть граждан своих. Оно распалось, как пересохший глиняный ком, оно и должно было развалиться под первыми же ударами сильного и дисциплинированного врага. И то, что хорезмшах не сумел собрать единого сильного войска, было отнюдь не случайностью, не прихотью бездарного повелителя, а обнажением лоскутной сущности Хорезмийской империи.
И все-таки оживание, возрождение разгромленного некогда государства шло. Хотя бы в виде разбойничьих войн и смут, в которых происходило трудное выяснение – кто есть кто?
Тюрки, или турки (что правильнее), подчинившиеся потомкам монгольских ханов в Семиречье, Кашгаре и Джунгарии, взяли себе название «моголы». Из них состояло в эту пору население Синей и Белой Орды. Те же тюрки, которые перемешались с согдийцами и за протекшие полтора столетия стали считать земли Мавераннахра своими, звались «чагатаи» и теперь уже боролись со степняками-моголами, или семиреченскими джете («джете» – значит «разбойничья шайка»), за восстановление прежнего мусульманского государства. Мусульмане при этом боролись с христианами и язычниками. Династия Куртов в Герате и Кандагаре выступала против турок-чагатаев. Хорезм пробовал отъединиться в самостоятельное государство. Местная династия Музаффаридов явилась в Персии, в Ширазе и Исфагане. В городах началось повстанческое движение сарбадаров (от их военного клича «Сар ба дар!» – «Лучше смерть!»), направленное против монгольских правителей. Сарбадары выдвигали уравнительные идеалы и там, где добивались власти, как в Хорасане, где они продержались тридцать лет, старались уравнять всех в доходах, вводя распределительный коммунистический принцип, что, в свою очередь, приводило к сопротивлению зажиточной верхушки и мусульманского духовенства, которые выступали против сарбадаров и искали себе сильного повелителя, способного установить единую твердую государственную власть. Таким правителем стал сперва Казаган, глава эмиров Мавераннахра, а после его смерти – Хусейн, внук Казагана, выступивший против захватившего Мавераннахр семиреченского хана Туклук-Тимура и его сына Ильяса-Ходжи. Хусейн не был талантлив, но в его тени подрастал сын Тарагая, бедного эмира из Кеша, – Тимур.
Глава третья
В Самарканде разноголосо лаяли собаки. Всходила луна. Дневной жар сменился легкой прохладою. Над излучистой серебряной лентою Заревшана повис невесомый прозрачный туманный полог. Внизу ярко пылал костер, пожирая узластые ветви карагача, и в его багровых сполохах была вычеканена по черному небу узорная вязь все еще отягощенных плодами апельсинных и яблоневых дерев нового сада-дворца. Полы юрты были раскинуты, и запах готовящейся шурпы доносило к изножию шатра.
Тимур, морщась от застарелой боли в ноге, осторожно снял со своей груди руку спящей Сарай Мульк-ханум, тонкую руку в тяжелых серебряных браслетах, украшенных индийскими самоцветами. Жена только пошевелилась во сне, складывая ладони и удобнее умащиваясь на мягком, застланном бараньими шкурами и накрытом шелковым покрывалом ложе, по-детски почмокала; лицо ее, едва различимое в сумерках ночи, казалось сейчас гораздо моложе и беззащитнее, чем при свете дня, в россыпях ценных уборов и парчи, в гордом сознании своего могущества первой и любимой жены повелителя. Сон отнимает волю и отдает человека в руки врагу. Тимур мало спал, и не только от мучившей его старой раны, и всегда, как и теперь, окружал свой покой надежною и верной охраной. Неустрашимый в бою, он не мог, не имел права позволить себе тихо умереть от руки ночного убийцы, какого-нибудь потомка безумных ассасионов или упрямого сподвижника мертвого Хусейна.
Из гарема Хусейна взята им и Сарай Мульк-ханум, наследница славы Чингисидов. Тимур не был Чингисидом ни с какой стороны. И потому держал при себе подставного хана, и потому вторично дал войско Тохтамышу, направив его против властного повелителя степей, Урус-хана Белоордынского. В первом сражении Тохтамыш был разбит наголову, но погиб и любимый сын Урус-хана, Кутлуг-Бука, что одно явилось почти победой!
…И с матерью эмира Хусейна, когда-то – союзника, после – врага, теперь – сановитого покойника, Тимур был все эти пять лет почтителен и дружен, насколько может быть дружен убийца с матерью убитого. Нынче старая женщина умерла, освободив его, Тимура, от тяжкой для воина ноши. И уже собраны мастера, дабы воздвигнуть для нее пристойный мавзолей, невдали от мавзолея любимой сестры Тимура, отравленной три года тому назад…
Мысли о смерти приходят ночью, днем он не дает им воли да и попросту не думает пока о возможном конце. Слишком многое надо успеть содеять ему в этом мире, столь ничтожном пред величием Аллаха, столь ничтожном и малом, что не стоит иметь для него на земле больше одного повелителя!
А их, «повелителей», в одном Мавераннахре – сотни. Но и среди всех бесчисленных беков, эмиров, дехкан и бохадуров Хусейн был кровавой собакой. Только из-за Хусейна они проиграли «Джанг-и-лой», знаменитую «Грязевую битву» с моголами Ильяса-Ходжи. Бой, в котором кони, проваливаясь по грудь, падали на колени, а трупы павших плавали и тонули в раскисшей глине. Дождь хлестал по степи четверо суток подряд, пока они не поймали и не казнили вражеского ядачи, заклинателя дождя… Кони не шли. Но не шли и могольские кони! Все, что должен был содеять Хусейн, – это спешить своих воинов, загородиться большими щитами, чапарами, и расстреливать из луков бредущую шагом конницу Ильяса-Ходжи. Но Хусейн струсил и повернул вспять, заставив отступить и его, Тимура!
Они бежали в Самарканд, потом в Балх, и, ежели бы не сарбадары, не Мавлоно-заде, поднявший на бой жителей Самарканда, невесть чем бы и кончилось и куда бы еще бежали они с Хусейном.
Этот Мавлоно-заде, учащийся медресе, произнес пламенную проповедь, вдохновил и вооружил народ, они загородили улицы, впустили конницу Ильяса-Ходжи в город и в узких глиняных ущельях, где не повернуться коню, перебили до двух тысяч степных воинов. А там у джете начался конский мор, и Ильяс-Ходжа отступил со срамом, потеряв три четверти своей конницы…
И что же содеял Хусейн после этого? Заманив вождей сарбадаров к себе в лагерь, поволок всех на плаху. Он, Тимур, выпрашивал жизнь Мавлоно-заде на ступенях виселицы! Ученые люди далеко не все храбры, а храбрые воины редко бывают учеными. Таких людей, как Мавлоно-заде, надлежит беречь. Пощадив молодого вождя, он, Тимур, купил себе дружбу и поддержку святых мужей: казы, улемов, шейхов, суфиев и муфтиев, без которых можно совершать подвиги, но нельзя удержать власть, чего Хусейн тоже не понимал!
Глава четвертая
Тимур приподнялся на локте, потом, скрипнув зубами, встал. Он ненавидел ее, эту постоянную боль в ноге, в которой, опять же, был виноват Хусейн! Это Хусейн тогда, в Сеистане, втянул его в ночной грабеж, в котором он оказался изувечен, избит до полусмерти и брошен с поврежденным бедром, коленом и правой рукой, на которой с тех пор не работает скрюченный указательный палец. С тех пор он не может писать, а они слагают легенды о его неграмотности! Хотя он сам проверяет грамоты писцов, сам и читает важные письма. Слава Аллаху, рука, сросшаяся в локте, по-прежнему крепко держит саблю, а согнутая в колене правая нога уверенно упирается в стремя коня. Эмир, воины которого так обошлись с ним, Тимуром, заплатит смертью. Обид своих он, Тимур, не прощает никому!
Днем, верхом, в походах, боль почти не чуялась. Но в ночной тишине боль возвращалась опять, не давая спать, заставляя думать… Он прошел, чуть прихрамывая, неслышной походкою раненого барса, вышел под высокие звезды черной ночи. Гулямы внизу уже садились к котлу, и Тимур помыслил, с оттенком раздражения, что в войске его не многим больше правоверных мусульман, чем у степных кочевников Могулистана…
Вселенная в строгой устроенности своих холодных звездных миров тихо поворачивалась у него над головою. Если бы он не стал сначала степным разбойником, потом союзником Хусейна, а ныне – мужающим повелителем Мавераннахра… Если бы не стал!.. То, возможно, содеялся учеником кого-нибудь из мудрых звездочетов и ныне бессонными ночами следил с высокой башни за неспешным течением планет, угадывая в сплетениях звездной цифири людские судьбы, причудливо связанные с далекими светилами ночи. И, остро взглядывая в лицо какого-нибудь дехканина или купца, чертил на лучшей в мире самаркандской бумаге гороскоп просителя, отмечая сложение его судеб, счастливые и несчастные дни, воздействия Зухры (Венеры) и Марса… Возможно, когда-нибудь в старости, когда дело его жизни будет закончено, и ведомый мир объединит единая властная рука, и вырастут дворцы среди садов, и величественные мечети, и медресе, являя всемирную славу его Самарканда… Нет, невозможно! Слишком уж далеко! Пророк велел вести священную войну против неверных. Но что бы сказал Мухаммед, узнав, что войну приходится вести против своих, против мусульман? Вот и арабы уже семь веков режут друг друга. Явно Иблис испортил творение Божие на земле! Насколько стройнее и строже тот, горний, мир над нашими головами, в твердынях аэра!
Почему они все так упорно цеплялись за своего Хусейна? Разве небесные знаменья не обещали ему, Тимуру, власти над миром? Разве сам Всемогущий не спасал его от смерти в буранной степи и в бою, многажды уводя от ножей заговорщиков? Разве не ему свыше заповедано быть карающим мечом Аллаха?
…Боль все возвращалась и возвращалась. Сарай Мульк-ханум спала. Покойная Туркан-ага давно бы уже встала, почуяв, что его нет рядом с нею. С ее смертью из его жизни ушли женское участие и доброта. И как он ненавидел ее брата, Хусейна! Хотя и пытался любить… Увы. Два барса не уживаются в одной норе!..
Ульджай Туркан-ага умела, поглаживая его по бедру, снимать боль. Его первая жена, делившая с ним тяготы бегства и плена. И Хусейна он терпел так долго только из-за нее. Нет, не только из-за нее!
О нем, Тимуре, плетут небылицы уже сейчас. Будто бы он начинал свой путь главарем шайки разбойников, отнимая у кого барана, у кого два… С такого нищего воровства «подымаются» только до края канавы, у которой схваченным грабителям рубят головы. Во всех этих россказнях лишь тот смысл, что большинство эмиров Мавераннахра не больше чем такие вот разбойники с караванного пути, разбегающиеся кто в Сеистан, кто в Хорасан, чуть только на здешние земли хлынет новая волна завоевателей из Могулистана во главе со своим хаканом.
Да! Судьба дала ему куда меньше, чем Хусейну, как-никак, внуку Казагана! Старый Тарагай не совершал подвигов. Он пас баранов и кормил семью. Хлопотал, дабы Тимур окончил школу. Познакомил его, тогдашнего нравного мальчишку, с шейхом Шамс-ад-Дином Кулали и тем дал его голове всегдашнюю защиту высших сил. Он ведал, чуял, старый хлопотун Тарагай, что сына ждет непростая судьба. Да, его не научили арабской речи! Однако воину-турку достаточно знания таджикского и персидского, кроме своего, турецкого языка. Как унижался отец, вводя его во двор властного Казагана! А эта полулегенда-полумечта о монгольских предках из рода Барласов… Монгольского языка он уже не ведает, как не ведает его никто из нынешних Барласов Мавераннахра. И лицом он уже не монгол: и высокий рост, и ширина плеч, и этот нос, эти крупные губы, и густая борода, и цвет глаз – все досталось ему от иных – местных – предков. Быть может, от древних согдов или таджиков… Арабского в нем тоже нет ничего. Он турок, тюрк, и все-таки род Барласов, капля крови победоносного монгольского племени, – это то, что помогало и помогает ему всегда. Если бы еще он каким-нибудь боком был Чингисидом! Но этого нет, и он не будет придумывать себе иную родословную. Честь воина – в его деяниях! Ему, Тимуру, достаточно звания эмира, или гури-эмира, эмира эмиров, что тоже еще впереди…
Нет, не баранов воровал он у местных жителей! Когда Тарагай, состарясь, ушел от дел, он, Тимур, принял отцовы стада и рабов, устроивши все должным образом. В его Кеше никогда не творилось ни диких поборов, ни грабежей.
Это Хусейн не постыдился потребовать дань с его, Тимуровых, эмиров, возмещая убытки своей неудачной войны. И когда Тимур, расплачиваясь за обнищалых соратников, отдал драгоценности Ульджай-ханум, то Хусейн лишь посмеялся, узревши перстень своей сестры, но и не подумал вернуть его. Родной сестре! Жене Тимура! Жене сподвижника, не раз и не два спасавшего его от гибели! Он был скуп и скареден, он был жаден и чванлив, эмир Хусейн, хозяин Балха!
Глава пятая
И как все когда-то хорошо начиналось! Он верно служил Казагану, трижды спасая его от ножей убийц. Он верно служил затем Туклук-Тимуру, охраняя Мавераннахр. Думал ли он тогда, что об него вытрут ноги, что его вышвырнут, как старое платье, что хакан посадит на престол Мавераннахра своего сына Ильяса-Ходжу!
Вот так и обрушилась его «честная служба»! Обрушилась враз, ибо, когда Ильяс-Ходжа явился с войском, эмиры вновь разбежались, как мыши, и они с Хусейном вынуждены были бежать в Сеистан.
У него оставалось всего шестьдесят всадников, когда отряд стала догонять тысячная толпа добровольных радетелей Ильяса-Ходжи. И он принял бой, самый отчаянный бой в своей жизни. Бой, когда дюжины его жалкого отряда во главе с отчаянными эмирами Тага-Бугай Барласом и Сайф-ад-Дином Никудерийским раз за разом врубались в гущу вражеской конницы. Бой, когда победить было невозможно, и все оставшиеся в живых его эмиры стали героями, обращая вспять и расстраивая сотни врагов, когда он сам, пеший, с мечом в руках, спасал от гибели эмира Хусейна. Бой, в котором надобно было стать Рустемом или Исфендиаром, дабы победить; бой, в котором он и дрался, как Рустем. И все же, потеряв и растеряв всех, должен был отступить едва с семью соратниками…
Под ним дважды убивали коня, и Туркан-ага отдала ему своего, и все равно шесть десятков не сумели одолеть тысячу, и, когда он скакал по степи, вновь уходя от погони, полсотни врагов все еще догоняли его крохотный караван…
Не хватало коней, жена и сестра шли пешком. По дороге попался колодец. У пастуха купили двух баранов, дабы накормить падающих от голода соратников. В пути к ним присоединились трое подлых грабителей и ночью украли коней, а после того их всех чуть не убили туркмены.
В местности Махмудия их настиг, полонил и перевязал эмир Али-бек Джаны-Курбаны. Не расспрашивая ни о чем, пленников привели к нему, и Тимура кинули в яму, где ползали по вонючим обрывкам шкур неисчислимые стада вшей, буквально сжирая его тело, где черствые огрызки чьих-то трапез да гнилая вода были его единственным кормом, где, верно, сотни пленников ходили под себя год от году и посему лежать приходилось на грудах полусухого человечьего кала, в лужах застарелой мочи. И так – пятьдесят два дня подряд, без света, надежды, слова хоть о каком-то конце!
Вот оттуда, из смрадной, полной паразитов ямы, и началось его новое, нынешнее восхождение. С того часа, когда он, уговорив стражника, получил меч и, разрезав путы на ногах, выбрался из затвора, разогнал испуганную охрану и ворвался во дворец туркмена, которому (Аллах не отвернулся от Тимура!) как раз доставили письмо его родного брата, советовавшего выпустить и одарить пленника… С тех пор он, Тимур, положил в сердце своем – никого не ввергать в оковы без худа и следствия.
Ульджай-ханум тоже была в плену, и он, Тимур, позже никогда не спрашивал жену, что творили с нею туркмены. Он все же был счастливее Темучжина, старший сын которого, Джучи, был зачат, когда Бортэ находилась в плену у меркитов. Его первенец, Джехангир, зачат отцом. Он, Тимур, может верить, что это именно его сын, и ничей другой.
…Было это давно. Ему было пятнадцать лет, и он пас стадо своего отца, когда увидел, как к реке подошла женщина за водой и на нее набросился рослый турок. На крики женщины прибежал мужчина, родич или муж, но турок оказался сильнее, он одолел и связал мужчину чересседельником, после чего связал руки женщины кожаным поясом и изнасиловал ее на глазах у защитника. И он, переживая неведомое ему тогда душное волнение в крови, смеялся увиденному. Но потом, обмысливая, понял, что турка следовало убить. И ему, сыну эмира, придя к власти, надлежит карать насильников смертью. Ибо есть жены, есть блудницы, торгующие собою на рынках, есть пленные рабыни – утеха воинов, но не должно разрушать семью, на которой, по слову пророка и устроенью Всемогущего, держится все сущее во Вселенной. И вот еще почему у него, в Кеше, этого нет и пахарь может всегда быть спокоен за своих близких при его, Тимуровой, власти.
Да, вырваться из ямы – это было всего лишь полдела. Труднее было ему вновь обрести воинов, но судьба, испытавшая его до зела, ныне повернулась лицом к Тимуру. От бека Джаны-Курбаны он уезжал с двенадцатью всадниками. Скоро к нему присоединились еще пятьдесят конных туркмен. Затем подошел Мубарак-Шах со многими воинами и двести конников из Хорасана. Непередаваемо словами чувство полководца, когда в степной дали показывается черное пятно, пятно растет, рассыпаясь муравьиной чередою скачущих всадников, и уж на подходе различаешь блеск оружия, цвета одежд, и вот наконец подскакивает в опор гонец с вестью, что идут подкрепления, и ты становишься сильней и сильней с каждым таким приездом! Скоро он имел уже тысячу конных воинов и вновь соединился с Хусейном.
Глава шестая
А что было потом? Он, Тимур, завоевывал города, а Хусейн забирал себе добычу из них. И вновь предавал, и пытался отдать Мавераннахр другому, и устраивал засады, дабы убить его, Тимура, спасавшегося единою волей Аллаха!
В конце концов они выгнали Ильяса-Ходжу из Мавераннахра. Но каждый раз, когда ему, Тимуру, светила звезда счастья, Хусейн спешил напакостить, рассорить его нойнов, перекупить эмиров, падких на золото…
И уже потом, когда Ульджай Туркан-ага умерла и последнее, что связывало их друг с другом, оказалось прахом, перстью, зарытой в земле, воспоминанием, приходящим вот так, бессонными ночами, когда прояснело, что вдвоем с Хусейном им не выжить в Мавераннахре и один должен уступить, исчезнуть, уйти, с каким трудом приходилось ему собирать эмиров, чтобы повести их против Хусейна. Хусейн был скуп. Он, Тимур, все и всегда раздавал воинам. Хусейн был труслив. Он, Тимур, храбр. Хусейн был горд, вероломен, надменен. Чем же он привлекал сердца? Неужели и в подлости, и в гадости тоже ищут своих по духу, а ему, Тимуру, на всю жизнь суждено царственное одиночество?!
Дорого ему стоил Хусейн! Дорого стоило взять Карши, выиграть бой в степи Кузы и под Самаркандом, дорого стоил поход на Ходжент, а труднее всего далась осада Балха…
Туркан-ага любила спать, уткнувшись носом ему под руку… Нет, Сарай Мульк-ханум не безразлична ему! И порою заставляет думать ревниво о том, любила ли она и как любила Хусейна? Он взял весь гарем Хусейна, когда все кончилось, но Сарай Мульк-ханум, дочь монгольского хана Хазана, сделал старшей. По ней он теперь гурген, ханский зять, как Мамай в Золотой Орде!
Балх надо было взять скорей, пока Хусейн не получил подкреплений. Он, Тимур, безжалостно гнал воинов на приступы и бесился, видя, как ставшие мягкими тела безвольно осыпаются с выси городских башен… Пока наконец не сделали подкоп и не обрушили прясло стены. Но и тогда бой продолжался в улицах, а Хусейн с дружиной засел в цитадели. Он все-таки струсил, Хусейн! Струсив, запросил мира. И тут вот Тимур почувствовал в первый и, возможно, в последний раз, что мертвая Ульджай Туркан-ага могла бы помешать ему.
– Что ты обещаешь мне? – спросил Хусейн через глашатая.
– Ничего, кроме жизни! – резко ответил он.
Хусейн, вышедший было из крепости, струсил и тут. Забежал в припутную мечеть и спрятался там, вместо того чтобы идти прямо к нему, Тимуру. И тем подписал себе смерть. Его нашли, и тут же Кай-Хосрау, владетель Хутталяна, убил Хусейна по праву кровной мести. Кровники Хусейна, отцов которых он десять лет назад предал смерти, схватили и зарезали его там же, в мечети, обагрив кровью михраб. Тимур не помешал им. Он и не мог, по шариату, помешать кровной мести. И… он, конечно, мог помешать! Мог спасти Хусейна и в этот раз и тем навлечь на свою голову новые козни, измены и покушения… Не захотел. Так будет вернее. Отрезанная голова Хусейна оканчивала многолетнюю прю. Со временем он разрешит нукерам Хусейна отомстить за господина своего, прикончив его убийц. И так будет полностью восстановлена справедливость. И так он сможет забыть об этой нужной, многолетней дружбе-ненависти… Весь мир действительно не стоит того, чтобы иметь над собою двоих владык!
Глава седьмая
Он удалился в глубину сада, присел под деревом. Очистил себя левой рукою с помощью воды из узкогорлого кованого кувшина, после чего, с омытыми руками, подошел к шатру и, поставив кувшин и расстелив коврик, сотворил ищу, ночной намаз.
Воины под холмом собирались в круг, рассаживаясь, дабы есть дымное, остро пахнущее варево – шурпу с красным перцем и индийскими пряностями, как не трудно было догадаться по запаху. Тимур подумал о воинах с легким презрением, ибо им и в голову не пришло сотворить ночную молитву прежде еды. Чагатаи! Кочевники! Лучшая часть его, Тимурова, войска состоит из них…
Чингисхан завещал своим потомкам не строить крепостей в городах. О том же он предупреждал и Хусейна, когда тот вздумал укреплять Балх против него, Тимура. Но он и сам деятельно укрепляет свои города, ибо только стены могут сдержать нежданный набег дикой степной конницы.
С Хусейном он покончил пять лет назад, и вот теперь перед ним новый, вернее, старый враг, степной враг в лице Урус-хана, нравного и властолюбивого старика, который, однако, может единым походом своих могольских ратей разрушить все то, что Тимур строил столько лет, с чем он скоро перейдет свой сорокалетний рубеж, после коего уже все труднее и труднее становится стремиться к неведомому. Он – сможет! И все-таки Тохтамыш, обиженный Урус-ханом Тохтамыш, пришел ему весьма кстати. Тохтамыш – кровник Урус-хана, помириться они не смогут, и Тохтамыш – Чингисид! Возможно, уже сейчас воины Урус-хана переходят на сторону Тохтамыша. Этот мальчик, которого он поддержал и снабдил войском, вернулся к нему разбитый, в порванных доспехах и теперь послан второй раз… (Гонца все нет и нет. Неужели Урус-хан одолел вторично?) Идигу Барлас, земляк Тимура, давно уже послан разведать, что сотворилось там, за Сейхуном…
Небо незримо – до того иссиня-черное – начало сереть. Близил час, когда глаз начинает различать голубые нити от серых и когда иудеи становятся на молитву, завернувшись в свои полосатые талесы. Костер под берегом смерк, пламя сникло, рдели лишь уголья, темнеющие к заре. Воины кто спал, прикорнув, кто лениво перебрасывался в кости. Им тоже казалось, верно, что охранять повелителя здесь, в сердце земли, ни к чему.
Утренняя, свежая, щурясь и улыбаясь, показалась из шатра Сарай Мульк-ханум. Он зашел внутрь шатра, дабы не мешать жене совершить потребное, подумал о том, что нынче непременно должен был быть в Бухаре. Он и будет там сегодня к вечеру. В Хорезме опять неспокойно. Там, в Бухаре, он узнает и о Тохтамыше скорее, чем здесь.
Глава восьмая
Тимур, не признаваясь сам себе в этом, не любил городов. То есть он любил их остраненно, отстраивал свой Самарканд, столицу покоренного Мавераннахра, и в Кеше, на родине предков, сооружал роскошные усыпальницы матери и отцу (и когда-то начнет тут же возводить усыпальницу себе). Он поощрял торговлю, собирал ремесленников из разных земель, возводил медресе, мечети, ханаки, бани – но жить в городах не любил. Для себя строил загородные сады с дворцами и жил там в недолгие перерывы между походами. Так, на груде кошм и шитых золотом подушек, на пестром ли ширазском ковре, в нише айвана, изузоренного цветною глазурью и прикрытого легкою шелковою завесой, или у порога расписной юрты, там, где ближе небо в задумчивом движении звезд, где рядом – стоит протянуть руку – ветви посаженных рядами дерев, где ветер из-за невысокой кирпичной ограды сада-дворца доносит дыханье степи или знойную истому песчаной пустыни, проводил он свои бессонные ночи. Там же встречал послов, принимал решения, мановением длани отправлял на смерть или даровал жизнь провинившемуся. И жены, весь гарем, спешили за ним из города в город, из сада в сад, спешил весь двор, конюхи, ловчие, воспитатели, прислуга, книгочеи, сейиды, писцы, нукеры, стража гарема, а за ними походные мастера – седельники, лучники, оружейники и вездесущие купцы.
В Бухаре Тимур, так же минуя Арк и медресе, остановился за городом. Старших сыновей, Джехангира с Омар-Шейхом, Тимур захватил с собой, и теперь, измученные и гордые, с лицами, серыми от пыли, они слезали, улыбаясь, с коней, шли на неверных ногах, гордясь, что выдержали бешеную скачку вровень с отцом. Нукеры расседлывали поводных коней, доставали ковры, посуду, рухлядь. Рабы и рабыни сада суетились, принимая нежданно явившегося повелителя. Пылали костры, на вертелах уже жарилась баранина.
Тимур омыл лицо и руки, сотворил намаз, строго поглядывая на сыновей, старательно бормотавших слова молитвы.
За стеною дворца послышался все нарастающий и нарастающий дробный топот копыт: то шла конница, его конница. Эмир опять обогнал свое войско. Недвижным облаком вставала тяжелая серо-желтая пыль. Пыль была на всем: на каменных плитах, на листьях дерев, на ступенях дворца, еще не вымытых захлопотанною прислугой. Сейчас в сад вступят сотники и тысячники войска, для них и готовится пир…
Усталость после целого дня скачки была целительна телу и потому приятна. Он сел, скрестив ноги, на кошму, полузакрыл натруженные от солнца, ветра и пыли глаза, чуть согнул стан.
Отца Тохтамышева, мангышлакского эмира Туй-Ходжу-Оглана, Урус-хан убил. Нет, перейти на сторону ак-ордынцев Тохтамыш не может! Почему его все-таки так беспокоит этот яростный мальчик?
Свидания с Тимуром ожидал новый перебежчик от Урус-хана, Идигу из племени Мангут (Эдигей русских летописей, будущий знаменитый полководец).
Тимур приказал отвести беглого эмира в свою походную юрту и накормить.
Когда он, распростясь с соратниками, пролез, согнувшись, в шатер, Идигу, ожидая его, уже сидел на кошме, скрестив ноги. Он спокойно выдержал тяжелый, изучающий взгляд великого эмира. Тимур уселся, помолчал, спросил:
– Ты умеешь играть в шахматы?
Брови Идигу чуть дрогнули от удивления.
– Да, повелитель!
По знаку Тимура принесли шахматную доску и арабские фигуры, вырезанные из слоновой кости. Играл Идигу хорошо и не боялся выигрывать, в чем Тимур убедился вскоре. Иные ходы эмира заставляли его долго прикидывать: как избежать поражения?
– Тохтамыш победит? – вопросил он, не подымая глаз от доски.
Идигу промолчал, перевел фигуру, создав угрозу Тимуровой лодье, наконец ответил:
– Урус-хана одолеть трудно!
– Почему же ты здесь? – возвысив голос, возразил Тимур, на этот раз оторвавши взгляд от индийской игры.
– Старая трава вянет, и этого не остановить! Урус-хан в упрямстве своем забыл о времени, – отмолвил эмир, переставляя фигуры. – Мы ждем, что ты поможешь нам, но оставишь степь тем, кто в ней живет!
Тимур долго рассматривал его, щурясь. Идигу был явно умнее Тохтамыша, и приютить его очень стоило. «Как жаль, что этот – не ханского рода!» – подумалось скользом.
– Ладно! – порешил он вслух. – Будешь ждать Тохтамышева возвращения здесь, у меня. Скоро увидим, хороший ли ты пророк!
Глава девятая
Бухару Тимур не любил. Слишком близко сюда подступала пустыня с ее тяжелым, то душным, то ледяным дыханием, слишком близок был мятежный Кандагар. Осень шла по его стопам, напоминая о неотвратимом течении времени, и тоже настигла его в Бухаре. Холод, идущий с севера, прорвался наконец сквозь пески, сделав жестяными и ломкими листья дерев, и сыпал теперь в лицо ледяною пылью. Уже дошла весть о вторичном разгроме Тохтамыша и о том, что раненого полководца везут сюда, в Бухару. Два погрома, два погубленных войска! Тохтамыш не умел воевать! Что бы сделал с ним он, Тимур, будучи на месте Урус-хана? Наверно, не ограничил себя убийством отца. Сгубив волка, задави и волчонка! Или, напротив, попытался привлечь к себе Туй-Ходжу-Оглана ласкою. В любом случае Урус-хан поступил неумно! Волчонок уже привезен, уже стоит перед ним, низко опустив голову, и исподлобья озирает Тимура. Слегка раскосые, горячие глаза Тохтамыша, как ни старается он, неукротимы, в них то и дело вспыхивают безумные огоньки.
– У Токтакии было на четверть больше моего войска! – говорит он, и голос, срываясь на высокой ноте, переходит в хрип. Он готов обвинить Тимура, что тот не снабдил его достаточным числом воинов. Тимур усмехается одними глазами, чуть заметно. Мальчик не умеет сражаться, но он не трус!
– Садись, хан! – говорит он, помедлив. – Ты мой гость, и я рад, что ты остался в живых!
Глава десятая
Посреди большой двойной белой юрты был поставлен узорный кованый медный хорезмийский мангал, полный углей. Кирпичный дворец все еще достраивался. Мастера, подоткнув полы халатов, синими застуженными ногами месили глину. Тимур распорядил давать им вдоволь мяса и поить горячим вином, но работы не прекращать. Вода в хаузе, рыжем от облетавших листьев, стала тоже сизой от холода. Еще вчера стояла жара и клубилась над дорогами серая горячая пыль…
На позолоченных кожаных подносах, кофрах, подавали мясо: баранину и конину, жаренную на костре, вяленую, соленую; тонкую колбасу с требухой и круглые куски конских почек. В честь почетного гостя вынесли целую лошадиную ногу и сваренную в котле баранью голову. В дорогих фарфоровых чашках подносили соленый мясной отвар, прикрытый сверху сложенными вчетверо тонкими хлебными лепешками, пшеничные клецки и ришту, сдобренную пряностями, кумыс в серебряных и золотых чашах, вяленую дыню, сушеные персики и изюм, ширазское вино в узкогорлых кувшинах.
Эмиры поглядывали внимательно то на Тимура, то на Тохтамыша, который сосредоточенно ел, неловко придерживая больную руку и обсасывая жирные пальцы.
«Почему я решил, что нойоны Урус-хана перейдут к нему? – думал Тимур, тяжело и хмуро взглядывая на гостя. – Ко мне они, однако, не перейдут!» – Он вздохнул, кивая головой в такт своим мыслям.
Сорокалетнему полководцу, сидящему перед расстеленным дастарханом, еще только предстояло завоевать свою грядущую бессмертную славу. Он еще был – один из многих, но отнюдь не единственный, а единственными были пока, и еще надолго, на века вперед, Чингисиды. (Пройдут века, переменится все, но по-прежнему очередной володетель Узбекистана не посмеет тронуть одного из хулителей своих только потому, что тот – потомок Чингисхана!) А юноша, дважды разбитый в бою, что ел мясо, сидя перед ним, и облизывал пальцы, был Чингисид и, как Чингисид, имел права на ордынский престол.
Знает ли Урус-хан, что Тохтамыш спасся? Ответа на этот вопрос не пришлось ждать долго. Посольство Урус-хана во главе с мангутом Копеком, в сопровождении сотни воинов, прибыло в тот же день, к вечеру. Удалив Тохтамыша и собрав приближенных эмиров, Тимур сел на парчовые подушки и кивнул головою. Послов ввели.
Копек лишь преклонил колено, а говорил стоя, смело глядя в хмурый лик эмира эмиров Мавераннахра и поглядывая на сидящего рядом с ним подставного хана Суюргатмыша, которого Тимур всюду возил с собою, усаживая иногда в советах даже на главное место. Суюргатмыш был покладистым ханом, понимавшим, и понимавшим всегда, что обязан призрачной властью исключительно родословию своему, происхождению от Чингисхана, и что неоспоримым джехангиром, повелителем, был и остается Тимур. Он теперь брюзгливо смотрел на посла, гадая, что ответит Тимур и когда в повелителе тюрок проснется тот яростный гнев, после которого войска чагатаев, посланные его властной рукой, идут в сражения. Рубиться в сечах ставленый хан умел и любил.
– Раненая лань скрылась от облавы нашей охоты в вашу страну! – говорил Копек, значительно взглядывая на Тимура. – Если вы выдадите, то и ладно, а если нет, то от пределов океана и до границ Сыгнака придут в движение все войска Дешт-и-Кипчака, пусть чагатайцы назначат место встречи для битвы!
Мухаммед Джехангир осторожно поглядел вбок и тотчас отворотил взор – до того страшен был лик родителя. Тимур молчал, глядя на Копека разгорающимся взглядом голодного барса. Посол, словно поперхнувшись, умолк, прервав излишне цветистую речь, но перемог себя и докончил твердо:
– Тохтамыш убил моего сына, выдайте мне его! Идигу убежал от нас, нарушив закон, выдайте его тоже! Так говорит Урус-хан!
Посол замолк. Тимур продолжал молчать и ответил, когда тишина стала уже почти невыносимой:
– Ты опоздал, посол! Тохтамыш уже вкусил моего хлеба. Чтущий закон не предаст гостя своего! Он, как и Идигу, нашел себе у меня убежище, я его не выдам. Я сказал! – И вновь взглянул. И холод прошел по спине Джехангира, тревожно переглянувшегося с братом, Омар-Шейхом, – оба сидели по правую руку от отца.
Копек, пятясь и кланяясь, покинул юрту, видимо, и у него мурашки пошли по спине от яростного молчания Тимура. Эмиры сидели недвижно, ожидая приказаний.
– Надо собирать войска, – сказал, чуть шевельнувшись, Тимур. Он пошептал что-то совсем беззвучно, загибая пальцы, и произнес громко, в пустоту, никому и всем: – Через месяц и четырнадцать дней Урус-хан подойдет к Отрару!
Эмиры, склонив головы, начали покидать шатер. Был назван срок, а в то, что их повелитель никогда не ошибается, эмиры поверили уже давно. К названному сроку войска джагатайских эмиров должны были встречать конников Урус-хана у Отрара, и каждый из них торопился отдать и исполнить приказ.
Когда последний из эмиров покинул юрту, из-за спин юзбаши показался спрятанный между двойными стенами юрты Тохтамыш, прослушавший все от слова и до слова. Он молча кинулся в ноги Тимуру.
– Встань, хан! – устало, словно возвращаясь из долгого обморока, произнес Тимур. – Я принял тебя как сына, и да не ляжет меж нами никакая горечь!
Глава одиннадцатая
По дороге на Сауран двигалась чагатайская конница. Тимур не велел брать с собою ни жен, ни детей, ни многочисленных табунов мелкого, медленно бредущего скота. Только так можно было опередить Урус-хана. Про себя он знал, что воевать со степью было рано, что те же хорезмийцы или горцы Сеистана могли ему ударить в спину (потому и пробовал заслониться Тохтамышем), но раз уж возникла война, ее было необходимо выиграть. Не для того он два десятилетия собирал власть, чтобы теперь, бросив все, подобно покойному Хусейну, бежать в Хорасан!
Тимур, легким движением поводьев придержав ход чалого, остановился, пропуская войска. Воины, его воины, закаленные в бесчисленных боях, шли хорошо. Не было робости в лицах, не было той нерешительной медлительности, которая до боя говорит о разгроме. В Джехангира верили. Лица, иссеченные холодным ветром, расплывались в улыбках. Иные арабским навычаем подкидывали и ловили копья на скаку. Топорщились полные стрел колчаны, резво шли кони. К нему подъезжали эмиры, становились рядом, ожидая приказаний.
– Мы переходим Сейхун у Отрара! – сказал Тимур вслух, всем и каждому, и, обратив требовательный взор к Ярык-Тимуру и Салтан-Шаху, прибавил твердо: – Готовьте лодки!
Названные тотчас, с нукерами и свитой, поскакали вперед.
– А ежели Урус-хан сам у Саурана перейдет Сейхун и отрежет нас от Самарканда? – начал было Омар-Шейх, на правах сына дерзнувший вопросить родителя. Мальчик весь залился румянцем, без нужды натягивая повода. Тимур бегло улыбнулся, поглядев на сына.
– Тогда, значит, твой отец так и не научился воевать! – ответил он. Помолчал и, согнав улыбку с лица (мальчики должны постигать воинское искусство), пояснил сыновьям: – Урус-хан умен. Он ведет большое войско. С ними повозки, семьи воинов, стада. Он не захочет перейти Сейхун и бросить кочевья без защиты, ежели я сам перейду на правый берег реки. Да и нам лучше остановить джете за Отраром. Так-то, сын. – Он помолчал и докончил жестко, следя, как с приветственными кликами проходит конница: – А наши воины пусть помнят, что за ними – река и отступить для них означает смерть!
Не глядя более на сыновей, Тимур поехал рысью вдоль дороги, по которой, в столбах мерзлой пыли, текла бесчисленная рать.
Подскакал гонец, сообщив, что пешее ополчение уже собрано и идет к Отрару и что на подходе дружины Сайф-ад-Дина Никудерийского и Кай-Хосрау Джиляны. Тимур удоволенно кивнул головой. Эмиры, прежде при каждом набеге джете удиравшие за Джайхун, нынче поверили в него и спешат к бою. Мавераннахр нашел наконец в его лице своего защитника и главу. Нет, легкой победы не получит над ним хан Урус!
Небо очистилось. По-прежнему дул пронзительный северный ветер. Над отемнелой землею, над ширью песков распростерся зеленый степной закат.
Глава двенадцатая
Глиняный, неказистый, вечно разоряемый Отрар остался позади. Позади – тяжелая переправа через Сейхун, неверный мост на лодках, тонущие, сносимые течением кони, их последнее, призывное, отчаянное ржанье, когда лошадь, дико глядя обезумевшим взором, в последней надежде зовет хозяина…
По степи бессчетные огоньки костров. Стелется едкий кизячный дым, размокшие кизяки разгораются плохо. С черного неба летит и летит белая снежная пыль. Воины кутаются в халаты, угрюмо и споро глотают горячее варево. В шатрах – сбиваются грудою, не снявши мокрой сряды. Тлеет осторожный, невеселый разговор.
– Перемерзнем тут!
– И бежать некуда!
– Давеча Газан доброго жеребца утопил!
– Э-э, Ахмад, спишь? Ты давно с хромым, скажи, не отступит Тимур?
Старый воин недовольно шевелится, натягивая на себя конскую попону, отвечает хрипло:
– Наш джехангир когда и отступает, так только для того, чтобы ударить верней! Он один стоит тысячи! Спите!
Молодые воины лежат молча, слушая непрерывный стонущий вой ветра за тонким пологом шатра. В джехангира верят, но все-таки робость вместе с холодом заползает в сердца. О сю пору эмиры Мавераннахра не выдерживали боя со степною могольской конницей.
Наутро все вокруг было белым-бело от выпавшего за ночь снега. Тимур, закутанный сверх чешуйчатой кольчуги в овчинный чапан, немо смотрел, как, с трудом разгибая колени, вылезают люди из шатров, как ловят и взнуздывают сбившихся в кучу голодных, издрогших лошадей. Когда выступили, опять пошел крупными хлопьями мокрый снег, косо и зло заляпавший лица воинов. Кони мотали головами, отворачивались от ветра. Быстро темнело. В черной туче несколько раз сверкнула молния.
Когда показались вдали, сквозь белую тьму, ряды вражеских воинов, ударил такой ураган и ледяной дождь со снегом, что кони вспятили, а воины с трудом удерживали оружие скрюченными, замерзающими пальцами.
Нестройные крики с той стороны показывали, что и ратникам Урус-хана не лучше в этой мокрой и ледяной пурге.
Тимур ехал вдоль войска, все более убеждаясь, что посылать людей в атаку нельзя. Он поминутно очищал лицо от снега, срывая ледяные сосульки с усов, и, щурясь, перекатывая желвы скул, пытался разглядеть сквозь снежную пелену строй вражеских туменов. Джехангир был в той холодной, молчаливой ярости, когда даже ближайшие сподвижники не решались заговаривать с ним.
Отступать стали и те и другие почти одновременно. Воинов, что от холода неспособны держать оружие в руках, не пошлешь в бой! Урус-хан оттянул войска к Саурану. Тимур стоял за Отраром. Разошлись на семь фарсахов. Доброму коню проскакать за три часа, и эти три часа конского скока превратились скоро в год пути.
Вода и снег полосовали землю, усиливаясь день ото дня, в течение всех трех зимних месяцев. «Мозг костей каждого воина замерзал внутри зимних палаток», – писал позднее летописец Тимура. Урус-хан не выдержал первый. Ушел от холода, оставя заместителем при войске Кара-Кисек-Оглана. Кони с трудом добывали подножный корм, дохли. Не в лучшем состоянии были и люди.
Однажды удалось застигнуть в Отраре двоих урусутовых храбрецов, Сатниных, старшего и младшего, с сотнею всадников, и забрать в полон. Жалкая добыча для многотысячного войска.
Несмотря на конский падеж, Тимур упрямо не двигался с места. До него уже дошла весть, что сам Урус-хан ушел и его войска оставили Сауран. Помочь в этой беде могло только терпение, и он упорно терпел, почасту сам сутками не слезал с коня и заставлял терпеть своих эмиров и рядовых воинов, тех самых, у которых, по словам восточного летописца, от холода застывал костный мозг…
Почти обезножевшая разведка донесла, что Тимур-Мелик-Оглан с тремя тысячами конного войска стоит в двух фарсахах от Саурана. Отобрав лучших лошадей для пятисот всадников, Тимур послал в ночной набег Ярык-Тимура, Мухаммед-Салтан-Шаха и Хитай-Бахадура. Хитай-Бахадур и Ярык-Тимур погибли в ночном бою. Сражение спас Ильчи-Бука-Бахадур, ранивший стрелой в бедро Тимур-Мелик-Оглана. Ордынцы, унося раненого полководца, ушли в степь. Назавтра Тимур сам вступил в стан врага, опрокинул столбы главного шатра в знак победы и ушел назад. Это была, конечно, не победа, а случайная удача после тяжелой и неудачной ночной сшибки.
Перебыв неделю в Самарканде и обновивши коней, Тимур, взяв проводником Тохтамыша, с лучшими силами пошел в степь всугон. Тринадцать суток изматывающей беды, бездорожья и холода. Тринадцать дней сам Тимур, ужасая соратников железной выдержкой, почти не слезал с седла. Настигли Урусовы кочевья. Захватили добычу и полон…
Невесть чем бы окончилось дело, но старый Урус, простыв под Саураном, как раз в это время умер, передав стол Токтакии.
Только тут Тимур понял, что «перестоял» противника. Посадивши Тохтамыша в Сауране, он отвел полки. Войско потеряло в походе пятнадцать тысяч коней, и люди брели пешие, похожие на голодные тени. И все-таки они победили!
Расставаясь, Тимур подарил Тохтамышу редкостного, схожего с ветром коня, Хынг-Оглана. «На этом коне в случае удачи догонишь врага, а в случае бегства никто тебя не догонит», – сказал он на прощанье юноше.
Токтакия умер через три месяца. Тохтамыш выступил против последнего сына Урус-хана, Тимур-Мелик-Оглана, и вновь был наголову разбит под Саураном. Спас его на этот раз подаренный Тимуром конь. На коне этом трижды разбитый полководец прибыл к Тимуру в Самарканд.
Глава тринадцатая
Как изменился бы мир и что произошло в Великой степи, как изменились судьбы Поволжья, Дешт-и-Кипчака и далекой Руссии, ежели бы у Тимура не хватило терпения, а у Тохтамыша – настойчивости, да и просто ежели бы слепая удача не склонилась наконец на его сторону?
Но терпения у Тимура хватило. Как прояснело вспоследствии – на свою же беду.
Давно разрушились дворцы и засохли сады, в которых пировал Тимур, Тамерлан – Тимур-Ленг или Тимур-Аксак, Железный Хромец («ленг» по-персидски и «аксак» по-тюркски одинаково означают «хромой», и отнюдь не «железный», как утверждала русская летопись). И когда мы теперь, приезжая из России, глядим на развалины Биби-ханым или любуемся Гур-и-Эмиром, успокоившим прах великого завоевателя, думает ли кто-нибудь, почему так произошло и где заложены корни того, что давнее государство Тимуридов через шесть столетий слилось с великой Россией? Догадываем ли мы, что Тимур, создавший из небытия Тохтамыша, тоже заложил свой камень в грядущее устроение великой страны?
Молчат узорные минареты, еще не возведенные пленными мастерами в величественном Самарканде. И долго скакать коню отсюда до холмистой, укрытой лесами земли руссов. И никто еще не ведает ничего, ибо грядущего предсказать невозможно, потому что творят грядущее деянья людей, а деяния еще не свершены.
Осенью того же года, когда трижды разбитый Тохтамыш с помощью многотерпеливого эмира эмиров готовился к новому, четвертому одолению на враги, из Белой Орды прискакал украдом Урук-Тимур. Когда-то захваченный в плен и пощаженный Урус-ханом сподвижник Тохтамыша, он ныне сбежал от Тимур-Мелика с доброй для Тохтамыша вестью: этот неудачный Урусов сын проводит дни в пьянстве и развлечениях и уже надоел всем эмирам, которые теперь ждут Тохтамыша, дабы посадить его на престол Белой Орды.
Тимур отпустил с Тохтамышем троих сподвижников, на коих мог положиться, что они удержат молодого монгольского хана в его, Тимуровой, воле. Их имена: Али-бек-конгурат, Урук-Тимур и Ак-Бука-бахрин.
Когда последние двое умерли, началось все то, что совершилось впоследствии и что очень помогло восстающей России утвердить свою государственную независимость.
Посаженный эмирами и мангутскими толба на престол Урус-хана Тохтамыш, по праву наследования объединивший Синюю и Белую Орды, через зиму уже вторгся в Поволжье, захватил Сарай и Мамаев иль (Мамаеву кочевую вотчину) на левом берегу Волги. Сподвижники толкали его к восстановлению былого могущества кочевой державы Джучидов. Дальнейшая судьба бывшей Золотой Орды и самого Мамая решилась уже после Куликовской битвы.
А Тимур, посадивший Тохтамыша на престол Урус-хана вовсе не для того, чтобы создавать себе угрозу на севере, что думал он?
Тимур был далеко. Усмирял куртов в Кандагаре, сокрушал государство иранских музаффаридов, воевал с сарбадарами в Хорасане, подчинял Хорезм и не мог не воевать, ибо ветераны Тимура, профессиональные воины, служили за плату и стоили дорого, гулямов Тимура могла прокормить только непрерывная война.
Он и Тохтамыша посадил для того только, чтобы обеспечить спокойный тыл и безопасность Мавераннахра во время затяжных походов в Хорасан и Персию.
И вот еще почему у Тохтамыша оказались развязаны руки для его дальнейших завоевательных замыслов.
Знал ли, ведал ли Мамай, откуда грядет на него беда? Не знал и не ведал, скажем мы теперь, ибо этот человек, как и многие правители, не умел глядеть намного вперед и видел лишь ближайшие насущные задачи своего царствования. Для него смерть властного Урус-хана показалась подарком судьбы, позволяющим не заботиться больше о южных границах улуса, бросив все силы против упрямых урусутов, с которыми он еще недавно был дружен и даже вручал ярлык князю Дмитрию.
Мамаева Орда, занимавшая правобережье Волги, была разноплеменной и пестрой. Кроме татар – потомков половцев – здесь были и генуэзцы из Кафы, толкавшие Мамая на борьбу с Русью, и ясы (осетины), и касоги (черкесы), и караимы, и крымские евреи. Все более и более сближалось это разноплеменное государство с Литвой, с католиками, и тем враждебнее становилось к Руси Владимирской. А потому не видел, не понимал Мамай, что, ссорясь с русским улусом, приближает он тем самым свой неизбежный конец.
Глава четырнадцатая
Зимняя ставка Мамая, Большой Юрт, помещалась в излучине Дона, там, где Дон, изгибаясь, ближе всего подходит к Волге. Сюда собирались купцы со всех окрестных земель, здесь выстраивались загоны для скота, шла бойкая и прибыльная торговля. Кожи, шерсть, крупный рогатый скот, купленный тут, доходили до стран Западной Европы, откуда, в свою очередь, привозились сюда сукна, оружие, украшения и серебро. Зависимые владетели к беглецы, собиравшиеся под крыло к Мамаю, тоже обретались тут, в Большом ханском Юрте.
Иван Вельяминов, бежавший от князя Дмитрия, старший сын покойного московского тысяцкого Василия Васильича (оскорбленный отменою звания тысяцкого на Москве, которое должно было принадлежать ему по наследственному родовому праву), лежал в шатре, развалясь на кошмах, и думал.
Московский тысяцкий – без Москвы! Единая эта честь и досталась ему, зваться тут, среди этого степного базара, своим, утерянным на отчине званием… Иногда ненависть к Дмитрию удушьем подступала к горлу. За что?!
Сто лет! Сто лет его род стоял у кормила власти. И так безлепо все обрубить, уничтожить, отменив саму власть тысяцкого… А что затеял он, Иван? Восхотел отменить власть князя Дмитрия! То́лстого Митьки, непроворого увальня, коему лишь повезло родиться первенцем у покойной тетки Шуры… «Мы не только возвели его на престол, мы его содеяли, выродили на свет, поганца! Мы, Вельяминовы! И вот теперь!.. – Он, скрипнув зубами от бессильной ярости, перевернулся на живот. – Был бы на месте Мамая Чанибек, Узбек хотя бы. Не усидел бы ты, Митька, на столе московском!»
Стремянный пролез в юрту, возвестил с поклоном:
– К твоей милости. Фрязин Некомат.
– Проси!
Привстав, небрежным кивком отозвался на низкие поклоны улыбающегося пройдохи. Тяжело поглядел в бегающие глаза. Выслушал, с непременным упоминанием своего тысяцкого звания, приветственные слова. В недоброй усмешке дернул усом:
– Говори, зачем пришел!
Из цветистого фряжского пустословия выцедилось, что Некомат затеял теперь подкупить кого-нито из московских бояр, сподвижников Дмитрия… Дурень! Да они самого тебя купят!
– Просрали Тверь! Что теперь! Почто не дали серебра Мамаю? – возразил грозно. – Вы… с папой своим! Сваживать да пакостить, а на дело – и нет! Литва тоже – в мокрых портах бежала с боя… Тверь надо было спасать. Тверь! А вы решили ослабить обоих: и князя Михайлу, и Дмитрия? Чтобы самим к северным мехам руки протянуть? Получить в откуп Югру с Печорой? Двинскую дань? Только с кого?! Дмитрий вам все бы дал! Не жалко, дураком рожден! Да и Акинфичи… Владыка Алексий не даст! Русь вам не погубить, не купить: не Византия! Не греки, что вовсе разучились драться иначе как друг с другом. Говорил, упреждал! Мамаю баял не по раз. Что сотворили? Усилили Дмитрия! Вся земля Владимирская теперь у него в горсти. Ну и что, и с кем теперь вы почнете невода плесть? И кого уловить ныне надумали?
– Вельможному боярину на Москве… – начал было Некомат…
– Смерть! Ведаю то, – возразил Иван. – Пото и валяюсь здесь, в дерьме, не то бы… (Что «не то бы? Воротился, пал в ноги Митрию? И он простит?)
– Я баял Мамаю, пусть оставит в покое суздальцев! Зарезали Сарайку, и полно тово! Пограбили Киш, отвели душу, – хватит! Головою за голову разочлись. Дмитрия надо бить, Москву! А кем его заменить теперь? Не Митрием же Кстинычем! И Борис не потянет! Все ить на Тверь кинулись! Ноне на Руси два и есть сильных князя: Олег Иваныч да Михайло Саныч Тверской! Олегу нет части во Владимирской земле, а Михайле… О чем ты думал, когда вез ему ярлык и знал, что Мамай все едино не выступит?
– Не ведал…
– Знал!! – бешено выкрикнул Иван, сжимая кулаки. – Знал! Знал, гад! Без вашего фряжского серебра ему и беков своих, никоторого, не собрать! Ничо ему не сотворить без вас!
– Митрополит Алексий стар вельми, да и не вечен на Москве, – начал, с тонкою улыбкою, Некомат…
– Владыку заменить надумали? Вы али Филофей Коккин? Чаешь, Киприан станет служить католикам? Ой ли? Разве что погубите и Коккина… – Он мрачно глянул в глаза фрязина, и тому стало столь холодно от Иванова взгляда, что Некомат поспешил раскланяться и исчезнуть.
Иван посопел. Узрел в темноте юрты страдающие глаза своего попа. Не удивился бы, ежели тот попросил после каждого фряжского посещения проходить какое-либо очищение от латынской скверны, кивнул:
– Не боись, батька. В латынскую веру не переметнусь. От Феди все нет вести…
Взрослый сын Федор сидел на данных князем Михайлой вотчинах в Твери.
Слуга вновь пролез в юрту, на этот раз с сановитым татарином, пояснил:
– Зовут к Мамаю.
Иван нехотя оделся, опоясался золотым, в чеканных узорных бляхах поясом. На воле охватили солнце и холодный степной ветер. На родине сейчас, среди серебряных, в инее, боров, медленно и торжественно падают мягкие белые хлопья. Далеким-далеко! Оттуда, из далекости, несло мелкою снежною пылью. Свежесть мешалась с густым духом овец, что жались к человечьему жилью. По всей побеленной равнине темнели пятна конинных и скотинных стад.
Ему подали чалого. Иван безразлично, не глядя, поймал стремя загнутым носком сапога, легко взмыл в седло. Конь, всхрапнув, пошел было наметом, под рукою хозяина дважды вставал на дыбы, пока наконец, поматывая головой, не перешел в ровную рысь. Стремянный скакал следом.
Какие-то черномазые, не от цвета кожи, от грязи, в выношенной меховой рванине пастухи кинулись в очи. Возможно, подумалось с отчужденною горечью, что и русичи. А может, и свои, татары. Иван насмотрелся тут, пока сидел в Орде, досыти всякого. Среди шкур – полуголая, среди стад – голодная толпа своих, ордынских «меньших» отнюдь не радовала глаз, и понималось теперь, почто и как оно так сотворяется, что грозные повелители многого скопища стран и народов сами подчас, спасаясь от бескормицы, продают детей кафинским купцам… А осенью, когда Орда приходит на тутошние кочевья, веницейские гости в Тане запасы икры аж в землю зарывают, и все одно – татары выроют и все подчистую съедят, чисто саранча! И не от озорства какого, от голода! Скотина-то не своя, бека какого али хана самого, тут и падаль будешь есть, как подопрет… Завоеватели! В поход, так – словно зимние волки! И не хочешь, а будешь грабить с таких-то животов!
Иван перевел плечами, прогоняя утреннюю, еще не сошедшую дрожь. Многое прояснело ему, сидючи тут, в Орде. Многое, чему дивился или негодовал, теперь содеялось привычно-понятным.
А вот и торг. Ряды юрт, ряды загонов. Толпа, негустая в эту пору, иноземных, разномастно одетых и разноязычных гостей. Гомон на многих языках, машут руками, щупают скот, вертят, разглядывают рабов, перебирают сукна и шкуры. Сюда тем, рваным, заказан и путь. Явится который, так шуганут – колобом выкатится отсюдова. Вот персидские, в крашенных хною бородах, купцы, аланы, черкесы, фряги, влахи, веницейские гости из Таны, бухарские гости, греки, жиды, русичи, немцы, готы, франки – кого и нет! А когда торг в силе, то и не протолкнуться порой сквозь эту слитную, орущую и торгующую разноплеменную толпу.
Московского тысяцкого узнавали, кланялись. Неложный почет ордынцев согревал сердце, и паки бесило, что почет этот добыт деяниями московской господы, прежде всего рода Вельяминовых, владыки Алексия, и меньше всего и всех самого князя Дмитрия, «Митьки».
Перед ханским шатром пришлось спешиться. Властительного темника давно уже русичи и в глаза и по-заочью называли царем. Хотя, подобно далекому Тамерлану, Мамай, не будучи Чингисидом по роду, ханом быть не мог и держал при себе, меняя их время от времени, ханов-чингисидов, замещавших престол верховных правителей Золотой Орды. Почти исчезнувшей Золотой Орды, вскоре преображенной в Синюю, отбитой от волжских, многажды разгромленных новогородскою вольницею городов и все-таки и все еще грозной, все еще великой, хотя бы и памятью прошлого, памятью прежних туменов Субэдея и Бату-хана, древнею славой побед, страхом народов, все еще не преодоленным в сознании поколений, уцелевших от давних погромов, от того, почти уже небылого, ужаса, пожаров сел и погибели городов…
Иван, склоняя голову, ступил через красный порог резной и расписанной двери, скоса глянув на замерших, надменных нукеров: блюдут!
Царь сидел на тканных золотом подушках, кутая руки в узорный шелк.
– Здаров буди! – сказал по-русски. Обозрел Ивана, любовно усмехаясь, как дорогую диковину, привезенную из далеких земель, предложил взглядом и кивком сесть к дастархану.
Иван неплохо понимал татарскую речь, но говорил все еще с трудом, не вдруг подбирая слова и оттого гневая на себя. Ни в ком, и в себе самом тоже, не любил Иван Вельяминов никоторого неуменья в делах. Тут – тем паче. Татарскую молвь ведать было надобно!
Неловко слагая длинные ноги, русский боярин опустился на ордынский ковер. Помыслил скользом: стоит ли говорить при казии и эмирах, мысленно махнул рукой – все едино! Здесь и у стен – уши.
Упорно и тяжело глядючи в слишком улыбчивое лицо некоронованного владыки западной половины Дешт-и-Кипчака, претерпев ничего не значащие цветистые любезности, высказал, словно камнем придавив восточную увертливую речь:
– Тебе, царь, надобен сильный князь на Руси, – по-татарски сказал, трудно и твердо складывая слова чужой речи. – Почто не поддержал Михайлу Саныча?
Мамай глянул жестко и снова расхмылил, растекся весь в масленой улыбке, сощурив по-кошачьи глаза. Заговорил, не то для Ивана, не то для эмиров, о каком-то Гасане, который чего-то не сделал, куда-то не пришел… Весь этот словесный поток можно было изъяснить одним речением: «Не было сил!» Но ежели сил не было поддержать князя Михайлу, тогда зачем ярлык, зачем такая поспешливость, окончившая сокрушением Твери? Фряги? Конечно, они! Они же и обещали (и не дали!) серебра Мамаю.
– Скажи, встанет ли коназ Михайло на Дмитрия, ежели я снова пошлю ему ярлык? – вопросил, окаменев в улыбке, Мамай.
– Не ведаю, – врать не хотелось Ивану. – Ты, царь, теперь суздальских князей поддержи. Противу Москвы! – возразил он.
– Дмитрий Константиныч тесть князя Дмитрия, а мне ворог. Сарай-ака убит в Нижнем! – строго отверг Мамай.
Иван чуть заметно пожал плечами. Усмехнул лениво, тою своею усмешкой, от которой бесился некогда князь Дмитрий.
– Парфентья Федорыча в Кише убили? – вопросил. – Вот и сочлись! Окроме того, в Нижнем еще и Борис Кстиныч есть!
– Сам же ты баешь, Борис ходил на Тверь, – оспорил Мамай. Теперь и эмиры тоже внимательно, переставая улыбаться, смотрели на Ивана Вельяминова. – Суздальские князи утесняют моих гостей, – отчеканил Мамай, и в прорвавшейся жесткости голоса пророкотала-прокатилась дальним громом угроза. – Я отыму у них булгарскую дань!
«Или они у тебя!» – подумал Иван, но не сказал ничего. Слишком дразнить Мамая было опасно.
У повелителя золотоордынского престола на все его дальние затеи хронически не хватало серебра. Вот почему так заискивает он перед генуэзцами! «А видать, фряги до тебя не вельми щедры!» – подумал Иван не без злорадства.
– Так-то оно так, царь, да вот… Потеряли Тверь, нонеча и Суздаль с Нижним переходит под руку московскую! Гляди, со временем и тебя самого князь Дмитрий съест! – раздумчиво выговорил Иван.
Почему они здесь, в Орде, стали ныне так слепы? Почто суедневная нынешняя нужда застит для них дальнее, но важнейшее? И вот, сами на гибель себе, выкармливают Москву! Насколько умнее их всех, и князя Митрия тоже, владыка Алексий! Хотя и Алексий не поддержал его, Ивана, в давешней беде. Не мог? Или не восхотел? Или его, Ивановой, головой купил нечто важнейшее для дела церкви и народа русского? А он, Иван, сидит тут, пытаясь поднять Мамая на борьбу с Дмитрием и тем разрушить все здание московской политики в Орде, создававшееся со времен Калиты и устрояемое ныне владыкой Алексием? Да, после разгрома Михайлы, после того, как тверской князь, в черед за Дмитрием Суздальским, отрекся в пользу Митьки от великого княжения владимирского, его борьба с князем становит безнадежною. Почти безнадежной! И ему, Ивану, предстоит… Что предстоит?! Он еще жив, он еще сидит здесь в сане московского тысяцкого, и он еще поспорит с Дмитрием!
– Тебе страшен не суздальский князь, а Урус-хан, – сказал Иван. – Он уже отобрал у тебя Сарай.
Но Мамай весело потряс головою:
– Урус-хан нынче не страшен. Против него – Тохтамыш! А Тохтамышу помогает сам Тимур-Аксак!
– Ну а Тохтамыш твой, одолев Урус-хана, не потребует опосле, разохотившись, твоих земель и самого трона твоего?
Вспыхнули, округлились и вновь сузились кошачьи зрачки, дрогнула борода, оскал зубов на мгновение, на миг один, стал страшен. Мамай помотал головой.
– Урус-хана нелегко разбить! Мне доносят. Тохтамыш уже был разбит под Сыгнаком. Наголову! Пусть они и дальше бьют друг друга!
Тут тоже было бесполезно настаивать. Мамай явно не понимал, что и Урус-хан, и этот неведомый Тохтамыш, одолев во взаимной пре, не важно, который которого, потщатся вновь объединить все Дикое поле, Дешт-и-Кипчак, и безродный Мамай вряд ли наберет достаточно преданных эмиров, чтобы сокрушить их в свою очередь. Левобережье Волги давно уже потеряно им. И опять – фряги! Только фрягам нужна грызня с Москвой! Самому Мамаю не так и нужна. Он, Иван, на месте Мамая всячески поддержал бы Москву и уже с русскими полками возвращал себе Синюю и Белую Орды, Арран и Хорезм… На месте Мамая. Не быв обижен и изгнан! Не потеряй семейную долю и власть! А этот – хитрит! И ныне, с ним, хитрит тоже. Зазвал выведать, что скажу я, а сам? Сам – что еще решит? И все одно – мелок. Мелок ты, темник Мамай! Не вышло из тебя истинного царя!
– Падаркам палучал, сматри! – произносит по-русски Мамай удоволенно и кивает.
Нукеры выносят на блюде, достав из кожаного мешка, и ставят перед ним, прямо среди закусок и питий, дурно пахнущую человечью голову.
– Прокоп! – поясняет Мамай, любуясь подарком и зорко следя, как отнесется москвич к виду отрубленной головы своего соотечественника.
Несвежая, видимо, подкопченная голова отталкивающе страшна. Так вот чем окончился поход новогородских удальцов-ушкуйников, затеянный в те поры, как Дмитрий стоял под Тверью! Они тогда взяли и разграбили Кострому, и Митькин наместник, младший брат владыки Алексия, Александр Плещей, бежал позорно, бежал, имея пять тысяч противу двух, не то трех тысячей новогородских удальцов. «Плещеев вдал плещи!» – как ядовито потешались на Москве. А потом молодцы пошли на Низ, ограбили всю Волгу, разбивали города, жгли купеческие караваны, топили бесермен, и так, воюя, дошли до самого устья Итиля, до Хаджи-Тархана, где князь Салчей льстиво принял их, перепоил и, сонных, пьяных, вырезал всех до единого, забравши себе и товар, и полон, и грабленое серебро. Прокоп был из простых, не боярин даже, и Великий Новгород тотчас отрекся от него и всех его шкод. Ах! Погуляли молодцы! Повидали красоты и земель далеких, порвали узорочья, понасилили женок, и своих и бесерменских, по городам, попроливали кровушки, и там жаркою осенью, среди камышей и глиняных стен Хаджи-Тархана, сложили дуром и даром буйные головы свои!
Спали, верно, развалясь в шатрах и под звездами, не слыша бреха собачьего, не чуя шагов осторожных, крадущихся… Там и погинули все, и разве который успел вспомнить в смертный час о богатырской гульбе, о девичьих очах, о грудях белых, о том, как падали, крича, под саблями, разрубленные чужие тела, как шли, как гребли, как пели, хвалясь подвигами у костров, как дивились черноте южной ночи! И не останови, куда бы? Может, и до Индии дальней дошли бы, воюя, новогородские лихие ушкуйники! И вот теперь сюда, в главный Юрт, доскакала, доправилась дурно пахнущая снулая голова, мертвая паче смерти самой. Прокоп!
Иван встряхнул кудрями, отгоняя нахлынувшее. Мамай вновь маслено улыбнулся, умиляясь и тому, что Прокоп, разгромивший едва не все ордынские грады, убит, а также, и более того, тому, что голову новогородца доставили ему, Мамаю. Значит, Хаджи-Тархан и тамошний князь – в его воле…
Страшный подарок унесли. Есть после того расхотелось вовсе, хотя татары чавкали, словно бы вид тухлой человечьей головы на столе для них – обыденка. А может, и вправду обыденка?!
Возвращаясь к себе, Иван Вельяминов неволею оглянул назад – не скачут ли за ним следом посланцы Мамаевы, чтобы и его голову подарить повелителю в кожаном мешке. Заставил себя усмехнуть и прямее всесть в седло. Все же этот татарин умеет нагнать страху, умеет! Видимо, этим и держит власть! А подумав о власти, вновь и опять вздохнул. У него самого власти, истинной, непоказной, тут, в Орде, и вовсе не было.
Глава пятнадцатая
В этот раз Наталья отпускала сына Ивана на рать уже без того надрывного ужаса, как попервости. Да и парню пошел семнадцатый: мужик, муж, воин! Так уж и понималось, что Никитин сын должен пойти стопами отца и не кули с рожью считать, а на ратях добывать себе зажиток и славу. Да и поход на Булгары, как толковали, сулил в случае удачи корысть немалую. Мамай таки обложил дикою данью русских торговых гостей в поволжских городах, и теперь соединенные нижегородско-московские силы шли восстанавливать добытые прежнею кровью торговые права русичей.
Родовой терем вельяминовский, наследие Иваново, как и прочие угодья: дворы, села, деревни, вымолы, борти, луга, охотничьи ловища и тони Ивана Васильича Вельяминова, – князь Дмитрий забрал под себя. Наталье Никитишне теперь уже не стало воли останавливаться в гостеприимных высоких вельяминовских хоромах на Москве, встречать все тех же старых слуг, помнивших ее еще юною вдовою… Хоромы покойного Никиты в Занеглименье сгорели тоже во время нашествия Ольгердова, и ретивый слобожанин захватил ихнее родовое погорелое место под огород. Оставалась та крохотная избенка на Подоле, чудом уцелевшая при последнем пожаре, что когда-то подарил Наталье и Никите Федорову на свадьбу тысяцкий Василь Василич. И пока шли суды-пересуды (отступаться родового двора Никитина Наталья не думала), вдова с сыном и девкою поселились тут, в нищете и забросе.
Доколе мыли, скребли, затыкали щели, чтобы хоть как-то обиходить осевшую набок хороминку, пока затягивали окошко мутным пузырем и Наталья звонко покрикивала на девку, гоняла возчиков (в Москву-то явились с рождественским кормом владычным, и Наталья, разрывавшаяся меж родовой деревенькою коломенской и нужной и трудною службой митрополичья данщика – а и забросить нéкак! Сын растет! Ему на справу одну, на сряду да на коня, чтобы был не хуже иных детей боярских, много нать!), пока хлопотала властно и строго, все было ничего… Но вот и дом починен по первости, и баня истоплена, и схожено в первый жар, и мужики, тесно обсевшие стол, отъели, отпили и, шумно благодаря, потянулись, натягивая рукавицы и зипуны, на порожних санях вон из двора, и тяжелый дух ихний, мужичий, вытянула топящаяся печь, и Наталья, отослав девку с грамотою к Тимофею Вельяминову, села, пригорбясь, на постелю, ту самую, врубленную в стену, неизносимую, потемневшую от времени до цвета темного янтаря, на которой, да, на которой и сотворилась ихняя первая ночь с Никитой, и, уронив жилистые сухие руки в колени, заплакала скупыми, сдержанными слезами…
Как давно! Вешала полог, голубой, ждала, волновалась, словно первой ночи, и как стал уже тогда родным, своим до боли прежний грубый ратник, хвастун и задира, Никита Федоров… Никита, Никишенька… Ох! Господи, дай ему в мире том! Все ить искупил! И как умирал-то, и уезжал-то как… Доднесь не простила себе, что не поняла, не почуяла, как подошел к ней, сонной, что напоследях, что во последний раз, во останешний… Ни-ки-и-тушка!
Справилась. Встала. Глубокими, тенью обведенными, в заметной сетке морщин тонкого иконописного лица глазами (ее очами любовался когда-то, говорил: первое, что кинулось взору, – очи ее), теперешними, почти жесткими, слезы платом тафтяным утерев, глянула в очи Богоматери Одигитрии, положила крест, поклонив иконе, скрепилась, вышла.
Сын стоял на крыльце, высокий, мосластый, еще по-юношески неуклюжий, пощипывая пух первой жданной бороды, и хмурил молодое, голодное, крупноносое, крупноглазое лицо.
– Скажи, мать, мы тута теперича и жить будем? Коня и то ставить негде!
Конь, боевой, стоял, закинутый попоною, у огорожи. Верно, и коня тут поставить негде!
Любовно оглядела: выше матери на голову Иван, и до сих пор не сказал, что содеял с тем холопом тверским, как отпустил: открылся ли перед дорогою? За тот поступок, за гордую застенчивую доброту прощала и грубость нынешнюю, и многое иное, что по юности, по неразумию и порыву себе дозволял мужающий Никитин сын. И виделось: норовом, повадою – в отца, в Никиту. Ныне и того более стал походить на родителя. Любуя, взором оглядела, потянулась было поправить шапку на буйных волосах, не посмела, огрубит, после и сам каяти будет, и ей докука.
– Тимофею Василичу послала с грамотою, должен по старой-то памяти помочь! А там, по весне, лесу навезем и мужиков, хоть коломенских, пущай на отцовом месте хоромы сложат!
– Прости, мать. – Поглядел скоса, понял. – Обидеть не хотел, а так, зазорно вроде бы… нашему роду… Може, владыке в ноги пасть? – И покраснел, сбрусвянел, густо покраснел. Тихо возразила на этот раз, тронув-таки такие непокорные, такие Никитины вихры:
– Не сумуй. Все будет у нас с тобою! Был бы ты, а терем на Москве срубим когда-нито, сын. Може, и с похода с добром воротишь…
Сказала про поход, и замглило взор, сердце дрогнуло. Тихо, не рассердить бы дите, прибавила:
– Без ума в драку не лезь!
Перевел плечами, снедовольничал:
– Не первый поход, мать!
Нарочито грубо сказал и утупил взор. Наталья решила не бередить боле, перевела речь:
– К Леонтию, писцу владычному, тебе бы съездить! Отцов товарищ первый был. Может, и доложит владыке? Или сам… – Не договорила.
Сын, прояснев взором, глянул на нее, по-детски совсем вопросил:
– А вспомнит меня-то?
«Ох и мал ты еще! – подумалось. – Без матери о сю пору некак».
– Проездись! Ежели примет… Отца забыть не должон! А в отцову память и тебе волен помочь!
И пока седлал, и пока торопливо совал ногу в стремя, все глядела, любуя. Помыслила: «Езжай, сын! Просить о чем – оно, бывает, труднее, чем в бою, на рати, с саблей в руке. А и без того некак!»
И доколе не исчез в косине улицы, и пока за тынами мелькала еще сбитая на лоб с алым верхом щегольская шапка, все стояла и смотрела с крыльца… Словно бы Никиту любовала напоследях. За живыми и мертвый жив: в детях, внуках, правнуках… Ники-и-и-тушка! И Ваняту-то иной раз, обинуясь, Никишей назовет. Иван только глянет исподлобья, слова не скажет. Отец и ему примером и гордостью доднесь. Да и сколько сказывала! Об ином, далеком, даже о той, небылой княжне-тверянке, что будто бы любила прадеда, подарив ему те, Никитины, невесомые золотые сережки. Дочери ли на свадьбу подарить (четырнадцать, пора и жениха искать!), либо Ивану уж, для его суженой? Подумала с ревностью: отведет, отманит от матери! А женить все одно нать. Ишь, ни единой девки не пропустит взором и по ночам неспокойно спит. Пора женить, а все жаль делить его сердце с той, неведомой, которая ничего не будет знать, ни помнить, ни суматошного бегства ночного, ни трудных лет, ни того, как пеленала, купала, пестовала… А придет и возьмет, и она уж станет посторонь им обоим! Понурилась вновь, похмурила чело, покривила губы.
По-за улицами гудела Москва, звоны и стуки и людской гомон текли не прерываясь. Расстроилась Москва! Растет! И зимой, вишь, колготят, рубят что-то в Кремнике за белою, прямее сказать – серою под шапками белого снега, каменной крепостною стеной. Век останавливала там, в Кремнике. А вот: Иван Василич в Орде, в бегах, а терем вроде Федор Кошка али Андрей Иваныч со Свиблом купляют – Акинфичи стали в силе теперь. Наделал делов Иван Вельяминов бегством своим! Теперь и не воротит, поди! – с тревогою помыслилось. Все не могла понять, осознать, как это на Москве нет уже тысяцкого и нет вельяминовского гордого терема, разошлись по родичам старые слуги Василь Василича, истаяли, исшаяли прежние знакомства и дружества… Ныне хошь и не приезжай на Москву! Сына нынче сама упросила в поход. Ходила на поклон к воеводе Боброку. Иван и не ведал о том, не то бы надулся, как индюк, поди, и делов каких неподобных натворил…
И владыка нынче не в той чести, стар стал. Всем у князя коломенский поп Митяй заправляет, громогласный, важный, паче князя самого, неведомый ей, Наталье, и потому до ужаса чужой…
Потупилась, почуяла холод, заползающий под подол и в рукава, воротилась в продувную, кое-как вытопленную хоромину… Прав сын! Надобно выдирать свое!
Галочьи и сорочьи оры над главами и шатрами церквей, над сумятицей крыш и садов, стонущие удары харалуга с литейного двора княжеского, и синие, почти уже весенние небеса, и далекое Замоскворечье, устланное белым, уставленное теремами и стогами сена, в лентах дорог, уводящих на Воробьевы горы, на Коломну и в Серпухов, долгих, дальних дорог, очень дальних, когда по ним движется рать, уводя вдаль от дома единственного, и последнего, сына, подаренного ей судьбой.
Глава шестнадцатая
Князь Дмитрий бегал по горнице, доругиваясь напоследях:
– Это Иван! Снова Иван! Всегда Иван! Теперича татар взострил на меня! По ево, дак и ратиться нам с Мамаем придет! Доведет! Не прощу! Никогда не прощу! Пущай хошь кто, хошь батька Олексей сам ко мне придет… – сказав последнее, споткнулся словно, скоса глянул на Митяя, печатника своего, большого, осанистого, с дорогими перстнями на пальцах холеных, по-мужицки больших рук. Про отца своего духовного сболтнулось лишнее. Подозрительно озрел гладкий лик Федора Свибла. Но боярин тоже не давал вести, что заметил промашку князя, то – успокоило.
К своим двадцати пяти Дмитрий выровнялся, еще раздался в плечах, заматерел, явилась сановитость, заменив прежнюю неуклюжесть отроческую. Крупно рубленное, словно топором содеянное лицо князя, в коем нет-нет да и проглядывало родовое, вельяминовское, от покойной матери доставшееся, грубое это лицо стало прилепым, властным. Во всем облике Дмитрия, как-никак отца уже троих детей, проявилась наконец нужная княжеская стать, и скрывался он нынче (как теперь) все реже и реже… И тем сильнее ненавидел Ивана Вельяминова, что был тому двоюродником!
Поход был решен и воеводою поставлен уже явивший свои таланты в бою на Скорнищеве с князем Олегом волынянин Боброк. И теперь всего-то оставалось доправить рать до места, до города Булгара, где нынче по Мамаеву повеленью сильно потеснили русских торговых гостей. И не вскипел бы князь, кабы снова не встало, словно язва ноющая, старое вельяминовекое дело!
Давеча Маша, Микулинская, князева свойка, приволоклась к Евдокии просить за Ивана. Дуня, оробев и, как всегда, робея перед сестрой, отреклась:
– Не могу, Маша. Боюсь ему и сказать. Сильно гневен на Ивана… – И на невысказанные, рвущиеся наружу слова старшей сестры торопливо домолвила: – Что ты! Твоего любит! И не сумуй! Да кабы в вине такой…
Маше не задались сыновья. И сейчас, вдыхая чуть душноватый воздух горницы, детские запахи, глядя на толстых карапузов, что лезли, словно глупые щенки, в руки матери, в любопытные, чуть испуганные очи старшенькой, что тоже на всякий случай оттягивала материн атласный подол, Мария смутно позавидовала сестре, этим ее ежечасным заботам, этому ее пышному чадородному лону, ее вечной женской захлопотанности и тому, как у младшей сестры ни на что иное не хватает уже времени и не надобно ей уже ничто иное, ибо главная (так и не получившаяся у нее, Марии) забота, и участь, и труд женский – в полном отречении от себя самой ради мужа, ради детей, ради того, чтобы не кончалась, никогда не кончалась жизнь на Земле.
И о том разговоре, о той косвенной просьбе помиловать ослушного боярина узнав, паче всего – и в дому своем не оставят в спокое! – оскорбился великий князь и потому бегал нынче по покою княжому, бегал в ярости, забыв о сидящих бояринах, ибо, как и тогда, как и в детстве, чуял несносное превосходство Ивана Вельяминова над собой.
Федор Свибло прокашлял значительно, дождав, когда князь, убегавшись, вбросил крупное тело в золоченое, испуганно скрипнувшее под ним креслице, раздумчиво произнес:
– Так-то сказать, Иван Вельяминов не мне чета! И умом, и возрастием… Но воротить ево, дак и воротить ему тысяцкое придет, и села ти, а там и многие бояра ся огорчат! Василий Хвостов там… да многие! Колгота пойдет.
И поглядел ясно, правдиво поглядел, как на духу, мол! Одного не изрек, что ихнему роду, Акинфичей, вельяминовская порода тоже поперек горла стала. И Митяй молча и твердо склонил могучую выю, и оба старых боярина, Черменков и Минин, помавали головами согласно, мол – быть посему!
Слишком многим пришло полюби давнее решение князя взять тысяцкое на себя и тем изничтожить несносное первенство Вельяминовых в московской боярской господе.
Да, того, чего ожидал втайне Иван: чтобы его призвали из Орды, как даве отца покойного из Рязани призвали Иван Иваныч с Алексием, – того не совершилось. Неощутимо, едва-едва, но время уже поворотило на иное, дав первые плоды с древа, взращенного владыкой Алексием. Самодержавность власти, коей можно подсказывать, но не можно уже ни воспретить, ни приказать, самодержавность властителя проявили себя в этом неравном (увы, неравном!) споре князя с боярином. Как знать, вороти Дмитрий Ивана, не пошло ли бы иначе и с Мамаем?
Нет, не пошло! Все круче и круче сползала Орда к гибельной пре со своим верным русским улусом, все непокорнее становилось Владимирское зависимое княжество в предчувствии близкой уже судьбы Великой Московии. И мог ли состояться подобный нынешнему поход на Булгар, скажем, еще при Узбеке? Четверть века резки и пожаров не сделали Русь слабее: усилилась Русь. В тайниках холмистых пустынь, в извивах речных, в чащобе лесов росло и ширилось неодолимо то новое, что разгибало спины князей и придавало упрямства воеводам. Густели народом укроистые просторы Приволжья, на медоносных полянах, на красных ярах над излуками извилистых рек вставали новые и новые, золотые под солнцем, истекающие смолою, рубленые терема, густели стада скотинные, и что там, где там недавний разор Ольгердов или волчьи набеги Мамаевы на Запьянье и Киш? Вставала земля, и князь, убегавшийся, запыхавшийся, в креслице золотом чуял, ведал силу сию и посему тем паче гневал, пристукивая твердым кулаком по резному подлокотнику: «Не пущу», «Не дам», «Повелю!». Уже и Новгород, заплатив изрядную виру за Прокопов поход, склонил выю перед ним, Дмитрием, уже и на патриархию Цареградскую, посмевшую при живом Алексии рукоположить в митрополита русского какого-то Киприана, вельми был разгневан великий Московский князь. И что мог сейчас, пред ним, какой-то – один! – беглый боярин! А вместе, полыхая темным жаром румянца, чуял он, что не так проста труднота сия, быть может, труднее, чем с Новгородом и покамест не одоленным Булгаром, ибо дело-то семейное, свое, родственное дело. О коем у земли, у народа московского тоже есть свое мнение и свой толк. Но – встало гневом: не хочу и не буду! И кабы один, но не один, вот и Акинфичи, и Черменковы, и Редегины, и Минины… Нет, не вернет он Ивана, давнюю зазнобу, занозу свою! «И, обличив, изжени», – застряло где-то в памяти церковное. Вот именно, изженить, вырвать с корнем плевел этот, одолеть и стать князем великим, единовластцем в Московской Руси!
Был бы жив дядя, Василь Василич, но того нет, нет и строгого Федора Воронца, а Тимофей Василич, младший Вельяминов, утешенный высокою должностью окольничего, явно отступился племянника своего, Ивана. И оставались братья Ивановы: Микула и Полиевкт. Полиевкт, младший, и ныне был не в счет, но отказать свояку Микуле в ходатайстве за опального брата – такого Дмитрий и ненавидя Ивана, без думы, без боярского приговора, не мог.
И Святками, встретясь друг с другом в лугах, они трудно и долго молчали, едучи бок о бок по снежному полю. Вдали трубили рога, и красные хорты, под свист и оклики доезжачих выныривая из-за перелеска, цепью гнали огрызающегося матерого волка прямо на княжеских загонщиков. И Микула не мог сказать главного, того, что надобно было Дмитрию, что винится пред ним Иван и готов пасть в ноги и бить челом, ибо Иван так и не повинился пред князем и, сидючи в Орде, угрожал оттоль новыми кознями. По мысли Микулы, брат Иван был изменник московскому делу, и слишком просить за него, нераскаянного, Микула не мог. Хотя у самого и переворачивалось сердце при думе о том, что он отрекается, стойно Каину, от судьбы и участи брата своего.
И вот как ни велики, как ни сильны были потомки Протасия Вельяминова, а до дела дошло – оставался из старших Вельяминовых один лишь мягкий, умный, но неспособный к решительному действованию Тимофей, и потому супротивники Вельяминовых одолевали в делах государства, опираясь, тем паче, на давнее нелюбие князя Дмитрия к сановитому двоюроднику. И малая дума, собранная нынче Дмитрием, не из доброхотов вельяминовских состояла, и новые люди, пришедшие на Москву, как Всеволож, как Боброк, предпочитали стоять в стороне и, уж во всяком случае, не хлопотать за опального боярина, тягавшегося с самим князем за первое место в государстве Московском. Ну и оставался еще старый митрополит, хоть и потесненный, и сильно потесненный, в нравном сердце Дмитрия Митяем, коломенским попом, а нынешним печатником князевым… А Митяй, тем паче, не мог и не хотел держать руку Ивана Вельяминова и, удоволенно заключая малый совет государев, согласил и утвердил князеву волю: к Ивану в Орду не слать, наказов не передавать никоторых и затею о возвращении Вельяминова отложить вовсе. Так и сложилось. Не ведал Иван, какие силы встанут противу него, не знал и того, как гибельно поворотила его судьба на Москве, пока он, полный гордых дум и обиды, сидел у Мамая…
А в улицах, среди непрекращающейся святочной гульбы, шума, смеха, снежков, ряженых, алых лиц молодаек в узорных платах, расписных саней, среди изобилья обжорных рядов с пирогами, пивом и сбитнем, разъезжали, тоже веселые, оружные кмети, звенела сталь, посверкивали куяки и пансыри, игольчато колыхались копья и стяги полков: Москва посылала рать на Волгу, и воевода Дмитрий Боброк, проезжая улицами, уже не раз и не два попадал в окружение посадских и гостей торговых, дружно требовавших от него поскорее расправиться с нехристями, засевшими волжский путь.
В одну из таких задорно орущих толп и попал Ванята Федоров, проезжая верхом к митрополичьему двору в Кремнике, и с трудом выбрался прочь, усмехаясь и отряхая снег с зипуна и шапки. Боброк, коего он только и зрел в пору последней литовщины на холме под Любутском, среди оружных воевод – высокий, воински красивый, промаячил в отдалении, и Ваняте до надсады захотелось, чтобы воевода узнал, приметил его в толпе посадких, хотя бы кивнул, хоть бы глазом повел издали! Для себя ведь не помнилось, что был глупым щенком, едва не погинувшим на рати, и что запомнить каждого юного несмышленыша в полках не смог бы князь-воевода Боброк, зять великого князя Дмитрия, даже ежели бы того и захотел.
Глава семнадцатая
Митрополичий двор гудел потревоженным ульем. Сновала челядь, монахи, чины синклита, митрополичьи бояре и слуги. И все это то выглядывало из дверей, то забегало внутрь или же выбегало наружу, пересекало двор, сталкиваясь, вступая в короткие перепалки, тут же, согласно помавая главами и осеняя, походя, крестным знамением череду нищих и странников, приволокшихся к подножию святого престола. Сытно пахло из хлебни, где, видимо, вынимали теперь из печи саженные с ночи ржаные хлебы, и Ванята невольно сглотнул слюну, с пробудившимся хотеньем помыслив о свежей, горячей, духовитой, со сводящею челюсти кислинкой ржаной ковриге… Но, отогнав видение – не до того было, – начал вопрошать того, и другого, и третьего, пытая, как добиться к владычному писцу Леонтию. Иные путали, отвечали с опасом, что к владыке нельзя, болен, и в ответах, в словах сквозила тревожная растерянность: всем ведомы были вожделения далекой Цареградской патриархии, тщившейся заменить ставшего неугодным старого митрополита на его высоком престоле водителя Руси и православного населения Великого княжества Литовского. С трепетом ожидался ныне и приезд цареградских патриарших клириков, посланцев Филофея Коккина… И по всему сему владыку ныне ревниво берегли от чужих глаз и многолюдства, ибо для всего этого деловитого муравейника, для всей рясоносной мурьи, единым оправданием их налаженной жизни был восьмидесятилетний ветхий старец, помещавшийся где-то там, в верхних горницах, за стекольчатыми дорогими оконницами, недоступный уже лицезрению многих и многих…
Наконец-то Ваняте указали не путь, а монаха, что согласил известить Леонтия, и Ванята, привязавши коня к коновязи, стал, разминая ноги, прохаживать по двору. Позвали его не скоро. Раза два ловил на себе молодец недоуменные и даже сердитые взоры: что надобно, мол? И в эти миги темная кровь бросалась к нему в лицо. «Небось батьку бы… с обозом, не так принимали!» – подумать, что знать о нем, тем паче как о сыне покойного данщика Никиты Федорова, тут и не мог никто из ныне сущих, ему как-то не приходило в голову. Наконец полузабывший об Иване давешний монашек окликнул его, сообщив:
– Кажись, Леонтий к себе пошел!
Ванята двинулся по указанному пути, обогнул митрополичьи покои со множеством крылец и затейливо изузоренных окошек второго и третьего жила (на низу помещались службы), нашел указанную дверь, влез на крыльцо, поминутно отвечая на вопрос, кто он и к кому, и наконец, по тесному переходу пройдя, оказался у надобной двери.
Постучал, укрощенный поисками и ожиданием, с робостью. Спокойное: «Войдите!» – раздалось из-за двери. Ванята отокрыл тяжелое полотно и увидел монаха в очень простой рясе и с простым медным крупного чекана четвероконечным крестом на груди, видимо греческой работы (в этом мать немного научила разбираться его), в негустой, сивой, с сильною проседью бороде, с волосами, заплетенными в косицу, перевязанную тканым снурком, с лицом в крепких задубелых морщинах и внимательным, остраненно-спокойным взором. Монах стоял, загораживая свет, в короткой первой горничке, отделенной дощатою перегородкой от самой кельи, и мыл руки, наклоняя за носик медный кованый рукомой, что висел, раскачиваясь, на цепочке, над кленовою лоханью. Обозрев смешавшегося парня, он еще раз наклонил рукомой, ополоснул ладони и стал вытирать руки грубым посконным рушником, что висел тут же, на спице.
– Отколе? – вопросил. И тут же, перебивши себя, уверенно догадав, рек: – Никиты Федорова сын? Иван? – вспомнил и имя, мгновение подумав. – Проходи, садись! Вырос! – добавил Леонтий, когда уже оба вошли в келью и сели на лавку близ небольшого, на пузатых ножках стола.
Ванята с любопытством оглядывал особенно богатую, супротив бедности, утварью, божницу, кожаные книги на полице и в поставце дорогую, едва ли не тоже византийской работы, лампаду. Не вытерпел, вопросил:
– Цареградская?
Леонтий кивнул, бегло улыбнувшись, и возразил вопросом:
– Мать как?
Здесь явно помнили, и очень, что Наталья Никитишна происхождением была из рода великих бояр и к тому же свойственница Вельяминовых, которую опекал когда-то сам покойный тысяцкий Москвы Василий Васильич.
Ванята, зардясь, начал сказывать домашние новости о матери, о себе, о сестре – «невеста уже!».
– Островное не отбирают у вас вдругорядь?
– Да не, утихли! – Иван тут счел уместным сказать о просьбе, ради чего и пришел: помочь вернуть родовое место за Неглинной, захваченное проворым сябром.
Леонтий вздохнул, сощурил старые глаза в сетке морщин, сказал невесело:
– Ноне и о такой малости надобно хлопотать у дьяка. Был бы жив Василий Вельяминов, в минуту бы то дело содеялось! – Помолчал, подумал, добавил: – Владыке нонь не доложишь, не до того! Иной просьбою и я не потревожу, ветх деньми.
В келье стоял тот устойчивый, чуть душноватый запах книг, воска и строгой старости, который безотлучно сопровождает холостых, на возрасте, мужиков, будь то удалившийся от дел горожанин, боярин ли или, как здесь, инок, и Ванята представил старого митрополита Алексия в такой же келье, в той же монашеской бедности и с тем же запахом старости и одиночества, и ему содеялось страшновато и неуютно. Представить такое еще минуту назад, на дворе хором, он не мог.
– И не до того теперь нам всем! – решительно изронил Леонтий, словно нехотя или ошибкою проговариваясь о главном. – Едут патриаршьи послы из Царьграда, протодьяконы Иоанн Дакиан и Георгий Пердикка… – он замолк, сохмуря брови и глядя куда-то в далекое далеко.
– Едут… Зачем? – со стеснением выговорил Иван, понимая, что не знать того – стыд, и заранее заливаясь жарким румянцем. Леонтий глянул на парня, раздумывая, говорить или нет (одначе вся Москва уже на дыбах, не скроешь!).
– Владыку судят, вишь, – вымолвил строго. Помолчал. Рек: – По доносу Киприанову!
Имя Киприана ничего не значило для Ваняты, и он замер, молча сожидая продолженья или объясненья неведомого имени.
– Болгарин… – неохотно протянул Леонтий. – Патриарх…
– Филофей Коккин? – спеша хоть тут показать, что он не вовсе невежда в делах церковных, подхватил Ванята.
Леонтий молча кивнул, продолжая:
– В Литве у Ольгерда сидел. Полюби стал тамо. Ну и патриарх его рукоположил в митрополита русского…
– Под Алексием?!
Огромность открывшейся беды ошеломила Ивана. Леонтий слегка, краем губ, усмехнул. Подумав, отмолвил:
– Владыко Олексей стар вельми! – и не договорил, в глазах парня стояло отчаяние.
– Владыка умрет? – вопросил он тихо, охрипшим голосом.
Что знал этот вьюноша о митрополите Алексии? Он не зрел владыку в делах, не был с ним в Царьграде, не сидел в смрадной яме в Киеве и сейчас готов заплакать при мысли единой о неизбежном для всех и неотменимом конце. Теплое чувство, пробившись сквозь усталость и рассеяние от многоразличных нынешних неустройств, прихлынуло к сердцу Леонтия, прежнего Станяты. О давно прошедшей молодости напомнил вдруг очерк жадного и худого лица, блеск глаз. Не знал, вернее, плохо знал он сына Никиты и думал, со смертью друга оборвано все, но вот вырос, под притолоку уже, Никитин отрок и требует своего, требует пустить и его в горние выси государственных дум и чаяний… Не кончалась земля, и век не избывался, как порою казалось в устали и рассеянии, вместе с ним. Леонтий вздохнул, светло и учительно поглядевши на отрока, выговорил строго:
– Вси умрут! Минет век, и ни единого из ныне живущих уже не узритце на земли! – А сам разве не мнил, не считал во глубинах души своей, что Алексий бессмертен? Да, не считал. Не мнил, а все же… И себя не мнил вне и врозь от Алексия, а потому… Потому и мысль о восприемнике не приходила в ум. Быть может, Филофей Коккин и прав? Нет, все одно не прав. И эти проверяльщики, и тайности… Гнусно! Нечистыми орудьями не можно сотворить чистое!
– Ну и что, коли наедут… – насупясь и упрямо вздымая чело, говорил Никитин отрок. – Князь Митрий о чем думат? Не пустить их! Пущай… Али принять… с саблями… Чтоб не посмели!
– Зло порождает зло, – возражал Леонтий, уже любуясь молодцем (юношеское сойдет, на ратях станет строже. Не потерял бы в годы мужества веры в правду, то – сущее зло). – Я тоже думал, давно, в Новом Городи… Стригольническая ересь… Высокоумье! Представь: человек и Бог! Ежели самому придумывать волю Божью, то можно докатиться и до сущего зла… Зри в католиках: во славу Божью сожигают людей! Монахи продают за мзду искупление грехов – мыслимо ли то? Господь или дьявол нашептал им такое?
– Что ж надобно?! – супясь, но не уступая, вопрошал отрок.
– Надобно, как игумен Сергий, работати Господу и служить ближнему своему. И поверь, Иване, труднее всего не драться во брани, но любить своего ближнего! Пото и сказано Господом: «Много званых, да мало избранных».
И почти не удивил Леонтий, знал, к тому шел разговор, когда спросил, меняясь в лице, краснея лихорадочными пятнами и утупив очи в столешницу, парень:
– Отче! Это правда, что отец сам надумал убить боярина Алексея Хвоста? Грешат на покойного Василья Вельяминова!
– Правда. Отец сам мне о том поведал. Пото Василий Василич и на брак его с твоей матерью согласил, пото и ты появилси на свет!
Парень, глянув, потупил чело и зарозовел.
– И иное реку, – продолжал Леонтий безжалостно. – Судил батьку твово сам владыка. И не оправил, но от казни свободил. И принял в дом церковный. От казни. Но не от суда Божья!
– Дак… батя пото и погиб? – со стеснением выговорил Ванята, и видно было, что новая эта мысль безмерно тяжела ему. – Пото и жизни лишился, во искупление, значит?
– Не ведаю, – просто отверг Леонтий. – Волю Божью не дано ведти смертным! Мы не знаем замыслов Всевышнего. Но не на добро направленная воля – не благословенна.
– А злые живут! – воскликнул парень, не желая уступить Леонтию в том, самом важном для него, что жизнь и судьбу возможно сотворять своими руками и что ежели не так, то не прав и Господь: – Долго живут! И ничо им не деитце!
Леонтий улыбнулся. И каждый рассвет каждой жизни начинается именно с этого, с веры, что ты, ты сам, а не Вышний, ведаешь Господнюю волю! Улыбнувшись, покачал головой. Молча поставил на стол квас, хлеб и сушеную рыбу. Присовокупил, после того как парень опружил чару монастырского, на травах настоянного квасу:
– Долгота жизни, успехи, зажиток, добро – что все это перед сроком небытия! Пото и дана грешным долгота жизни сей, что та, потусторонняя, отобрана у их. Сравни и помысли!
– Ну хорошо, – хмуро полууступил отрок, – батька убит и тем искупил грех, а Вельяминов? – И, сказавши, тут же помыслил об Иване Васильиче, что сидел, изобиженный, в Орде.
Леонтий лишь глянул. Незрелый ум всегда мнит справедливость в единообразии. Меж тем нету двух схожих во всем людинов, рознится грех, должно быть, разному и наказанию за грехи.
– Мню, Господь еще не весь свой гнев обрушил на род Вельяминовых… – сказал, и замолк, и подумал уже про себя: «Мню, не за един сей грех казнит Вельяминовых Господь, хоть и не ведаю, за что иное? Но – за нечто важнейшее и горчайшее сего!»
– А ежели весь народ согрешает? – уже не спорил, но спрашивал Иван.
– Содом и Гоморру уничтожил Господь! И не един язык среди языков земных свел на себя гнев и огонь Господень! Согрешая, и весь народ погубит себя. Заметь, своими руками погубит! Сам истощит свое бытие, в погоне за зажитком уничтожит окрест сущее, брат встанет на брата, сын на отца, и погинут вси. Так было, так будет!
– Но ведь все люди жадают лучшего? – неуверенно вопросил Ванята.
Леонтий, отрицая, помотал головой.
– Люди хотят жить по обычаю своему. И за то бьются на ратях, и за то держат у себя воев и власть имущих, дабы оборонить сущее. И вот когда захотят отбросить свое и возжелают иного, тогда и наступит конец. Нам до сего еще, слава Господу, далеко. Ты ешь! Где пристал-то?
– А, на Подоле, – неохотно, с набитым ртом, отозвался Иван.
– В поход-то идешь?
Ванята, давясь, сильно кивнул головой.
– Вперед дуром не суйся, а и не робей! Гляди, яко старшие воины деют! Тебе отцова дорога назначена, а он был – воин!
Леонтий вздохнул, вновь вспомня, как в этой же самой келье, лежа на полу, на соломенном ложе, говорил Никита в последнюю встречу ихнюю: «Воин я!» И вот теперь сидит его сын. И уходит в поход, быть может, тоже на смерть, и не мыслит о сем. (А я мыслил? В яме сидя, с Алексием, и то – мыслил ли о гибели своей?) Молодость была перед ним, воскресшая молодость, пусть чужая и все же чем-то родная ему. И потому Леонтий, и обремененный делами, все не решался выгнать парня, велеть уйти. Тот сам догадал наконец. Встал, приложился к благословляющей руке.
– Ступай! – напутствовал его старый и строгий друг отца. – А о деле вашем я поговорю с дьяком! Матери от меня поклон, – договорил он уже с порога.
Ванята спускался с крыльца, словно выходя из другой жизни. Удивил, увидя своего коня, удивил вдругорядь, узревши, что и свет дневной еще не померк и отнюдь не многие часы, как мнилось, протекли с тех пор, как восходил он по этим ступеням, значительно более заносчивый и уверенный в себе, чем теперь. И легкая зависть была, хорошая зависть юности к уже состоявшейся и очень значительной жизни.
Глава восемнадцатая
Князь Боброк был недоволен Дмитрием. Юная порывистость и упрямство великого князя Московского могли премного отяготить дела его новой родины. Лучше их всех, лучше Акинфичей, Черменковых, Всеволожей, даже Кобылиных, понимал он, Боброк, непростоту того, что творилось на западных рубежах страны, и потому сугубо чуял неправоту Дмитрия в его все еще усиливавшей день ото дня ссоре с Мамаем.
Он уже совершил одну блестящую и совершенно ненужную, вредную даже для дела Москвы победу, разбив князя Олега на Скорнищеве. Олег воротил свой престол, а Москва получила еще одного сильного врага в лице рязанского князя. И то, что поход решался Думою, что за нападение на Рязань была чуть не вся московская господа, дела не меняло. Вкупе с Олегом, вкупе с Мамаем и силами Орды следовало бить Литву! Пока не поздно! Пока Ольгерд, помирившись с венгерским королем и объединив силы Великой Литвы и Польши, не обрушит на Русь сотни тысяч западных воев! А с востока подступит Орда, и что тогда?!
И вот, вопреки всему, вопреки здравому смыслу, – новый поход на ордынцев, на Булгар, где сидит Мамаев подручник, и, следственно…
Князь в раздражении соскочил с коня, бросил ферязь и перевязь с саблей в руки холопов, крупно шагая, взошел на крыльцо. Мельком подумалось о старших сыновьях – Давиде с Борисом. Глухое небрежение старых московских родовичей грозило обернуться тем, что после его смерти молодцев выпихнут из рядов высшей господы, во всяком случае, боярства им не видать. И это при том, что сам он, Боброк, не только был боярином, но и писался в грамотах князем: единый из многих, поступивших в службу московскую, и с нею, с боярским званием, отлагавших свои старые княжеские титулы… Неведомо, какие подвиги надобно совершить, дабы убедить сих упрямцев принять по чести в свои ряды его род, премного знатнейший многих и многих, хоть и выкинутый вихрем великокняжеских литовских котор со своей прежней волынской отчины. Победами ли, таланом воинским или свойством с князем великим через молодую супругу Анну измеряется теперь его место и вес при московском великокняжеском дворе? А тогда чем он отличен от спесивого и недалекого тестя великого князя – Дмитрия Константиныча Суздальского? Того самого, коему нынче идет помогать? Ничем! Тот – тесть, он – шурин великого князя, вот и вся разница! И в этом споре с Иваном Вельяминовым, споре, в который он, Боброк, старался не влезать, великий князь Дмитрий был тоже не прав, па́ки не прав! Теперь Иван сидит в Орде, науськивая Мамая на Дмитрия. Сего допускать было не должно никак! Хоть и не близок был ему Иван Вельяминов, хоть и его стеснила бы власть тысяцкого… И все же!
Высокий, красивый, с седыми висками – и даже седина лишь придавала величия его лицу, – Дмитрий Михайлович Боброк был гневен.
Москвичам воля орать восторженно ему вслед и звать в поход на Булгар. Их-то понять мочно: в торгу от затей Мамаевых несносная дороговь. Дак кто и довел до сего спора? Нелепо стране остати без союзных государей, одной едва ли не противу всех! А теперь еще и в митрополии нестроения великие! А ежели умрет владыка Алексий? И что тогда? С юга Мамай, с запада Ольгерд, Олега Рязанского содели врагом, и Новгород Великий откачнет к Литве… И что тогда? Тогда – что?! У тебя прошаю, великий князь Московский!
Он с силой шваркнул прочь тяжкое дверное полотно, прошел в горницы. Нюша встретила оробев, мигом углядела, что гневен. Боброк сдержал себя, омыл лицо и руки под серебряным рукомоем, скинул зипун, вздел мягкую домашнюю ферязь из бухарской зендяни, свалился в кресло с гнутою, на западный пошиб, спинкою, протянул сухие, долгие ноги слуге, который, суетясь, стягивал сейчас кожаные, булгарской работы цветные чеботы с княжеских ног и обувал его в домашние, красной самаркандской юфти, мягкие, без каблуков домашние сапожки.
Анна приблизилась к супругу с робким обожанием. Сдержав бушующий гнев, он привлек ее к себе, поцеловал в висок. Под распашным сарафаном уже заметно округлился живот: скоро родит. Скользом подумалось – быть может, этот досягнет… Почему-то уверен был, что и тут у него родится именно сын, а не дочерь. И с горечью ощутил опять и вновь, как мало уже радости приносит ему молодая жена, тихие семейные услады. Колико более угнетена душа его и уязвлен ум делами страны! Да, воистину, всему должно быти во время свое: юности – любовь, возрасту мужества – дела правленья и власти!
От изразчатой печи струилось тепло. Дорогая посуда и ковры восточной работы украшали покои. Он принят, возвышен, окружен почетом. Женат на сестре великого князя. Успешлив на ратях. Что еще надобно ему? Надобно знать, что сотворяемое им, его ратным таланом разумно и ко благу земли!
– Поснидаешь? – прошает молодая жена.
Его тяжелая рука рассеянно, но бережно оглаживает ее юные худенькие плечи, еще не налитые полною женскою силою.
– Да, поди распоряди челядью! – отвечает он и, уже уходящей, в спину, спрашивает: – Сыновья где?
– Давид еще в Красном, а Борис спустится к трапезе! (Оба сына годились бы в мужья своей мачехе.)
Боброк кивает, сглатывая невольную горечь. Припомнилось, как сидел там, у себя на Волыни, у грубо сложенной из дикого камня печи, на медведине, глядя в извивающийся горячий огонь… И как был когда-то и молод, и счастлив! Анна, Анна, за что ты любишь меня, в коем уже угас пыл юных страстей и лишь одно горит, не сгорая, – воля к деянию!
Глава девятнадцатая
Ванята был недалек от истины, представляя себе монашескую скудоту покоев владыки Алексия. Да, конечно, потребная и пристойная митрополиту русскому роскошь в церковной утвари и других облачениях – в божнице с иконами новогородских, суздальских, греческих и старинных киевских писем; в митрах, посохах, дарохранительницах, сосудах из серебра, алавастра, иноземного камня и стекла; в навощенных полах, в расписанной травами слюде оконниц, в занавесах узорной тафты – была соблюдена. (Саккос митрополита Алексия, чудом сохранившийся в патриаршей ризнице, невзирая на все военные бури и беды последующих веков, и ныне выставленный в Оружейной палате Московского Кремля, свидетельствует о том, что убранство, сряда и утварь митрополичьего дома во времена Алексия, во всяком случае, не уступали роскоши патриаршего обихода позднейших столетий, а в книжном искусстве, в работах по переводу греческих книг, в приобретении и умножении духовных сокровищ век Алексия и вовсе не с чем сравнить в последующей истории русской митрополии, а затем и патриархии.) Волею Алексия стягивались в Москву, в центр страны, книжные сокровища ветшающего Царьграда, труды афонских старцев, богатства Студитского и иных греческих монастырей… Да, все это было! Было и теперь! И там, внизу, под низким тесовым потолком обширной, на два света, книжарни десятки писцов усердно переписывали сейчас служебные книги для новых и новых воздвигаемых на Руси Великой храмов. Да! И в письме иконном преуспели изографы, когда-то созываемые на Москву из иных градов, а теперь уже и по второму, и по третьему поколению, от отца к сыну, трудившиеся в мастерских княжого и митрополичьего дворов. Уже и церковному пению учили на Москве, почитай, не хуже, чем на Твери и Владимире. Да! Все было так!
Но тут, в вышине, в своих покоях, одинокий, сидел сейчас старец в белом холщовом подряснике, бесконечно далекий от благ мирских и словно бы сошедший сюда с иной, неведомой выси. Сидел, высушенный временем, с истончившимися перстами, с огромно обнаженным лбом, повитый сединою, словно бы зацепившийся ненароком за резное, рыбьим зубом украшенное кресло, сидел и молчал. У него кружилась голова. Состояние это бывало частым в последние годы, но так плохо, как теперь, он, кажется, никогда еще себя не чувствовал. И чудилось порою, что и правда, вот-вот оторвется он от земной тяготы и, сбрасывая ветшающую плоть, улетит куда-то туда, в горние надоблачные выси…
Алексий пошевелил перстами. Обычное упражнение, воскрешающее энергию плоти, далось ему с трудом и не принесло видимого облегчения. Он вознамерился внушением обороть скудоту телесных сил, начавши говорить мысленно: «Ты должен восстать к труду, Олексие, тебя ждут и в тебя верят, ты не имеешь права болеть…» – И вдруг резкая горечь облила ему сердце, и вновь потекла, закружилась непослушная голова.
…Ехали старинные приятели Иоанн Дакиан и Пердикка. И того и другого он знал в свою пору, и знал хорошо! И посланы они такожде другом, прежним другом, паче многих и многих, Филофеем Коккиным! В какие далекие, небылые века беседовали они о философии, о Пселле, о Дионисии Ареопагите, о пресуществлении и воплощении, о тварном и трансцендентном, о Боге и о судьбах земли… И теперь! Старый друг ставит своего выученика Киприана на его, Алексиев, русский владычный престол, не дождав уже скорого конца его земной жизни. И Киприан входит в милость к Ольгерду, пишет хулу на него, Алексия, и Филофей – ах эти его страдающие, все понимающие еврейские глаза! Ах этот надрыв голоса и духа… Это неумение – нежелание ли? – восстать противу силы… Когда-то ты сбежал из Гераклеи, оставив город генуэзским грабителям. Потом поспешил, слишком поспешил, не попомнив об его, Алексиевых, делах, с пременою василевса уйти с патриаршего престола… Впервые ли ты предаешь меня, патриарх великого города, второго Рима, уже обреченного во снедь иноверным!
И теперь посылаешь присных своих проверить справедливость доноса, который сам же ты подсказал Киприану. И они, прежние друзья, едут меня судить. И судить будет Митяй! И князь, коего ребенком держал он, Алексий, на своих коленах, спасал от ордынцев и Литвы, коего одарил престолом великих князей Владимирских, данным в неотторжимую вотчину и в род, коего содеял, возвысив из праха… И бояре, которым он – духовный глава и отец! И игумены московских монастырей, ставленные им самим… И смерды… Почто они все так ненавидят мя и так торопят мою кончину?!
Последнее, не сдержавши себя, Алексий произнес в голос. И как раз в миг этот в келейный покой вступил Леонтий.
Алексий смотрел, и бледно-розовый окрас стыда (слава Богу, не келейный служка!) постепенно сходил с сухих ланит владыки. Леонтий хмуро глядел на него, и хмурость секретаря успокаивала паче словес.
– Смерды любят тебя! – произнес Леонтий спокойно, с расстановкою и упреком. – Мню, и прочие не отступят духовного главы Русской земли!
Алексий прикрыл глаза. Как поведать, что само днешнее состояние отчаяния его было греховным, что не о людском, но небесном суде должен думать он паки и паки…
Леонтий подвинул себе точеное креслице и твердо сел, намеря всячески, и строгим словом и утешением, помочь владыке преодолеть ослабу души. Не мог он зрети Алексия в горестном облике!
– Дакиан не станет измысливать, ни собирать нелепые хулы на тебя, владыко! – Слишком давно и близко зная Алексия, Леонтий не обманывался нимало, читая наизусть невысказанные мысли своего патрона.
– Но зачем… Зачем они торопят, не подождут смерти моей? – трудно сглотнув горький ком, выговорил Алексий.
Леонтий смотрел прямо и сурово ему в лицо:
– Ты стар, отче, ты захватил другого веку, и те, иные, идущие вослед, жадают насильно спихнуть тебя со стола ради своих дел, своих замыслов, коим тоже суть время и век.
– И ты ждешь гибели моей? – улыбка, кривая, жалкая, не получилась.
Леонтий лишь на миг опустил глаза.
– Я – твоя тень, отче! – отверг он строго. – И ежели Господь повелит мне пережить тебя, я уйду из этих хором и не стану писцом никого иного.
– Спасибо! Ты – как Лазарь Муромский при архиепископе Калике, да?
– Да.
Оба задумались. Тень прошлого незримо овеяла владычный покой.
– Но почему Киприан? – с упреком выговорил Алексий.
Леонтий пожал плечами. Далекая Византия, виноцветное море, башни, встающие из воды, София, корабли… Царственные развалины древних дворцов… Никогда уже он не будет там больше, не узрит многоязычной царьградской толпы, ни прежних друзей, иные из коих уже отошли к праотцам.
– Филофей Коккин мнит силами Литвы остановить турок и отбросить их за проливы.
– Ратей Сербии, Болгарии, Влахии уже не хватает?
– Патриарх мыслит совокупить противу бесермен всех православных государей Востока, а твоя рознь с Ольгердом разрушает его замыслы.
– Но вокруг чего совокупить? И кого? Ничтожного Палеолога? Или язычника Ольгерда, таки и не решившего, какую веру принять его земле? Где те живые силы, без коих все затеи Филофеевы не более чем мечтанье и бред души! Чему я препона? – воскликнул Алексий, и отзвук прежней мощи проснулся в голосе митрополита Московского.
В каменных чертах Леонтия тоже далеким промельком явилось подобие улыбки.
– Филофей Коккин тоже стар, – возразил он. – Он мне напоминает того эллинского педанта, который, прослышав, что вороны живут по пятьсот лет, восхотел проверить сие, купил вороненка и, посадивши в клетку, начал его воспитывать. Я тоже, как и ты, не верю в Филофеевы замыслы. Нету на Балканах, ни в греках, ни в болгарах, ни в самой Сербии после смерти Стефана Душана сил противустати туркам. И Ольгерду не нужна православная Византия! Ему скорее надобен, после смерти Казимира Великого, польский престол. Ради него он решится, мню, даже стать и католиком!
Я с тобою, отче Олексие, и я вижу, чую, что ты прав. Здесь, во Владимирской земле, заключено спасение веры, и народ здесь иной, юный народ. Иной даже, чем в Новгороде Великом, иной, чем в Суздале. Хотя и просты, и грубы порою смерды этой земли, но и сам я жду спасения токмо от здешней, Владимирской, Залесской Руси! И я не корю тебя, что ты покинул Киев, где мы умирали с тобою вместе, не корю и в том, что судьбу митрополии связал ты с судьбою единого Московского государства. Ты прав, отче!
А Византия, спасти которую мыслит Филофей Коккин, гибнет, и спасти ее не можно никому. Кантакузин не сумел. Коккин сугубо не сможет! Иоанн Палеолог его продает. И римский престол не в силах помочь Палеологам усидеть на троне. Во франках война, король в плену у англян; нынче Венгрия объединилась с Польшей, от чего возможны сугубые нестроения; встает новая война за Галич с Литвой; в Морее кастильцы и франки режутся с деспотом Мистры и друг с другом; в церкви латынской раскол, весь Запад в смуте великой, и навряд римский папа возможет подвигнуть новую крестоносную рать на защиту разграбленных некогда самими франками византийских святынь! Они обречены! И ежели нам, Руси, откачнуть к Западу, то и будет то, о чем ты единожды баял, Олексие, что в европейском католическом доме поляки поместятся в передней, мы же, русичи, найдем место разве на скотном дворе, где нами будут помыкать все кому не лень, и не потому, что католики злы, люди нигде не хуже и не лучше друг друга, как я посмотрел в годы скитаний! Попросту мы – иные, и нам не сжиться с ними. А ежели ся переделать – сломать!
И на Орду ныне положиться нельзя. Быть может, князь Дмитрий и прав, что поспорил с Мамаем! В далеком Китае мунгалов бьют, сам Мамай уже потерял Заволжье. В Хорезме, бают купцы, подымается какой-то Тимур и уже спорит с Белой Ордою. Тем паче, что Урус-хан, как передают, умер, и Тимур ставит на его место своего подручного хана. Так что возможно сожидать, что и Мамаю придет воевать на юге, отстаивая Хаджи-Тархан и Сарай! В татарах то же несогласие, что и на Западе, и вера Мухаммедова не помогла им престати резать друг друга… И все же помыслить о восприемнике ты был должен, владыко!
– Токмо не Митяй! – торопливо выговорил Алексий. – И потом, митрополита русского ставит Константинополь. Мыслю, Филофей Коккин, нынче тем паче, не захотел бы отступить от правил Греческой патриархии!
– Правила Греческой патриархии нынче покупаются русским серебром! – возразил Леонтий.
– Серебро дает князь! И, увы, Дмитрий, мню, восхощет узреть на моем месте скорее Митяя, чем кого иного!
– Князь Дмитрий – твой воспитанник, отче! – с легким упреком возразил Леонтий.
– Да… Он добр к боярам, ко всем…
– Кроме Ивана Василича Вельяминова? – уточнил Леонтий.
– Не ведаю. Ничего не ведаю, Леонтий! – Алексий потряс головою, и вновь все сущее поплыло перед ним. Он засуетился, задергал перстами, справляясь с подступившею слабостью, глубоко задышал и наконец, утвердясь в кресле – кружение медленно замирало, возвращая сущее на свои места, – вопросил:
– Как ты полагаешь, Леонтий, ежели я пошлю Ивану Вельяминову грамоту и попытаюсь уговорить Дмитрия отложить гнев, он придет?
Леонтий нахмурил чело еще более.
– Того не ведаю! – возразил. – Но сих слов я и сам ждал от тебя, владыко.
– Давай напишем, – с торопливою, несколько лихорадочною радостью подхватил Алексий, – напишем сейчас, тотчас! Пиши! «Заблудший сыне мой…» Нет, попросту, «сыне мой!». Ведь он страдает? Он должен страдать, потерявши родину! Быть может – «Страдающий сыне мой! Отец твой духовный, Алексие, пишет тебе…» Нет, лучше: «зовет тебя покаяти и отложить гнев…» Нет, не гнев – обиду.
Алексий то замолкал, то начинал быстро диктовать, и тогда Леонтий едва успевал исписывать вощаницы. Над посланием трудились более часу. Сокращали… Алексий ни в себе, ни в других не любил многоглаголания. Наконец, измученный, словно после трудной работы, он отвалился в кресле, полузакрывши глаза, выслушал написанное.
– Кажется, так! Пошли ему… Нет, лучше сперва я сам поговорю с князем! – И снова тень боли мелькнула в его глазах. Князь ныне мог и не послушать своего престарелого владыку… – Нет, напиши, пошли, пусть пришлет покаянную грамоту![1] Тогда мне легче станет баяти с Дмитрием! – произнес он. Вступающий в силу нравный князь тревожил Алексия все больше и больше. Оба надолго смолкли, Леонтий складывал вощаницы, коротко взглядывая на владыку.
– Скажи, отче, – вопросил он негромко. – Что содеял бы ты, ежели Дмитрий от некоей хворости, черной смерти или иной зазнобы какой занемог и погиб?
Медленно оживали, становясь, как прежде, прозрачно-глубокими, старые глаза на высохшем пергаменном лице, так в пучине морской проглядывает порою донная гибельная глубина, и словно бы вновь наливался силою выпуклый лоб, а безвольные доднесь персты хищно врастали в резное дерево подлокотий.
– Я остался бы жить, – тихо и властно произнес Алексий. – Я остался бы жить, дабы воспитать княжича Василия до мужеска возраста, яко великого князя Владимирского! Дело Москвы, дело Руси не должно погибнуть ни от какой случайной притчины!
И вот таким именно хотел узрети владыку Леонтий. Вот таким! И узрел. И почуял волну горячей любви и нежности к этому великому старцу, вновь, как и прежде, одолевшему духом своим немощную и бренную плоть.
– Спасибо тебе, Леонтий! Но ты ведь не с тем приходил ко мне, сыне? – тихо вопросил Алексий, глядя задумчиво и устало на верного сподвижника своего.
– Да, отче! Помнишь Никиту Федорова? – Алексий молча кивнул головою. – У сына егового и вдовы сябер отобрал погорелое место на Неглинной. Приехали хлопотать. Можем ли мы помочь им?
– Напиши грамоту. Я приложу свою печать, – не задумываясь отмолвил Алексий. – Дьяка… Вызову к себе. Чаю, слово мое пока еще не исшаяло на Москве!
И когда уже, сложив вощаницы, Леонтий намерил уходить, Алексий произнес тихо:
– Послушай, Леонтий… В самом деле, как это хорошо! Родовое место! На пожаре, на пустой, выгоревшей земле! И до двадесяти летов никто не вправе занять его. Никто! По закону. По «Правде Русской»! Дабы объявился хозяин, владелец месту сему! Дабы не погасла свеча, не истаяла жизнь! И это вот родовое право на землю и жизнь на земле обязаны мы защищать от насилия и татьбы… Даже от самой великокняжеской власти, – прибавил он, неожиданно сам для себя.
Леонтий вздрогнул. Вгляделся в сухое пергаменное лицо, в уже вновь далекий, нездешний взор. Вот как? И от самого князя? Родовое право каждого смерда на землю свою!
– Как это хорошо! – вновь прошептал владыка.
Леонтий вышел, тихо притворивши дверь. Подумал о скором прибытии патриарших клириков, о чем так и не посмел сказать днесь Алексию. «И ему еще предстоит вынести это!» – тихо ужаснул про себя.
Он, Леонтий, на все был готов ради наставника своего, даже на смерть, но, увы, токмо единого надобного – здоровья и лишних лет жизни – не мог он передать владыке.
Глава двадцатая
К радости Никитиной вдовы, Леонтий сдержал свое обещание. В ближайшие дни (Москва готовилась к походу, и Иван с матерью сидели невылазно в городе) Алексий побеседовал с дьяком, и на Неглинную, к упрямому соседу, были посланы приставы, после чего, ворча, как собака, которую отогнали от кости, тот уступил. Мать с сыном отмеряли по снегу границы своего старого двора, сосед пыхтел и супился, пытаясь оторвать хоть кусок, хоть ту землю, что, захватив, занял сараем, и Наталья готова была уступить, но тут Иван, вздымая подбородок и недобро шевеля желвами скул, вмешался, отстранив мать рукой.
– Вота што! Разбирай сам, тотчас, не то ясу с ратными раскидаю, целой доски у тя тут не останет, внял?
И сосед, укрощенный до зела, вновь уступил, сперва ворча: «Наехали тут!» – а там и посвистывая принялся отдирать настылую кровлю.
– Кто наехал-то?! – звонко и страшно спросил Иван, берясь за рукоять отцовской сабли – был в оружии. И сосед, глянув скоса, совсем замолк, резвее принялся вынимать из пазов наледенелые тесины кровли.
– Весной будем ставить двор! – так же громко, настырно возгласил Иван, озирая отбитую у врага землю. Он стоял на снегу молодым голенастым петухом, расставив ноги, и был столь же страшен, сколь и смешон. И Наталья взглядывала то на него, то на сябра, который, щурясь, тоже взглядывал на молодца, что-то прикидывая про себя и кивая своим мыслям.
– Магарыч бы с тебя, хозяйка, – высказал наконец, и Наталья, не улыбаясь, кивнула в ответ:
– Поставлю!
– Магарыч ему… – проворчал Иван, впрочем и сам поняв, что дело пошло на мировую.
– Из Острового мужиков надо созвать, – хозяйственно говорила Наталья, когда они с сыном, порешив дела и отпустив пристава, садились в сани. – Вот воротишь из похода, тогда… – И голос чуть дрогнул. Но Иван, словно не заметив материной заботы, возразил, все еще ворчливо:
– Тогда поздно станет. Лес надоть возить теперь! Ворочусь, чтобы и лес был навожен, и тын стоял! Земля пообмякнет к той поре.
Наталья, не отвечая, забрала руку сына в свои ладони, сжала, притянув к сердцу. «Вернись только! Только вернись невереженый!» – подумалось про себя.
Глава двадцать первая
Приезд патриарших посланцев совпал с выступлением ратей в поход, и оба грека благодарили Господа, позволившего им миновать ордынские степи до начала ратной поры. Они остановились на Богоявленском подворье и, получивши серебро, масло, овощи, рыбу и хлеб, начали вызывать к себе духовных и бояр, расспрашивая о прегрешениях и шкодах верховного главы Русской церкви. Брал ли сугубую мзду за поставление? Замечен ли в лихоимстве или иных каких отступлениях от истинно праведного жития? Как получилось, что захватил в полон, порушив данную клятву, тверского князя Михайлу и тем вызвал сугубое кровопролитие и котору братню на Руси? Не посылал ли тайных гонцов с отравою к великому князю Литовскому Ольгерду? Почто разрешал от клятвы литовских беглецов, выезжающих на Москву, и тем учинял сугубое раздрасие с великим князем Литовским? Почто не выезжал в епархии Галича и Волыни для духовного окормления тамошней братии?
Вопросы один другого нелепее и каверзнее… Нет, и того не скажешь! Вопросы были составлены дельно, толково и зло. Все ведь было: и обманный плен тверского князя, и гибельные «литовщины», и – да! – Алексий постоянно разрешал от клятвы верности Ольгердовых подданных, бегущих в Залесскую Русь… Да, вмешивался в дела западных епархий, сам не являясь ни в Галич, ни на Волынь (чем окончило его «явление» в Киев, где Алексий был схвачен, посажен в поруб и едва не погиб, послы словно забыли). Киприанова рука была тут во всем, и даже в том сказывалась, коих бояр вызывали для беседы греки. Все то были ненавистники Вельяминовых, чем-то и когда-то обиженные или утесненные Алексием люди. Патриарху должен был быть представлен пристойный, умеренно обличающий доклад, который… Который меж тем никак, ну никак не получался у Дакиана с Пердиккою!
Только что битый час толковали оба почтенных синклитика с боярином Федором Свиблом из рода Акинфичей. Боярин сидел на лавке, откинувши рукава крытого атласом выходного охабня, рукава нижнего зипуна забраны в шитые серебром наручи, на пальце золотой перстень с дорогим камнем ясписом, сидел и – не понимал.
Князя Михайлу взяли по приказу великого князя Дмитрия и паки отпустили восвояси; в набегах на Русь виноват Ольгерд; служилым людям воля отъезжать господина своего, так и по «Правде», и по обычаю надлежит; в Киеве владыку яли по приказу Ольгердову и мало не уморили в яме, дак тут и поезди, тово! Что касаемо отравы, симонии, поборов или иного чего, то лжа! Батьку Олексея всякой смерд на Москве держит яко отца духовного, и худа об ем не говаривал никто.
С игуменами общежительных монастырей говорили допрежь того, и отповедь была та же самая, и паче того: владыку Алексия разве святым не называли!
Давеча, проходя двором, греки узрели кучками собравшийся народ. Их провожали хмурыми взорами, и кто-то молодо и зло выкрикнул из толпы:
– Нашего батьку Олексея не троньте!
И теперь этот боярин, с которого, как с округлого окатыша вода, соскальзывали все въедливые греческие вопросы, и одно ясно стало для византийских клириков: без сугубого разговора с великим князем ничего здесь не совершишь!
Теперь они ели наваристую и слишком жирную стерляжью уху, разварную осетрину, косились на белорыбицу и севрюжину, нарезанные ломтями, на блюда с моченой брусницей, морошкой, огурцами, капустой… А за рыбной ухой должна была последовать каша из сорочинского пшена с изюмом, пироги и блины – помогай Бог! Так плотно есть на родине им не приходилось. Григорий Пердикка (его мучили прострел, подхваченный морозной дорогою, и застарелый геморрой, не дающий спокойно сидеть и спокойно думать) ворчал, поругивая и московитов, и настырное ихнее гостеприимство, и тяжесть трапезы, впрочем отправляя в рот стерляжью уху ложку за ложкою. Иоанн Дакиан думал… Рассеянно ел, рассеянно обтирал рушником руки и бороду. Не получалось! Все было так и не так! Решал ли Алексий или кто иной, все одно приходило признать, что решала вся Москва! В Константинополе, при таковой оказии, уже набежал бы целый двор жалобщиков и хулителей, а здесь: «Батьку Олексея не троньте!» Эко! Он воздохнул. Душою был Дакиан на стороне Алексия и потому сейчас внимательно озирал сердитого и «развихренного» спутника своего, прикидывая, мочно ли станет отклонить хулы, возводимые на Алексия, и не получить в ответ доноса со стороны своего спутника? Занятие обычное у византийцев той поры и еще вполне неведомое русичам – сочинение доносов друг на друга – очень и очень могло навредить карьере. Дакиан любил Алексия, но паче всего любил свой чин, оклад и покой и уходить из патриаршей канцелярии куда-нибудь на Афон рядовым иноком не хотел сугубо.
– Что скажет великий князь! – изрек наконец Пердикка, подымая на Дакиана замутненный страданьями плоти и сытною трапезой взор, и Иоанн быстро и благодарно склонил голову. Что скажет князь! Так, в самом деле, будет спокойнее! А князь, по слухам, не вельми благоволит к старому своему митрополиту…
Греки согласно, едва отведав, отодвинули мисы с кашею и глянули друг на друга. Все-таки многодневный путь сквозь чуждые земли, ночлеги бок о бок, одинокие и часто скудные трапезы, страх разбоев, когда их караван нагоняли дикие всадники на косматых конях, выкрикивая угрозы на непонятном языке, – все это сближало, сблизило обоих синклитиков, и ежели Пердикку не припрет, во время оно, приступ его болезни, доноса на него, Дакиана, даже ежели они решат оправить владыку Алексея ото всех возводимых на него укоризн, он не напишет… А Пердикка думал с тоскою о том, что теперь надобно выходить за нуждою на мороз, и он бы лучше воспользовался ночною посудиной, поставленной им в келью, но было стыдно перед Дакианом, и потому, когда тот поднялся, дабы выйти на двор, Пердикка с душевным облегчением, даже с любовью, проводил его взором…
А Дакиан вышел на холод, подняв голову, обозрел крупные и близкие звездные миры и, покосясь на толпившийся под воротами народ – и ночью не уходят! – сам зашел за келью, к тому месту, где надлежало справлять нужду. Присел, ощущая одновременно холод и свежесть, запахи снега и дыма с поварни, оправил одежды, невольно, в сумерках, улыбнувшись себе. На Руси ему нравилось, тут были покой и простота жизни, невозвратно утерянные там, на далекой родине, под тяжестью мраморных сводов, среди цветных колоннад, в осаде толпы нищих и попрошаек.
И святость здесь была. Истинная, не напоказ. Вновь, с легким стыдом и душевным сокрушением напомнилась ему та, давняя, встреча с Сергием, за тайную насмешку над коим был Дакиан наказан мгновенною слепотой. Ни слепоты, ни последующего, совершенного Сергием, исцеления от нее Иоанн Дакиан объяснить себе так и не сумел, но опасливое уважение к русским лесным инокам осталось у него с той поры на всю жизнь.
Он сделал несколько шагов в сторону, остановился у начала тропинки, ведущей в застылый, в инее, монастырский сад. Москва чуть пошумливала в отдалении, заливисто взлаивали псы. Откуда-то, верно с княжеского оружейного двора, доносились звонкие удары по металлу… Ежели кончать жизнь в стенах монастыря, то почему бы и не здесь, не в этой лесной стороне, где жара летом и холод зимой, где ежегодно весною реки выходят из берегов, а небо в ту пору так чисто и сине, как это никогда не бывает на юге!
Он в задумчивости прошел двором, в сторону своей кельи. Ухнуло било, отмечая часы. Какая-то старуха, замотанная в плат, в рваном овчинном зипуне, метнулась ему под ноги: «Батюшко!» – он поднял руку для благословения, но старая просила о другом:
– Владыку Олексея не замай, батюшко! Отца нашего духовного!
И он благословил, и обещал, чуть дрогнувшим сердцем, «поступить по истине».
– По истине, батюшко, по истине! – подхватила старуха. – Святой он, батюшко! Ежеден за него Бога молим!
Пердикка, облегченный, уже укладывался спать. Помолясь, потушили свечу, оставив одну лампаду. Тотчас завел свою песню сверчок. Потрескивало дерево. В горнице было жарко. От окна, затянутого бычьим пузырем, тянуло свежестью. Они лежали рядом на широком соломенном ложе, укрытые духовитой овчинною оболочиной, и думали. Пердикка, нашедший наконец удобную позу, уже засыпал, всхрапывая, а Иоанн все думал и думал, составляя в уме осторожные округлые слова в оправдание Алексия. Наконец и он смежил вежды.
Глава двадцать вторая
Князь Дмитрий узнал о патриарших посланцах от своего печатника Митяя.
Коломенский поп, вошедший в нежданную силу при молодом князе, терпеть не мог старцев общежительных монастырей, в первую голову Сергия Радонежского с его племянником Федором и Ивана Петровского, признанного начальника общежительным монастырям на Москве. Митяй любил вкусно поесть, любил роскошь, любил красоту церковного обихода и пения, был неглуп и премного начитан, и потому паки подчеркиваемая скудота и нарочитое лишение всякого личного зажитка у общежительников – претили ему.
Нелюбовь к «молчальникам» переносил он и на Алексия, всячески покровительствующего общежительным обителям. И потому, не задумывая вдаль, был про себя доволен тем, что несносного старца немного укротят прибывшие из Константинополя греки. Чаял, что и князь, многажды недовольный Алексием, будет рад не рад, но благожелательно примет патриарших синклитиков. С тем и шел ко князю.
Но Дмитрий выслушал весть необычайно хмуро и на осторожные Митяевы слова: «Сам же ты, княже…» – резко отверг:
– То я! А здесь – новые происки Ольгердовы! Опять заберет Новосиль. Ржевы мало ему!
Он сорвался с лавки, крупно заходил по покою, не обращая внимания на то, что Митяй, большой, осанистый, стоит перед ним, так и не усаженный в кресло. Дмитрий обернулся наконец, сжав кулаки. Обозрел печатника своего почти враждебно:
– Этот Киприан – литовский потатчик! Ненавижу! Трижды громили Москву. Кого… Ежели… Сами поставим! А про то, что у нас с батькой Олексием, – мне ведать! Не им! Так и передай! Да скажи, греков приму. Опосле. Ступай! – бросил он, так и не посадивши Митяя.
А тот, изобиженный было выйдя от князя, вдруг замер и, густо багровея, начал понимать. Ведь умри, в самом деле, Алексий, – а старик зело ветх деньми! – и кто-то, заместо иноземного Киприана, возможет занять его стол? О столь головокружительной карьере он, беглец, до сих пор еще и не помышлял.
Позже, от бояр, Дмитрий выслушал патриаршую грамоту и паки вскипел, узрев, что рукою обвинителей водил доподлинно князь Ольгерд, сугубо утвердясь в своих прежних подозрениях.
Послание, долженствующее понравиться литвину, и должно было вызвать сугубую ярость Дмитрия, тут Киприан крупно ошибся. Ошибся и в том, что Митяй поддержит его перед великим Московским князем. Дмитрий еще и вечером, в изложне, пыхал неизрасходованным гневом, и Евдокия только гладила его, прижимаясь лицом к мягкой бороде своего милого лады.
– Мне Олексий в отца место! Понимать должно! Что он в Литву не ездит? Дак плевал я на то! Мне патриаршьи затеи не надобны. Пущай мой владыко у меня и сидит! И неча о том! И Михайлу ял я! Своею волею! Князь я великий на Москве али младень сущий?
– Князь! Князь ты мой светлый, – шептала, радуясь, Евдокия. Ибо и ей, как и всем на Москве, дико было зреть суд над владыкою Алексием, делами, трудами, святостью жизни, самим преклонным возрастом своим заслужившим почет и любовь всего Московского княжества.
Посланцев патриарха Дмитрий принял в большой палате дворца, сидя в золоченом княжеском кресле, с синклитом бояр. Выслушал, свирепо глядя на греков, и, все так же продолжая уничтожать взором того и другого, вдруг вопросил:
– Митрополит Марко от Святые Богородицы из Синайской горы на Русь, милостыни ради, приходил – от вас? Архимандрит Нифонт из монастыря Архангела Михаила, иже в Ерусалиме, паки за милостынею от вас приходил? И с тем серебром стал на патриаршество Ерусалимское!
А к архиепископу Новгородскому, владыке Алексею, в Новгород Великий, от вас Киприан посылал, мол: «Благословил мя вселенский патриарх Филофей митрополитом на Киев и на всю Русскую землю»? Како же возможно при живом митрополите русском иного поставляти на престол? И при прадедах не было того! – выкликнул он с силою. – А мы, великий князь, владыкою Олексеем премного довольны и иного не хощем никого. Так и передайте патриарху от меня, а о другом каком нестроении пущай бояре глаголют!











