Читать онлайн Орландо
- Автор: Вирджиния Вулф
- Жанр: Зарубежная классика, Литература 20 века
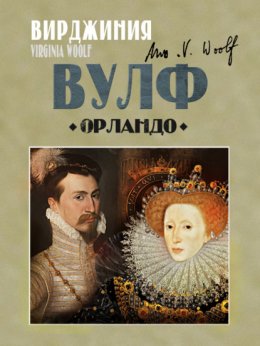
© перевод с английского Е. Суриц
© ИП Воробьёв В.А.
© ООО ИД «СОЮЗ»
Посвящается В. Сэквилл-Уэст
Глава первая
Он – потому что пол его не подлежал сомнению вопреки двусмысленным ухищрениям тогдашней моды – был занят тем, что делал выпады кинжалом возле головы мавра, покачивающейся на стропиле. Была она цвета старого футбольного мяча и почти от него неотличима, если бы не впалые щеки да скупые прядки сухих и жестких волос – как пух на кокосе. Отец Орландо – или, может быть, это дед – снес ее с саженных плеч язычника, увидевшего свет в диких пустынях Африки; и теперь она непрестанно и нежно покачивалась от ветра, задувавшего в чердачные комнаты гигантского замка, который принадлежал отсекшему ее лорду.
Праотцы Орландо скакали верхами по полям асфоделей, и по кремнистым полям, и по полям, омываемым чуждыми реками, и немало сносили голов самого разного цвета со множества плеч, и привозили их домой, и вешали на стропилах. Орландо поклялся, что продолжит дело предков. Но покамест ему было только шестнадцать, еще не дорос, его не брали с собой скакать по Африке или Франции, а потому он тайком ускользал от матери, от павлинов в саду, поднимался на чердак и там бросался в битву, рубил и резал воздух клинком. Иногда он рассекал веревку, и тогда голова с глухим стуком падала на пол, и приходилось снова ее привязывать, из рыцарских побуждений крепя почти в недосягаемости, так что враг победно скалился на него черным, иссохшим ртом. И голова качалась, качалась, потому что дом, в верхнем этаже которого жил Орландо, был так громаден, что ветер навеки попадался в ловушку и метался по чердаку, не находя выхода, зимою и летом. Предки Орландо были высокородны – всегда, с тех пор, как они были вообще. Они поднялись из северного тумана в коронах пэров. И полосы тьмы на полу не оттого ли так графили желтую заводь, что солнце вливалось на чердак сквозь просторный герб витража? Орландо сейчас стоял в самом центре желтого геральдического леопарда. Когда он положил руку на подоконник, чтобы отворить окно, рука стала красной, голубой и желтой, как крыло бабочки. И любители символов, охотники до их расшифровки, могут взять на заметку, что, тогда как прелестные ноги, стройное тело и отличный разворот плеч Орландо окрасились всеми геральдическими оттенками, лицо его, когда он отворил окно, озарялось исключительно самим солнцем. Более светлого, строптивого лица вы себе и представить не можете. Блаженна мать, которая произвела такого на свет, еще блаженней описывающий его жизнь биограф! Ей никогда не придется печалиться, ни ему – нуждаться в услугах поэта или романиста. От подвига к подвигу, от победы к победе, от должности к должности будет следовать герой, и его летописец за ним, покуда не достигнут оба того положения, которое явится вершиною их мечтаний. Орландо, судя по внешности, был в точности создан для подобного поприща. Розовые щеки подернулись персиковым пушком; пушок над губой всего лишь чуть-чуть загустевал по сравнению с пушком на щеках. Сами губы были резко очерчены и слегка изогнуты над безупречным рядом миндальнейше-белых зубов. Без сучка без задоринки был задорно-стремительный нос; волосы темные; и маленькие, тесно прижатые к голове ушки. Жаль, однако, что сей перечень юных совершенств будет неполон без упоминания о лбе и глазах. Жаль, что люди редко появляются на свет лишенными того и другого; ибо, если мы взглянем на стоящего у окна Орландо, мы вынуждены будем признать, что глаза у него были, как фиалки в росе, громадные, будто переполненные их расширяющей влагой; а лоб – как мраморный купол, зажатый меж медально-гладких висков. Стоит нам взглянуть на этот лоб и в эти глаза – и мы уже захвачены восторгом. Стоит нам взглянуть на этот лоб и в эти глаза – и мы вынуждены будем признать тысячи сомнительных вещей, мимо которых обязан скользить всякий уважающий себя биограф. Увиденное его раздражало, – например, его мать, весьма прекрасная собою дама в зеленом, направляющаяся кормить павлинов в сопровождении Туитчетт, своей горничной; увиденное его восхищало – деревья, птицы; влюбляло в смерть – вечернее небо, снижающиеся грачи; и, взлетев по спиральным ступенькам мозга – а мозг был вместительный, – увиденное, смешавшись с садовыми звуками – треск деревьев, стук топора, – вызывало в нем разгул и сумятицу чувств и страстей, которые ненавидит всякий уважающий себя биограф. Продолжим, однако, – Орландо медленно втянул голову в плечи, сел за стол и с отвлеченным видом человека, привыкшего делать это ежедневно в определенный час, вынул тетрадь, озаглавленную «Этельберт. Трагедия в пяти актах», и обмакнул старое испачканное гусиное перо в чернильницу.
Скоро он намарал страниц десять стихов. Мысль его, очевидно, была быстра, но абстрактна. Порок, Преступление, Нужда были персонажи драмы; Король и Королева правили неозначаемыми территориями; ужасные замыслы их поглощали; благородные чувства снедали; ни слова не говорилось так, как сказал бы он сам, но все выворачивалось с быстротой и ловкостью, которые, учитывая его возраст – ему еще не исполнилось и семнадцати – и тот факт, что шестнадцатому столетию оставалось скрипеть еще несколько лет, – были поистине замечательны. Но вот наконец он запнулся. Он, как все и всегда молодые поэты, описывал природу, и, чтобы как можно точней передать оттенок зеленого, он взглянул (проявляя незаурядную смелость) на сам зеленый предмет, которым в данном случае оказался лавровый куст у него под окном. После чего, разумеется, о писании уже не могло быть и речи. В природе зеленое – это одно, и зеленое в литературе – другое. Природа со словесностью не в ладу от природы; попробуйте-ка их совместить – они изничтожат друг друга. Оттенок зеленого, который разглядел Орландо, сразу нарушил рифму, сломал ему метр. Но природа еще и не на такое способна. Взгляните только в окно, на пчел между цветов, на зевнувшего пса, на солнце, клонящееся к закату, только подумайте: «Много ли мне суждено еще увидеть закатов» – и т. д. и т. п. (мысль чересчур известная, чтобы приводить ее здесь целиком), и вы уроните перо, схватите плащ и выскочите из комнаты, споткнувшись при этом о расписной сундук. Потому что Орландо был чуточку неловок.
Он старался никого не встретить. Стаббс, садовник, шел по тропе. Орландо прятался за деревом, пока тот не прошел мимо. И скользнул к боковой калитке. Он обходил стороной все конюшни, все псарни, пивоварни, плотницкие, бани – все места, где вытопляли воск, забивали скот, ковали подковы, тачали сапоги, ибо замок вмещал в себя целый город, гудевший людьми, занятыми разными ремеслами, – и, никем не замеченный, он вышел на заросшую, бежавшую вверх по холму тропку. Есть, наверное, связь между свойствами: одно тянет за собой другое; и биограф обязан тут привлечь свое внимание к тому факту, что неловкость часто бывает связана с любовью к уединению. Раз он споткнулся о сундук, Орландо, конечно, любил уединенные места, просторные виды – любил чувствовать, что он один, один, один.
И после долгого молчания он, наконец-то открыв уста, выдохнул: «Я один». Он очень быстро пошел в гору через папоротники и кусты боярышника, спугивая диких птиц и оленей, и вышел к месту, осененному одиноким дубом. Это было высоко, так высоко, что девятнадцать графств Англии были видны внизу, а в ясные дни и все тридцать, а то и сорок графств – в уж очень хорошую погоду. Иногда можно было увидеть Ла-Манш, неустанно кативший свои волны. Можно было увидеть реки, и скользящие по ним лодочки, и плывшие к морю галеоны; и армады, а над ними пушечный пух и дальний пушечный гром; и форты по берегам; и замки среди лугов; а там сторожевую башню, там крепость, и снова просторный замок, как у отца Орландо, огромный, как город, обнесенный стеной. К востоку были шпили Лондона, городской дым; а на самом, наверное, горизонте, когда ветер дул куда следует, скалистая вершина и острые зубцы Сноудона[1] сквозили между облаков. Минуту Орландо стоял подсчитывая, разглядывая, узнавая. Вот замок отца, вот дядин. Тетушкины – те три башни между деревьев. Поля были их, и леса; фазаны, олени и лисы, бобры и бабочки.
Он глубоко вздохнул и припал – в движениях его была страстность, заслуживающая этого слова – к земле у корней дуба. Ему нравилось в быстротечности лета чувствовать под собою земной хребет, за каковой принимал он твердый корень дуба; или – ибо образ находил на образ – то был мощный круп его коня; или палуба тонущего корабля – не важно что, лишь бы твердое, потому что ему непременно хотелось к чему-то прикрепиться плавучим сердцем – сердцем, тянущим в путь; сердцем, которое наполняли тугие, влюбленные ветры, каждый вечер, едва он вырывался на волю. Вот он и прикрепил его к дубу и так лежал, покуда постепенно унимался трепет в нем самом и вокруг; затихнув, повисали листочки; замирали олени; останавливались летние бледные облака; затекали и тяжелели его члены; и он очень тихо лежал; и олени уже подступали ближе, и над ним кружили грачи, и ласточки, ныряя, припадали к нему, голову близко-близко облетали стрекозы, – будто вся щедрость, все плодородие летнего вечера влюбленным наметом окутывали его тело.
Через час, наверное, – солнце быстро скатывалось к горизонту, белые облака тронуло багрецом, холмы лиловостью, синевою лес, и долины почернели – протрубил рог. Орландо вскочил. Пронзительный зов шел из глубины долины; откуда-то из темноты; из тесноты; из лабиринта; из города, препоясанного стенами; он шел из недр собственного его величавого дома, темного прежде, но, пока он на него смотрел и одинокому рогу вторили все новые, все более настойчивые зовы, дом этот стряхивал с себя темноту и вот уже засветился огнями. Были огоньки мельтешащие, поспешные, как когда слуги бегут по коридору на господский колокольчик; были высокие, важные огни, какие горят в пустынности пиршественных зал в ожидании гостей; и еще другие огни ныряли, парили, тонули, взлетали, как и положено огням в руках слуг, когда те кланяются, преклоняют колена, со всей пышностью вводя в покои владычицу, высадившуюся из кареты. Кони трясли плюмажами. Пожаловала Королева.
Орландо никуда уже не смотрел. Он мчался вниз. Метнулся в ворота. Взлетел по винтовой лестнице. К себе. Чулки швырнул в один угол, куртку – в другой. Он смачивал волосы. Тер руки. Полировал ногти. Перед маленьким зеркалом, при двух оплывших свечках, натянул алые бриджи, надел плоёный воротник, тафтяной жилет, туфли с помпонами вдвое больше георгинов – все за десять минут ровно по часам. Он был готов. Он был весь красный. Задыхался. Но он опаздывал ужасно.
Срезая расстояние, он спешил изведанным путем по анфиладам, переходам, лестницам к пиршественной зале, расположенной через пять акров в другой стороне замка. Но, как он ни спешил, скользя мимо людских и девичьих, он вдруг остановился. Дверь гостиной миссис Стьюкли стояла настежь, – без сомнения, сама она со всеми своими ключами побежала к хозяйке. Но там, за обеденным столом прислуги, перед пивной кружкой и листом бумаги, сидел обрюзгший, обшарпанного вида господин с грязноватыми манжетами и в темном домотканом платье. Он держал в руках перо, но не писал. Казалось, он перекатывал, примеривал в уме какую-то мысль, пока не приладит ее окончательно к своему вкусу. Глаза, выкаченные, застланные, похожие на странные зеленые каменья, он вперил в одну точку. Орландо он не видел. Как ни спешил Орландо, он застыл. Уж не поэт ли перед ним? Уж не стихи ли сочиняет? «Расскажите мне, – хотелось крикнуть Орландо, – расскажите обо всем на свете», ибо о поэтах и стихах у него были самые дикие, самые нелепые понятия, – но как вы заговорите с человеком, когда он вас не видит? Когда он видит вместо вас людоедов, например, сатиров, а то и дно морское? А потому Орландо стоял и смотрел, как тот вертел в руках перо и так и эдак и думал с неподвижным взором и потом вдруг быстро набросал несколько строк и снова поднял глаза. После чего, охваченный робостью, Орландо поспешил дальше и влетел в пиршественную залу как раз в последнюю секунду, чтобы броситься на колени, смущенно поникнуть головой и протянуть чашу розовой воды самой великой Королеве.
Из-за своей робости он видел только опущенную в воду руку, унизанную перстнями; но и того довольно.
Рука врезалась в память: тонкая, с длинными пальцами, как бы навечно округленными на скипетре или державе; нервная, злая, нездоровая рука; повелительная рука, по манию которой слетает с плеч любая голова; рука, как догадался он, соединенная со старым телом, которое пахнет шкапом, где меха блюдутся в камфарных шариках, и, однако, обряжено в парчу и жемчуга – прямое, как струна, несмотря на мучительную ломоту в суставах; не сдающееся, как бы ни терзали его страхи; а глаза у Королевы были светло-желтые. Все это он почувствовал, покуда посверкивали в воде великолепные перстни, а потом голову ему странно сжали – чем, возможно, и объясняется тот факт, что он не видел больше ничего хоть сколько-нибудь достойного внимания летописца. К тому же в мыслях его клубился вихрь противоположных впечатлений – черная ночь и полыхание свечей, обшарпанный господин и великая Королева, сонные поля и толкотня слуг, – словом, он не видел ничего, точнее, видел только руку.
Королева же, из-за подобного стечения обстоятельств, видела, вероятно, только голову. Но если можно по руке составить представление о теле, вмещающем все атрибуты великой Королевы – ее вздорность, храбрость, ее хрупкость и безжалостность, – то, разумеется, и голова, с тронной высоты увиденная той, чьи глаза, если верить восковым персонам в Вестминстерском Аббатстве, всегда глядели зорко, тоже поставляла достаточную пищу для умозаключений. Длинные локоны, склоненные перед нею так смиренно, так невинно, разве не свидетельствовали о паре стройнейших ног, на каких только стаивал когда-нибудь юный вельможа, о фиалковом взоре и золотом сердце, о верности владычице и мужских чарах – всех тех чертах, которые старая женщина ценила тем сильней, чем меньше они оставались ей подвластны. Ибо Королева постарела и прежде времени согнулась. В ушах ее вечно гремел пушечный гром. Перед глазами блистала то капля яда, то клинок. Сидя за столом, она прислушивалась и слышала канонаду со стороны Ла-Манша; она вздрагивала: что это – ругань? шепот? Невинность, простота кажутся ей еще милей, когда их сопоставишь с эдаким мрачным фоном. А потому в ту же ночь, если верить преданию, пока Орландо крепко спал, она, по всем правилам скрепив пергамент своею подписью и печатью, отказала огромный уединенный замок, прежде бывший в пользовании архиепископа, а потом и короля, – отцу Орландо.
Орландо всю ночь проспал в полном неведении. Королева его поцеловала, а он и не заметил. Но может быть, – кто разберется в женском сердце? – именно его неведение и то, как он вздрогнул, когда ее губы коснулись его щеки, – именно это все и удержало воспоминание о юном родиче (они были родня) в сердце Королевы? Так или иначе, не прошло и двух тихих сельских лет – Орландо едва успел сочинить каких-нибудь двадцать трагедий, всего дюжину поэм и десятка два сонетов, – как поступило известие, что Королева ждет его в Уайтхолле.
– А! – сказала она, глядя, как он приближается к ней длинной галереей. – А вот и мой непорочный мальчик! (В облике его сохранялась чистота, намекавшая на непорочность, тогда как слово в прямом значении было уже к нему неприложимо.)
– Приблизься! – сказала она. Прямая, как проглотившая аршин, она сидела у огня. Она задержала его на расстоянии метра и мерила взглядом с головы до пят. Сверяла ли она те, прежние наблюдения с увиденным теперь воочию? Подтвердились ли ее догадки? Глаза, рот, нос, грудь, бедра, руки – все это она оглядела; и губы у нее явственно подрагивали; но при виде его ног она расхохоталась вслух. Он был – живой образчик юного вельможи. Да, но каков он изнутри? Она воткнула в него желтый ястребиный взор, словно намереваясь насквозь пробуравить душу. Он не дрогнул, только зарделся, как дамасская роза, что ему очень шло и подобало. Сила, благородство, возвышенность мечтаний, безрассудство, юность, поэзия – она читала как по раскрытой книге. Вдруг она стащила с пальца кольцо (сустав заметно вздулся) и, надев ему на палец, пожаловала его в камергеры и казначеи; потом наложила на него цепи службы и, повелев ему преклонить колено, привязала к стройнейшей части последнего усыпанный драгоценностями орден Подвязки. Отныне Орландо ни в чем не было отказа. При торжественных выездах он гарцевал рядом с королевской дверцей. Его отправили в Шотландию с грустным посольством к несчастной королеве. Он собрался уж отплыть на польские поля сражений, но тут его отозвали. Как могла она отдать на растерзание это нежное тело, как допустить, чтобы эта кудрявая голова скатилась в пыль? Она его держала при себе. В час победы, в час высшего торжества, когда гремели пушки Тауэра, и воздух так пропитался порохом, что впору нюхать его вместо табака, и толпы восторженно ревели у нее под окнами, она привлекла его к себе, к подушкам, на которые уложили ее фрейлины (она была слаба, стара), и вынудила уткнуть лицо в сей удивительный состав – она уже месяц не меняла платье, – от которого пахнуло, подумал он, вспомнив впечатления детства, ну в точности как из старого материнского шифоньера, где держали меха. Он поднялся, чуть совсем не задохнувшись в этих объятиях.
– Вот она! Вот она – моя победа! – шепнула Королева, и тут как раз взвилась ракета и облила багрянцем царственные щеки.
Да, старуха его любила. Королева, которая умела распознать мужчину, хотя, как поговаривали, и не совсем обычным способом, замыслила для него великолепную, блистательную будущность. Ему дарили земли, отписывали замки. Он будет утехой ее закатных дней – целебным бальзамом, могучей опорой на склоне лет. Она расточала эти посулы и странные, деспотические ласки (они теперь были в Ричмонде), проглотив аршин, в негнущейся парче сидя у огня, который, как его ни раздували, все ее не согревал.
А тем временем надвигались долгие зимние месяцы. Деревья в парке сковало холодом. Река уже с ленцой катила воду. И вот однажды, когда выпал снег, и толпились тени в темных залах, и в парке трубили олени, она увидела в зеркальце, которое всегда держала при себе, боясь соглядатаев, сквозь двери, которые всегда держала отворенными, боясь убийц, как юноша – нет! ужель Орландо? – целует девушку. О Господи! Да кто же эта наглая вертихвостка? Вцепившись в золотую рукоять кинжала, она бешено хватила по зеркальцу. Зазвенело стекло; сбежались люди; ее подняли и снова усадили в кресла; но она так и не оправилась от этого удара и, покуда дни ее влачились к концу, часто сетовала на предательство мужчин.
Возможно, Орландо и виноват; но, в конце концов, нам ли его судить? Век был елизаветинский; их нравы были не то что наши нравы; ну и поэты тоже, и климат, и даже овощи. Все было иное. Сама погода, холод и жара летом и зимой были, надо полагать, совсем, совсем иного градуса. Сияющий, влюбленный день отграничивался от ночи так же четко, как вода от суши. Закаты были гуще – красней; рассветы – аврористее и белее. О наших сумерках, межвременье, о медленно и скучно скудеющем свете не было тогда и помину. Дождь или хлестал ливмя, или уж совсем не шел. Солнце сияло – или стояла тьма. Переводя все это в область метафизики, как водится у них, поэты прелестно пели о том, как вянут розы, опадают лепестки. Миг краток, они пели, миг минует, и долгой ночью все уснут. Ухищрения теплиц и оранжерей ради сохранности летучих лепестков и мигов – были не по их части. О вялых затеях и половинчатости нашего усталого и сомнительного века они понятия не имели. Во всем был напор. Цветок цветет, вянет. Солнце встает, заходит. Влюбленный любит, бросает свой предмет. И то, что поэты рекомендовали в стихах, юноши исполняли на деле. Девушки были – розы. Красота их была быстротечна, как красота цветка. Их следовала рвать до наступления темноты, ибо день краток и день – все. А потому, если Орландо, следуя велению климата, поэтов, самого века, сорвал с подоконника цветок, когда на землю выпал снег, а рядом бдела Королева, – неужто мы его осудим? Он был молод, неискушен – он уступал природе. Что же до девушки, мы не лучше королевы Елизаветы знаем ее имя. Дорис, Хлорис, Делия, Диана? Он всех по очереди их зарифмовал. Это могла быть знатная леди, могла быть и служанка. У Орландо был широкий вкус – он любил не одни садовые цветы: полевые цветочки, даже сорные травы равно пленяли его воображение.
Здесь, по обычаю биографов, мы грубо обнажим любопытную черточку Орландо, объясняемую, видимо, тем фактом, что одна из его бабок носила фартук и подойник. Несколько крупиц кентской и суссекской грубой почвы подметались к тонкому, изысканному току из Нормандии. Сам он считал, что смесь чернозема с голубой кровью вовсе недурна. Так или иначе, он всегда тянулся к низкому обществу, в особенности из грамотеев, которым ум так часто мешает выбиться в люди, – будто подчинялся родственному зову. В ту пору жизни, когда в голове его вечно жужжали рифмы и он редко ложился спать, не намарав предварительно какой-нибудь выспренности, шейка иной сокольниковой дочки и смех лесниковой племянницы казались ему предпочтительней, чем все обольщения придворных дам. А потому он повадился ночами к Уоппинг-Оулд-Стэрс[2] и тому подобным местам, окутанный серым плащом, дабы скрыть звезду на шее и подвязку на колене. Там, с пивной кружкой в руке, под перестук шаров и кеглей, он слушал повести матросов о том, чего они понатерпелись в земле Гишпанской; о том, как кто-то потерял палец, а кто, увы! и нос, – ибо устный рассказ не всегда столь гладко и приятно закруглен, как занесенный в книжку. Особенно любил он слушать, как они горланят песни об Азорских островах, меж тем как вывезенные оттуда попугайчики поклевывали кольца в их ушах, стучали твердыми, жадными клювами по их перстням и сыпали столь же отборной бранью, что и хозяева. Женщины едва ли уступали этим птичкам свободою манер и вольностью речей. Они взбирались к Орландо на колени, обнимали его за шею и, подозревая, что под его плащом скрыто кое-что незаурядное, спешили к доказательству своих догадок не меньше самого Орландо.
Возможностей представлялось достаточно. Река рано оживала и допоздна кишела яликами, барками и судами всякого разбора. Каждый день уходил в море какой-нибудь славный корабль, держа путь на Индию, а другой, потемнелый, под обтрепанными парусами и с волосатыми чужаками на борту, тяжко вваливался в гавань. Никто не спохватывался, если юноши и девушка валандались на реке после заката, не вскидывал бровь, едва молва заставала их в мирных, сонных объятиях среди мешков с сокровищами. А именно такое приключение и выпало на долю Орландо, Сьюки и графа Камберленда. День был жаркий; ласки бурны; сон их сморил среди рубинов. Позже, ночью, граф, чьи богатства зависели во многом от рискованных испанских предприятий, один, с фонарем, пришел осматривать добычу. Он осветил бочонок. И отпрянул, чертыхаясь. Бочонок обвивали два сонных духа. Суеверный от природы, имея на совести немало тяжких преступлений, граф принял парочку (обоих окутывал алый плащ, а груди Сьюки были чуть не белей вечных снегов в Орландовых стихах) за духов утонувших матросов, вышедших к нему из морской пучины с немым укором. Он крестился. Он каялся. Строй богаделен вдоль Шин-Роуд – и поныне ощутимый плод его минутного смятения. Дюжина неимущих приходских старух и посейчас днем попивает чай, а ночью благословляет его светлость за кров над головою, – так запретная любовь на контрабандном судне… однако мораль мы опустим.
Орландо, впрочем, скоро наскучил этой жизнью – и не только из-за отсутствия комфорта и убогости соседствующих улиц, но из-за грубых нравов простонародья. Здесь мы должны напомнить, что нищета и преступления не обладали для елизаветинцев столь притягательной силой, какой обладают в наших глазах. Те вовсе не стыдились образованности; ничуть не считали, что родиться сыном мясника – удача и что неграмотность – великая заслуга; отнюдь не полагали, подобно нам, что «жизнь» и «действительность» непременно сопряжены с невежеством и хамством, равно как и с другими синонимами двух этих слов. Вовсе не в поисках «жизни» вращался Орландо среди простолюдинов; вовсе не в погоне за «действительностью» он их оставил. Но, выслушав в сотый раз, как Джек потерял свой нос, а Сьюки свою невинность – а рассказывали они об этом, надо сказать, прелестно, – он несколько затосковал от повторения, потому что нос может быть отрезан всего одним манером, как и потеряна невинность, – или ему так казалось? – тогда как разнообразие в искусствах и науках живо задевало его любознательность. А потому, навсегда сохранив о них благодарную память, он перестал посещать пивные и кегельбаны, серый плащ засунул в шкаф и, сверкая звездой на шее и подвязкой на колене, снова явился при дворе короля Якова. Он был молод, он был богат, он был хорош собой. Никто не мог быть встречен с большей готовностью и ободрением, чем он.
Во всяком случае, многие дамы – и это достоверно известно – стремились его осчастливить. Три имени, по крайней мере, открыто сопрягались с его именем и титулом: Хлоринда, Фавила, Ефросиния – так он их называл в сонетах.
Изложим по порядку. Хлоринда была весьма изысканная, тонкая особа, – во всяком случае, Орландо был не на шутку ею увлечен шесть с половиной месяцев; но у нее были белые ресницы, и она не выносила вида крови. Из-за жареного зайца на родительском столе она упала в обморок. К тому же она подпала под влияние попов и экономила на нижнем белье, чтобы подавать милостыню. Она взялась наставлять Орландо на путь истинный, и это оказалось так противно, что он сбежал, и не очень в том раскаивался, когда она вскорости умерла от оспы.
Фавила, следующая, была из совсем другого теста. Дочь бедного сомерсетского дворянина, исключительно благодаря собственному усердию и неустанной работе прекрасных глазок она пробилась ко двору, а там уж искусность в верховой езде, изящная поступь и легкость в танцах снискали ей всеобщее расположение. Однажды тем не менее она имела неосмотрительность так отстегать спаниеля, разодравшего ей шелковый чулок (справедливости ради следует заметить, что чулок у Фавилы было немного, да и те в основном простые), что тот чуть не отдал богу душу под самым окном у Орландо. Орландо, страстный любитель животных, тотчас разглядел, что зубы у Фавилы кривые, а два передних торчат, объявил, что это вернейший признак жестоких и порочных наклонностей в женщине, и в тот же вечер разорвал помолвку навсегда.
Третья, Ефросиния, была, безусловно, самым серьезным его увлечением. Она происходила от ирландских Дезмондов, и фамильное ее древо, таким образом, было не менее древним и глубоко укорененным, чем у Орландо. Она была светловолоса, цветущего здоровья и разве самую малость флегматична. Она свободно изъяснялась по-итальянски, сверкала прелестным рядом верхних зубов, хотя нижние, быть может, и были чуточку не так белы. Она показывалась на люди не иначе как с гончей либо со спаниелем на коленях, кормила их белым хлебом с собственной тарелки; дивно пела под клавесин – и всегда была неодета до полудня, так тщательно она следила за собой. Одним словом, самая подходящая партия для высокородного юноши, подобного Орландо, и дело было на мази, стряпчие с обеих сторон уже пеклись о брачном договоре, вдовьей доле наследства, приданом, резиденциях и прочем, что требуется утрясти, чтобы одно большое состояние сочетать с другим, когда вдруг, с резкостью и суровостью, присущими в те времена английскому климату, нагрянул Великий Холод.
Великий Холод, свидетельствуют историки, превосходил суровостью все холода, когда-либо выпадавшие на долю этих островов. Птицы гибли на лету и камнем падали на землю. В Норвиче одна молодая крестьянка, пустившись через дорогу во всегдашнем своем крепком здравии, при всем честном народе была застигнута на углу ледяным вихрем, обращена в пыль и в таком виде взметена над крышами. Смертность среди овец и крупного рогатого скота достигала небывалых показателей. Трупы промерзали так, что их не удавалось отодрать от почвы. Нередко приходилось видеть на дорогах недвижные стада замороженных свиней. В полях то и дела попадались пастухи, крестьяне, табуны коней, мальчики, пугавшие птиц, загубленные морозом в мгновение ока: кто ковыряя в носу, кто прикладываясь к бутылке, кто целясь камнем в ворону, которая, в свою очередь, чучелом торчала на ограде в метре от него. Мороз так свирепствовал, что его следствием порой являлось некое окаменение: полагали, что множеством новых скал в известных своих частях Дербишир обязан вовсе не извержению вулкана, ибо такового не наблюдалось, но отвердению несчастных путников, в буквальном смысле слова застывших в пути. Церковь ничего не могла поделать, и хотя кое-кто из землевладельцев чтил эти останки, большинство предпочитало их использовать как межевые вехи, указательные столбы или, когда форма камня позволяла, корыта для скота, каковым целям они, по большей части превосходно, служат и поныне.
Но пока сельский люд страдал от лютых бедствий и жизнь в глуши застопорилась, Лондон предавался пышным празднествам. Двор находился в Гринвиче, и новый король задумал устроить всеобщие увеселения по случаю собственной коронации, чтобы подмаслиться к подданным. По его повелению реку, промерзшую на двадцать футов в глубину и в обе стороны на шесть-семь миль, расчистили, изукрасили и превратили в парк с беседками, лабиринтами, аллеями, питейными киосками и прочими развлечениями – все на его счет. Для себя и придворных он выговорил известное пространство прямо против дворцовых ворот, каковое, отгороженное от публики всего лишь шелковой лентой, тотчас сделалось средоточием самого блистательного общества Англии. Важные государственные мужи в жабо и бородах вершили судьбы отечества под малиновым навесом королевской пагоды. Военачальники замышляли падение мавра и разгром турчанина в полосатых шатрах, венчанных страусовыми перьями. Адмиралы важно ступали по узким тропкам, с бокалом в руках, озирая горизонт и рассуждая о северо-западном походе и Испанской Армаде. Возлюбленные пары амурились на соболями устланных диванах. Мерзлые розы градом сыпались на королеву, гулявшую в сопровождении придворных дам. Разноцветные шары недвижно парили в воздухе. Там и сям пылали в огромных праздничных кострах дубовые и кедровые поленья, густо посыпанные солью, так что пламя казало зеленые, рыжие, лиловые языки. Но как ни жарко горело, оно не могло растопить лед, который при небывалой своей прозрачности мог твердостью поспорить со сталью. Так прозрачен был лед, что на глубине нескольких футов можно было разглядеть где застывшего дельфина, где форель. Недвижно лежали косяки угрей, и вопрос о том, состояние ли это смерти или всего лишь забытья, из которого могло бы вывести тепло, терзал мыслителей. Близ Лондонского моста, там, где река промерзла саженей на двадцать, на дне была отчетливо видна баржа, затонувшая осенью под неподъемным грузом яблок. Старуха маркитантка, поспешавшая с товаром на суррейскую сторону на рынок, сидела в своих платках и фижмах, с яблоками в подоле, и можно было поклясться, что она их предлагает покупателю, если бы некоторая голубоватость губ не выдавала горестную правду. Это зрелище особенно развлекало короля Якова, и он приводил сюда придворных на него полюбоваться. Словом, трудно передать, как весело и живописно тут было днем. Но по ночам праздничное настроение достигало высшей точки. Ибо мороз не отпускал; ночи стояли тихие; луна и звезды сверкали с упорством бриллиантов, и под нежные звуки гобоев и лютней двор танцевал.
Орландо, надо признаться, был не силен в куранте или вольте, скорей неловок и несколько рассеян. Простые танцы родной страны, к которым был приучен с детства, он явственно предпочитал этим чужеземным выкрутасам. Он как раз сомкнул пятки, заключая очередной менуэт или кадриль, в шесть часов вечера седьмого января, когда скользнувшая из шатра московитов фигурка не то мальчика, не то девушки, ибо свободный камзол и шальвары (по русской моде) скрывали пол, привлекла его сугубое внимание. Эту, какого бы ни была она пола, особу, небольшого роста и редкой стройности, всю облекали бледно-серого цвета бархаты, отороченные невиданным зеленоватым мехом. Но подробности затмевались ослепительной соблазнительностью особы. В мозгу Орландо сплетались и свивались самые дерзкие и странные метафоры. Он назвал ее дыней, ананасом, оливой, изумрудом, лисицей на снегу – и все за три секунды; он сам не знал, видел он ее, слышал, пробовал на вкус или все это сразу. (Ибо, хотя мы обязаны ни на мгновение не прерываться в своем повествовании, мы можем, однако, походя заметить, что все образы его в то время были чрезвычайно просты, под стать его же чувствам, и по большей части навеяны предметами, вкус или вид которых ему нравился в детстве. Но, будучи просты, чувства его были и на редкость сильны. Потому нам нет нужды здесь останавливаться и доискиваться глубоких причин.)…Дыня, изумруд, лисица на снегу – так бредил он, так ее называл. И когда мальчик, ибо это, увы! был, конечно, мальчик – может ли женщина так бешено, так стремительно носиться на коньках? – чуть не на цыпочках промчался мимо, Орландо готов был рвать на себе волосы с досады, что особа оказалась одного с ним пола и про объятия нечего и думать. Но вот конькобежец снова приблизился. Ноги, руки, осанка были мальчишеские, но мог ли быть у мальчика этот рот, могла ли быть у мальчика эта грудь, могли ли быть у мальчика эти глаза, словно выуженные со дна морского? Наконец, присев в обворожительном, дивном реверансе перед королем, который, опираясь на придворного, шаркал мимо, она остановилась. Она была совсем рядом. Она была женщина. Орландо смотрел, дрожал, его бросало в жар, трясло в ознобе; его мучительно тянуло бежать сквозь летний зной, давить пятками желуди, обнять дубы и буки. На поверку же он задрал верхнюю губу над белыми мелкими зубами – ощерился, как для укуса; щелкнул челюстью, будто уже укусил. Леди Ефросиния повисла у него на локте.
Имя незнакомки, он выяснил, было Маруся Станиловска Дагмар Наташа Лиана из рода Романовых, и она сопровождала не то отца своего, не то дядю, посла московитов, прибывшего на коронацию. О московитах известно было немногое. В своих огромных бородах, под меховыми шапками, они почти всегда молчали; пили какое-то темное пойло, то и дело его сплевывая на лед. По-английски они ни слова не понимали, правда, кое-кто из них мог изъясняться по-французски, но тогда он был почти не принят при английском дворе.
По этому случаю Орландо и познакомился с княжной. Они сидели друг против друга за накрытым под огромным навесом большим столом для избранных. Княжну усадили между двумя молодыми лордами. Один был Фрэнсис Вир, другой – юный граф Морэй. Потешно было наблюдать, как она то и дело ставила их в тупик, ибо, хоть оба были по-своему недурные малые, французским они владели ничуть не лучше нерожденного младенца. Когда в самом начале ужина княжна, оборотившись к соседу, с изяществом, пленявшим его сердце, говорила: «Je crois avoir fait la connaissance d’un gentilhomme qui vous était apparenté en Pologne l’été dernier»[3] или: «La beauté des dames de la cour d’Angleterre me met dans le ravissement. On ne peut voir une dame plus gracieuse que votre reine, ni une coiffure plus belle que la sienne»[4], – оба, лорд Фрэнсис и граф, выказывали величайшее недоумение. Один настойчиво потчевал ее хреном, другой свистнул своего пса и заставил его выпрашивать мозговую косточку. Тут уж княжна не выдержала и расхохоталась, и Орландо, через кабаньи головы и чучела павлинов поймавший ее взгляд, расхохотался тоже. Он на нее смотрел, он хохотал, но вдруг смех замер на его губах. Кого он любил, спрашивал он себя, захваченный вихрем чувств, чтó он любил доныне? Старуху, он отвечал себе, – кожу да кости. Румяных потаскух без числа. Нудную монашку. Грубую, зубастую авантюристку. Сонный тюк кружев и жеманства. Прошедшая любовь была – угасший пепел, тлен, не более того. Радости ее – до жути пресны. Странно, как еще ему удавалось, извлекая их, удерживать зевоту. Да, пока он смотрел, кровь в нем плавились, лед таял и тек вином по жилам; он слышал звон ручьев, пение птиц, ключ бил сквозь зимние снега; мужество его очнулось – он сжимал в руке кинжал, звал на бой врага свирепей мавра и поляка; он нырял в пучину; опасность затаилась в расщелине, как роковой цветок; он увидел этот цветок, протянул руку… словом, он одним духом источал один из самых пламенных своих сонетов, когда княжна адресовалась к нему:
– Не будете ли вы добры передать мне соль?
Он залился краской.
– С превеликим удовольствием, сударыня, – отвечал он на безукоризненном французском. Ибо, благодарение Небесам, он владел этим языком как родным. Материна горничная его обучила. Хотя, быть может, лучше бы ему не знать этого языка вовсе, не отвечать на этот голос, не покоряться свету этих глаз…
Княжна продолжала. Кто эти болваны рядом с нею, спрашивала она, с повадками конюхов? Что за тошнотворную пакость они суют ей на тарелку? И неужто английские собаки едят с людьми за одним столом? И неужто это чучело в конце стола, со всклоченной, как Майский шест[5], прической (une grande perche mal fagotée)[6], – в самом деле королева? И неужто же всегда король пускает слюни? И который же из тех хлыщей Джордж Вильерс[7]? Вопросы эти сперва огорошили Орландо, но задавались они с такой резвой хитрецой, что он не мог удержаться от смеха; и, по безмятежным лицам сотрапезников заключив, что те не понимают ни слова, он отвечал ей с той же откровенностью и на столь же безукоризненном французском.
Так было положено начало близким отношениям, вскоре вызвавшим возмущение двора.
Все заметили, что Орландо оказывает москвитянке куда больше внимания, чем велит простая учтивость. Их постоянно видели вместе, и, хотя беседа их была недоступна остальным, велась она так живо, то и дело перемежалась такими улыбками и потуплением взоров, что и круглый дурак сразу бы догадался, что к чему. Более того – самого Орландо будто подменили. Никогда еще не наблюдалось за ним такой прыти. Куда девалась мальчишеская неловкость; из хмурого недоросля, чувствовавшего себя в гостиных как слон в посудной лавке, он превратился в благородного мужа со зрелым достоинством манер. Вел ли он москвитянку (так ее называли) к саням, хватал ли оброненный ею грязный носовой платок, оказывал ли одну из прочих услуг, которых владычица души ждет и жадно предугадывает влюбленный, – то было зрелище, способное зажечь тусклый взор старика и заставить учащенно биться молодое сердце. И все это, однако, мрачила туча. Старики пожимали плечами. Юнцы исподтишка хихикали. Все знали, что Орландо помолвлен с другой. Леди Маргарет О’Брайен О’Дэр О’Рэйли Тайрконнел (ибо таково было подлинное имя Ефросиньи его сонетов) носила на среднем пальце левой руки роскошный сапфир, подаренный Орландо. Это она имела исключительное право на его внимание. И тем не менее она могла переронять на лед все свои платки до единого (а их у нее было много дюжин), – Орландо и не думал за ними наклоняться. Она по двадцать минут ждала, пока Орландо отведет ее к саням, и в конце концов смирялась с услугами своего арапа. Когда она бегала на коньках – а бегала она весьма неловко, – никого не было рядом, чтобы ее ободрить, и, когда она плюхалась на лед, а плюхалась она довольно тяжело, – никто не помогал ей встать, никто не отряхивал снег с ее юбок. И, флегматичная от природы, неспособная обижаться и меньше всех готовая поверить, что какая-то иностранка может увести у нее из-под носа Орландо, все же и сама леди Маргарет в конце концов вынуждена была заподозрить, что ее покою кое-что грозит.
И то сказать, дни шли, а Орландо давал себе все менее труда скрывать свои чувства. Под тем или иным предлогом он покидал общество сразу после ужина или спешил улизнуть от конькобежцев, когда те затевали фигуры для кадрили. И тотчас замечалось и отсутствие москвитянки. Но более всего бесило придворных, жалило их в самое чувствительное место (каковым у них является тщеславие) то, что парочка на глазах у них частенько ускользала за шелковую ленту, отгораживавшую королевскую площадку от остальной реки, и терялась в толпе простонародья. Потому что княжна вдруг топала ножкой и кричала: «Уведи меня отсюда! Ненавижу твой английский сброд!» – каковым словом она обозначала как раз английский двор. Она уже не в состоянии это выносить, говорила она. Старухи богомолки пялятся на твое лицо, наглые юнцы не дают проходу. От них воняет. Собаки путаются под ногами. Чувствуешь себя как в клетке. В России – там реки шириною в десять миль, скачи себе в карете цугом и за целый божий день души не встретишь. К тому же ей хотелось посмотреть Тауэр, и лейб-гвардейцев стражников, и головы на Лондонских воротах, и лавки ювелиров. И Орландо отправлялся с нею в город, показывал лейб-гвардейцев стражников, головы мятежников, скупал все, на что в лавках падал ее взгляд. Но этого было недостаточно. Обоим все пламенней хотелось побыть наедине, подальше от пересудов и сплетен. И вместо Лондона они сворачивали в другую сторону и скоро оказывались в промерзлых верховьях Темзы, где, кроме морских птиц да какой-нибудь деревенской бабы, колющей лед в напрасной надежде нацедить ведро воды или тщившейся набрать сухих щепок для растопки, им не встречалось ни души. Бедняки держались поближе к своим хижинам, а публика почище, те, кому это по карману, подавались в город в поисках тепла и удовольствий.
И таким образом, Орландо и Саша, как он прозвал ее для краткости и еще потому, что так звали белого русского песца, который был у него в детстве, – создание нежное, как снег, но с зубами тверже стали; однажды он так куснул Орландо, что отец приказал его убить, – и таким образом, они владели Темзой нераздельно. Разгоряченные коньками и страстью, они валились в снега пустынного плеса, отороченные желтыми прибрежными ветлами, и Орландо заключал ее в объятия под огромной шубой, и впервые, впервые в жизни он лепетал, наслаждался счастием любви. Потом, утолив восторг, оба истомно лежали на снегу и Орландо ей рассказывал о других своих возлюбленных: деревяшки, тлен, одно недоразумение – вот что они были такое в сравнении с нею. И, посмеиваясь над его горячностью, она снова заключала его в объятия и снова целовала. И они дивились, как это лед не плавится от их накала, и жалели бедную старушку, которой, не имея естественных ресурсов для его растопки, приходилось орудовать старым косарем. А потом, окутавшись своими соболями, они болтали про все на свете: про путешествия и виды; про язычников и мавров; про чью-то бороду и чьи-то брови; про то, как она с руки кормила крысу под столом; про шпалеры, что вечно волнует ветер в коридорах замка; про то лицо; про то перо. Ничто не было ни слишком мелким для их бесед, ни чересчур великим.
Но вдруг на Орландо находил один из приступов его тоски – из-за старухи, жалко топтавшейся на льду, а то и вовсе без причин, – и он ничком ложился на лед, смотрел на промерзшую воду и думал о смерти. Ибо прав тот мудрец, который уверяет, что счастье всего на волосок отделено от тоски; и рассуждает далее, что это – близнецы, и извлекает отсюда умозаключение, что всякая крайность в чувствах отдает безумием; рекомендует нам искать спасения в лоне истинной (в его случае анабаптистской) Церкви, являющейся единственной гаванью, якорем и прибежищем и прочее, и прочее для тех, кого швыряет на волнах этого безжалостного моря.
– Все кончится смертью, – говорил Орландо, садясь, с потемнелым от тоски лицом. (Ибо дух его тогда, как на качелях, метался между жизнью и смертью, решительно без всяких остановок в промежутке, так что где уж останавливаться биографу, нет, напротив, ему надо торопиться изо всех сил, чтобы поспеть за безотчетно горячими, глупыми выходками и дикой непроизвольностью речей, чем, невозможно отрицать, грешил в те поры Орландо.)
– Все кончится смертью, – говорил Орландо, садясь на льду. Но Саша, которая не имела в жилах ни капли английской крови и родилась в России, где закаты медлят, где не ошарашивает вас своей внезапностью рассвет и фраза часто остается незавершенной из-за сомнений говорящего в том, как бы ее лучше закруглить, – Саша смотрела на него во все глаза, смеялась над ним, потому что он, наверное, казался ей ребенком, и ничего не отвечала. Меж тем лед под ними остывал, холодил, жалил Сашу, и, потянув Орландо за руку и заставив встать, она говорила так тонко, остро и умно (но все это, к сожалению, на французском, который ужасно опресняется при переводе), что Орландо, забыв о промерзших водах и нависшей ночи, о старухе и тому подобном, пытался объяснить Саше – ныряя, плескаясь, барахтаясь в образах, выдохшихся, как и вдохновившие их дамы, – на что она похожа. Снег, пена, мрамор, вишня в цвету, алебастр, золотая сеть? Нет, все не то. Она была, как лисица, как олива, как волны моря, когда на них смотришь с вышины, как изумруд, как солнце на мураве покуда отуманенного холма – но ничего этого он не видел и не знал у себя в Англии. Он прочесывал весь родной словарь – и не находил слов. Тут требовался иной пейзаж, иной строй речи. Английский был слишком очевидный, откровенный, слишком медвяный язык для Саши. Ведь во всем, что говорила она, как бы она ни разливалась соловьем, всегда что-то оставалось утаенным; за всем, что она делала, как бы безоглядны ни были ее порывы, всегда скрывалось что-то. Так упрятан зеленый пламень в изумруде, так заточено в муравчатом холме солнце. Только снаружи была ясность – в глубине блуждали огненные языки. Вот загорелись – вот загасли; никогда не сияла Саша ровными лучами, как английские женщины; но тут, однако, припомнив леди Маргарет и ее юбки, Орландо осекся, запутался, зашелся, повлек Сашу по льду быстрей, быстрей, быстрей и клялся, что он настигнет пламя, найдет оправу, найдет управу, нырнет на дно за перлом и прочее, и прочее, перемежая слова вздохами со всем пылом, свойственным поэту, когда стихи из него выдавливает боль.
А Саша все отмалчивалась. Когда, достаточно поговорив про то, что она лисица, олива, зеленый холм, Орландо ей выкладывал историю своего семейства: как их род один из древнейших в Британии; как они явились из Рима вместе с цезарями и вправе двигаться по Корсо (а это главная улица Рима) под кистями паланкина – честь, он пояснял, даруемая лишь наследникам порфироносцев (в нем была гордая наивность, довольно, впрочем, привлекательная), и, помолчав, спрашивал, а где же ее дом? кто ее отец? есть ли у нее братья? отчего она здесь одна со своим дядей? И почему-то, хотя она отвечала с готовностью, Орландо делалось не по себе. Сперва он подозревал, что она не столь высокого происхождения, как ей бы хотелось, или что она стыдится диких обычаев своей страны, ибо ему приходилось слышать, что женщины в Московии носят бороды, а мужчины вниз от пояса покрыты шерстью; что те и другие смазываются салом для тепла, рвут мясо руками и живут в лачугах, где английский дворянин посовестится держать и скотину; и потому он решил не наседать на нее с расспросами. Однако, поразмыслив, он сообразил, что молчание объясняется какими-то другими причинами: ведь у самой Саши на подбородке не наблюдалось ни единой волосинки, облекали ее бархаты и жемчуга, и, судя по манерам, воспитывалась она отнюдь не в загоне для скота.
Но если так – что же она от него таила? Эти сомнения, составлявшие фундамент его любовного неистовства, были как зыбучие пески под монументом: вдруг оползая, они трясут все сооружение. Вдруг Орландо охватывала нестерпимая тревога. И он полыхал таким гневом, что она не знала, как его унять. Возможно, она и не хотела его унимать; возможно, эти припадки ярости ее забавляли и она нарочно их вызывала. Непостижимо уклончива московитская душа.
Продолжая, однако, нашу повесть, – однажды они умчали на коньках дальше обычного и оказались там, где, стоя на якоре, вмерзли в Темзу корабли. Был среди прочих и корабль московитского посольства, кивавший с топ-мачты двумя черными орлиными головами в просторной оторочке искрящихся сосулек. Саша оставила на борту кое-что из платья, и, сочтя, что на судне никого нет, они взобрались на палубу и пустились на розыски. Помня некоторые происшествия из своего прошлого, Орландо бы ничуть не удивился, обнаружив, что кое-кто уже успел найти там приют, да так оно и вышло. Они только начали разведку, когда приятный молодой человек, хлопотавший над свернутым канатом, оторвался от этого занятия, сообщил, очевидно (он говорил по-русски), что он один из команды и готов помочь княжне найти то, что ей угодно, зажег свечной огарок и скрылся с нею вместе в корабельных недрах.
Время шло, и Орландо, окутанный и разогретый собственными мечтами, думал все о приятном: о своей драгоценности и ее редкостности, о том, как он сделает ее своей – неотменимо и неотторжимо. Конечно, тут громоздилось множество препятствий. Саша твердо решила не покидать Россию, ее замерзших рек, буйных коней, мужчин, она рассказывала, перегрызавших друг другу глотки. Конечно, сосны и снега, повальный блуд и бойня не ахти как его прельщали. Равно нисколько не тянуло его расстаться со здешними милыми забавами и сельскими обычаями, бросить службу, погубить карьеру; ходить на северного оленя вместо зайца, пить водку вместо мадеры и прятать нож за голенищем – бог знает для чего. И однако, на все это – и даже на большее – он был готов ради Саши. Ну а что до венчания с леди Маргарет, хоть и назначенного на будущий четверг, – это была столь явственно нелепая затея, что он почти выбросил ее из головы. Родня невесты его осудит за то, что отверг такую даму; друзья будут потешаться, что он сгубил великолепнейшую карьеру ради какой-то казачки и унылых заснеженных равнин, – что ж, все это пустяки в сравнении с самой Сашей. Первой же темной ночью они сбегут на север, а оттуда в Россию. Так он задумал; так он рассуждал, меря шагами палубу.
Очнулся он, поворотив на запад, при виде солнца, апельсином повисшего на кресте Святого Павла. Кроваво-красное, оно стремительно снижалось. Значит, уже вечер. Тотчас Орландо охватили темные предчувствия, мрачившие даже самые самонадеянные его помыслы о Саше, и он бросился туда, куда, он видел, они удалились, – в сторону корабельного трюма; и – не раз наткнувшись в темноте на ящики и бочонки – наконец, по тусклому свечению в дальнем углу, он понял, что они там. На секунду он их увидел: увидел Сашу у матроса на коленях; увидел, как она наклонилась к нему, увидел их объятия, – и все исчезло, застланное багровым туманом его ярости. И он так взвыл от муки, что весь корабль зашелся эхом. Саша кинулась их разнимать, не то он удушил бы матроса прежде, чем тот успел выхватить тесак. И Орландо сделалось так скверно, что его уложили на пол и вливали в него бренди, пока он не оправился. А потом его усадили на мешки, и Саша хлопотала под ним, мелькала перед его расплывавшимся взором – и нежно, и хитро, как укусившая его лисица, то ластясь, то сердясь, так что уже он сам готов был усомниться в том, что видел. Свеча ведь оплывала – верно? И бродили тени – не правда ли? Ящик, она сказала, был чересчур тяжел, матрос ей помогал его тащить. На мгновение Орландо ей поверил, – кто поручится, что гнев не подсунул ему как раз то, что он больше всего боялся обнаружить? Но тотчас, с удвоенной яростью, он осыпал ее упреками во лжи. Тут уж Саша побелела, топнула ножкой; объявила, что нынче же уедет, и призывала Небо покарать ее, если она, княжна из рода Романовых, лежала в объятиях грубого матроса. И в самом деле, охватив взглядом их обоих (что стоило ему немалых усилий), Орландо устыдился своего грязного воображения, которое могло нарисовать столь нежное создание в лапищах волосатого морского чудища. Он был громадный, чуть не двухметровый, с вульгарнейшими кольцами в ушах, – как ломовик, на которого присела отдохнуть в полете ласточка или малиновка. И Орландо смирился, поверил и просил прощения. И все же когда, совершенно примирившись, они выходили их трюма, Саша приостановилась, держась за поручни, и выпустила в темнолицее широкоскулое чудище залп русских приветствий, острот, а то и любезностей? Орландо не понимал ни слова. Но что-то в тоне ее голоса (не по вине ли русских звуков?) вызвало у Орландо в памяти ту недавнюю ночь, когда он застиг Сашу врасплох в темном уголку: она лакомилась подобранной с пола свечкой. Оно, конечно, свечка была розовая, золоченая, и с королевского стола; но все равно – сальная свечка, и Саша ее глодала. А ведь, пожалуй, думал он, помогая ей сойти на лед, пожалуй, есть в ней что-то грубое, что-то дикое, простонародное что-то? И он ее вообразил сорокалетней, тяжелой, расплывшейся, хоть сейчас она была стройнее тростника, и сонной, вялой, хоть сейчас она была резвее птахи. Но когда они бежали на коньках обратно к Лондону, все эти подозрения растаяли в его груди; ему казалось, будто огромная рыба подцепила его на крючок и теперь он мчался вслед за нею по волнам – пусть неохотно, но все же по собственной воле.
Вечер поражал красотой. Солнце садилось, и все купола, башни и шпили Лондона ярко чернели на червлени закатных облаков. Резной крест Чаринга; купол Святого Павла; громады Тауэра; вот занялись окна Аббатства и горели многоцветными небесными щитами (фантазия Орландо); вот запад уже слился в одно окно, и ангелы (опять – фантазия Орландо) сбегали и взбегали по небесным ступенькам.
И все время, все время коньки скользили как по бездонной пучине неба, так ярко синел лед; и так стеклянно-гладок он был, что они разгонялись быстрей, быстрей, и белые чайки расчерчивали воздух крыльями, как в зеркале отражая росчерки коньков.
Саша – не старалась ли она его задобрить? – была нежней всегдашнего и даже еще пленительней. Обычно она не любила говорить о своей прежней жизни, а тут рассказала, как зимой в России слышала дальний волчий вой и, трижды тявкнув по-волчьи, продемонстрировала, как это звучит. В ответ он рассказал ей про оленей в заснеженном парке, как они забредают в гулкие залы погреться и один старик их кормит кашей из ведра. И она его расхваливала – за любовь к животным, за отвагу, за его ноги. В восторге от ее похвал, пристыженный тем, что мог вообразить ее на коленях у простого матроса, а потом и раздобревшей, вялой и сорокалетней, он сказал, что не находит слов, чтоб достойно ее расхвалить; однако тотчас сообразил, что она похожа на ручей, на мураву, на волны; и, сжав в объятиях еще крепче, чем всегда, он закружил ее вихрем на середине реки, отчего чайки и бакланы тоже закружились. И она наконец задохнулась, остановилась и сказала ему, что он как рождественская елка, разубранная миллионом свечек (так принято у них в России), увешанная желтыми шарами, – вся в пламени, света на целую улицу хватит (так приблизительно можно бы это перевести); ибо со своими пылающими щеками, темными кудрями и черно-красным камзолом он словно сияет собственным пламенем, словно у него засветили лампу внутри.
Все краски, кроме полыхания Орландовых щек, скоро выцвели. Настала ночь. Оранжевость заката погасла, уступив место странно белесому свечению факелов, костров и прочих приспособлений, и разом все удивительно переменилось. Храмы, дворцы вельмож, отделанные белым камнем по фасаду, плыли по воздуху, высвечиваясь полосами и пятнами. От Святого Павла, в частности, уцелел один золоченый крест. Вестминстерское Аббатство зыбко серело скелетом листа. Все истончилось, оскудело, все преобразилось. Звуки стали плотнее, гуще. Приближаясь к месту гуляний, Орландо и Саша услышали звук – протяжный, чистый, как от удара по камертону; он разрастался, крепчал, пока не разразился гремучим раскатом. То и дело взвивались ракеты, и восторженный рев их приветствовал. Вот стали заметны маленькие фигурки, отрывавшиеся от толпы и кружившие по льду, как мошки. И над этим сверкающим озерцом черной чашей мрака опрокинулась зимняя ночь. И в черноте этой, с нагнетавшими нетерпение паузами, расцветали ракеты: полумесяцы, змейки, короны. На миг дальние холмы и леса оживали, как в летний зной; и снова на них падали ночь и зима.
Орландо и Саша, уж совсем близко к королевской площадке, прокладывали путь в густой толпе простонародья, теснившейся поближе к шелковой ленте. Не спеша расстаться с уединением и попасть под неусыпное соглядатайское око, парочка медлила среди подмастерьев, портняжек, рыбачек, конских барышников, проходимцев, голодных грамотеев, горничных в косынках, торговок апельсинами, конюхов, трезвых граждан, бесстыжих кабатчиков, маленьких оборвышей, всегда примазывающихся к любой толпе, орущих, мешающихся под ногами, – словом, весь лондонский уличный сброд теснился тут, толкался, пихался, кидал кости, громко предсказывал судьбу, щипался, щекотался; тараторил, горланил – там хмуро, там буйно, – одни изумленно разинув рот, другие с каменным безразличием галок на заборе; разнообразие оснастки отражало состояние кармана: одни были в мехах, парче, другие в рубище, и ноги защищены от жалящего льда лишь рваными обмотками. Основная масса толпилась, пожалуй, перед подмостками, на каких у нас показывают Панча и Джуди, и глазела на представление. Черный мужчина махал руками и орал. Женщина в белом лежала на постели. Актеры метались вверх-вниз по ступенькам, то и дело спотыкались, и публика топала, свистела, а то от скуки запускала в них апельсиновой кожурой, за которой тотчас кидался беспризорный пес, – но при всей неуклюжести, при всей невозможности зрелища странная путаная мелодия слов завораживала Орландо, как музыка. Выговариваемые дерзко-спешащим говорком, напоминавшим о песнях матросов в пивной на Уоппинге-Оулд-Стэрс, слова эти и помимо смысла пьянили его, как вино. Но когда, долетев через лед, отдельная фраза ударяла по сердцу, ярость мавра оказывалась его яростью, а когда мавр удушал женщину в постели – это сам Орландо убивал Сашу собственной рукой.
Но вот представление кончилось. Все потемнело. По щекам Орландо лились слезы. Он взглянул на небо – там тоже была черная тьма. Все окутывает смерть и мрак, думал Орландо. Жизнь человеческая кончается гробом. Черви нас сожрут.
Как будто в мире страшное затменье,
Луны и солнца нет, земля во тьме,
И всё колеблется от потрясенья[8].
И едва он произнес эти слова, бледно-утренняя звезда взошла в его памяти. Ночь была темная, хоть глаз выколи; но не такой ли ночи они и дожидались? Он вспомнил все. Час пробил. Он порывисто прижал к груди Сашу, шепнул ей на ухо: «Jour de ma vie!»[9] Это был пароль. В полночь они сойдутся у гостиницы близ Черных Братьев. Кони будут ждать. Все готово для побега. И они разошлись в разные стороны – он к своему, она к своему шатру. Оставался еще час времени.
Задолго до полуночи Орландо был уже на условном месте. Так черна была ночь, что никого не увидишь на расстоянии шага; оно бы и к лучшему, но такая царила торжественная тишина, что за полмили слышно цоканье ли копыт, крик ли ребенка. То и дело у Орландо, вышагивавшего взад-вперед по тесному дворику, сердце обрывалось от стука подков по булыжнику, от шелеста женских юбок. Но всякий раз оказывалось, что это всего лишь направляется к себе домой припозднившийся купец либо женщина вышла на улицу в далеко не столь невинных целях. Пройдут – и еще плотней смыкалась за ними тишина. Вот огни, дрожавшие в нижних этажах тесных жилищ, набитых городской беднотой, пересыпались выше, в спальни, и там один за другим потухли. Фонари в здешних краях были редки, да и те, по нерадению ночного сторожа, часто гасли, не дождавшись рассвета. И еще плотнее смыкалась тьма. Орландо прикрутил фитиль в своем фонаре, проверил упряжь, посмотрел пистолеты, поправил кобуру; и все это проделал он раз десять и вот уж больше ничего не мог припомнить такого, что требовало бы его попечения. Хотя до полуночи оставалось еще минут двадцать, он никак не мог себя заставить войти в гостиницу, где хозяйка, верно, еще оделяла скверным вином нескольких матросов, распевавших свои песенки и рассказывавших свои истории про Дрейка, Хоккинса и Гренвила[10], пока, свалившись под скамью, не захрапят на земляном полу. Тьма была куда милей его безумно колотившемуся сердцу. Он вслушивался в каждый звук, ловил ухом каждый шорох. Каждый пьяный выкрик, каждый стон роженицы ли, другого ли какого бедолаги надрывал ему душу, словно предвещая недоброе. Нет, он не боится за Сашу. Храбрость ее не знает границ. Она придет одна, в камзоле и штанах, обутая по-мужски. Шаг ее легок, неуловим, не слышен даже и в этой тишине.
Так ждал он во тьме. Вдруг его ударили по лицу – тихая, но тяжелая пощечина. Он до того истомился ожиданием, что весь задрожал и тотчас схватился за шпагу. Удары повторились – еще, еще, – его били по щекам, били по лбу. Привыкнув уже к этому сухому морозу, Орландо сразу не сообразил, что это дождь: его ударяли дождевые капли. Сперва они падали медленно, как бы нехотя, с ленцой. Но скоро заколотили все чаще, чаще. Уже их было не шесть, а шестьдесят, шестьсот; и вот, слившись, они обрушились каскадом. Все небо будто накренилось, изошло потоком. За пять минут Орландо промок до нитки.
Поспешно отведя коней под укрытие, сам он затаился под навесом крыльца и оттуда оглядывал двор. За грохотом и гулом ливня нельзя было различить ничьих шагов. Дороги, изрытые колдобинами, конечно, сделались непроходимы. Но Орландо почти не думал о том, как это должно сказаться на замысле побега. Все чувства его, все мысли сосредоточились на мерцающей в свете фонаря мощеной тропке, – там надеялся он увидеть Сашу. Иногда она ему мерещилась во тьме, в дождевых прядях. Но тотчас призрак исчезал. Вдруг ужасным, зловещим тоном, от которого у Орландо перевернулось сердце, часы Святого Павла возгласили первый удар полуночи. И безжалостно пробили еще четыре раза. С суеверием влюбленного Орландо загадал, что она придет при шестом ударе. Но вот раскатилось эхо шестого, отзвенел седьмой, восьмой, и для его израненного слуха они звучали смертным приговором. При двенадцатом ударе он понял, что надежды нет никакой. Тщетно прибегал он к утешительным доводам рассудка: может быть, она опоздала; может быть, ее задержали; может быть, она заблудилась. Вещая душа Орландо чуяла правду. Пробили, прозвенели часы на других башнях. Весь мир словно сговорился греметь о ее предательстве, его посрамлении. Давние мучительные догадки, смутно подтачивавшие Орландо, прорвали плотины запрета. Его жалили несчетные змеи, одна ядовитей другой. Дождь лил как из ведра. Он стоял под навесом крыльца, не в силах сдвинуться с места. Проходили минуты. У Орландо подгибались ноги. А ливень бушевал. Будто грохотали тысячи пушек. Будто с треском валились могучие дубы. Раздавались какие-то дикие вопли, жуткие, нечеловеческие стоны. Но Орландо все стоял и стоял, пока часы Святого Павла не пробили два часа, и тогда только, крикнув с убийственной иронией: «Jour de ma vie!» – он швырнул фонарь оземь, вскочил на коня и поскакал, сам не зная куда.
Верно, слепой инстинкт (ибо разум его молчал) вел его вдоль речного берега по направлению к морю. Потому что, когда занялся рассвет с особенной какой-то внезапностью, небо бледно зажелтело и почти перестал лить дождь, Орландо оказался совсем близко к устью Темзы. И вид весьма странного, удивительного свойства предстал глазам его. Там, где три месяца, а то и больше, лед, столь плотный, что казался вековечней камня, держал на себе целый город увеселений, теперь ярились желтые волны. Река высвободилась за эту ночь. Будто серные источники (и к такой точке зрения склонялось большинство мыслителей), забив из вулканических глубин, взорвали лед и с мощной силой разметали множество осколков в разные стороны. От одного взгляда на воду могло помутиться в голове. Все смешалось, все клубилось. Всю реку усеяли айсберги. Одни были просторны, как кегельбаны, и высотою с дом; другие – не больше мужской шляпы, зато – как причудливо изогнуты! То вдруг целый караван льдин сметал и топил все на своем пути. То, извиваясь, как змея под палкой мучителя, река шипела меж обломков, швыряла их от берега к берегу, и они громко разбивались о пирсы. Но больше всего ужасал вид человеческих существ, загнанных в ловушку, расставленную этой страшной ночью, и теперь в отчаянии меривших шагами зыбкие свои островки. Прыгнут ли они в поток, останутся ли они на льду – участь их была решена. Иногда они гибли целыми группами, кто – стоя на коленях, кто – кормя грудью младенца. Вот старик, видимо, читал вслух молитвы. Вот какой-то бедолага один метался по своему тесному прибежищу, и его судьба была, быть может, всего страшней. Уносимые в открытое море, иные тщетно взывали о помощи, неистово клялись исправиться, каялись в грехах, обещали поставить Богу алтари и осыпать Его золотом, если Он услышит их молитвы. Другие были так поражены ужасом, что сидели молча, недвижно, глядя прямо перед собой. Несколько молодых лодочников, а может быть рассыльных, судя по ливреям, орали непристойные кабацкие песни и приняли смерть с кощунством на устах. Старый вельможа – о чем свидетельствовали его меха и золотая цепь – тонул недалеко от Орландо, призывая отмщение на головы ирландских мятежников, которые, выкрикнул он при последнем издыхании, затеяли весь этот кошмар. Многие гибли, прижимая к груди серебряные горшки и прочие сокровища; а по меньшей мере двадцать несчастных стали жертвами собственной алчности, бросившись с берега в воду, только бы не упустить золотой бокал или не дать исчезнуть с глаз долой какой-нибудь собольей шубе. Ибо мебель, ценности, имущество всякого рода так и уносило на айсбергах. Среди прочих достопримечательностей следует отметить кошку, кормящую котят; стол, пышно накрытый к ужину на двадцать персон; парочку в постели; а также удивительное количество кухонной утвари.
Смущенный, ошеломленный, Орландо некоторое время только стоял и беспомощно оглядывал чудовищные, катящие мимо волны. Потом, как бы опомнившись, он пришпорил коня и поскакал вдоль берега по направлению к морю. Одолев излучину, он оказался там, где всего два дня назад, так незыблемо вмерзнув в лед, стояли посольские корабли. Он их поскорей сосчитал: французский, испанский, австрийский, турецкий. Все держались на плаву, хотя французский корабль сорвало с якоря, а в турецком была большая пробоина и он стремительно наполнялся водой. Только русского судна нигде не было видно. На мгновение у Орландо мелькнула мысль, что оно пошло ко дну; но, приподнявшись в стременах, защитив ладонью глаза, зоркие, как у ястреба, он различил его на горизонте. Черные орлиные головы плескались на топ-мачте. Корабль московитского посольства выходил в открытое море.
Соскочив с коня, он готов был в неистовстве пуститься волнам наперерез. Стоя по колено в воде, он швырял вслед неверной все обвинения, обычно выпадающие на долю ее пола. Предательница, изменщица, ветреница – так он ее честил, – прелюбодейка, чертовка, лгунья; а клубящиеся волны поглощали его слова и выбрасывали к его ногам то разбитый горшок, то соломку.
Глава вторая
Тут биограф сталкивается с трудностью, которую лучше, пожалуй, сразу доверить читателю, нежели стараться замять. До сих пор документы исторического и частного свойства давали биографу возможность исполнять свой первейший долг, а именно, не оглядываясь ни направо, ни налево, твердо ступать по неизгладимым следам истины; не прельщаясь цветочками, не отвлекаясь тенями, твердо идти вперед и вперед, пока мы не свалимся в могилу и не начертаем «конец» на нашей надгробной плите. Но сейчас мы подошли к эпизоду, который лежит у нас поперек дороги, так что не заметить его мы не можем. А эпизод этот темный, таинственный и решительно недокументированный, так что непонятно, как его объяснить. Писать о нем можно целые тома; целые религиозные системы можно на нем основать. И посему наш долг – сообщить факты, насколько они нам известны, а читатель уже пусть сам из них извлечет, что сумеет.
Летом после той бедственной зимы, которая видела холод, потоп, гибель многих тысяч и крушение всех Орландовых надежд, он был отдален от двора, впал в жестокую немилость у многих всесильных вельмож своего времени; ирландский род Дезмондов справедливо от него отшатнулся; король довольно натерпелся от ирландцев, чтобы радоваться еще и этому сюрпризу, – тем летом Орландо жил в просторном сельском замке, в совершенном уединении. И однажды июньским утром – была суббота, восемнадцатое число – он не встал ото сна в обычный час, а когда камердинер зашел к нему в спальню, оказалось, что он крепко спит. И его не могли добудиться. Он лежал в забытьи, едва заметно дышал; и хотя под окном посадили собак, чтобы те подняли вой, возле его постели непрестанно гремели барабаны, цимбалы и кастаньеты, под подушку ему совали можжевеловый куст, к ногам прилепляли горчичные пластыри – он не просыпался, не принимал пищи, не выказывал ни малейших признаков жизни битых семь дней. На восьмой же день он проснулся в обычный свой час (без четверти восемь, минута в минуту) и выгнал из спальни всем скопом истошных женщин и деревенских зевак, что вполне естественно; странно, однако, то, что он ничего не помнил о своем состоянии, но оделся и велел подать ему коня, будто встал поутру как ни в чем не бывало, хорошенько выспавшись со вчерашнего вечера. И однако, судя по всему, кое-какие перемены имели место в покоях его мозга, ибо, хоть он был вполне разумен и даже, пожалуй, спокойней и сдержанней, чем прежде, он, кажется, не очень отчетливо помнил свою предшествующую жизнь. Он слушал, как люди рассказывали о Великом Холоде, о катаниях и гуляньях, но никогда ничем – разве что проведет рукой по лбу, как бы стирая темное облако – не выдавал, что сам он был их свидетелем. Когда обсуждались события последних шести месяцев, он казался не то расстроенным, а скорей растерянным, будто его тревожили давние смутные воспоминания или он силился восстановить историю, рассказанную кем-то другим. Заметили, что, когда речь заходила о России, о княжнах и кораблях, он неприятно мрачнел, вставал и смотрел в окно или подзывал к себе пса, а то вытаскивал ножик и принимался выстругивать кедровую тросточку. Но доктора в ту пору были едва ли умнее теперешних и, попрописывав ему покой и движение, голод и усиленное питание, общение и уединение, постельный режим и сорок миль верхом между обедом и ужином плюс обычные успокаивающие и возбуждающие средства, иногда по наитию присовокупив ко всему этому горячую простоквашу со слюной тритона по утрам и настойку из павлиньей желчи перед сном, наконец предоставили его самому себе, вынеся вердикт, что он спал в течение недели.
Но если это был сон, то – трудно удержаться от вопроса – какова природа подобных снов? Быть может, это оздоровительное средство – состояние забытья, когда самые мучительные воспоминания, способные навеки искалечить жизнь, сметаются темным крылом, которое их очищает от грубости и наделяет, даже самые низкие, самые уродливые из них, свечением и блеском? Не накладывает ли смерть свой перст на жизненную смуту для того, чтобы та сделалась для нас переносима? Быть может, мы так устроены, что смерть нам прописана в ежедневных мелких дозах, чтобы одолевать трудное дело жизни? И какой-то чуждой, неведомой властью преобразуется драгоценнейшее в нас помимо нашей воли? Быть может, Орландо, не снеся своих страданий, на неделю умер, а потом воскрес? Да, но что такое тогда смерть? И что такое жизнь? Добрых полчаса прождав ответы на эти вопросы и не дождавшись их, продолжим, однако, нашу повесть.
Итак, Орландо теперь вел самую уединенную жизнь. Быть может, опала при дворе и непереносимое горе были тому причиной, но, поскольку он ничуть не стремился оправдаться и редко приглашал к себе гостей (хотя толпы приятелей по первому бы зову к нему пожаловали), очевидно, жизнь в доме отцов вдали от света не очень уж ему претила. Он сам предпочел одиночество. Никто толком не знал, как проводит он свои дни. Слуги, которых он всех оставил при себе, хотя обязанности их сводились в общем к тому, чтобы подметать необитаемые покои и застилать пустующие постели, сидя по вечерам за пирогами с элем и наблюдая за свечой, плывущей по галереям, через залы, по лестницам, в опочивальни, заключали, что хозяин замка совершает одинокий свой обход. Никто не решался следовать за ним, потому что замок посещался всевозможного рода призраками и к тому же из-за размеров его вы легко могли заблудиться и либо свалиться с лестницы, либо открыть ненароком потайную дверцу, и она, хлопнув на ветру, могла вас заточить навеки, – что и случалось весьма нередко, о чем красноречиво свидетельствовали часто обнаруживаемые скелеты людей и животных в позах живейшей муки. Затем свеча терялась совершенно, и миссис Гримздитч, ключница, объясняла мистеру Дапперу, капеллану, как горячо она надеется, что с его светлостью ничего плохого не случилось. Мистер Даппер высказывался в том смысле, что его светлость сейчас, верно, преклоняет колена среди отеческих гробов в капелле, которая располагалась на бильярдном корте в полумиле далее к югу. Ибо, опасался мистер Даппер, на совести его светлости есть кое-какие грехи, на что миссис Гримздитч возражала не без горячности, что у большинства из нас они водятся; и миссис Стьюкли, и миссис Филд, и старая няня Карпентер хором вступались за его светлость; а камердинеры и грумы божились, что это ведь жалость одна, когда такой благородный господин слоняется по дому, и нет чтоб пойти на лису или же гнать оленя; и даже прачки и судомойки, все Джуди и Розы, передавая по кругу пирог, свидетельствовали о том, как его светлость обходителен, как щедро оделяет серебром на брошки и ленты, и даже арапка, которую назвали Грейс Робинсон, когда превращали в христианскую женщину, и та все понимала и соглашалась – единственным доступным ей способом, то есть выказывая все свои зубы в широченной улыбке, – что его светлость самый красивый, добрый и великодушный господин. Одним словом, вся челядь, все мужчины и женщины глубоко его чтили и ругали княжну-чужестранку (правда, они ее называли немного грубей), которая его довела до такого.
И хотя, возможно, это трусость или любовь к горячему элю побуждала мистера Даппера воображать, что его светлость безопасно пребывает среди гробов и незачем спешить на его розыски, вполне вероятно, что мистер Даппер был прав. Орландо пристрастился теперь к мыслям о смерти и гниении и, пройдя долгими галереями и бальными залами со свечой в руке, оглядев один за другим портреты, как бы силясь найти среди них дорогие утраченные черты, входил в часовню и долго сидел на господской скамье, наблюдая игры лунного света и переливы знамен в обществе исключительно какой-нибудь летучей мыши или мотылька-бражника. Но ему и этого казалось мало, он спускался в склеп, где, гроб на гробе, лежали десять поколений его предков. Место было столь редко посещаемо, что крысы беззастенчиво хозяйничали в гробах, и то берцовая кость цеплялась за полу его плаща, то хрустел под ногою череп какого-нибудь старого сэра Майлза. Склеп был мрачный, вырыт глубоко под фундаментом замка, словно первый владелец, явившийся из Франции вместе с Завоевателем, задался целью доказать, что вся слава мира зиждется на порче и прахе; что под плотью спрятан скелет; что мы, напевшись и наплясавшись наверху, ляжем внизу; что обратится в пыль порфирный бархат; что кольцо (тут Орландо, опустив свой светильник, подобрал закатившийся в угол золотой перстень, лишившийся камня) теряет свой рубин и глаз, столь некогда яркий, уж не сияет более. «Ничего не осталось от этих князей, – говорил Орландо, позволяя себе вполне простительно преувеличить титул, – все исчезает, все до последнего мизинца». И он брал бесплотную руку в свою и сгибал и разгибал ей суставы. «Чья эта могла быть рука? – задавался он вопросом. – Левая или правая? Мужчины или женщины? Юноши или старца? Натягивала ли она поводья боевого коня или водила проворной иголкой? Срывала ли розы или сжимала хладную сталь? Была ли она…» Но тут либо воображение ему изменяло, либо, что более вероятно, принималось ему поставлять такую бездну примеров того, что могла бы делать рука, что, чураясь по обычаю своему главного труда композиции, каковой состоит в отсечении, он присоединял руку к прочим костям, припоминая при этом, что есть такой писатель Томас Браун, доктор из Норвича[11], чьи сочинения на подобные темы удивительно пленяли его фантазию.
И, подняв свой светильник и приаккуратив кости, ибо, хоть и романтик, он чрезвычайно любил порядок и терпеть не мог, когда даже моток ниток валялся на полу, а не то что череп предка, он возобновлял свое странное, унылое хождение по галереям в поисках чего-то среди картин, прерываемое в конце концов прямо-таки взрывом рыданий, когда он видел заснеженный голландский пейзаж кисти неизвестного мастера. Тут ему казалось, что дальше и жить не стоит. Забыв про кости предков и про то, что жизнь зиждется на гробах, он стоял сотрясаемый рыданиями, изнемогая от тоски по женщине в русских шальварах, с ускользающим взором, припухлым ртом и жемчугами на шее. Она убежала. Покинула его. Никогда уж он ее не увидит более. И он рыдал. И он пробирался обратно к своим покоям; и миссис Гримздитч, завидя свет в окне, отняв от губ кружку, говорила: благодарение Господу, его светлость опять у себя в целости и сохранности, а она-то все время опасалась, что его подло убили.
Орландо тем временем придвигал стул к столу, открывал труды сэра Томаса Брауна и следовал за тонкими извивами одного из самых длинных и витиеватых размышлений доктора.
Ибо – хоть это материя не такого свойства, о каких стоит распространяться биографу, – для того, кто исполнил свой долг читателя, то есть определил по скудным, там и сям оброненным нашим намекам полный объем и очерк личности; расслышал в глуховатом нашем шепоте живой голос героя; усмотрел без всяких даже наших на то указаний черты его лица и понял без единой нашей подсказки все его мысли – а для него-то мы только и пишем, – для такого приметливого читателя совершенно ясно, что Орландо странно состоял из многих склонностей – меланхолии, лени, страсти, любви к уединению, не говоря уже о тех причудах и тонкостях, которые были означены на первой странице, когда он целился кинжалом в голову мертвого негра: срезал ее, снова рыцарственно вывесил в недосягаемости и уселся потом на подоконник читать. В нем рано пробудился вкус к чтению. Еще в детстве паж, бывало, заставал его за полночь с книжкой. У него отобрали свечу – он стал разводить светляков. Удалили светляков – он чуть не спалил весь дом головешкой. Короче, не тратя слов понапрасну – это уж пусть романист разглаживает мятые шелка, доискиваясь тайного смысла в их складках, – он был благородный вельможа, страдающий любовью к литературе. Многие люди его времени, а тем более его круга, избегали заразы и тем самым могли носиться, скакать верхом и строить куры в полное свое удовольствие. Но иные рано подверглись воздействию микроба, который зарождается, говорят, в пыльце асфоделей, навеивается италийскими и греческими ветрами и столь вредоносен, что из-за него дрожит занесенная для удара рука, туманится взор, высматривающий добычу, и язык заплетается на любовном признании. Роковой симптом этой болезни – замена реальности фантомом, и стоило Орландо, которого фортуна щедро наделила всеми дарами – бельем, столовым серебром, домами, слугами, коврами и постелями без числа, – стоило ему открыть книжку – как все его имущество обращалось в туман. Девять акров камня, составлявшие его дом, – исчезали; пропадали сто пятьдесят дворовых; восемьдесят скаковых лошадей становились невидимы; слишком долго тут было бы перечислять все ковры, диваны, конскую упряжь, фарфор, блюда, графины, кастрюли и прочую движимость, часто из кованого золота, которые улетучивались из-за этих миазмов, как морской туман. Но тем не менее факт остается фактом, и Орландо сидел и читал, один, голый человек на голой земле.
Теперь, в одиночестве, болезнь быстро им завладела. Часто читал он шесть часов кряду ночами; и когда к нему являлись за указаниями, как забивать скот и собирать пшеницу, он поднимал от объемистого тома блуждающий взор, словно не понимая, чего от него хотят. Уже это одно было куда как печально и надрывало сердце Холлу, сокольничему, Джайлзу, камердинеру, миссис Гримздитч, ключнице, мистеру Дапперу, капеллану. Ну на что, говорили они, книжки такому благородному господину? Пусть бы читали их умирающие да паралитики. Но худшее было впереди. Ведь когда болезнь чтения проникает в организм, она так его ослабляет, что он становится легкой добычей для другого недуга, гнездящегося в чернильнице и гноящегося на кончике пера. Несчастная жертва его начинает писать. И если достоин жалости в таком случае человек бедный, все имущество которого лишь стол да стул под протекающей крышей – ему и терять-то, в сущности, нечего, – положение богача, который владеет домами, скотом, служанками, бельем и ослами и тем не менее пишет книжки, горько прямо-таки до слез. Все это теряет в его глазах всякую прелесть: он пытаем каленым железом, пожираем ядовитыми газами. Он отдал бы все до полушки (такова беспощадность микроба), только бы написать тощую книжку и прославиться; но за все золото Перу не обрести ему сокровища одной-единственной чеканной строчки. И он угасает и чахнет, пускает себе пулю в лоб, отворачивается лицом к стене. Он прошел сквозь врата смерти, он видел адово пламя.
К счастью, Орландо обладал сильным организмом, и болезнь (по причинам, которые мы еще изложим) не могла сломить его так, как сломила многих ему подобных. Но она его серьезно затронула, как мы покажем в дальнейшем. А именно – просидев час или более того над сэром Томасом Брауном и по тому, как трубит олень, и по оклику ночного сторожа удостоверясь, что стоит глубокая ночь и все крепко спят, Орландо пересек кабинет, достал из кармана серебряный ключик и отпер дверцу большого, стоявшего в углу шифоньера. Внутри было штук пятьдесят кипарисовых ларцов, и каждый снабжен ярлычком, аккуратно надписанным рукою Орландо. Он замер, как бы раздумывая, который открыть. На одном значилось «Смерть Аякса», на другом – «Рождение Пирама», на другом «Ифигения в Авлиде», на другом «Смерть Ипполита», на другом «Мелеагр», на другом «Возвращение Одиссея», – словом, едва ли хоть один ларец не был украшен именем мифологического лица на роковом изломе его жизненного пути. И в каждом лежал объемистый документ, исписанный рукою Орландо. Да, Орландо страдал своим недугом уж много лет. Никогда еще мальчик так не клянчил яблока, как Орландо бумаги, ни сластей, как клянчил Орландо чернил. Ускользнув от игр и бесед, он прятался за портьерами, в тайниках священников или в чулане за спальней своей матери, где в полу была большая дыра, кошмарно пропахшая птичьим пометом, – с чернильницей в одной руке, с пером в другой и с бумажным свитком на коленях. Таким образом были написаны еще до его двадцатипятилетия сорок семь трагедий, историй, рыцарских романов, поэм: кое-что в стихах, иное в прозе; кое-что по-французски, иное по-итальянски, все романтическое, все длинное. Одно сочинение тиснул он в печати у Джона Болла в Чипсайде; но хоть и любовался книжицей в несказанном восторге, он, разумеется, не решился показать ее матери, ибо писать, а тем более издаваться, он знал, для дворянина неискупимый грех.
Сейчас, однако, в уединении, под глухим прикрытием ночи, он извлек из тайника толстую рукопись, озаглавленную «Ксенофила. Трагедия» или что-то в таком духе, и тонкую, озаглавленную просто «Дуб» (единственное односложное название среди множеств), придвинул к себе чернильницу, потеребил перо и проделал еще ряд телодвижений, с которых все страдающие этим пороком начинают свой ритуал. Но тут он запнулся.
Поскольку заминка эта имела для его истории исключительное значение, больше даже, нежели многие деяния, повергающие людей на колени и окрашивающие реки кровью, нам надлежит задаться вопросом, отчего он запнулся, и ответить по должном размышлении, что произошло это, мол, потому-то и потому. Природа, так лукаво над нами подтрунивающая, так разнообразно творящая нас из сора и бриллиантов, из гранита и радуги и норовящая все это сунуть в самый несуразный сосуд, – и вот поэт ходит с лицом мясника, а мясник с лицом поэта; природа, вечно балующаяся тайным кознодейством, так что и сегодня даже (первого ноября 1927 года) мы не знаем, зачем поднимались вверх по лестнице и зачем снова спускаемся вниз; и большая часть повседневных наших поступков – как скольжение корабля в незнаемом море, и матросы на топ-мачте кричат, направляя подзорные трубы на горизонт: «Есть там земля или нет?» – на что мы ответим «Да», если мы пророки; если мы честны, ответим «Нет»; природа, которая за многое в ответе, кроме, пожалуй, громоздкого построения этой фразы, еще усложнила свою задачу, а нас окончательно сбила с панталыку, не только напичкав наше нутро чем попало – подпихнув пару полицейских штанов к подвенечной фате королевы Александры, – но ухитрившись все это вдобавок кое-как сметать на одну-единственную живую нитку. Память – белошвейка, и капризная белошвейка притом. Память водит иголкой так-сяк, вверх-вниз, туда-сюда. Мы не знаем, что за чем следует, что из чего проистекает. И вот простейший, обычнейший жест – сесть к столу, придвинуть к себе чернильницу – взметает бездну самых диковинных, самых несуразных обрывков – то светлых, то темных, – они сверкнут, исчезнут, взовьются, вспенятся, опадут, как исподнее семейства из четырнадцати человек, висящее на буйном ветру. Нет чтобы стать простым, откровенным, нехитрым делом, за которое не придется краснеть, – обычнейшие наши поступки обставляются трепетом и мерцанием крыл, взметом и дрожанием огней. Так, когда Орландо обмакнул перо в чернильницу, он увидел насмешливое лицо утраченной княжны и тотчас задался миллионом вопросов, и каждый был как омоченная желчью стрела. Где она и почему его бросила? Посол ей правда дядя – или ее любовник? Может быть, они сговорились? Или ее принудили? Или она замужем? Или умерла? И все они до того отравляли его, что, давая выход своей муке, он в сердцах вонзил перо в чернильницу, разбрызгав чернила на стол, каковой жест, как это ни объясняй (а возможно, тут и нет объяснения: память необъяснима), тотчас подменил лицо княжны другим, совершенно иного свойства. Но чье же это лицо? – спрашивал себя Орландо. И ему пришлось ждать, может быть, целых полминуты, глядя на новый, легший поверх прежнего портрет, как следующая картинка волшебного фонаря сквозит уже под прежней, – пока он смог себе ответить. «Это лицо того обшарпанного толстяка, который сидел в комнате Туитчетт, тому много-много лет, когда старая королева Бесс приезжала сюда обедать; и я его видел, – продолжал Орландо, цепляясь за свой пестрый лоскут, – он сидел за столом, когда я спускался, я шел мимо и заглянул в дверь, и у него еще были такие немыслимые глаза, я больше таких не видывал, да, но кто же он, кто, черт, побери?» – спросил Орландо, ибо тут Память вдобавок ко лбу и глазам подсунула ему сперва дешевое засаленное жабо, потом темный камзол и, наконец, пару грубых башмаков, какие носят жители Чипсайда. «Не дворянин, нет, не из наших», – сказал Орландо (чего он, конечно, никогда не сказал бы вслух, ибо был учтивейший молодой человек, и что, однако, доказывает, как благородное происхождение определяет строй мыслей и как, между прочим, нелегко стать дворянину писателем). «Поэт, не иначе». По всем законам Память, вдоволь над ним поизмывавшись, могла бы сейчас взять и стереть всю картину или притянуть сюда что-нибудь вовсе уж идиотское – собаку, например, гоняющуюся за кошкой, или старуху, сморкающуюся в красный фуляр, – и поняв, что ему не угнаться за всеми ее скачками, Орландо побежал бы пером по бумаге. (Мы ведь можем, можем, надо только решиться, вышвырнуть нахалку Память за дверь со всеми ее прихвостнями.) Но Орландо медлил. Память все держала перед ним образ обшарпанного толстяка с сияющими глазами. Он все смотрел, все медлил. Он запнулся. А запинаться нельзя, тут-то нам и погибель. Тут-то вползает в нашу крепость мятежный дух и поднимает войска на восстание. Орландо уже разок так запнулся, и этим тотчас воспользовалась Любовь, вломившись к нему со всей своей чудовищной ордой, с гобоями, цимбалами и сорванными с плеч головами в кровавых патлах. Как он терзался тогда! И вот он снова запнулся, и в пробитую брешь скакнула Суетность, эта карга, и эта ведьма Поэзия, и Жажда Славы – старая потаскуха; взялись за руки и устроили из его сердца танцульку. Стоя навытяжку в тиши своего кабинета, он поклялся, что станет первым поэтом в своем роду и покроет свое имя немеркнущим блеском. Он говорил (перечисляя имена и подвиги предков), что вот сэр Борис разбил в бою поганых, сэр Гэвин – поляка, сэр Майлз – турка, сэр Эндрю – франка, сэр Ричард – австрияка, сэр Джордан – галла, и сэр Герберт – испанца. Да, они умели биться и побеждать, бражничать и любить, охотиться и транжирить, пировать и волочиться – а что осталось? Что? Череп, палец. Тогда как, сказал он, обращаясь к распахнутому на столе сэру Томасу Брауну… И тут он снова запнулся. От всех стен комнаты, от ночного ветра, от лунного света чародейно отдалась божественная мелодия из таких слов, которые, чтобы они совсем не затмили нашу бедную страницу, мы и оставим лежать там, где они лежат, погребенными, но не мертвыми, скорее набальзамированными, так свежи их краски, так глубоко их дыхание, – и Орландо, сравнив этот подвиг с подвигами своих предков, воскликнул, что те со всеми своими делами – прах и тлен, этот же человек и слава его – бессмертны.
Скоро, однако, он понял, что битвы, которые вели сэр Майлз и прочие против вооруженных рыцарей, дабы завоевать королевство, и вполовину не были так свирепы, как те, что вел ныне он против родного языка, дабы завоевать бессмертие. Всякого, кто хотя бы шапочно знаком с пытками сочинительства, можно избавить от подробностей: как он писал и испытывал удовлетворение, читал и испытывал омерзение; правил и рвал, вымарывал, вписывал; приходил в восторг, приходил в отчаяние; с вечера почивал на лаврах и утром вскакивал как ужаленный; ухватывал мысль и ее терял; уже видел перед собою всю книгу, и вдруг она пропадала; разыгрывал за едою роли своих персонажей, их выкрикивал на ходу; вдруг плакал, вдруг хохотал; метался от одного стиля к другому: то избирал героический, пышный, то бедноватый, простой, то темпейские долины, то поля Кента и Корнуолла – и никак не мог решить, божественнейший ли он гений или самый жуткий дурак на всем белом свете.
Ради ответа на этот последний вопрос он, после месяцев упорных трудов, почел нужным нарушить многолетнее уединение и сообщиться с внешним миром. У него был в Лондоне приятель, некто Джайлз Ишем Норфолкский, который, хоть и знатного рода юноша, водил знакомство с писателями и, без сомнения, мог свести Орландо с кем-нибудь из этого благословенного, да что там – святого братства. Ибо для Орландо, в нынешнем его состоянии, человек, который написал книжку и увидел ее в печати, был осиян блеском, затмевавшим блеск всякой знатности и положения в обществе. Ему представлялось, что столь божественные идеи преобразуют даже и самые тела своих обладателей. Вместо волос у них нимбы, дыхание благоухает ладаном, и розы растут из их уст – чего, конечно, он не мог сказать ни о себе самом, ни о мистере Даппере. Он и не воображал большего счастья, как, сидя за кулисами, послушать их беседы. При одной лишь мысли об этих острых и смелых речах даже воспоминания о разговорах с друзьями-придворными – собаки, лошади, женщины, карты – наводили на него несносную тоску. Он с гордостью вспоминал, как его всегда дразнили книжником, как смеялись над его страстью к уединению и литературе. Он был не мастер на ловкие фразочки. В дамских гостиных стоял столбом, шагал как гренадер, то и дело краснел. Два раза, по чистой рассеянности, свалился с коня. Однажды сломал леди Винчилси ее веер, сочиняя стихи. Он с удовольствием перебирал эти и другие свидетельства своей непригодности к светской жизни, и сладостная надежда, что все метания юности, его неловкость, склонность краснеть, долгие прогулки и любовь к сельской жизни доказывают, что сам он принадлежит скорее к избранному, нежели к знатному племени, – скорей писатель, нежели аристократ, – завладела его душой. Впервые после той ночи Великого потопа он чувствовал себя счастливым.
И вот он упросил мистера Ишема Норфолкского препроводить мистеру Николасу Грину, проживающему на постоялом дворе Клиффорда, письмо, в котором Орландо выражал восхищение его трудами (Ник Грин был в то время весьма знаменитый поэт) и желание свести с ним знакомство, о каковой чести он едва осмеливался просить, ибо ничего не может предложить взамен; но, ежели мистер Николас Грин великодушно согласится его посетить, карета четверкой будет ждать на углу Феттер-лейн в любой час, какой мистер Грин благоволит назначить, и его препроводят в дом Орландо. Следующие фразы добавьте по вкусу и сами вообразите восхищение Орландо, когда, в довольно скором времени, мистер Грин принял приглашение Благородного Лорда, занял место в его карете и был доставлен в зал южного крыла главного здания ровно в семь часов пополудни в понедельник двадцать первого апреля.
Здесь принимали многих королей, королев и послов; здесь стаивали судьи в своих горностаях. Самые очаровательные дамы страны приходили сюда, и самые суровые воины. Здесь были вывешены знамена Флодена и Азенкура[12]. Здесь были выставлены гербы со львами, леопардами и коронами. Здесь трещали, бывало, от золотых и серебряных блюд длинные столы и в огромных каминах италийского драгоценного мрамора целый дуб с миллионом своих листочков, со всеми гнездами воробьев и грачей, еженощно сжигался дотла. Сейчас здесь стоял поэт Николас Грин, дурно одетый, в мятой шляпе, потрепанном камзоле, с маленьким саквояжем в руке.
Легкое разочарование в поспешившем к нему навстречу Орландо было неминуемо. Росту поэт был не выше среднего: неказистый, щуплый, какой-то сутулый; входя, он наступил на лапу догу, и тот его укусил. Вдобавок Орландо, при всем своем знании человечества, не знал толком, куда его отнести. Что-то в нем было такое: и не слуга, и не помещик, и не вельможа. Голова с выпуклым лбом и резкий нос – благородной как будто формы; но скошенный подбородок. Сияющие глаза, но распущенные, дряблые губы. Нет, смущало скорее общее выражение этого лица. Не было в нем того величавого покоя, который так приятно опечатывает высокородное чело, не было и благопристойного раболепства, проясняющего черты вышколенной челяди, – это было рыхлое, сморщенное, вытянутое лицо. Хоть и поэт, он, кажется, скорей умел распекать, чем льстить; дуться, чем ластиться; ковылять, чем пришпоривать коня; суетиться, чем предаваться неге; ненавидеть, чем любить. Это, кстати, сквозило и в торопливости его движений, в острой настороженности взгляда. Орландо несколько смешался. Меж тем они пошли обедать.
Тут Орландо, обычно принимавший такие вещи как должное, впервые безотчетно устыдился количества своих слуг и великолепия стола. Еще более удивительно – он не без гордости вспомнил (обычно эта мысль ему претила) про свою прародительницу Молл, которая доила коров. Он уже готов был навести речь на эту скромную женщину с ее подойником, но поэт его опередил, заметив, что, как ни странно, при всей затасканности фамилии Грин предки его явились сюда вместе с Завоевателем и принадлежали к цвету французской знати. К несчастью, род захирел и мало что оставил в веках, разве что подарил свое имя королевскому округу Гринвич. Дальнейшие наблюдения в том же духе – об утраченных замках, гербах, родичах, баронствующих на севере, брачных узах с аристократией на востоке, о том, как одни Грины пишут свою фамилию с двойным «н», а другие с одинарным, – продолжались до тех пор, покуда не подали оленину. Тут Орландо ухитрился вставить несколько слов насчет бабушки Молл с ее коровами и успел слегка облегчить душу к тому времени, когда перед ними явились фазаны. Но только когда рекой полилась мальвазия, осмелился Орландо перейти к теме, которую, увы, не мог не считать еще более важной, чем Грины или коровы, а именно к священному предмету поэзии. Едва было произнесено это слово, глаза поэта загорелись; он отбросил заемные повадки благородного господина, стукнул рюмкой об стол и разразился такой длинной, путаной, пылкой и горькой повестью, каких Орландо не слыхивал иначе, как из уст обманутой женщины, – об одной своей пьесе, о другом поэте, об одном критике. Что же до существа самой поэзии, Орландо уловил только, что продавать ее труднее, чем прозу, и строчки хотя и короче, их дольше писать. Так разговор шел с бесконечными ответвлениями, покуда Орландо не отважился намекнуть, что и сам он, грешный, имеет дерзость писать, – но тут поэт вскочил со стула. За панелью пискнула мышь, сказал он. Нервы у него, объяснил он, совсем сдали, и мышиный писк на недели его выводит из строя. Дом, без сомнения, кишит паразитами, просто Орландо не замечал. Далее поэт поведал Орландо все о своем здоровье за последние десять лет. Оно было столь расшатано, что просто удивительно, как он выжил. Он перенес паралич, подагру, малярию, водянку и три вида лихорадки по очереди; сверх того, у него расширение сердца, увеличение селезенки и больная печень. Но мало этого, сказал он Орландо, у него бывают ощущения в хребте, не поддающиеся описанию. Один позвонок, приблизительно третий сверху, горит как в огне, другой, приблизительно второй снизу, холодеет как лед. Иной раз он просыпается буквально со свинцовой головой, а то как будто внутри у него жгут тысячи свечей и запускают фейерверки. Он различит, он сказал, розовый лепесток через перины и может пройти через весь Лондон с завязанными глазами: его стопы наизусть помнят все мостовые. Короче говоря, он представляет собой столь чувствительный, столь тонко сработанный механизм (тут он как бы невзначай поднял руку, и рука была в самом деле безукоризненной формы), что просто диву дается, как поэма его разошлась всего в пятистах экземплярах, – впрочем, это, разумеется, козни. Одним словом, заключил он, стукнув кулаком по столу, – искусство поэзии в Англии отжило свой век.
Как могло это случиться, когда Шекспир, Марло, Бен Джонсон, Браун, Джон Донн еще писали или только что перестали писать, Орландо, высыпавший имена своих любимцев, решительно не постигал.
Грин сардонически расхохотался. Положим, у Шекспира, согласился он, и сыщется несколько недурных сценок, но ведь все почти содраны у Марло. Этот Марло кое-что обещал, но как можно судить о мальчишке, который умер, не дожив до тридцати? Что до Брауна, этот вздумал писать поэзию прозой, а подобные вычуры скоро набивают оскомину публике. Донн – шарлатан, маскирующий убогость смысла темным слогом. Простаки ловятся на эту наживку, но через каких-нибудь двенадцать месяцев стиль выйдет из моды. Ну а Бен Джонсон – Бен Джонсон его друг, а он никогда не хулит своих друзей.
Нет, заключил он, прошел великий век литературы, – великий век литературы был при греках, елизаветинский век во всех отношениях уступает Элладе. В великий век поэты устремлялись к божественной цели, которую он назвал бы La Gloire[13] (он произносил «Глор», и Орландо не сразу ухватил смысл). Теперь молодые сочинители все на жалованье у книгопродавцев и готовы состряпать любой вздор, лишь бы те могли его сбыть. Шекспир тут первейший мерзавец, но ничего, он уже поплатился. Нынешних, объяснил Грин, всех узнаешь по жеманности притязаний и дерзкой дикости опытов – греки такого бы и секунды не потерпели. Как ни больно ему в этом признаваться – он ведь любит литературу больше жизни, – он ничего не видит хорошего в настоящем и не питает никаких надежд на будущее. И с тем он налил себе еще стакан вина.
Эти откровения потрясли Орландо; однако он замечал невольно, что самого критика нисколько они не печалят. Напротив, чем больше бранил он свой век, тем больше казался доволен. Он как сейчас помнит, рассказывал он, один вечер в таверне «Петух» на Флит-стрит, когда там собрались Кит Марло и кое-кто еще. Кит расходился, нализался, ему это было недолго, и молол чепуху. Он так и видит, как Кит икает, тыча стаканом в приятеля: «Вот хоть ты меня режь, Билл (это он Шекспиру), набегает большая волна, и ты на гребне», – чем он хотел сказать, пояснил Грин, что мы на пороге великого века английской литературы, а из Шекспира может выйти толк. Марло повезло, он был убит два дня спустя в пьяной драке[14]











