Читать онлайн Последние дни Распутина
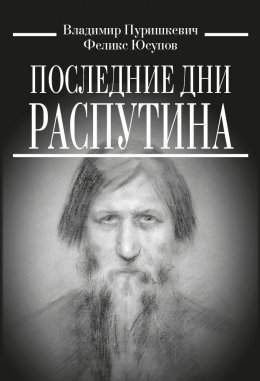
© «Захаров», 2024
Дневник
Владимир Митрофанович Пуришкевич
Вместо предисловия
ПОСЛУ РОССИИ ВО ФРАНЦИИ В. А. МАКЛАКОВУ
Милостивый государь Василий Алексеевич!
Я переиздаю «Дневник Пуришкевича», вышедший в 1918 году на юге России и посвященный убийству Распутина. Дневник участника убийства и к тому же дневник такой характерной фигуры, какою был Пуришкевич, не может не представлять исторического интереса, тем более что он касается одной из самых роковых фигур дореволюционного периода – Гр. Распутина, имя которого было в то время на устах всей России. Судя по этому дневнику, Вам, быть может, более, чем кому-либо другому, известны некоторые детали этого громкого дела.
Обращаюсь к Вам поэтому с просьбою: не согласитесь ли Вы дополнить эту страничку истории данными, о которых по каким-либо причинам не упоминает «Дневник Пуришкевича». Или, по крайней мере, не согласитесь ли Вы высказать Ваше мнение, в какой мере рассказ Пуришкевича соответствует истине.
Позволяю себе надеяться, что Вы не откажете мне в этой просьбе и тем дадите будущему читателю «Дневника» и даже истории возможность лучше разобраться и правильнее оценить события того времени.
Я. Поволоцкий, издатель
Париж, 1923
В ИЗДАТЕЛЬСТВО «Я. Е. ПОВОЛОЦКИЙ И К°»
Милостивый государь Яков Евгеньевич!
Ваше письмо ставит различные вопросы, на которые я и могу ответить по-разному.
Вы находите, во-первых, желательным, чтобы я дополнил дневник Пуришкевича. В этом я с Вами не могу согласиться. По делу я знаю только то, что мне говорили другие; Распутина никогда не видал, а в день его убийства находился в Москве. Все, что мне про убийство известно, я знаю только от тех, кто в нем принял участие; эти люди живы и могут, если захотят, рассказать про это сами, как Пуришкевич. Говорить же за них было бы с моей стороны некорректно. А что касается «истории», то моя совесть спокойна; все, что я знаю, я изложил в показании следователю, который вел следствие об убийстве государя и поставил исследование так широко, что занялся и убийством Распутина. Это мое показание может впоследствии пригодиться и для истории.
Конечно, этих препятствий не существует, чтобы ответить на Ваш второй вопрос: верен ли рассказ Пуришкевича? Но правильно ответить на этот вопрос нелегко.
О какой верности мы говорим? Если мы будем искать в нем фактической точности, столь естественной для дневника, то наверное впадем в ошибку. Дневник Пуришкевича – вовсе не дневник; это только литературная форма, которую он избрал для своих воспоминаний. Что это так, едва ли стоит доказывать; само по себе невероятно, чтобы в той суете, в которой проходило время перед убийством, Пуришкевич мог найти досуг, чтобы вести дневник, особенно в такой форме, т. е. не в виде простой записи фактов, а в виде рассказа с лирическими отступлениями, в велеречивом и декламаторском стиле. Самый этот стиль доказывает, что перед нами не дневник, а «литература». Что это не дневник, я убеждаюсь еще и потому, что нахожу в нем такие неточности, которые естественны и неизбежны в воспоминаниях, но были бы необъяснимы для дневника. Я мог констатировать их почти во всех случаях, где мог их лично проверить, т. е. когда речь шла обо мне. Вот несколько примеров.
Под 28 ноября Пуришкевич рассказывает, будто он по соглашению с Юсуповым предложил мне принять участие в убийстве; как я, услыша это предложение, «воззрился на него», «долго молчал» и потом отказался; как разговор наш кончился тем, что я стал просить его послать мне условную телеграмму в Москву, с извещением, что дело благополучно окончилось и даже установил самый текст телеграммы. После этого, по словам Пуришкевича, он только вздохнул и ему не «оставалось ничего, как согласиться на мое предложение».
Этот рассказ Пуришкевича есть сумбурное смешение различных разговоров, происходивших в разное время и даже с разными лицами, о которых Пуришкевич мог слышать только из вторых рук. Стараясь припомнить то, что происходило, он очевидно восстановил их в своей памяти и придал им форму одного разговора, между мною и им. Он не заметил при этом, что такая передача не только не соответствует действительности, но и является неправдоподобной. Я же отлично помню наш первый разговор, и потому, на этом примере, вижу, как Пуришкевич писал свои воспоминания.
Я помню это его первое обращение ко мне и даже то удивление, которое оно во мне вызвало; оно относилось исключительно к тому, что Пуришкевич оказался в заговоре. Про самый заговор я уже знал от другого участника, которого не называю только потому, что принципиально не хочу никого называть. В моем разговоре с тем лицом я отнесся к этому заговору не только скептически, но отрицательно; и разговор наш кончился так, что возобновить его было уже трудно. И вот 28 ноября (я беру дату Пуришкевича, хотя сам ее не помню) Пуришкевич мне сообщил, что он тоже в заговоре, что в нем участвуют исключительно идейные люди; он прибавил, что знает, как отрицательно я отнесся к первоначальному плану, но что мои возражения теперь устранены и что лицо, которое раньше со мной говорило, поручило ему, Пуришкевичу, узнать, согласен ли я буду возобновить с ним разговор. Ни о моем участии в убийстве, ни об отказе от этого, ни, конечно, о посылке в Москву телеграммы (разговор об этом за три недели до убийства!) в этот день не было речи. Пуришкевич назвал мне имена участников, указал день убийства и только; он не передавал даже, о чем со мной хотят говорить; да я и сам об этом не стал бы разговаривать с Пуришкевичем, так как не считал его для этого ни достаточно серьезным, ни достаточно скромным.
Разговор о телеграмме был у меня с ним гораздо позже при следующих условиях; в день убийства я, действительно, как он вспоминает, должен был быть в Москве, где был назначен мой публичный доклад в юридическом обществе о крестьянском вопросе. День был выбран, повестки разосланы, и у меня не было ни малейшего повода этот доклад отменять. Но перед самым убийством тот из участников, с которым приходилось мне говорить, стал настойчиво просить меня не уезжать из Петербурга в день убийства и быть тут, на случай, если мой совет может понадобиться. Оговариваюсь, что вопреки тому, что говорит Пуришкевич, я никогда не предлагал никому из участников быть их защитником на суде; напротив, я доказывал им самым решительным образом, что процесс над убийцами Распутина в России невозможен, что такой процесс слишком взволновал бы Россию; что, с другой стороны, невозможна и безнаказанность явных убийц; что поэтому их долг делать так, чтобы они могли быть не обнаружены; что это, в сущности, будет нетрудно, так как власти, понимая значение этого дела, едва ли будут стараться убийц отыскать; что надо дать только возможность себя не найти; что поэтому заговорщики должны отказаться от тщеславного желания себя назвать, ни перед кем не хвастаться и ни под каким видом не сознаваться. Из дневника Пуришкевича видно, впрочем, что он поступил как раз наоборот, не прошло и полчаса после убийства, как он себя назвал городовому. Этот совет, не давать против себя явных улик, был причиной, почему мое присутствие как советчика могло показаться полезным; соглашаясь с этим, я сделал попытку отложить мой доклад в Москве; я телеграфировал об этом моему приятелю А. Э. Вормсу, который состоял в то время председателем юридического общества. Так как он не знал причины моего обращения, то и ответил, что это абсолютно невозможно; я получил этот ответ в самый день моего отъезда, т. е. накануне убийства.
Я должен был сообщить этот ответ тем, кто этим интересовался; но в этот день я не мог отлучиться из Думы; я был докладчиком комиссии личного состава по вопросу об исключении из Думы депутата Лемпицкого; прения по одному из предшествующих докладов неожиданно затянулись, и я не мог уйти, не рискуя пропустить свою очередь. Я не хотел говорить и по телефону, так как за разговорами по телефону из Думы была установлена полицейская слежка. Уже перед самым вечером в Думу явился Пуришкевич; я просил его передать кому следует, что мне не удалось отложить заседания и что поэтому я уезжаю. На это он мне ответил неожиданным указанием на признанную участниками политическую нежелательность моего присутствия в Петербурге во время убийства; характерную мотивировку этого мнения я привел в моем показании следователю, но не привожу его здесь. Вот тогда-то, прощаясь с ним, я просил его, если дело кончится благополучно, послать мне в Москву телеграмму; он обещал, мы установили с ним текст и свое обещание он сдержал: телеграмму я получил.
Вот как было дело, и изложение Пуришкевича показывает, что воспоминания его не дневник; если бы это был дневник, то самый разговор о телеграмме мог бы быть помечен только под 15 декабря, а не под 28 ноября. 28-го об этом не было речи; точно так же 28-го числа он не мог записать моего отказа от участия, хотя бы косвенного, в этом деле; с Пуришкевичем вообще об этом я никогда не говорил, если не считать моей просьбы передать кому нужно, что я уезжаю. Но Пуришкевич писал не дневник, а воспоминания; он вспомнил мои разговоры с ним, происходившие в разное время, вспомнил и то, что слышал от другого о моем отношении к делу; из всего этого состряпал один разговор, произвольно приурочил его к 28 ноября, не замечая тех несообразностей, которые из этого вышли. Думаю даже, что в момент, когда он это писал, он не был чужд желанию изложить дело так, чтобы мотивировать свой «вздох» и свое заключение: «типичный кадет». В момент писания своих воспоминаний Пуришкевич вновь был одержим старым кадетоедством.
Такая же неверность и несообразность находится и под 24 ноября. Пуришкевич рассказывает, будто в этот день Юсупов показал ему и другим цианистый калий в кристалликах и растворе, который он якобы получил от меня. Это неверно: не я дал Юсупову цианистый калий, или, точнее, то, что ему выдали за цианистый калий; если бы он был подлинный, никакая живучесть Распутина его не спасла бы. Но это утверждение и несообразно: каким образом 28 ноября могли меня впервые приглашать к участию в убийстве, как рассказывает Пуришкевич, если уже 24-го я снабдил их цианистым калием? Это опять удел «воспоминаний», естественной забывчивости и невнимательного изложения.
Если такие мелкие неточности обнаруживаются во всех тех очень немногочисленных случаях, когда речь идет обо мне, то трудно предположить, чтобы в остальном он был более точен. Искать поэтому в его дневнике документальной истины будет ошибочным; но это касается только тех деталей, которые могут изгладиться из памяти; в главных линиях рассказ все-таки правилен; а об убийстве Распутина писали столько вздора, почерпнутого из простых слухов и сплетен, что выслушать рассказ очевидца, хотя бы и с теми ошибками в деталях, которые неизбежны в воспоминаниях, и интересно и полезно.
Но в рассказах современников, а тем более участников, заключается обыкновенно еще та условная правда, которую принято называть «исторической». Эти рассказы ценны не только правдой, но и своими заблуждениями; даже сознательная неправда может быть характерна и способствовать пониманию эпохи и ее настроения. Дневник Пуришкевича не может не быть интересен и с этой точки зрения, но только с одной оговоркой: он рельефно и ярко изображает не столько эпоху, сколько его собственную личность. Для суждения об эпохе и людях нельзя полагаться на его отзывы и суждения; многие из них явно вздорны: Пуришкевич был человек и страстный, и пристрастный; ему не было свойственно чувство ни справедливости, ни терпимости; к тому же его суждения, и самые основные, часто менялись.
Но сам Пуришкевич играл в нашей общественности и политической жизни настолько своеобразную и заметную роль, что и его личность заслуживает если не изучения, то интереса. При этом интересна не столько самая личность, сколько возможность того оглушительного успеха, которым он пользовался в России. Трудно отрицать, что в известное время он был едва ли не самый популярный человек; правда, эта популярность была специфическая и не всем бы понравилась. Но, если Пуришкевича презирали или даже ненавидели в некоторых интеллигентских и передовых кругах, то широкая масса, которая не занималась политикой, а только читала газеты, и даже главным образом те ходовые газеты, которые всячески над ним издевались, относилась к нему все-таки дружелюбно. Если дать себе отчет в том, что могла знать о Пуришкевиче российская масса, каким она должна была его себе представлять по тем думским подвигам, которыми он прославился, по тем политическим идеям, за которые он в Думе ратовал, то его успех в большой толпе является интересной психологической загадкой. Но его дневник, со всеми неточностями и декламацией, даже с известной долей рисовки, обнажает в нем такие свойства, которых вначале не замечали. Они могут внести и некоторое объяснение в тайну его успеха. А в настоящее время, когда за короткое время революции было столько кумиров, которые так же быстро возносились, как падали, когда в самом ближайшем будущем в России будут искать новых вождей, вопрос об этой тайне не лишен интереса.
Я едва ли ошибаюсь, что отношение общественного мнения к Пуришкевичу было неодинаково в течение тех 10 лет, что он занимал общественное внимание. Пуришкевич до войны и Пуришкевич во время войны – два различных человека. До войны это величина отрицательная. Одни считали его невменяемым, а другие сознательным скандалистом; но едва ли кто видел в нем серьезного и искреннего деятеля; самые думские скандалы, из которых он сделал себе профессию, можно было объяснять только либо макиавеллистическим желанием дискредитировать самую Думу, либо простой болезненной неуравновешенностью, связанной с тщеславным желанием заставить о себе говорить. Если бы Пуришкевич умер до войны, то о нем, вероятно, сохранилась бы только подобная память; тогда самая его широкая популярность осталась бы простой иллюстрацией к нашей политической некультурности, к инстинктивной склонности нашего народа к анархии и бесчинству.
Но война заставила переменить мнение о Пуришкевиче. Она открыла в нем черты, которых до тех пор в нем не подозревали. Она обнаружила в нем, во-первых, страсть, которая оказалась не только сильнее всех остальных, но, может быть, и их объясняла: патриотизм. В жертву ей Пуришкевич принес все, чем располагал, – свои политические симпатии, личные предубеждения и даже собственную славу. С момента войны он преобразился. Он понял, что все, чем он до тех пор привлекал общественное внимание и возбуждал к себе интерес, т. е. его крикливая партийная деятельность – вредна для России; поняв это, он сразу ее прекратил. Как он говорит в своем дневнике, в продолжение первых трех лет войны он был политическим трупом. Это правда; раньше вся его политическая жизнь заключалась в служении партийной усобице; когда он от этого отказался, прекратилась вся его жизнь. Пуришкевич всем своим существом усвоил необходимость прекращения внутренних распрей; к этому все призывали, только требуя этого от других, не от себя; но Пуришкевич предъявил это требование прежде всего к себе самому и его честно выполнил. Патриотизм Пуришкевича оказался для него, кроме того, действенным стимулом. Человек, который до войны ничего не создавал, а только разрушал, критиковал и осмеивал, – вдруг оказался организатором. По его инициативе создалась целая сеть подсобных для армии учреждений, питательных пунктов, санитарных поездов и т. п. Пользуясь своими старыми связями, своей личной известностью, он доставал деньги там, где для другого это могло бы быть недоступно; находил себе и сотрудников, которые бы не стали работать с другими; словом, он сумел использовать на общее дело весь тот капитал, который приобрел другими путями; эта работа поглощала все его внимание и интересы, учила его приемам общественной деятельности.
Но убийство Распутина открыло в нем и другую черту, которой в нем также не знали. Можно как угодно относиться к этому убийству с политической и моральной стороны. Можно считать, что оно принесло один вред; можно возмущаться и фактом и формой убийства. Но нельзя отрицать одного: участием в этом убийстве Пуришкевич ничего не приобретал для себя; напротив, он всем рисковал, даже жертвовал, не для себя, а для родины. Он не мог ожидать, конечно, что это убийство будет первым шагом к революции. Для него лично революция, во всяком случае, была бы гибелью. Она разнуздывала страсти, которые его, с его политическими взглядами, не пощадили бы. Ибо ясно одно: как бы ни смотреть на Пуришкевича, даже злейшие его враги не предположат, чтобы он мог пойти на службу к большевикам, чтобы он продал себя им так, как продались многие из его прежних единомышленников. Но Пуришкевич ничего не выгадал бы для себя и в том случае, если бы добился цели, которую ставил: спасение монархии избавлением ее от Распутина. Если бы этим убийством ему удалось предотвратить революцию и укрепить режим, который шатался, то за такое спасение режим отомстил бы своему избавителю. То личное положение, которое сумел занять Пуришкевич, было бы все равно этим подорвано; ему бы не простили подобной услуги. И потому своим участием в убийстве Пуришкевич доказал свою искренность, свою способность жертвовать собой, своим благополучием и судьбой на пользу России.
До войны в нем не замечали этого свойства, а между тем, может быть, именно в этом лежит разгадка того особенного отношения, которое среди своих политических единомышленников вызывал к себе Пуришкевич. Народные массы инстинктивно чуяли, что он был слеплен из другой глины, чем многие из тех защитников государя и церкви, которые сейчас, уже в Советской России, служат не народу, а новой власти, реформируют Церковь или полицейский аппарат коммунистов. И дневник Пуришкевича с его лирическими излияниями, с брызжущей ненавистью к тем, кого он считал врагами России, с легкомысленными и пристрастными суждениями о лицах, с его политической наивностью, многоречивый и бессвязный, как его думские речи, дает не только опору для того, чтобы знать, как совершилось убийство, но, кроме того, даже и ключ для понимания той смуты в умах и совести людей, сбитых с толку тем, что происходило в России, которая объясняет это убийство. Его дневник – страничка общественной патологии и с этой стороны представляет исторический интерес.
Однако, чтобы не впасть в ошибку перспективы, нужно принять в расчет и время, когда Пуришкевич писал свои воспоминания. Если, как я предполагаю, он писал свои воспоминания гораздо позже убийства, то на них не могли не отразиться его позднейшие настроения. О них я могу только догадываться. После февральской революции я мало встречал Пуришкевича. Но из наших встреч вынес впечатление, что тогда он еще находился в том же настроении, в котором был во время войны. Конечно, со своей точки зрения, он не мог иначе как резко отрицательно относиться к Временному правительству, его деятельности и составу. Но он с ним не боролся, не радовался его неудачам, не говорил: чем хуже, тем лучше. Я раз встретил его в Петербурге, когда он только что вернулся с вокзала, где видел сцены анархии, которой были полны железнодорожные станции: осаду вагонов, бегство с фронта, бесчинства солдат при новой дисциплине. Он не злорадствовал, даже не умывал своих рук. «Не время разбирать, кто виноват в том, что случилось, – говорил он, – необходимо во что бы то ни стало поддерживать Временное правительство, пока оно не бросает оружия перед врагом».
Я уехал из России до большевистского переворота и Пуришкевича больше не видел; слышал, что он был заключен в Петропавловку и, несмотря на свое одиозное имя и на то, что он не скрывал своих взглядов, пользовался не только уважением, но даже расположением красноармейцев. Потом его судили; на процессе он не малодушничал, не каялся, не льстил своим судьям, как многие другие; его приговорили к сравнительно легкому наказанию, а затем он скрылся на Юг. Но, когда был заключен Брест-Литовский мир и он увидел, что, несмотря на все усилия и уступки, Россия разбита, что революция пока привела к полному краху, он озлобился и вернулся к старым позициям; он упрекал Белое движение за его половинчатость, за то, что не развертывает прежнего знамени, не договаривает до конца. Смерть позволила ему не увидать крушения Белых движений и не поставила перед ним рокового вопроса: где же тот путь, которым надо идти, когда и путь Белых движений оказался закрытым? Но в это время, когда он вспоминал о прошлом, он судил о нем по своему новому настроению; в своем дневнике он, вероятно, старался представить себе себя самого с той психологией, которая довела его до участия в убийстве Распутина; но и на себя самого и на других он уже смотрел сквозь позднейшую призму.
Вот те оговорки, которые нужно иметь в виду, чтобы судить о том, что было, по Пуришкевичу.
В. Маклаков
Париж, 1923
19 ноября 1916 года
Сегодня я провел день в глубочайших душевных переживаниях.
За много лет впервые я испытал чувство нравственного удовлетворения и сознания честно и мужественно выполненного долга: я говорил в Государственной думе о современном состоянии России; я обратился к правительству с требованием открыть государю истину на положение вещей и без ужимок лукавых царедворцев предупредить монарха о грозящей России опасности со стороны темных сил, коими кишит русский тыл, – сил, готовых использовать и переложить на царя ответственность за малейшую ошибку, неудачу и промах его правительства в делах внутреннего управления в эти бесконечно тяжелые годы бранных испытаний, ниспосланных России Всевышним.
А мало ли этих ошибок, когда правительство наше все сплошь калейдоскоп бездарности, эгоизма, погони за карьерой; лиц, забывших о родине и помнящих только о своих интересах, живущих одним лишь сегодняшним днем.
Как мне бесконечно жаль государя, вечно мятущегося в поисках людей, способных занять место у кормила власти, и не находящего таковых; и как жалки мне те, которые, не взвешивая своих сил и опыта в это ответственное время, дерзают соглашаться занимать посты управления, движимые честолюбием и не проникнутые сознанием ответственности за каждый свой шаг на занимаемых постах.
В течение двух с половиной лет войны я был политическим мертвецом: я молчал; и в дни случайных наездов в Петроград, посещая Государственную думу, сидел на заседаниях ее простым зрителем, человеком без всякой политической окраски. Я полагал, как и полагаю сейчас, что все домашние распри должны быть забыты в минуты войны, что все партийные оттенки должны быть затушеваны в интересах того великого общего дела, которого требует от всех своих граждан, по призыву царя, многострадальная Россия; и только сегодня, да, только сегодня, я позволил себе нарушить мой обет молчания и нарушил его не для политической борьбы, не для сведения счетов с партиями других убеждений, а только для того, чтобы дать возможность докатиться к подножию трона тем думам русских народных масс и той горечи обиды великого русского фронта, которые накопляются и растут с каждым днем на всем протяжении России, не видящей исхода из положения, в которое ее поставили царские министры, обратившиеся в марионеток, нити от коих прочно забрали в руки Григорий Распутин и императрица Александра Федоровна, этот злой гений России и царя, оставшаяся немкой на русском престоле и чуждая стране и народу, которые должны были стать для нее предметом забот, любви и попечения.
Тяжело записывать эти строки, но дневник не терпит лжи: живой свидетель настроений русской армии от первых дней войны, великой войны, я с чувством глубочайшей горечи наблюдал день ото дня упадок авторитета и обаяния царского имени в войсковых частях, и – увы! – не только среди офицерской, но и в толще солдатской среды, и причина тому одна – Григорий Распутин.
Его роковое влияние на царя через посредство царицы и нежелание государя избавить себя и Россию от участия этого грязного, развратного и продажного мужика в вершении государственных дел, толкающих Россию в пропасть, откуда нет возврата.
Боже мой! Что застилает глаза государя? Что не дает ему видеть творящееся вокруг?!
Как жалки его министры, скрывающие истину и под давлением себялюбивых интересов играющие судьбами династии! Когда этому конец, и будет ли?
Что заставляет молчать русских сановников и лиц, приближенных царю при Дворе?
Трусость. Да, только одна беспредельная трусость и боязнь утратить свое положение, и в жертву этому приносят интересы России.
Они боятся сказать государю правду.
Яснее, чем когда-либо, понял я это 3 ноября, когда, возвращаясь с поездом моим с Румынского фронта, я был приглашен государем в Могилеве к обеду и делал доклад ему о настроениях наших армий в районе Рени, Браилова и Галаца.
Помню, как сейчас, перед обедом блестящую и шумливую толпу великих князей и генералов, поджидавших вместе со мною выхода государя к столу и делившихся впечатлениями военных событий и событий внутренней жизни России. Один за другим они подходили и заговаривали со мною: вы делаете доклад царю? Вы будете освещать ему положение дел? Скажите ему о Штюрмере. Укажите на пагубную роль Распутина. Обратите его внимание на разлагающее влияние того и другого на страну. Не жалейте красок, государь вам верит, и ваши слова могут оказать на него соответствующее впечатление.
– Слушаюсь, ваше высочество! Хорошо, генерал! – отвечал я то одному, то другому – направо и налево, а в душе у меня становилось с каждым мгновением все тяжелее и печальнее: как, думал я, неужели мне, проводящему всю войну на фронте и живущему одними только военными интересами наших армий, приходится сказать государю о том, о чем ежедневно ваш долг говорить ему, ибо вы в курсе всего того, что проделывает Распутин и его присные над Россией, прикрываясь именем государя и убивая любовь и уважение к нему в глазах народа.
Почему вы молчите? Вы, ежедневно видящие государя, имеющие доступ к нему, ему близкие. Почему толкаете на путь откровений меня, приглашенного царем для других целей и столь далекого сейчас от событий внутренней жизни России и от политики, которую проводят в ней калифы на час, ее появляющиеся и лопающиеся, как мыльные пузыри, бездарные министры.
«Трусы!» – думал я тогда. «Трусы!» – убежденно повторяю я и сейчас.
Жалкие себялюбцы, все получившие от царя, а неспособные даже оградить его от последствий того пагубного тумана, который застлал его духовные очи и лишил его возможности в чаду придворной лести и правительственной лжи правильно разбираться в истинных настроениях его встревоженного народа.
И вот я сказал, и тогда ему в Ставке и сейчас в Государственной думе, на всю Россию горькую истину и как верный, неподкупный слуга его, принеся в жертву интересам родины личные мои интересы, осветил ту правду, которая от него скрывалась, но которую видела и видит вся скорбная Россия.
Да, я выразил то, несомненно, что чувствуют лучшие русские люди, без различия партии, направления и убеждений. Я это понял, когда сходил с трибуны Государственной думы после моей двухчасовой речи.
Я это понял из того потока приветствий, рукопожатий и неподдельного восторга, который сквозил на всех лицах и обступившей меня после моей речи толпы, – толпы, состоявшей из представителей всех классов общества, ибо Таврический дворец в день 19 ноября был переполнен тем, что называют цветом нации в смысле культурности, общественного и официального положения.
Я знаю, что ни одного фальшивого звука не было в моей речи.
Я чувствую, что в ней не сквозила хамская наглость Гучкова, но что вся, проникнутая чувством верноподданнейшей любви, она должна показать государю, что вся Россия, от крайнего правого крыла до представителей левых партий, не лишенных государственного смысла, одинаково оценивают создавшееся положение и одинаково смотрят на тот ужас, который представляет собою Распутин в качестве неугасимой лампады в царских покоях.
Да, все, кто находились сегодня в Таврическом дворце, на скамьях, внизу и на хорах, все это были мои единомышленники, и только три-четыре человека на всю Государственную думу, с Марковым и Замысловским во главе, остались чуждыми тем чувствам, которыми жили мы, взывавшие к государю и просившие у него избавить и себя и Россию от той новой казни египетской, какую представляет собою Распутин.
Но что нужды? Кому больше, чем самим себе, вредят эти патриоты казенного образца, готовые встать на запятки ко всякой власти и любовно пестуемые людьми типа Протопопова, Штюрмера, Воейкова и компании, знающими им цену, а вернее, расценивающими их в тот или другой момент жизни государства, сообразно обстановке и обстоятельствам.
Когда я выходил из Таврического дворца, уставший, истомленный и обессилевший от рукопожатий и приветствий, меня нагнал в Екатерининской зале Кауфман-Туркестанский, состоящий главным уполномоченным Красного Креста при Ставке государя и отъезжающий завтра в Ставку, и, обнявши меня, сказал, что распорядился доставить себе один экземпляр стенограммы моей речи, каковую повезет государю и лично передаст ему.
Возвратившись домой, узнал дома от жены любопытную подробность.
После окончания моей речи к ней, сидевшей на хорах, подходило много дам высшего петроградского круга и аристократии, просивших передать мне сочувствие по поводу всего мною сказанного, и в числе этих дам подошла баронесса Икскуль фон Гильденбандт, одна из самых ярых поклонниц Распутина, в салоне коей он постоянно бывает запросто, как свой человек, и просила жену мою также принять и от нее по адресу моему горячий привет и «восхищение» всем мною сказанным и вместе с тем просить меня в один из ближайших дней не отказать отобедать у нее вместе с некоторыми ее друзьями.
Мы долго хохотали над этим приглашением, цель которого для меня сразу стала ясной: почтенная баронесса, очевидно, хотела свести меня с Распутиным, будучи уверенной, что и я поддамся его гипнозу и после свидания с ним окажусь его фанатичным поклонником.
20 ноября
Сегодня весь день я буквально не имел покоя, сидя дома и работая у своего письменного стола: телефон мой трещал с утра до вечера, знакомые и незнакомые лица выражали сочувствие всему мною сказанному вчера; и должен признаться, что степень этого сочувствия поднялась до такого градуса, что дальнейшее пребывание у себя в кабинете мне сделалось невыносимым; нет положения более глупого, по-моему, чем молчаливо выслушивать похвалы себе, не смея перебить говорящего и разливающегося соловьем в твою пользу.
Бесконечное число лиц заносили мне сегодня свои визитные карточки в знак сочувствия.
Среди них была масса от членов Государственного Совета и, что мне особенно дорого, от старика графа С. Д. Шереметева, которого я привык любить и уважать наравне с покойным близким мне А. А. Нарышкиным, ибо оба они рыцари без страха и упрека.
Из звонивших по телефону меня заинтриговал один собеседник, назвавшийся князем Юсуповым, графом Сумароковым-Эльстоном.
После обычных приветствий он, не удовлетворившись этим, просил разрешения побывать у меня в один из ближайших дней, по возможности скорее, для выяснения некоторых вопросов, связанных, как он сказал, с ролью Распутина при дворе, о чем по телефону говорить «неудобно».
Я просил его заехать завтра, в 9 часов утра.
Любопытно узнать, о чем он хочет говорить и что ему нужно?
21 ноября
Сегодня, ровно в 9 часов утра, ко мне приехал князь Юсупов.
Это молодой человек лет тридцати в форме пажа, выполняющий, очевидно, военный ценз на звание офицера.
Мне он очень понравился и внешностью, в которой сквозит непередаваемое изящество и порода, и, главным образом, духовной выдержкой. Это, очевидно, человек большой воли и характера, – качества, мало присущие русским людям, в особенности аристократической среды.
Он просидел у меня более двух часов.
«Ваша речь не принесет тех результатов, которые вы ожидаете, – заявил он мне сразу. – Государь не любит, когда давят на его волю, и значение Распутина, надо думать, не только не уменьшится, но, наоборот, окрепнет, благодаря его безраздельному влиянию на Александру Федоровну, управляющую фактически сейчас государством, ибо государь занят в Ставке военными операциями».
«Что же делать?» – заметил я.
Он загадочно улыбнулся и, пристально посмотрев мне в глаза немигающим взглядом, процедил сквозь зубы: «Устранить Распутина».
Я засмеялся.
«Хорошо сказать, – заметил я, – а кто возьмется за это, когда в России нет решительных людей, а правительство, которое могло бы это выполнить само и выполнить искусно, держится Распутиным и бережет его как зеницу ока».
«Да, – ответил Юсупов, – на правительство рассчитывать нельзя, а люди все-таки в России найдутся».
«Вы думаете?»
«Я в этом уверен! И один из них перед вами».
Я вскочил и зашагал по комнате.
«Послушайте, князь, этим не шутят. Вы мне сказали то, что давным-давно сидит гвоздем в моей голове. Я понимаю не хуже вашего, что одними думскими речами горю не помочь, но утопающий хватается за соломинку, и я за нее схватился. Выход, о котором вы говорите, не представляется для меня неожиданным, больше того, несколько лет тому назад, при жизни покойного В. А. Дедюлина, бывшего, как вы знаете, дворцовым комендантом, я специально ездил к нему в Царское Село, состоял с ним в близких отношениях, исключительно затем, чтобы убедить его в необходимости немедленно ликвидировать Распутина, создав для этого подходящую обстановку, ибо уже и тогда мне было ясно, что Распутин является роковым человеком для династии и, естественно, для России».
«И что же?» – спросил Юсупов.
«Как видите, ничего: Распутин жив и по сей день. Дедюлин, очевидно, не дерзнул взяться за это дело, ибо ужас положения в том, что масса высших сановников наших, типа Саблеров, Раевых, Добровольских, Протопоповых, Штюрмеров, Воейковых, строят свою карьеру на Распутиных, и малейшая оплошность лица, которое пожелало бы избавить Россию от этой язвы, стоила бы головы инициатору, с одной стороны, и, с другой, – содействовала бы вящему укреплению значения при дворе этого гада».
«Вы правы, – заметил Юсупов. – Знаете ли вы, что Распутин охраняется сыщиками, поставленными со стороны трех учреждений?»
«Что вы!»
«Да, да. Его охраняют шпики от Министерства императорского двора, по желанию императрицы, шпики от Министерства внутренних дел и шпики от… отгадайте, от кого еще?»
«Не сумею вам сказать!»
«Не удивляйтесь!., и шпики от банков».
Я усмехнулся.
«Князь, – заметил я, – я перестал удивляться чему бы то ни было в России. Я ничего не ищу, ничего не добиваюсь, и если вы согласны принять участие в деле окончательного избавления России от Распутина, то вот вам моя рука, обсудимте все возможности этой операции и возьмемся за ее выполнение, если найдем еще несколько подходящих лиц, не привлекая к делу никого из слуг в целях соблюдения тайны».
«Двоих я могу уже вам указать, – с живостью заметил Юсупов, пожимая мне руку. – Если вы свободны сегодня, приезжайте ко мне, они у меня будут, и вы с ними познакомитесь. Мы обсудим вопрос, и если четырех нас окажется мало, то подыщем еще кого-либо из наших друзей, а я вам сообщу мой план, исполнимость коего будет находиться в прямой зависимости от степени душевного спокойствия Григория Ефимовича и желания его посетить мой дом вечером в один из ближайших дней».
На этом мы расстались.
22 ноября
Вчера вечером я был у Юсупова. Я приехал в 8 часов, когда он был еще один.
Через полчаса вошел молодой офицер Преображенского полка поручик С[ухотин А.С.], показавшийся мне человеком малоподвижным, но энергичным, а еще через 10 минут не вошел, а влетел в комнату высокий статный красавец, в котором я немедленно узнал великого князя Дмитрия Павловича.
Мы познакомились друг с другом и, не откладывая дела в долгий ящик, принялись за обсуждение вопроса о способе ликвидации Распутина.
Выяснилось, что Распутин давно ищет случая познакомиться с молодой графиней П., известной петроградской красавицей, бывающей в доме Юсуповых.
«Графини сейчас в Петрограде нет, – заявил нам хозяин Ф. Ф. Юсупов, – она в Крыму и в Петроград даже не собирается, но при последнем посещении моем Распутина я заявил ему, что графиня на днях возвращается в Петроград, где будет несколько дней, и что если он, Распутин, хочет, то я могу его с нею познакомить у себя в доме в тот вечер, когда графиня будет у моих родных.
Распутин с восторгом принял это предложение и просил заблаговременно только предупредить его о дне, когда у нас будет графиня, дабы, в свою очередь, устроиться так, чтобы в этот день «Она», то есть императрица, не позвала бы его в Царское Село.
Вы видите, господа, – добавил Юсупов, – что при этом условии покончить с Распутиным не составит труда; вопрос лишь в том, каким способом от него избавиться, как обезопасить себя от слежки шпиков, дабы подозрения после смерти Распутина не пали на нас, и куда девать его труп».
После продолжительного обсуждения поставленных Юсуповым вопросов мы пришли к единогласному заключению о необходимости покончить с Распутиным только путем отравления его, ибо местоположение дворца Юсуповых на Мойке, как раз против полицейского участка, расположенного по ту сторону реки, исключало возможность стрельбы из револьвера, хотя бы и в стенах подвального этажа, в коем помещалась столовая молодого Юсупова, куда он предполагал провести Распутина, привезя его к себе во дворец в намеченный день.
Вместе с тем стало совершенно очевидным, что четырех лиц недостаточно для удачного выполнения намеченной операции, ввиду нежелания нашего привлекать к делу кого-либо из прислуги и необходимости иметь своего верного шофера, без коего все дело казалось нам неосуществимым.
Я предложил взять в качестве такового старшего врача моего отряда, работавшего в течение двух лет со мною на войне, д-ра С. С. Лазаверта. Предложение мое было принято, и, побеседовав на тему о политическом положении России еще с полчаса, мы расстались, уговорившись собраться 24 ноября в 10 часов вечера в моем поезде, стоявшем на товарной станции Варшавского вокзала, откуда я намеревался, пополнив мой отряд Красного Креста всем необходимым, в средних числах декабря двинуться на Румынский фронт, в Яссы, для работы в районе наших армий этого фронта.
24 ноября
Сегодня я провел весь день в разъездах с д-ром Лазавертом, озабочиваясь пополнением моего поезда всем необходимым перед отъездом его на фронт.
Был в главном управлении Креста, где царит обычная бестолочь и занимаются интригами, орденами и писанием бумаг в ущерб живому делу.
В 12 часов дня заехал к принцу Александру Петровичу Ольденбургскому, у которого завтракал после обычного доклада, от принца проехал в Государственную Думу.
Как бесконечно глубоко я уважаю этого благородного, чистого и честного, самоотверженно служащего святому делу помощи раненым старика.
Он напоминает мне моего отца и по характеру и по темпераменту, я отношусь к нему с сыновней преданностью и любовью и знаю, что он, в свою очередь, также меня любит и глубоко мне верит.
Да, он горяч, он вспыльчив, он подвержен вспышкам минутного гнева, толкающего его иногда на безрассудные решения, в коих он потом сам первый кается и готов извиниться перед всяким, кого незаслуженно обидел, как бы ни был мал тот, который стал жертвой его внезапного гнева, – но он весь чистота, весь кристалл, его благородная душа ищет только добра и блага. Я не знаю, что было бы с санитарным делом на фронте, если бы принц А. П. Ольденбургский по временам не исправлял бы властно и не карал бы жестоко тех, которые в личных интересах и в погоне за чином или орденом принимают все меры к сокрытию санитарных безобразий и недочетов в деле помощи раненым и больным солдатам, – недочетов, которые так ярко и выпукло бросаются в глаза всякому, кто вникает в наше военно-санитарное дело при посещении нашего западного и восточного фронтов.
Конечно, вокруг принца целая орава недостойных людей: взяточников, проходимцев, карьеристов, изучивших его слабые стороны и подыгрывающихся под них.
Многое из того, что делает, в силу дурных советов, яйца выеденного не стоит, хотя и обходится в большие деньги, но все это пустяки сравнительно с той пользой, которую приносит фронту этот глубокий старик, вечно кипящий юношеским пылом и молодой энергией, бесконечно добрый в душе, о чем свидетельствует одна только его старческая улыбка, когда в редкие минуты он видит, что начатое им дело, порученное честному человеку, приносит желанные плоды.
Сегодня у меня было пренеприятное столкновение во время доклада у принца с главным инспектором санитарной части северного фронта Двукраевым, правою рукою Евдокимова, дорожащего этим типом молодого, но из ранних.
Вот, признаться, тройка, которую я давно сбросил бы с Тарпейской скалы: Евдокимова, главного медицинского инспектора, и двух его присяжных – Гюббенета западного фронта и Двукраева северного; сколько зла приносят они нашим армиям – и не перечесть, а самое главное и ужасное зло – это вечное их стремление скрыть истину и ставить палки в колеса учреждениям Красного Креста, работающим на фронте, ибо им кажется, что каждый отряд не их ведомства, работающий в наших армиях, эвакуирующий и питающий раненых, является живым укором их деятельности, свидетельствуя о малой ее продуктивности и слабой постановке.
Мое столкновение с Двукраевым на этой почве закончилось тем, что я обозвал его профессиональным лгуном при принце, за что Двукраев вызвал меня на дуэль, предусмотрительно оговорившись, что будет драться по окончании войны и что теперь не время.
Я в ответ только засмеялся ему в глаза и заявил, что своих слов обратно не беру, а советую ему больше думать о наших раненых, чем о способах скорейшего получения новых орденов, которые сыплются на него дождем за доклады о фиктивном благополучии санитарной части на вверенном ему северном фронте.
Принц остановил дальнейший обмен любезностей между нами, сухо распрощавшись с Двукраевым, и мы пошли завтракать.
Что будет дальше – не знаю; по всем вероятиям, Двукраев постарается воспретить мне въезд на северный фронт в район действующих армий, ибо я, по его мнению, вижу то, что видеть мне не полагается, и не могу согласиться с системой прикрывать безобразия и работать под девизом: «Все обстоит благополучно».
Только в восемь часов вечера приехал я к себе на поезд, на Варшавский вокзал, и прошел в вагон-библиотеку, чтобы распорядиться и приготовить все нужное к нашему совещанию, начало которого назначено было мною сегодня на 10 часов.
Отпустив санитаров и шоферов из поезда, спустив шторы в вагоне-библиотеке, я стал ждать.
Ровно в 10 часов в автомобиле Дмитрия Павловича приехал он сам с Юсуповым и поручиком С.
Я познакомил их с д-ром Лазавертом, и мы приступили сообща к дальнейшему обсуждению нашего плана, причем князь Юсупов показал нам полученный им от В. Маклакова цианистый калий как в кристалликах, так и в распущенном уже виде в небольшой склянке, которую он в течение всего пребывания своего в вагоне то и дело взбалтывал.
Заседание наше длилось около двух часов, и мы сообща выработали следующий план: в назначенный день, или, вернее, ночь, мы все собираемся у Юсупова ровно в 12 часов ночи. В половине первого, приготовив все, что нужно, в столовой у Юсупова, помещающейся в нижнем этаже его дворца, мы поднимаемся наверх, в его кабинет, откуда он, Юсупов, выезжает к часу ночи за Распутиным на Гороховую в моем автомобиле, имея шофером д-ра Лазаверта.
Привезя Распутина к себе, Юсупов проводит его прямо в столовую, подъехав к ней со двора, причем шофер должен вплотную подогнать автомобиль к входной двери с таким расчетом, чтобы с открытием дверцы автомобиля силуэты выходящих из него не были бы видны сквозь решетку на улицу кому-либо из проходящей публики как по эту сторону Мойки, так и по ту, где в № 61 находится полицейский участок и, помимо всего, могут прогуливаться шпики, ибо нам неизвестно, уведомляет ли всегда и уведомит ли на этот раз также Распутин своих телохранителей, где он проводит добрую половину ночи.
По приезде Распутина в дом Юсупова д-р Лазаверт, скинув с себя шоферские доспехи, по витой лестнице, ведущей от входа мимо столовой в гостиную князя, присоединяется к нам, и мы, то есть Дмитрий Павлович, я, С. и Лазаверт, становимся наверху у витой лестницы на всякий случай, дабы оказать помощь находящемуся внизу, в столовой, Юсупову в случае необходимости, если бы внезапно дело пошло не так, как нужно.
После смерти Распутина, которая, по нашим соображениям, должна была бы наступить через десять-пятнадцать минут по его прибытии во дворец и в зависимости от дозы выпитого им в мадере яду, князь Юсупов подымается наверх к нам, после чего мы все спускаемся обратно в столовую и, сложив в узел возможно больше из одежды Распутина, передаем это поручику С., который, облачившись в распутинскую шубу (С. по комплекции и росту в шубе может быть принят шпиками, коих мы все-таки опасались, за Распутина), прикрыв лицо поднятым воротником и взяв узелок вещей Распутина, выходит с великим князем во двор и садится в автомобиль, на коем доктор Лазаверт опять за шофера; автомобиль направляется к моему поезду на Варшавский вокзал, где к этому времени в моем классном вагоне должна быть жарко затоплена печь, в каковой моя жена и жена д-ра Лазаверта должны сжечь все то из одежды Распутина, что привезут С. с великим князем.
Вслед за сим Лазаверт и его пассажиры погружают мой автомобиль на платформу, входящую в состав поезда, и пешком или на извозчиках отправляются на Невский во дворец великого князя Сергея Александровича; откуда, сев в автомобиль великого князя Дмитрия Павловича, возвращаются уже в этом автомобиле на Мойку, во дворец Юсупова, и опять-таки со двора, подъехав вплотную к дому, поднимаются в гостиную, где князь Юсупов и я должны поджидать их возвращения.
Вслед за сим, спустившись все вместе в столовую, мы обворачиваем труп в какую-либо подходящую материю и, уложив мумию в крытый автомобиль великого князя, отвозим его в заранее намеченное место и бросаем в воду, привязав к телу цепями двухпудовые гири, дабы труп не всплыл случайно на поверхность через какую-либо прорубь, хотя это представлялось нам едва ли возможным, ибо вследствие жестоких морозов все в Петрограде и его окрестностях реки, речки и каналы были покрыты толстым слоем льда, и приходилось подумать и подыскать место, свободное от ледяной коры, куда мы могли бы опустить труп убитого Распутина. На этом закончилось наше заседание.
Для дальнейшей разработки деталей мы решили собраться 1 декабря вновь у меня в поезде, также в 10 часов вечера; до этого времени сделать основательную рекогносцировку в окрестностях Петрограда тех мест, которые могли оказаться подходящими для погребения в воде Распутина, причем я взялся объехать окрестности с д-ром Лазавертом в качестве шофера на своем автомобиле, а Юсупов на автомобиле великого князя, управлять коим взялся Дмитрий Павлович, дабы даже в этих поездках не прибегать к помощи наших шоферов-солдат.
В 12 часов ночи мы распрощались друг с другом и разъехались по домам, причем я взял на себя еще поручение купить цепи и гири на Александровском рынке для задуманного предприятия.
26 ноября
Сегодняшний день опять калейдоскоп впечатлений, и, по обыкновению, с самого утра.
Сижу и разбираюсь в корреспонденции, – звонок, подают пакет от председателя совета правой фракции профессора Левашова. Вскрываю, бумага с просьбой, чтобы я вернулся в лоно правой фракции, в коей я занимал место члена совета до 18 ноября и из коей вышел накануне моей думской речи; мотив – в столь тяжелые времена такие люди, как я, особенно ценны для фракции.
Прочел я бумагу, свернул ее, спрятал, и мне стало бесконечно больно, горько и обидно.
Я понял между строк этого письма причину, заставившую г-на Левашова, Маркова и компанию обратиться ко всем с призывом и просьбой о моем возвращении.
Дело донельзя просто: эти господа увидели, что речь моя в Думе 19 ноября была отражением всего того, что думает и чувствует вся честная Россия, все в ней государственно настроенные умы без различия партий и направлений.
Марковы, Замысловские и Левашовы поняли, что их тройка пресмыкающихся перед всякой властью, какой бы она ни была, осталась одинокой в России; что правые в России не с ними, а со мной; что я являюсь выразителем желаний и чаяний русского народа, а не они, лижущие сапоги Протопопова и ставшие его горячими поклонниками с момента, когда этот проходимец стал, на горе царя и России, министром внутренних дел и благосклонно улыбнулся их бездарному органу «Земщине», неспособной подняться до критики власти и искательно смотрящей в руку министра внутренних дел, подкармливающего ее из государственного сундука в размере, зависящем от степени преданности и низкопоклонства ее писак министру внутренних дел и его политики.
Как мне памятно последнее заседание фракции перед моей речью, заседание 18 ноября в нашей фракционной комнате 36 в Государственной думе, где я конспективно изложил всю мою речь фракции и просил сделать мне честь говорить в Думе от ее имени, в чем мне было отказано.
По лицам сидевших я видел, что три четверти – мои горячие сторонники; но разве фракция у нас свободна в выражении своих взглядов; она в большей своей части терроризована Марковым, который вкупе с Замысловским не дают ей думать самостоятельно и честно, по-своему обращая, в особенности крестьян, в какое-то думское быдло, а в редкие моменты, когда даже это быдло возмущается и хочет думать по-своему, угрожают членам Думы тем, что в случае неугодного для правительства голосования Думы по тому или другому вопросу последняя будет разогнана и ответственность за ее разгон ляжет на членов нашей фракции, которые своими голосами дали перевес голосующим в Думе несогласно с видами правительства; и крестьянство, опасаясь, сделать ли ложный шаг или даже просто лишиться звания члена Думы, покоряется марковским доводам и становится игрушкой его услужающей правительству роли.
А в результате что?
А то в результате, что левые и кадеты получают в руки новый козырь, чтоб дискредитировать правых в России, говорят не без оснований народу: «Поглядите, люди добрые! Кто они, эти правые! Губернатор крадет на местах – они его прикрывают, полагая, что это способ сберечь престиж власти, деятельность коей видна всем, с ней соприкасающимся. Министр, подлец, толкает Россию к гибели, обманывает государя на каждом шагу, и это на местах все видят, а они кадят министру и расточают ему фимиам тем гуще, чем свободнее, по собственному усмотрению, распоряжается этот министр десятимиллионным фондом».
Нет, мне такая политика так называемых правых ориентации, так сказать, собственного кармана, мне она глубоко омерзительна, и я совершенно неспособен мириться с тем, чтобы марали мне мои государственные идеалы люди, в представлении коих Россия олицетворяется шитым мундиром говорящего от ее имени подлеца на любом ответственном министерском посту, добравшегося до власти, обманувшего государя, и распоряжающегося государственным сундуком; таких господ я как правый, по моему глубокому разумению, обязан безжалостно разоблачать, и это разоблачение всей честной Россией будет пониматься не как попытка дискредитировать власть, а как намерение оздоровить ее в корне и сделать неповадным для других недостойных тянуть к кормилу государственного корабля.
Вот мысли, которые вихрем крутились у меня в голове сегодня, после прочтения пригласительной бумаги фракции вернуться в ее лоно.
Само собой разумеется, я оставлю этот призыв без ответа. С гг. Марковым, Замысловским и Левашовым мне не по пути.
Нам не столковаться все равно ни в будущем, ни в особенности сейчас, в тяжелые годы войны, когда нужно прилагать все усилия к духовному объединению русских граждан, вне всякой зависимости от того, какой они нации и религии, а ставя в упор только каждому вопрос: «Любишь ли ты Россию и государя, и хочешь ли ты искренно победы нашего оружия над упорным и сильным врагом?»
Гг. Марковым и Замысловским, в их политических, партийных шорах, не подняться выше своей уездной колокольни в тот день, когда на Россию нужно глядеть с колокольни Ивана Великого и суметь многое забыть, простить и со многим, во имя любви к общей родине, душевно примириться…
Около 12 часов дня ко мне позвонили по телефону из дворца великого князя Кирилла Владимировича и передали, что его высочество просит меня заехать к нему сегодня по важному делу около 2-х часов.
Я ответил, что буду, и решил поехать, хотя великий князь Кирилл, как и оба милые его братья, всегда внушали мне чувство глубочайшего отвращения, вместе с их матерью великой княгиней Марией Павловной, имени коей я не мог слышать хладнокровно на фронте в течение всего моего пребывания там с первых дней войны.
Я чувствую, что Владимировичи и их мамаша, оставшаяся закоренелой немкой и германофилкой, не только вредят нашим армиям на фронте, но и беспрестанно подкатываются под государя, прикрываясь идейными мотивами блага России.
Они не оставили мысли о том, что корона России когда-нибудь может перейти к их линии, и не забыть мне рассказа Ивана Григорьевича Щегловитова о том, что в бытность его министром юстиции к нему однажды разлетелся великий князь Борис Владимирович с целью выяснения вопроса: имеют ли по законам Российской империи право на престолонаследие они, Владимировичи, а если не имеют, то почему?
Щегловитов, ставший после этого разговора с великим князем Борисом предметом их самой жестокой ненависти и получивший от них кличку Ваньки Каина, разъяснил великому князю, что прав у них на престолонаследие нет вследствие того, что великая княгиня Мария Павловна, мать их, осталась и после брака своего лютеранкой.
Борис уехал несолоно хлебавши, но через некоторое время представил в распоряжение Щегловитова документ, из коего явствовало, что великая княгиня Мария Павловна из лютеранки уже обратилась в православную…
В два часа дня я входил в подъезд дворца великого князя Кирилла на улице Глинки и через несколько минут был им принят.
Официальным мотивом приглашения меня, как я понял из первых слов его разговора, было желание его жены Виктории Федоровны, милейшей и умнейшей женщины, родной сестры румынской королевы Марии, дать мне несколько поручений к румынской королеве ввиду отъезда моего с санитарным поездом на Румынский фронт через Яссы; но, в сущности, это было лишь претекстом для нашего свидания со стороны великого князя, а хотелось ему, видимо, другого: он желал, по-видимому, освещения с моей стороны настроения тех общественных групп, в которых я вращаюсь, а попутно ему хотелось раскусить, отношусь ли я лично отрицательно лишь к правительству императора или же оппозиционность моя подымается выше.
По-видимому, мое направление его не удовлетворило: он понял, что со мной рассуждать и осуждать государя не приходится, и очень быстро прекратил тот разговор, который сам начал в этой области.
Я прошел с ним к Виктории Федоровне и, посидев у нее 1/4 часа, обещал направить к ней мою жену, которой великая княгиня хотела поручить сделать некоторые закупки для румынской королевы.
Выходя из дворца великого князя, я, под впечатлением нашего с ним разговора, вынес твердое убеждение, что они вместе с Гучковым и Родзянко затевают что-то недопустимое, с моей точки зрения, в отношении государя, но что именно – я так и не мог себе уяснить.
28 ноября
Сговорившись по телефону с Юсуповым, заехал к нему сегодня в 1 час дня, дабы вместе с ним осмотреть то помещение в нижнем этаже его дворца, которое должно стать ареной нашего действия в день ликвидации Распутина.
Подъехал я с главного подъезда и прошел в кабинет князя сквозь невероятный строй челяди, толпящейся у него в передней.
«Послушайте, князь, – говорю ему, – неужели вся эта орава так и останется сидеть в передней с ливрейным арапом во главе в предстоящую нам ночь распутинского раута?»
Он засмеялся. «Нет, – говорит, – успокойтесь, останутся лишь два дежурных на главном подъезде, а все остальное будет отпущено вместе с арапом».
Мы прошли с Юсуповым в столовую, помещающуюся, как я сказал, в полуподвале его дворца.
Там работали люди, проводившие электричество.
Столовая имеет вид пока еще довольно растерзанный: в ней идет полный ремонт; но помещение это для приема дорогого гостя крайне удобное, глухое, и мне думается, сужу по толщине стен, что если бы даже пришлось здесь стрелять, то звук от выстрела не был бы слышен на улице, ибо окна, их два в комнате, крайне малы и находятся почти на уровне тротуара.
После осмотра помещения мы поднялись вновь наверх, в гостиную князя, и через четверть часа я поехал в Государственную думу с целью повидаться с В. А. Маклаковым, более тесное участие коего в нашем предприятии казалось нам с Юсуповым полезным, хотя Юсупов и полагал, что Маклаков не согласится на активную роль.
Поймав Маклакова в Думе, я, как говорится, сразу взял быка за рога и, усевшись с ним рядом у бюста императора Александра II, заявил ему, что для успеха нашего дела нас мало и что крайне желательно его участие как в нашем последнем совещании по этому вопросу, так и в выполнении намеченного плана.
Маклаков на меня воззрился, впился в меня взглядом и после продолжительного молчания заявил, что едва ли он может быть полезен как активный деятель в самой ликвидации Распутина, но что после таковой, если что-либо у нас выйдет негладко и мы попадемся, он не только готов помочь нам юридическим советом, но и охотно выступить нашим защитником на суде, если дело дойдет до такового.
Вместе с тем, прозондировав у меня приблизительный день, когда мы должны осуществить намеченное, он как-то радостно объявил мне, что даже независимо от своей воли лишен возможности стать более тесным соучастником нашим, ибо к этому времени должен выехать в Москву, где ему придется пробыть около недели.
«Но вот о чем я вас горячо прошу, – с живостью добавил он, – если дело удастся, не откажите немедленно послать мне срочную телеграмму, хотя бы такого содержания: «Когда приезжаете». Я пойму, что Распутина уже не существует и что Россия может вздохнуть свободно».
Я вздохнул. «Типичный кадет», – подумал я, но мне ничего не оставалось другого, как согласиться на его просьбу, и мы расстались.
29 ноября
Все утро провел в хлопотах; сначала ездил в Александровский рынок с женой на извозчике покупать гири и цепи, каковые с большими предосторожностями мы свезли на поезд и разместили частью в аптеке, а частью за книгами в вагоне-библиотеке, во избежание любопытства нашей поездной прислуги.
Затем в час дня, после завтрака, я выехал с Лазавертом на моем автомобиле осматривать окрестности Петрограда, согласно решению нашего последнего совещания.
Лазаверт сел за шофера, и мы прокатались без малого четыре часа по жестокому морозу, всматриваясь в каждую прорубь Невы, речонок и болот под Петроградом и оценивая степень их пригодности для намеченного дела.
В начале шестого, продрогшие и иззябшие, возвратились мы домой и еле отогрелись большими дозами tincturae coniaci. В сущности, из всего нами осмотренного подходящими, по-моему, оказались лишь два места: одно – плохо освещаемый по ночам канал, идущий от Фонтанки к Царскосельскому вокзалу, в каковом канале есть небольшая прорубь, и другое – за пределами города на Старой Невке у моста, ведущего к островам.
Интересно знать, что высмотрели Юсупов с великим князем и не привлекли ли их внимание эти же проруби?
30 ноября
Видел доспехи, приобретенные д-ром Лазавертом сегодня за 600 руб. по моему поручению: шоферская доха, нечто вроде папахи с наушниками, и шоферские перчатки.
Лазаверт облачался во все это при мне и выглядит типичным шофером – хлыщеватым и нахальным. Все купленное он свез до времени в гостиницу «Асторию», в которой живет в дни наших наездов в Петроград.
1 декабря
Сейчас час ночи. Только что из поезда моего уехали великий князь Юсупов и поручик С.
Мы намечали дальнейшие детали задуманного.
Юсупов и я хотели бы приблизить момент его осуществления и закончить все не позже 12 декабря; но, оказывается, у великого князя Дмитрия Павловича все вечера вплоть до 16 декабря разобраны, а на вечер, который, по словам Юсупова, был более всего подходящим для выполнения нашего плана, у Дмитрия Павловича была назначена какая-то пирушка с офицерами-однополчанами, и ни отменить ее, ни перенести на другой срок великий князь не мог, так как, оказывается, сам назначил день этого собрания, и какая-либо перемена его могла бы вызвать толки.
Из слов Юсупова я понял, что Распутин проявляет чрезвычайное нетерпение скорее познакомиться с интересующей его дамой и сам напоминает и торопит его по телефону не откладывать дела в долгий ящик.
Юсупов был на днях у Распутина и сообщил ему, что заранее уведомит о дне свидания, но что сейчас еще в точности определить этот день не может, ибо графиня, интересующая Григория Ефимовича, еще не приехала и проедет в Царское Село через Петроград не раньше средних чисел декабря.
«Я заезжал к Распутину, – заявил сам Юсупов, – главным образом для того чтобы уяснить себе вопрос: оповещает ли вообще Распутин, выезжая в свои ночные похождения, шпиков о месте своего пребывания по ночам и, в частности, намерен ли он уведомить их о том, что будет у меня».
«К сожалению, – добавил князь, – этот вопрос остается для меня и посейчас открытым, ибо ни сам Распутин, ни его любимая секретарша фрейлина Головина, почти круглые сутки проводящая у него в квартире, определенного ответа мне не дали».
«Как он к вам относится, Феликс? – спросил Юсупова великий князь. – Вы пользуетесь его доверием?»
Юсупов рассмеялся: «О, вполне! Я вне подозрения. Я ему очень нравлюсь. Он сетует, что я не занимаю административного поста, и обещает сделать из меня большого государственного человека».
«Ну и вы?..» – многозначительно взглянув на Юсупова и затягиваясь папиросой, кивнул ему великий князь.
«Я? – потупившись, опустив ресницы и приняв иронически томный вид, ответил Юсупов. – Я скромно заявил ему, что чувствую себя слишком малым, неопытным и неподготовленным для службы на административном поприще, но что я донельзя польщен столь лестным обо мне мнением известного своей проницательностью Григория Ефимовича».
Мы все рассмеялись.
«C’est ravissant, mais c’est vraiment ravissant» (Это восхитительно, это в самом деле восхитительно), – несколько раз воскликнул великий князь.
Перед самым концом нашего совещания нами было решено в целях отвести подозрения шпиков, если таковые будут уведомлены Распутиным о месте его пребывания в вечер посещения им Юсуповского дворца, еще сделать следующее: Распутин, как известно, постоянно кутит по ночам в «Вилла Родэ» с женщинами легкого поведения; в этом учреждении он считается завсегдатаем, своим человеком и хорошо известен всей прислуге; посему нами было решено, чтобы в момент, когда великий князь с поручиком С. отправятся после смерти Распутина на вокзал в мой поезд сжигать там одежду убитого, поручик С. из телефонной будки Варшавского вокзала позвонил в «Вилла Родэ», вызвал заведующего этим учреждением и спросил: прибыл ли уже Григорий Ефимович? Здесь ли он? И в каком кабинете?
Дождавшись ответа, само собой разумеется, отрицательного, С. кладет трубку, но предварительно, как бы про себя, у трубки и так, чтобы его слышал заведующий «Вилла Родэ», произносит: «Ага! Так его еще нет? Ну, значит, сейчас приедет!»
Проделать это мы признали необходимым на случай, если бы нити исчезновения Распутина привели бы сыск ко дворцу Юсупова.
У нас был готовый ответ: да, Распутин был здесь, провел с нами часть вечера, а затем заявил, что едет в «Вилла Родэ».
Естественно, что судебные власти обратились бы к администрации «Вилла Родэ» с вопросом: был ли здесь Распутин, и сразу выяснилось бы, что его здесь ожидали, что о нем осведомлялись, что спрашивали, когда он приедет, и если Распутин не приехал, а исчез, то это вина не наша, а самого Григория Ефимовича, который, очевидно, избрал себе сотоварищем для кутежа человека, ни нам, ни полиции не известного…
Расходясь, мы решили назначить выполнение нашего плана в ночь с 16-го на 17 декабря и, во избежание могущих возникнуть подозрений, собраться еще лишь один раз опять у Юсупова 13-го или 14 декабря, сговорившись между собой по телефону словами: «Ваня приехал».
4 декабря
Сегодня утром получил записку от редактора «Исторического Вестника» милейшего Б. Б. Глинского с просьбой непременно прибыть на заседание об-ва «Русской Государственной Карты», коего я состою председателем, а он товарищем председателя.
Заседание состоится завтра, в 81/2 час., в экономическом клубе на Самсониевской. Я ответил Глинскому, что непременно буду.
Невольно при чтении записки Глинского припомнилась мне история возникновения этого общества, мною созданного при обстановке в высшей степени трудной.
Бог мой! С какими муками рождаются в России чистые, хорошие, национальные, патриотические учреждения. Попробуй начать что-либо кадеты, русская власть, из боязни прослыть ретроградом, дает жизнь самым нелепым, самым антигосударственным учреждениям и организациям, а постучись к этой же власти правый, которого вообще труднее раскачать к деятельности, чем левого, и, кроме препон, препятствий и палок в колеса, такой правый ничего другого у правительства не найдет. Стоит вдуматься в то, что проделывают с народом, перевоспитывая его на свой лад хотя бы «лигой образования», ее учебниками, ее учителями, кадеты. Эта вреднейшая партия в России, этот вечно тлеющий очаг русской революции. И что же? Борется ли с этим правительство? Ничего подобного! А если и борется, то только мертвыми циркулярами министерства просвещения; живой воды от него не жди, а между тем в характере народного образования в государстве таятся зерна как его расцвета, так и его гибели; зато с каким остервенением взялась русская правящая власть кромсать и калечить устав созданного мною Филаретовского об-ва народного образования, целью коего я наметил активную борьбу делом, а не словом, с растлевателями лиги образования, для которых образование народа не есть цель, а лишь средство к достижению преступной цели – революционизации народных масс. И так всегда, всюду и во всем. Чего стоило мне проведение устава «Общества русской государственной карты» после победоносной войны!
Казалось бы, что может быть более патриотичного, более отвечающего моменту! Ан нет! Месяцы проходили в канцелярской волоките, и правительственное veto дамокловым мечом повисло над моим проектом, а между тем вся Германия покрыта сетью обществ, подобных тому, которое я задумал, хотя там они неизмеримо менее необходимы, чем у нас в России, ибо германское правительство и, в частности, министерство иностранных дел в Германии, национальны, а наши правители и зевсы, восседающие на Мойке со времени Нессельроде, за редкими исключениями, давно забыли о том, какой они национальности и чьи интересы представляют, заботясь лишь о красоте стиля, а 1а Горчаков, своих нот и дипломатических бумаг, художественно выполняемых на французском языке не без перцу билибинского остроумия.
Россия и русские интересы у них на заднем плане, и любой англичанин или немец, а сейчас уже и японец, подкурив русскому дипломату как следует, могут обвести его вокруг своего пальца и заставить поступиться насущнейшими интересами и потребностями России в любой момент.
Как сейчас помню мой визит к Штюрмеру на острова летом (он жил в Елагином дворце по должности премьер-министра) в один из моих приездов в Петроград с фронта.
Штюрмер принял меня дружески, но скривил невероятную рожу, когда я ему объяснил, с нужной осторожностью, чтобы не задеть нашего министерства иностранных дел, цель и задачи проектируемого об-ва.
«Германия, – заявил я Штюрмеру, – покрыта сетью аналогичных учреждений; задача каждого из них – нарисовать народу карту будущих границ Германии с севера, юга, востока и запада, в случае победоносного окончания ею войны.
Общество, которое я создаю и в которое войдут писатели, ученые, публицисты, профессора всех партий и направлений, будет также иметь целью нарисовать русскому народу будущую карту России и обосновать исторически, географически и этнографически ее возможные границы, дабы в момент заключения нами мира русский народ понимал бы, чего он имеет право требовать, а русская дипломатия могла бы в своих притязаниях на ту или другую территорию опираться на волю русского народа, принесшего столь большие жертвы отечеству в годину брани и имеющего, в силу этого, нравственное право быть сознательным вдохновителем русской дипломатии, которая, опираясь на волю народную, может говорить тверже на мирном конгрессе, увереннее и с той властностью, которая должна быть присуща представителям России».
Штюрмер слушал меня и, когда я кончил, заявил: «Конечно, В.М., это общество не может принести вреда, хотя явится как бы органом контроля в момент мирных переговоров наших над дипломатическим ведомством, мною возглавляемым, но и существенной пользы от такого общества я не вижу. Дело в том, – добавил он мне многозначительно, – что я как министр иностранных дел вызвал уже к себе профессора Дмитрия Ивановича Иловайского и просил его набросать мне схему наших территориальных приобретений на западе, дабы явиться во всеоружии в дни мирных переговоров».
Как ни серьезен был предмет нашего разговора, но при упоминании имени Д. И. Иловайского, которому Штюрмер уготовил место нимфы Эгерии при своей особе по иностранным делам, я не мог не улыбнуться. И в самом деле, можно ли себе представить роль, более жалкую роли русского уполномоченного на будущем мирном конгрессе, натасканного 80-летним Д. И. Иловайским, почти впавшим уже в детство от преклонных лет и, естественно, совершенно неспособного ориентироваться в современной европейской конъюнктуре и в той роли, которую должна занять Россия как славянская держава среди народов Европы по окончании мировой войны.
Мы расстались со Штюрмером холоднее, чем встретились, и лишь несколько месяцев спустя, благодаря содействию товарища моего по Думе и моего приятеля, министра внутренних дел А. Н. Хвостова, я добился утверждения устава моего «Общества русской государственной карты», которое и оказалось в высшей степени жизненным, заинтересовав собою виднейших представителей нашей общественной и политической мысли всех направлений.
Вот что припомнилось мне при чтении приглашения Глинского приехать завтра на заседание общества…
Весь день ездил по делам снабжения моего поезда, который должен прибыть в Румынию в блестящем виде, ибо, говорят, наша армия там нуждается решительно во всем.
Достал: сапоги для солдат, благодаря содействию принца Ольденбургского; ценнейшие медикаменты, которые передали мне американцы; массу белья, раздобытого графиней Мусиной-Пушкиной, и, наконец, приобрел еще для вагона-библиотеки целую серию русских и иностранных классиков и библиотеки для солдат, которые раздам по полкам нашим воинам на чужбине.
Возвратился домой поздно невероятно уставшим, но бесконечно счастливым удачей всех моих в этой области начинаний.
Вечером, по обыкновению, читал оды Горация в подлиннике, в коих каждый раз нахожу все новые и новые красоты. Он положительно никогда, мне кажется, неспособен прискучить!
Что за прелесть, например, ода «Odi profanum vulgus et агсео» или «О navis referent in mare te novi fluctus!»
Какая жалость, что латинский язык, этот язык богов, в таком загоне в нашей средней школе!
5 декабря
Утром заехал, как всегда, в Государственную думу получить почту, ибо если просрочить два-три дня, то набирается столько писем со всей России, что не успеваешь в них толком разобраться и подчас дельное пробегаешь не с должным вниманием.
Разговорился с членом Государственной думы графом Капнистом, шедшим на заседание какой-то думской комиссии.
По обыкновению, вопрос коснулся того, что составляет сейчас ужас России, – политики Протопопова.
«Нет, граф, – заметил я, – я все-таки удивляюсь не тому, что Протопопову предложен был пост министра внутренних дел, а тому, что он его принял, ведь как-никак он, кажется, человек с мозгами и должен же понимать, что не ему с его административным опытом вести в такое время управление русского государственного корабля».
«Вы плохо его знаете, – заметил с живостью Капнист. – Во-первых, он крайне самонадеян, а во-вторых, честолюбив. Представьте, что он мне сказал на днях в ответ на мой ему попрек, что он не у места. “Да, – говорит, – тебе хорошо говорить; ты граф, ты Капнист, ты богат, у тебя деньги куры не клюют, тебе нечего искать и не к чему стремиться; а я в юности давал уроки по полтиннику за час, и для меня пост министра внутренних дел – то положение, в котором ты не нуждаешься”. А! – добавил Капнист. – Как вам нравится такая идеология?»
Я пожал плечами: «Пошляк! Считающий, по-видимому, что министерские посты должны быть уделом пробивающих себе дорогу, вне зависимости от их талантов, и что они должны являться компенсацией некогда судьбою обойденным».
Днем заезжал на Мойку в склад белья императрицы, находящийся в ведении жены военного министра Сухомлиновой. Дело в том, что в головных отрядах моих на фронте устраиваются бани для солдат и поэтому, сколько белья ни возьми из Петрограда, все его оказывается мало.
Я не выношу Сухомлинову, эту, по-моему, международную авантюристку типа Марии Тарновской; но дело прежде всего, и, как говорится, с паршивой овцы хоть шерсти клок.
Полгода тому назад сестра моя, работавшая в складе императрицы в Зимнем дворце и отказавшаяся от работы только после того, как разговорным языком там стал почти исключительно немецкий, посоветовала мне обратиться к заведующей складом княжне Оболенской с просьбой дать мне известное количество белья.
Я последовал ее совету и, по указанию княжны Оболенской, послал телеграмму императрице Александре Федоровне, в коей изложил мою просьбу, но, как и следовало ожидать (я рассчитывал, что дело обойдется без императрицы и ограничится простым распоряжением Оболенской), Александра Федоровна, которая меня терпеть не может, в просьбе моей отказала, о чем я и получил ответ через графа Ростовцева.
Ответ очень обидный, ибо в нем было сказано, что императрица со своими курьерами посылает периодически белье в армию.
Я мысленно назвал себя дураком за то, что обратился, хотя и не для себя, с просьбою к Александре Федоровне: курьеры действительно развозят белье по армиям, но раздают его тыловым армейским учреждениям, которые по горло всем снабжены в ущерб босому и голому фронту, снабжением исключительно коего я занимаюсь, рассылая и развозя медикаменты, белье, сапоги, табак и книги по окопам.
У Сухомлиновой на мойке работает целый муравейник девиц и дам. Работа, видимо, спорится, но что скверно, так это то, что тут же, в качестве адъютантов, неведомо для каких поручений, примостилось N-ное количество тыловых прапоров ускоренного выпуска из богатых семейств всяких званий; все это ходит в защитных френчах, пороху никогда не нюхало и нюхать не будет.
По временам в этот склад в кургузой тужурке, петанлерчиком, чином сходит военный министр Сухомлинов, находящийся, очевидно, – сужу по манере обращения с ним его жены, – в бесконечном ей подчинении и решительно на все смотрящий ее глазами.
Раздобыв белья у Сухомлиновой, проехал к принцу Ольденбургскому по весьма важному вопросу: русская армия в последнее время на всех фронтах несла большие потери от немецких удушливых газов; я выяснил на фронте одну из причин этого ужасного явления: она заключается в том, что почтенное интендантство наше периодически посылает в полки противогазовые маски Зелинского в обрез, то есть по числу солдат в полку, не давая возможности полкам иметь хотя бы самый минимальный излишек масок в качестве запаса.
В результате получается следующее: полк в составе 4000 штыков получил сегодня, допустим, 4000 предохранительных масок, которые и поступили как предмет обмундирования ко всем рядовым, назавтра бой, полк потерял на поле сражения треть или четверть своего состава. Через неделю пришло пополнение, снабдить его масками полк не может, а на просьбу о снабжении полкового командира сверху, справившись по своим ведомостям, отвечают, не считаясь с боевой деятельностью полка за это время: «Ваш полк такого-то числа снабжен полностью противогазовыми масками, и дать больше сейчас не можем иначе, как в ущерб другим частям». Сегодня пришла бумага, а завтра немцы, выпустив ядовитые газы, истребляют пришедшее в полк пополнение, не имеющее масок.
Принц А. П. Ольденбургский отнесся в высшей степени сочувственно к изложенному мной, обещал исхлопотать мне для раздачи, где нужно, на фронте 25 000 масок Зелинского и, независимо от того, указать интендантству, чтобы впредь в полки посылалось масок с расчетом на пополнение каждого полка.
Лишь в 7 часов я возвратился домой, пообедал и в 8 1/2 час. входил на заседание «Общетсва русской государственной карты».
Глинский хотел мне как председателю общества уступить председательство на заседании, но я отказался. Как человек слишком определенных политических взглядов, называемых крайними правыми, я не люблю отпугивать своей особою от создаваемых мною учреждений людей умных, полезных, но недостаточно политически мужественных: и посему, выполняя всю черную работу в том деле, которое я создаю, я первое место всегда предоставлю людям, которые хотят и могут работать, но политическая окраска коих не столь определенна и ярка, как моя; и, чуждый мелкого честолюбия, я вижу, как дело, мною созданное, двигается, не отпугивая, а притягивая к себе других полезных и нужных людей.
Сегодня, ввиду соединенного собрания секций общества по Персидской, Турецкой, Австрийской и Германской границам, собралось очень много народу. Я застал А. А. Башмакова, Д. И. Вергуна, профессора Ф. И. Успенского, профессора Жилина, А. Ф. Васильева и много незнакомых мне лиц статских и военных в генеральских погонах, фамилии коих я так и не узнал. Дело в том, что председателями секций набираются в каждую нужные люди, активные работники и знатоки вопроса, и упомнить всех представляется затруднительным.
Заседание затянулось и было крайне интересным, но чего я не люблю, так это привычек некоторых из наших знатоков произносить длинные речи по вопросам, ясным для всех присутствующих, с исключительной целью блеснуть своей осведомленностью.
Удивительно создан русский человек, средний русский человек, делающий историю России: он никогда не может добиться положительных, реальных результатов, предпринимая что-либо, ибо всего ему мало, и он вечно вдается в крайности. В России нет лучшего способа провалить какое-нибудь дело, прочно и хорошо поставленное и твердо обоснованное, как предложить нечто большее тому, что намечено к осуществлению. Толпа, и даже не простая, а интеллигентная толпа, непременно ухватится за «благодетеля», внесшего свой корректив в разумное осуществимое, но в сравнительно скромное предложение, и все пойдет к черту.
Вот уж действительно le mieux (хорошее) у нас в России I’ennemi du mal (враг плохого). И Гракхи с первых же шагов были бы забросаны у нас каменьями. Стоило послушать только, что говорил сегодня на заседании известный славянофил дядька Черномор, как я его называю, длиннобородый А. Ф. Васильев, чтобы понять, до каких абсурдов можно довести дело, отдай мы его в руки ученым теоретикам славянофильского лагеря. Когда Васильев заговорил о будущих русских границах на западе и стал проводить нашу с Австрией в будущем пограничную межу, и я и многие из присутствующих буквально не могли удержаться от смеха, хотя он каждое территориальное приобретение наше старался так или иначе обосновать либо исторически, либо географически, либо этнографически.
«Афанасий Васильевич! – говорю я ему. – Ведь вы рисуете прямо фантастические границы, нужно дать такую карту, которая была бы приятна русскому народу, но и приемлема для Европы и признана нашими союзниками, а ведь на то, что вы рисуете, может пойти только сумасшедший из них».
Он на меня воззрился: «Что нам, – говорит, – Европа, ведь и здесь живут славяне, ведь и это исконное ваше», – и тычет пальцем по карте.
Председателю после часовой речи Васильева с трудом удалось остановить фонтан его политического блудословия и фантастических славянских грез, после чего заседание опять вошло в русло продуманного обсуждения наших пограничных линий на востоке и западе по проекту карт, составленных специалистами из числа членов общества.
В 12 часов ночи, до окончания заседания, я покинул его и возвратился домой.
7 декабря
Начались заседания экстренного съезда объединенного дворянства.
Цель занятий: выработка и поднесение всеподданнейшего адреса государю, с указанием на грозную опасность, которой подвергается и династия, и Россия, вследствие влияния на все органы государственного управления безответственных темных сил, то есть, иначе говоря, Распутина и всей его придворной чиновнобюрократической клики. Жить становится с каждым днем все более и более невыносимо.
Государь совершенно не видит или не хочет видеть той пропасти, в которую толкает Родину его злой гений – Александра Федоровна.
Я вслушиваюсь в речи дворян на собрании, которое чрезвычайно многолюдно, ибо вернулся обратно в лоно объединенного дворянства целый ряд губерний, отделившихся было раньше, вследствие принципиальных разногласий с советом объединенного дворянства по вопросам политического характера, и мне становится понятным все более и более, что адрес дворянства будет проникнут и чувством глубокой верноподданнейшей преданности, и чувством достойной смелости, исключающей возможность звуков холопского раболепия и попытки затушевать горькую действительность.
Речи дворян на собрании полны достоинства, проникнуты глубочайшей скорбью и забвением всяких личных интересов сословия, считающего своим нравственным долгом в это тяжелое время сказать царю правду без обиняков, ту правду, которую видит и знает весь русский народ, но которую от царя скрывают льстецы, лицемеры и придворные холопы в расшитых золотом мундирах.
Председательствует на собрании князь Куракин, умный, дельный и проникнутый глубоким патриотизмом человек.
Диссонансов в речах почти не слышится; стушевались обычные типы, столь примелькавшиеся на очередных заседаниях объединенного дворянства, почитающие гвоздем его работы объединительный дворянский обед у Контана или у Медведя.
Не видно ни астраханского дворянина Сергеева, ни болтуна дворянина Павлова: они исчезли, стушевались, им здесь сегодня не место, ибо дворянство не просит ничего для себя, не говорит о своих нуждах и сословных интересах, а как первое сословие империи идет к царю от имени его народа с целью оберечь самого царя как первую святыню русской государственности.
Я редко видал большее единодушие, чем наблюдаемое мной на знаменательном, историческом сегодняшнем съезде.
Граф А. А. Бобринский, этот осторожный политик, тонкий, умный и честный придворный человек, и проницательный В. И. Гурко говорят одинаковым языком со скромным дворянином из далекого медвежьего угла России, приехавшим с накопившимся чувством душевной боли и горечи.
Да, дворянство не умерло, как ни хоронят его перья газетных писак кадетского лагеря, и не может быть того, чтобы царь не внял голосу своих слуг, с риском для себя идущих к нему с горькими словами неприкрашенной верноподданнической правды.
Редкие голоса протеста общему настроению вызывают гадливое чувство к говорящим, которые, очевидно, и в данное время хотят что-либо заполучить для себя, подыгрываясь к тем темным силам, против которых ополчается дворянство в полном единении со всем русским народом.
Речь сенатора Охотникова, выступившего в такой роли порицателя дворянских настроений, встречена была глубоким молчанием собрания, раскусившего, что в Охотникове говорит холоп, а не верноподданный честный царский слуга.
Я слушал его, когда он говорил, и знал этого «финансиста» по акцизу и многие темные стороны его деятельности в прошлом, с омерзением вглядывался в эту бритую физиономию, поучавшую дворянство понятиям долга, чести и верноподданнейшей преданности.
Превосходно говорил В. Гурко, не без позы, но дельно граф Олсуфьев и граф Мусин-Пушкин.
Во время перерыва я записался, намереваясь также коснуться некоторых положений проекта адреса, составленного специальной комиссией из членов совета объединенного дворянства и представителей губерний.
В конце речи своей я хотел переименовать лиц, которые могли бы с честью в данное время занять ответственные министерские посты; но В. Гурко, которому я сообщил о своем намерении, испуганно схватил меня за рукав и стал просить, Боже упаси, этого не делать: «Ведь вы знаете, результаты получатся как раз обратные: государь подумает, что мы его хотим учить, и перечисленные вами лица, вместо того чтобы встать у власти, сразу попадут в разряд политических мертвецов с похоронами по первому разряду. Вы знаете, царь терпеть не может указаний; ради Бога, в интересах дела, откажитесь от своего намерения».
Я согласился и, подойдя к председательскому столу, вычеркнул свою фамилию из списка ораторов.
После незначительных прений, после перерыва проект всеподданнейшего адреса, прочтенный князем Куракиным под гром аплодисментов, не смолкавших по крайней мере пять минут в зале, был с самыми небольшими изменениями принят всем собранием, голосовавшим по губерниям, и дворяне стали расходиться молча, с сознанием честно исполненного большого патриотического долга.
Во время самого голосования адреса внимание мое привлекла одна фигура, нравственная физиономия коей стала предо мною на этом собрании во весь свой неприглядный рост. Это фигура Новоскольского, Курской губернии предводителя дворянства, блестящего современного поэта-памфлетиста Мятлева.
Кто из проживающих в Петрограде, посещающих великосветские салоны и гостиницы, не списывал порою там для себя того или другого модного стихотворения Мятлева, затрагивавшего всегда очень зло и остроумно русские общественные и политические болячки и не щадившего в своих стихотворениях даже царя.
«Как… вы не читали последнего стихотворения Мятлева?» – удивленно спрашивают вас обыкновенно X, Y, Z, и немедленно кто-либо из присутствующих в салоне вынимает из записной книжки клочок бумаги с последним из произведений поэта, преимущественно памфлетического характера.
«Вот, – говорят вам, – спишите для себя», – и вы тут же списываете стихотворение, которое ходит по рукам анонимкой и облетает не только весь Петроград в кратчайший срок, но весьма быстро и всю Россию.
Резко и зло бичует сатира Мятлева все то, что считает достойным своего внимания, выставляя порой в крайне смешном виде и не щадя самого императора.
Последнее обстоятельство всегда меня донельзя раздражало, ибо, по моему крайнему разумению, царь не может фигурировать в сатирических произведениях, как бы талантливы они ни были, ибо это затрагивает престиж того, кто в глазах народа должен стоять на высоком пьедестале и чье имя не может трепаться в балагане. Так думал я раньше, так думаю и сейчас.
Дерзкий и наглый человек, думал я о Мятлеве, в то время как окружающие меня при чтении его произведений произносили: «Как ловко пишет!» – или: «Отделал, бестия, ну и смельчак!» И вот сегодня, на дворянском съезде, я увидел, что из себя в нравственном смысле представляет этот «смельчак», поэт Мятлев: явившись на съезд в роли курского губернского предводителя, ввиду отсутствия милейшего князя Л. И. Дундукова-Изъединова, Мятлев, почувствовав, что принятие адреса Курскою губернией делает его более всего ответственным за голосование, вследствие занятого им случайно положения, стал прилагать все усилия к тому, чтобы курское дворянство высказалось против принятия адреса, отредактированного специальной комиссией дворянского съезда, ибо, по мнению его, Мятлева, дворянство таким языком царю говорить не может.
Я положительно ушам своим не верил, видя его мятущимся среди своих дворян и упрашивающим их не присоединяться к другим губерниям, единодушно высказавшимся за адрес.
«Так вот ты кто? – с гадливым чувством повторял себе я. – Из-за угла, анонимно в памфлетах высмеивать царя и трепать его имя ты считаешь возможным, а здесь возвысить свой голос со всем дворянством открыто, честно и прямо – не по тебе. Холоп, – думал я, – дрожащий за свои камергерские штаны и боящийся утерять свой камергерский ключ, и когда? В такое время!..»
9 декабря
В городе передаются опять самые фантастические слухи о переменах на высших правительственных постах. Сегодня заезжал в Думу, где по рукам уже ходит телеграмма, посланная, как говорят, Распутиным императрице Александре Федоровне, пребывающей в Ставке; апокриф ли эта телеграмма или действительно существует такая, но из уст в уста передается ее текст: «Пока Дума думает да гадает, у Бога все готово: первым будет Иван, вторым назначим Степана». Объясняют это так: Щегловитов намечается Распутиным на пост премьера и Белецкий министром внутренних дел. Так ли это или нет, увидим в ближайшем будущем. Все может быть, ибо каждый день приносит нам все новые и новые сюрпризы.
Александра Федоровна распоряжается Россией, как своим будуаром, но назначаемые на министерские посты, благодаря ей и Распутину, люди чувствуют себя настолько непрочно, что даже не переезжают на казенные квартиры, а остаются на своих частных.
Наше время напоминает страницы царствования Павла Петровича: никто не может быть уверен в завтрашнем дне, и люди, взысканные милостью сегодня, завтра могут очутиться на улице.
Я не в состоянии без боли видеть все это и мысленно задаю себе вопрос: «Неужели государь не в силах заточить в монастырь женщину, которая губит его и Россию, являясь злым гением русского народа и династии Романовых? Неужели государь не видит, куда она толкает нас? Как дискредитирует она монархический принцип и позорит самое себя, будучи, в чем я уверен, чистой в отношениях своих к Распутину, который сумел околдовать ее лишь на религиозной почве». А что говорят! «Царь с Егорием, а царица с Григорием», – вот что собственными ушами я слышал вчера в группе молодых солдат, проезжая по Загородному, мимо казарм Семеновского полка. Каково это слышать нам, монархистам, а можно ли наказать пошляка, балагура, говорящего вслух о том, что молча с горечью наблюдают все.
Боже мой! Чем бы я ни занимался, где бы я ни был, с кем бы я ни был, о чем бы я ни говорил, – червем точит меня мысль везде и всюду: жив он – этот позор России, каждый час можно ожидать какой-либо новой неожиданности, каждый день он марает все более и более царя и его семью. Уже грязная клевета черни касается на этой почве чистых и непорочных великих княжон – царских дочерей, а этот гад, этот хлыст забирает что день, то больше и больше силы, назначая и смещая русских сановников и обделывая через шарлатанов вроде Симановича и князя Михаила Андронникова свои грязные денежные дела.
Все то чистое и честное, что по временам дерзает возвысить свой голос у царского трона против него, подвергается немедленной немилости и опале. Нет того административного поста, как бы высок он ни был, который гарантировал бы безопасность вельможе, дерзнувшему указать царю на недопустимость дальнейшего влияния Распутина на ход русской политики и государственных дел. Где честнейший и благороднейший А. Д. Самарин, занимавший пост обер-прокурора Святейшего Синода? Он уволен. Он оказался не на месте, ибо не мог мириться с ролью исполнителя распутинской воли; не мог терпеть на епископских постах монахов вроде Варнавы, Мардария и Путяты, и на место его посажен через Распутина какой-то директор женских курсов Раев, темная и совершенно неизвестная личность, а в помощники ему для вершения дел церкви теми же путями прошел юродивый князь Жевахов, вся заслуга коего в том, что он успел понравиться Елизавете Федоровне своею брошюркой о святителе Иосафе Горленко, доводящемся Жевахову каким-то дальним родственником по отцовской или материнской линии.
Где начальник дворцовой канцелярии князь Владимир Орлов? Он высказался против Распутина и должен был немедленно покинуть двор.
Где генерал В. Ф. Джунковский? Его постигла та же участь, несмотря на тесную близость его к царю.
Где фрейлины княжны Орбелиани и Тютчева, бывшая столько лет воспитательницей великих княжон? Их нет при дворе, ибо они дерзнули поднять свой голос против Распутина.
В силе лишь тот, кому покровительствует этот гад, и само собою разумеется, первое место поэтому при дворе занимают Мессалина Анна Вырубова и прощелыга-аферист дворцовый комендант Владимир Воейков.
Государь подпал совершенно под влияние своей жены; он считает вмешательством в свои семейные дела всякое напоминание ему со стороны вернейших и честнейших его слуг о тлетворной роли Распутина при дворе. Бог мой, как я понимал при чтении воспоминаний Бисмарка его ненависть к императрице – жене Вильгельма I!
Бывший министром путей сообщения Рухлов мне как-то говорил, что, когда однажды он во время своего доклада в Царском Селе царю коснулся имени Распутина в связи с каким-то вопросом, государь немедленно перестал его слушать, стал барабанить пальцами по столу и, обернувшись лицом к саду, начал напряженно смотреть в окно. Рухлов тотчас же понял, что дальнейший разговор в этом направлении может для него плохо окончиться, и, прервав доклад по поднятому вопросу, связанному с именем Распутина, перешел к другому.
Честность, порядочность, идейность, самоотверженность сейчас не ставятся ни в грош, и у власти могут находиться лишь те, которые в лучшем случае способны закрыть глаза на все проделываемое Распутиным и готовы беспрекословно исполнять приказания его чудовищно безграмотных записок, рассылаемых день за днем в огромном количестве по всем ведомствам и административным учреждениям Петрограда, начиная от министров и кончая мелкими чиновниками.
Неисполнение воли Распутина, излагаемой в ультимативном тоне, влечет за собою в ближайшем будущем месть хлыста строптивому чиновнику и назначение на его место другого, послушного, податливого и неспособного сопротивляться его воле.
Императрица Александра Федоровна, глядящая на все, на всех и на вся глазами Распутина, делит служащих во всех правительственных учреждениях на две группы: «наши» и «не наши». Первая поощряется всеми мерами, вторую исподволь сплавляют, замещая опрастанные места «нашими».
Принц А. П. Ольденбургский рассказывал на днях, на что он напоролся в Ставке, куда ездил с докладом к государю; прибыв в Могилев, он пожелал быть принятым молодой императрицей, проживающей в дни пребывания своего в Могилеве не во дворце с императором, а в своем поезде на вокзале.
Принц не мог быть принят царицей, ибо она еще спала, несмотря на сравнительно поздний час.
Осведомившись о причине того, почему императрица почивает и не больна ли она, принц получил ответ, что ее величество здорова, но вчера до глубокой ночи занимались с А. С. Вырубовой государственными делами. Заинтересовавшись, что именно сейчас беспокоит императрицу, старик-принц узнал, что Александра Федоровна с фрейлиной Вырубовой отмечали добрую половину ночи плюсами и минусами по адрес-календарю чинов петроградского бюрократического мира, разделяя их на своих сторонников и на противников.
Честный и благородный принц долго не мог прийти в себя от изумления и горечи, удостоверившись, что сообщенное ему было неоспоримым фактом.
Что ждет нас завтра? Вот вопрос, который вправе поднять всякий мало-мальски вдумывающийся в причину той политической абракадабры, которая царит сейчас в России. Я лично впереди просвета не вижу никакого, ибо воля государя скована, а при этом условии не может быть никакой устойчивости в политическом курсе, и это ярко и выпукло понял я из одного факта, сравнительно мелкого, но в высшей степени характерного.
Третьего ноября, во время доклада моего государю в Могилеве обо всем том, чему я свидетелем был на Румынском фронте, в районе Рени, Браилова, Галаца, характеризуя обстановку, я остановился на деятельности адмирала М. М. Веселкина, в течение почти двух лет войны занимавшего крупный военно-административный пост в этом районе, ставшего большим знатоком создавшейся здесь у нас военной обстановки и проявившего недюжинный административный талант и кипучую энергию по снабжению наших войск всем необходимым, что было крайне ценно, так как румыны, вступив с нами в союз перед самым объявлением войны центральным державам, решив, что мы их снабдим нужным, продали с большим для себя барышом решительно все, что имели, как в смысле продовольствия, так и в смысле военного снаряжения, Австрии, рассчитывая, что от нас получат необходимое. В результате этой их финансовой операции у них в Румынии стало хоть шаром покати, и русская армия оказалась в безвыходном положении, которое усугублялось вспыхнувшей вдоль устья Дуная холерой и ужасающим состоянием одноколейного, поляковской постройки, железнодорожного пути по русской территории, совершенно неприспособленного к выполнению задач военного времени и не удовлетворявшего самым минимальным запросам продовольственного, военного, санитарного и перевозочного характера наших армий, которые нуждались, живя в полуодетом, полуобутом и полуголодном состоянии.
Веселкин работал здесь не покладая рук и днем и ночью, вникая решительно во все, чуждый буквоедства, формализма и канцелярщины; и не один десяток тысяч русских солдат, приезжавших сюда в изможденном от голода виде, был обязан ему духовной и физической поддержкой.
Невероятный ругатель и сквернослов, как большинство русских моряков, но человек бесконечно доброй души и отзывчивый, Веселкин принимал героические меры к снабжению наших армий всем необходимым, а необходима была даже телефонная проволока для связи наших штабов, ибо подлецы-румыны даже всю свою проволоку запродали накануне вступления с нами в союз своим будущим противникам.
Веселкин говорил мне в бытность мою в Рени, что собирается в Могилев к государю с целью доложить ему о безобразиях всего здесь происходящего вследствие отсутствия нужных мостов через Дунай и неприспособленности железнодорожного пути, каковой может быть приведен в должный вид в кратчайший срок, если наши тыловые инженерные юпитеры за это горячо примутся. «Без этих мер, – добавил мне Веселкин, – нам на этом фронте успеха не добиться никогда».
Государь император, бывший в Рени задолго до моего пребывания здесь и видевший работу Веселкина, которого очень любил, оценил ее, что видно из слов его частной телеграммы императрице, о каковой телеграмме мне передавали в Рени местные почта-телеграфные власти.











