Читать онлайн Сандро из Чегема. Том 1
- Автор: Фазиль Искандер
- Жанр: Литература 20 века, Советская литература
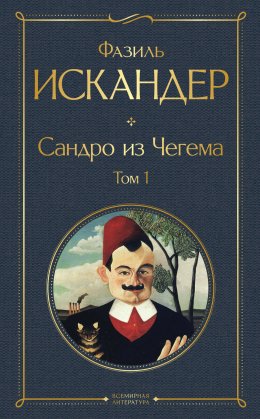
© Искандер Ф.А., наследник, 2024
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2024
Абхазия
Единственный владелец – Фазиль Искандер
1 – Встреча Сандро с принцем Ольденбургским
2 – Битва на Кодоре с деревянным броневиком
3 – Первая встреча Сандро со Сталиным на Нижнечегемской дороге
4 – Каштановая роща, которую Сандро продал Самуилу
5 – Санаторий, в котором стрелял Лакоба
6 – Здесь Махаз выпил кровь Шалико
7 – Кедр Баграта
8 – Сталин на ловле форели
От автора
Начинал я писать «Сандро из Чегема» как шуточную вещь, слегка пародирующую плутовской роман. Но постепенно замысел осложнялся, обрастал подробностями, из которых я пытался вырваться на просторы чистого юмора, но вырваться не удалось. Это лишний раз доказывает верность старой истины, что писатель только следует голосу, который диктует ему рукопись.
История рода, история села Чегем, история Абхазии и весь остальной мир, как он видится с чегемских высот, – вот канва замысла.
Мне кажется, первый промельк его я ощутил в детстве. В жаркий летний день я лежал на бычьей шкуре в тени яблони. Время от времени под порывами ветерка созревшие яблоки слетали с дерева и шлепались на траву.
Иногда они скатывались вниз по косогору и сквозь рейки штакетника выкатывались на скотный двор, где паслись свиньи. К этим плодам мы со свиньями бежали наперегонки, и я нередко, опережая их, подхватывал яблоко прямо из-под хрюкающего рыла. В более зрелые годы и в других местах мне это никогда не удавалось.
Вот так я лежал в ожидании полунебесных даров и вдруг услышал, как мои двоюродные сестры в соседних домах, одна на вершине холма, другая в низинке, возле родника, перекликаются. Непонятное волнение охватило меня. Мне страстно захотелось, чтобы и этот летний день, и эта яблоня, шелестящая под ветерком, и голоса моих сестер – все, все, что вокруг, – осталось навсегда таким же. Как это сделать, я не знал. Вроде бы все это надо было заново вылепить. Я это почувствовал сладостно хищнеющими пальцами. Через несколько минут порыв угас, и я, казалось, навсегда забыл о нем.
Но вот я пишу эту книгу. По мере продвижения замысла поэзия народной жизни все больше и больше захватывала меня. Вероятно, отсюда и размышляющий мул или героический буйвол как нелгущие свидетели ее. Животные не лгут, хотя собакам свойственно очаровательное лукавство. Небольшой пример, как говаривал вождь.
Бывало, к полудню моя чегемская тетушка начинает греметь тарелками, а уж собаки сдержанно ждут у распахнутых дверей кухни. После обеда и им, конечно, что-нибудь перепадет. Но в ожидании еды они вдруг взлаивали без всякой причины, даже подбегали к забору, где, погавкав некоторое время, победно возвращались назад, как бы говоря: мы не дармоеды, отогнали очень опасного, хотя и невидимого врага. Меня всегда смешила эта сфальсифицированная опасность.
Гораздо позже, став литератором, я убедился, что сия ситуация бессмертна. Вот так же некоторые критики, услышав, что гремят тарелками (не скажу где), бросаются отгонять сфальсифицированную опасность.
Но я слишком отвлекся. Мой немецкий переводчик Саша Кемпфе, прочитав «Сандро», вдруг спросил у меня:
– Эндурцы – это евреи?
Начинается, решил я, но потом оказалось, что этот вопрос возбуждает любопытство разных народов. Эндурцев и кенгурцев я придумал еще в детском саду. Мой любимый дядя хохотал над моими рисунками, где я изображал бесконечные сражения двух придуманных племен. Потом любимый дядя погиб в Магадане, а эти придуманные народы всплыли в виде названия двух районов Абхазии. И теперь (только заткните кляпом рот психопату-психоаналитику) я скажу: эндурцами могут быть представители любой нации. Эндурцы – это и наш предрассудок (чужие), и образ дурной цивилизации, делающий нас чужими самим себе. Однажды мы можем проснуться, а кругом одни эндурцы, из чего не следует, что мы не должны просыпаться, а следует, что просыпаться надо вовремя. Впрочем, поиски и выявление эндурцев и есть первый признак самих эндурцев. Позднейший лозунг «Эндурское – значит отлично!» – ко мне никакого отношения не имеет.
«Сандро из Чегема» еще не совсем законченная книга, хотя данная рукопись – самая полная из всех, которые где-либо и когда-либо выходили. Хочется дописать судьбу Тали и некоторых других обитателей Большого Дома.
Чегемской жизни противостоит карнавал театрализованной сталинской бюрократии: креслоносцы захватили власть. Фигура самого Сталина, этого зловещего актера, интересовала меня давно, еще тогда, когда я ничего не писал и писать не собирался.
Сталин достаточно часто отдыхал в Абхазии, и поздние, после его смерти, рассказы людей, видевших и слышавших его (обслуга, охрана и т. д.), – чаще всего восторженные и потому разоблачительные, давали мне возможность заглянуть в первоисточник. Восторженный человек, мне так думается, менее склонен редактировать свои впечатления, ему кажется, что все было прекрасно, и потому он простодушнее передает факты.
Представим вечерок в компании. Вдруг гаснет свет. Один из малозаметных застольцев берет книгу и начинает читать ее в полной темноте. Мы потрясены этой его особенностью, нас не смущает, что читает он ее все-таки по слогам. Тогда это называлось железной логикой. Человек так устроен, что загадочное в его сознании неизменно превращается в значительное. Но продолжим образ.
Компания не просто проводит вечерок, а играет в карты на деньги. И немалые. Вдруг гаснет свет. Малозначительный игрок (о том, что он видит в темноте, никто не знает) заглядывает в колоду, а потом при свете выигрывает игру – и все кажется нормальным.
А если игра затягивается на годы? А если наш удачливый игрок уже договорился с директором электростанции и при этом, будучи отнюдь не глупцом, далеко не всегда выигрывает после световой паузы, а только тогда, когда предстоит хороший куш?
Короче, когда долго нет света, сова садится на трон, филины доклевывают последних светляков, лилипутам возвращается как бы естественное право бить ниже пояса, а новоявленные гуманисты восхваляют Полярную ночь как истинный день в диалектическом смысле. Культ будущего, этот летучий расизм, как-то облегчает убивать в настоящем, ибо между настоящим и будущим нет правовой связи.
Лучше вернемся в Чегем и отдышимся. Собственно, это и было моей литературной сверхзадачей: взбодрить своих приунывших соотечественников. Было отчего приуныть.
У искусства всего две темы: призыв и утешение. Но и призыв, если вдуматься, тоже является формой утешения. «Марсельеза» – та же «Лунная соната», только для другого состояния. Важно, чтобы человек сам определил, какое утешение ему сейчас нужно.
Краем детства я застал во многом еще патриархальную, деревенскую жизнь Абхазии и навсегда полюбил ее. Может, я идеализирую уходящую жизнь? Может быть. Человек склонен возвышать то, что он любит. Идеализируя уходящий образ жизни, возможно, мы, сами того не сознавая, предъявляем счет будущему. Мы ему как бы говорим: вот, что мы теряем, а что ты нам даешь взамен?
Пусть будущее призадумается над этим, если оно вообще способно думать.
Сандро из Чегема
Дядя Сандро прожил почти восемьдесят лет, так что даже по абхазским понятиям его смело можно назвать старым человеком. А если учесть, что его много раз пытались убить в молодости, да и не только в молодости, можно сказать, что ему просто повезло.
В первый раз он получил пулю от какого-то негодяя, как он его неизменно называл. Он получил пулю, когда затягивал подпругу своему коню перед тем, как покинуть княжеский двор.
Дело в том, что он тогда был любовником княгини и торчал у нее день и ночь. Благодаря своим выдающимся рыцарским достоинствам он был в то время первым или даже единственным ее любовником.
Юный негодяй был влюблен в княгиню и тоже торчал у нее день и ночь, кажется, на правах соседа или дальнего родственника со стороны мужа. Но он, по словам дяди Сандро, не обладал столь выдающимися рыцарскими достоинствами, как сам дядя Сандро. А может, и обладал, но никак не мог найти случая применить их к делу, потому что княгиня была без ума от дяди Сандро.
Все-таки он надеялся на что-то и потому ни на шаг не отходил от дома княгини или даже от самой княгини, когда она это позволяла. Возможно, она его не прогоняла, потому что он подхлестывал дядю Сандро на все новые и новые любовные подвиги. А может, она его держала при себе на случай, если дядя Сандро внезапно выйдет из строя. Кто его знает.
Княгиня эта была по происхождению сванка. Возможно, именно этим объясняются ее некоторые любовные странности. К достоинствам ее прекрасной внешности (дядя Сандро говорил, что она была белая, как молоко), я думаю, необходимо добавить, что она отлично ездила верхом, неплохо стреляла, а при случае могла выдоить даже буйволицу.
Я об этом говорю потому, что доить буйволицу трудно, для этого надо иметь очень крепкие пальцы. Так что вопрос об изнеженности, инфантильности или физическом вырождении сам по себе отпадает, несмотря на то что она была чистокровным потомком сванских князей.
Я думаю, что этот факт не противоречит историческому материализму, если учесть особенности развития общества в высокогорных условиях Кавказа, даже если при этом не учитывать великолепный воздух, которым дышали ее предки и она сама. Дядя Сандро говорил, что иногда в интимные минуты эта амазонка не прочь была ущипнуть своего любимчика, но он терпел и ни разу не вскрикнул, потому что был настоящим рыцарем.
Я подозреваю, что мужу ее, мирному абхазскому князю, приходилось терпеть более грубые формы проявления ее деспотического темперамента. Так что он на всякий случай старался держаться в сторонке.
Одно время этот юный негодяй пытался заручиться его поддержкой, так что, скорее всего, он был родственником мужа, а не соседом. Но пользы от этого было мало, хотя муж ее тоже довольно часто торчал у себя дома. Но, разумеется, не так часто, как дядя Сандро, потому что он был страстным охотником на туров, а занятие это требует много энергии и многонедельных походов.
Возможно, ему нужно было, чтобы во время длительных охотничьих отлучек в доме оставался расторопный и храбрый молодой человек, который мог бы развлекать княгиню, принимать гостей, а если надо, и защитить честь дома. Именно таким молодым человеком и был в те времена дядя Сандро. Так что муж княгини, по словам дяди Сандро, любил его не меньше самой княгини. Поэтому на происки юного негодяя он раз и навсегда сказал ему: «Вы меня в свои дела не впутывайте».
Возможно, после этих слов этот безымянный юный негодяй почувствовал себя до того одиноко и сиротливо, что иного выхода не нашел, как выстрелить в дядю Сандро.
Во всяком случае, так обстояли дела до того дня, когда дядя Сандро бодро затягивал подпругу своему коню, а его безутешный соперник уныло стоял посреди двора, и в его голове дозревало легкомысленное даже по тем временам решение выстрелить в дядю Сандро.
И вот только он затянул переднюю подпругу своему коню, как тот окликнул его. Дядя Сандро повернулся, и тот выстрелил.
– …твою мать! – крикнул ему дядя Сандро сгоряча. – Если ты думаешь меня одной пулей уложить! Стреляй еще!
Но тут подбежали люди княгини, да и она сама выскочила на террасу.
Дядю Сандро подхватили, а он еще некоторое время продолжал ругаться с пулей в животе, а потом уже упал.
Его сначала уложили в доме княгини, но потом это стало неприлично, и через несколько дней родственники унесли его на носилках домой. Княгиня поехала за ним и проводила у его постели ночи и дни, что было немалой честью, потому что отец его был хотя и довольно зажиточным, но простым крестьянином.
Дяде Сандро пришлось очень плохо, потому что турецкий пистолет этого юного негодяя был заряжен чуть ли не осколками разбитого чугунка. Для спасения его жизни из города был привезен знаменитый по тем временам доктор, который сделал ему операцию и лечил его около двух месяцев. За каждый день лечения он брал по барану, так что отец его впоследствии говорил про дядю Сандро, что этот козел ему обошелся в шестьдесят баранов.
Неизвестно, сколько бы еще длилось лечение, если б однажды отец дяди Сандро в неурочное время не вернулся бы с поля. У него сломалась мотыга, и он пришел за новой. Войдя во двор, он увидел, что доктор мирно спит под тенью грецкого ореха вместо того, чтобы лечить его сына или хотя бы готовить ему снадобья. «Небось его бараны пасутся и набираются жиру для него, а он в это время спит», – подумал старик и прошел в дом.
Он вошел в комнату дяди Сандро и еще больше удивился, потому что дядя Сандро спал, и притом не один. Для сестры милосердия, даже княжеского происхождения, это было слишком. Старик больше всего рассердился, потому что не знал, в какой из этих шестидесяти дней она прыгнула к нему в постель, первая догадавшись, что он выздоровел или, по крайней мере, что ему нужно сменить процедуру. Узнай он пораньше об этом, может быть, десяток баранов можно было бы и не давать этому бездельнику. Так или иначе, он растолкал княгиню.
– Вставай, княгиня, князь у ворот! – сказал он.
– Я, кажется, прикорнула, пока отгоняла от него мух, – вздохнула она, потягиваясь и приподымаясь.
– Ну да, из-под одеяла, – буркнул старик и вышел из комнаты.
Тут дядя Сандро, который от стыда притворялся спящим и хотел притворяться дальше, не выдержал. Он прыснул. Княгиня тоже рассмеялась, потому что, как истинная патрицианка, хотя и высокогорного происхождения, она была не слишком смущена.
В тот же день доктор с причитавшимися ему баранами был отправлен в город, а княгиня еще несколько дней погостила в доме дяди Сандро и, уезжая, по-княжески одарила его сестер своими шелками и бусами. Так что все остались довольны, разумеется, все, кроме юного негодяя. После своего злополучного выстрела он окончательно осиротел, потому что княгиня переехала в дом дяди Сандро, а он при всем своем нахальстве никак не мог там показаться. Более того. Ему пришлось совсем уехать из наших мест. Разумеется, он скрывался не столько от возмездия закона, сколько от пули одного из родственников дяди Сандро. Так что если в доме княгини он все-таки мог надеяться на какой-нибудь случай, чтобы доказать свои более выдающиеся рыцарские способности, если, разумеется, они у него были, то теперь ему приходилось страдать издали.
Кроме этого случая в жизни дяди Сандро было множество других, когда его могли убить или, по крайней мере, ранить. Его могли убить во время гражданской войны с меньшевиками, если бы он в ней принимал участие. Более того, его могли убить, даже если бы он в ней не принимал участия.
Кстати, перескажу одно его приключение, по-моему, характерное для смутного времени меньшевиков.
Однажды дядя Сандро возвращался домой с какого-то пиршества. Незаметно в пути его застигла ночь. Время было опасное, кругом шныряли меньшевистские отряды, и он решил попроситься переночевать где-нибудь под ближайшей крышей. Он вспомнил, что где-то поблизости живет один богатый армянин. Дядя Сандро был с ним немного знаком. Этот армянин в свое время бежал из Турции от резни. Здесь он выращивал высокосортные табаки и продавал их трапезундским и батумским купцам, которые платили ему, по словам дяди Сандро, чистым золотом.
И вот он подъехал к воротам его дома и крикнул своим зычным голосом:
– Эй, хозяин!
Ему никто не ответил. Он только заметил, что на кухне погас свет, а окна изнутри прикрыли деревянными ставнями. Он еще раз крикнул, но ему никто не ответил. Тогда он пригнулся и, открыв себе ворота, въехал во двор.
– Не подъезжай, стрелять буду! – услышал он не слишком уверенный голос хозяина. Плохи времена, подумал дядя Сандро, если этот табачник взялся за оружие.
– С каких это пор ты в гостей стреляешь? – крикнул дядя Сандро, отмахиваясь камчой от собаки, которая выскочила ему навстречу. Он слышал, как из кухни доносились женские голоса и голос самого хозяина. Видимо, там держали военный совет.
– А ты не меньшевик? – наконец спросил хозяин, голосом умоляя, чтобы он оказался не меньшевиком или, по крайней мере, назвался как-нибудь иначе.
– Нет, – гордо сказал дядя Сандро, – я сам по себе, я Сандро из Чегема.
– Что ж я твой голос не признал? – спросил хозяин.
– С испугу, – объяснил ему дядя Сандро. Кухонная дверь осторожно приоткрылась, и оттуда вышел старик с ружьем. Он подошел к дяде Сандро и, окончательно признав его, отогнал собаку. Дядя Сандро спешился, хозяин привязал лошадь к яблоне, и они вошли в кухню. Дядя Сандро сразу заметил, что хозяин и его семья ему обрадовались, хотя истинную причину этой радости он понял гораздо позже. Но тогда он ее принял за чистую монету, так сказать, за скромную дань благодарности его рыцарским подвигам, и это ему было приятно. Кстати, семья хозяина состояла из жены, тещи и двух детей-подростков – мальчика и девочки.
В честь дяди Сандро хозяин послал своего мальчика зарезать барана, достал вино, и, хотя гость для приличия старался удержать его от кровопролития, все было сделано как надо. Дядя Сандро был рад, что остановил выбор на этом доме, что ему не изменило его тогда еще только брезжущее чутье на возможности гостеприимства, заложенные в малознакомых людях. Впоследствии беспрерывными упражнениями он это чутье развил до степени абсолютного слуха, что отчасти позволило ему стать знаменитым в наших краях тамадой, так сказать, самой веселой и в то же время самой печальной звездой на небосклоне свадебных и поминальных пиршеств.
Попробовав вина, дядя Сандро убедился, что богатый армянин уже научился делать хорошее вино, хотя еще и не научился как следует защищать свой дом. «Ничего, – подумал дядя Сандро, – в наших краях всему научишься». Так они сидели за полночь у горящего камина за обильным хорошим столом, и хозяин все время направлял разговор в сторону подвигов дяди Сандро, а дядя Сандро, не упираясь, с удовольствием шел в этом направлении, так что застольная беседа их была оживленной и поучительной. Кстати, дядя Сандро рассказал ему знаменитый эпизод из своей жизни, когда он силой своего голоса контузил какого-то всадника, как бы самой звуковой волной смыл его с коня.
– У меня в те времена, – добавлял он, пересказывая мне приключение с богатым армянином, – был один такой голос, что, если в темноте неожиданно крикну, всадник иногда падал с коня, хотя иногда и не падал.
– От чего это зависело? – пробовал я уточнить.
– От крови, – уверенно пояснил он, – плохая кровь от страха свертывается, как молоко, и человек падает замертво, хотя и не умирает.
Но пойдем дальше. Беседа и вино мирно журчали, дрова в камине потрескивали, и дядя Сандро был вполне доволен. Правда, ему показалось немного странным, что хозяин не отсылает спать своих детей и тещу, потому что хозяйка вполне могла справиться и одна, обслуживая их за столом. Но потом он решил, что детям будет полезно послушать рассказы о его подвигах, да и не каждый день к ним заворачивает такой гость, как Сандро из Чегема.
Но тут снова залаяла собака, и хозяин посмотрел на дядю Сандро, а дядя Сандро на хозяина.
– Эй, хозяин! – раздалось со двора. Дядя Сандро прислушался и по перемещающемуся звуку собачьего лая определил, что она облаивает по крайней мере пять-шесть человек.
– Меньшевики, – прошептал хозяин и с надеждой посмотрел на дядю Сандро. Сандро это не понравилось, но отступать было стыдно.
– Попробую голосом, – сказал он, – если не поможет, будем защищаться.
– Эй, хозяин, – снова раздался сквозь собачий лай чей-то голос, – выходи, а то хуже будет!
– Отойдите от дверей, – приказал дядя Сандро, – они сейчас будут стрелять в дверь. Меньшевики сначала в дверь стреляют, – пояснил он некоторые особенности тактики меньшевиков.
Только он это сказал, как – шлеп! шлеп! шлеп! – ударили пули по дверям, выбрызгивая щепки в кухню.
Тут все три женщины заплакали, а теща богатого армянина даже завыла, совсем как наши женщины на похоронах.
– Что же у тебя двери не из каштана? – удивился дядя Сандро, видя что его дверь ни черта не держит.
– О, аллах, – воскликнул хозяин, – я знаю табачное дело, такие дела я не знаю.
Он совсем растерялся. Он держал свою старую флинту, по словам дяди Сандро, как пастушеский посох. «Хоть бы хорошую винтовку привез из Турции», – подумал дядя Сандро с раздражением. Он понял, что на помощь этого табачника рассчитывать не стоит.
– Куда эта дверь ведет? – спросил дядя Сандро, кивнув на вторую дверь в кухне.
– В кладовку, – сказал хозяин.
– Сейчас буду кричать, – объявил дядя Сандро, – пусть женщины и дети запрутся в кладовке, а то они своим плачем испортят мой крик.
Хозяин пропустил всю семью в кладовку и уже сам туда хотел войти, чтобы никто не мешал дяде Сандро, но тот его остановил. Он приказал ему стоять у одного из закрытых окон, а сам подошел к другому, держа наготове винтовку.
– Открой, хозяин, а то хуже будет, – закричали меньшевики и снова стали стрелять в дверь, и дверь опять стала выщелкивать щепки. Одна щепка ударила дядю Сандро по щеке и впилась в нее, как клещ. Дядя Сандро вынул ее и разозлился на богатого армянина.
– Хоть бы дубовые сделал, – сказал он ему, – раз уж вы в Турции о каштановых слыхом не слыхали.
– Я эти дела не знаю и знать не хочу, – запричитал богатый армянин, – я хочу продавать табак трапезундским и батумским купцам, я больше ничего не хочу.
Но тут дядя Сандро набрал полную грудь воздуха и закричал своим неимоверным голосом.
– Эй, вы! – закричал он. – У меня полный патронташ, я буду защищать дом, берегитесь!
С этими словами он слегка приоткрыл ставню и выглянул во двор. Светила луна, но дядя Сандро сначала ничего не заметил. Потом он вгляделся в черную тень грецкого ореха и понял, что они там укрываются. Он удивился, что они сразу не прошли в дом к богатому армянину, ведь бояться его они не могли, но потом догадался, что они заметили чужого коня, привязанного к яблоне, и решили подождать.
Видимо, они совещались, обсуждая его грозное предупреждение. «Может быть, уйдут, – подумал он. – Как бы не прихватили мою лошадь», – вдруг пришло ему в голову, и он замер у окна, вглядываясь в тех, что стояли в тени грецкого ореха.
– Ну, что, попадали они со своих лошадей? – спросил старый табачник. Он совсем не доверял меньшевикам и потому не решался приоткрыть ставню и выглянуть.
– Откуда у этих эндурских голодранцев лошади, – пробормотал дядя Сандро, продолжая свои наблюдения.
В те времена он считал, что все меньшевики эндурского происхождения. Конечно, он знал, что у них есть всякие местные прихвостни, но сама родина меньшевизма, само осиное гнездо, сама идейная пчеломатка, по его мнению, обитала в Эндурске.
Тут дядя Сандро заметил, что один из этих прохвостов быстро перебежал двор и остановился в тени яблони возле его лошади. Дядя Сандро не заметил, что он там делает, потому что он стоял за лошадью. Все равно ему это не понравилось.
– Эй, – крикнул он, – это моя лошадь! – Он своим голосом дал знать, что кричащий и хозяин дома далеко не одно и то же.
– А ты Ной Жордания, что ли? – ответил тот, что был у лошади, роясь, как теперь догадался дядя Сандро, в его дорожной сумке. И, хотя сумка была пустая, дяде Сандро такое дело совсем не понравилось. Если человек лезет в твою сумку, значит, он тебя не боится, а раз не боится, значит, может убить.
– Я – Сандро из Чегема! – гордо крикнул дядя Сандро, и ему до того захотелось снести голову этому парню из своей винтовки, что он еле сдержал себя. Он знал, что, если он одного или двоих уложит, остальные сбегут, но потом они придут целым отрядом и наделают бед.
– Мы тебя убьем вместе с хозяином, если не откроете, – сказал тот, продолжая возиться с его сумкой.
– Если меня убьете, за меня отомстит Щащико! – гордо крикнул дядя Сандро.
Услышав такое, те, что стояли в тени грецкого ореха, немного поговорили между собой и отозвали того, что стоял у лошади. Дядя Сандро подумал, что слухи о знаменитом Щащико дошли до самого Эндурска.
– А кем он тебе приходится? – услышал он.
– Он мой двоюродный брат, – ответил дядя Сандро, хотя Щащико был ему только земляком. Щащико был известным абхазским абреком и стоил примерно ста хороших меньшевиков, как разъяснил мне дядя Сандро.
– Пусть откроет, мы золото не будем искать, – крикнул один из них.
– Золота все равно нету, – встрепенулся старый табачник.
– Какой же ты богатый табачник, если у тебя нету золота? – удивился дядя Сандро.
– Уже взяли! – нервно вскрикнул старый табачник и, бросив свою флинту, стал бить себя по голове.
– Золото вы уже взяли! – крикнул дядя Сандро сердито.
Тут меньшевики начали что-то хором кричать так, что нельзя было разобрать, что они говорят.
– Говорите кто-нибудь один, – крикнул дядя Сандро, – мы не на базаре.
– Это не мы, это другой отряд золото брал! – крикнул один из меньшевиков обиженным голосом.
– Тогда что вам надо? – удивился дядя Сандро.
– Мы возьмем немного скотины, раз ты брат Щащико, – ответил один из них.
– Так что, впускать? – спросил дядя Сандро, потому что ему не очень хотелось рисковать жизнью ради этого табачника, тем более, что дверь у него прошивалась пулями, как тыква.
– Пускай идут, пускай грабят, – махнул рукой старый табачник, – все равно я отсюда уеду.
И вот дядя Сандро открыл дверь и, держа винтовку наготове, вышел из дому. Меньшевики тоже вышли из тени и пошли ему навстречу, не спуская с него глаз. Их было шесть человек, вместе с писарем этого села, который слегка пожал плечами, когда дядя Сандро взглянул на него. Он пожал плечами в том смысле, что они его заставили заниматься этим некрасивым делом.
Меньшевики, опасливо озираясь, вошли в кухню. По тому, как они сразу же уставились на стол, дядя Сандро понял, что эти голодранцы не каждый день обедают, и еще больше стал их презирать, хотя и не подал виду.
– А эта дверь куда ведет? – спросил старший из них. Он был в офицерской форме, хотя и без погон.
– Там кладовка, – сказал хозяин.
– Там кто-то есть, – сказал один из меньшевиков и направил свою винтовку на дверь.
– Там семья, – сказал старый армянин. Его теща слегка завыла, показывая, что она женщина.
– Пусть выходят, – сказал старший.
Хозяин проковылял в кладовку и стал по-армянски уговаривать, чтобы они вышли. Но они стали отказываться и всячески упираться. Дядя Сандро все понимал по-армянски, поэтому он подсказал хозяину, как их оттуда выкурить.
– Скажи им, что солдатам надо харч приготовить, чтобы они не боялись, – подсказал он ему по-турецки.
Хозяин сказал им про харч, и они в самом деле вышли и стали у дверей. Один из солдат взял лампу и заглянул в кладовку, чтобы узнать, нет ли там вооруженных мужчин. Вооруженных мужчин не оказалось, и меньшевики немного успокоились.
Теща хозяина подбросила в огонь свежих поленьев и стала мыть котел, чтобы сварить в нем остатки барана. Как только она взялась за стряпню, она перестала бояться солдат и начала ругать их, правда по-армянски.
– Давайте к столу, – сказал дядя Сандро, – а винтовки сложите в углу.
Меньшевикам очень хотелось к столу, но винтовки бросать не хотелось. Хозяина-то они не боялись, но уже поняли, что дяде Сандро пальца в рот не клади.
– Ты тоже свою винтовку положи, – сказал старший.
– Вы – гости, вы первые должны это сделать, – разъяснил дядя Сандро простейший этикет невежественному руководителю солдат. – Я первый пришел, значит, я гость по отношению к хозяину, а вы пришли после меня, значит, вы гости по отношению ко мне, – окончательно добил он его, показывая этому выскочке, как нужно вести себя в приличном доме перед тем, как сесть за хороший стол. Тут старший окончательно понял, что дядя Сандро не из простых, и первым поставил свою винтовку в угол. За ним последовали остальные, кроме писаря, потому что у него не было никакой винтовки. Дядя Сандро поставил свою винтовку отдельно в другой угол кухни. Флинта хозяина валялась возле окна. На нее никто не обратил внимания.
И вот они вместе с дядей Сандро уселись за стол друг против друга, в каждое мгновенье готовые сорваться за своей винтовкой, понимая, что главное – не дать опередить себя. Вообще-то, у дяди Сандро был еще в кармане пистолет, но он делал вид, что теперь безоружен.
– Обычно, – прервал на этом месте дядя Сандро свой рассказ, – я перед тем, как войти в дом, где может быть опасность, прятал где-нибудь поблизости винтовку или запасной пистолет. Но здесь ничего не спрятал, потому что это был мирный армянин.
– Зачем прятали оружие? – спросил я, зная, что он ждет этого вопроса.
– А как же, – хитро улыбнулся он, – если на тебя неожиданно кто-то напал и разоружил тебя, лучше этого способа нет. Он уходит с твоим оружием, он торжествует, он потерял над собой контроль, и тут ты догоняешь его и отбираешь у него свое оружие и все, что он имеет. Понимаешь?
– Понимаю, – сказал я, – но если и он прятал оружие и теперь догонит вас и отберет свое оружие, ваше оружие и все, что вы имеете?
– Этого не могло быть, – сказал дядя Сандро уверенно.
– Почему? – спросил я.
– Потому что это был мой секрет, – ответил он и горделиво разгладил свои серебряные усы, – я его тебе открываю, потому что ты не только моими секретами, даже своими не можешь пользоваться.
После этого небольшого лирического отступления он продолжал свой рассказ.
Одним словом, они просидели за столом остаток ночи – пили вино и доедали барана. Они поднимали тосты за счастливую старость хозяина, за будущее его детей. Пили, косясь на винтовки, за цветущую Абхазию, Грузию, Армению и за свободную федерацию Закавказских республик, разумеется, под руководством Ной Жордания.
На рассвете старший поблагодарил хозяина за хлеб-соль и сказал, что надо уладить дело, потому что им пора идти. С этими словами он вынул из кармана бумагу, где было записано, сколько у хозяина мелкого и крупного рогатого скота. Когда офицер вынул бумагу, дядя Сандро посмотрел на писаря так, что он съежился.
– Я подтвердил, что Щащико твой брат, – сказал он ему по-абхазски вполголоса.
– Молчи, чесотка, – ответил дядя Сандро презрительно.
– Ты не у себя в Чегеме, – огрызнулся писарь, видимо осмелев от выпитого.
– Чтоб раздавить жабу, не обязательно ехать в Чегем, – сказал дядя Сандро и так посмотрел на писаря, что тот сразу же отрезвел и прикусил язык.
Руководитель отряда долго торговался с хозяином, и наконец они сговорились на том, что старик даст ему двадцать баранов и трех быков.
– Нет, я здесь не останусь, я уеду в Батум, – причитал старик, вскрикивая.
– В Батуме будет то же самое, – честно обещал тот, что был в офицерской форме, но без погон.
– Турки резали за то, что армяне, а вы за что? – допытывался старик.
– Для нас все нации равны, – важно отвечал ему старший, – это помощь населению, а не грабеж.
Потом все они поднялись из-за стола, взяли свои ружья и все вместе вышли во двор. Было раннее утро, и в доме старика все еще спали.
– Уеду, уеду, уеду, – причитал старый табачник, пока они проходили к скотному двору.
Старый табачник, продолжая ругаться и проклинать шайтанское равенство, вывел из сарая быков. Это были сильные и породистые быки. Дядя Сандро пожалел, что таких хороших быков приходится отдавать этим эндурским громилам. Он заметил, что в сарае на привязи стоит еще один бык. «С одним быком много не напашешь», – подумал дядя Сандро, жалея хозяина. Потом он вспомнил, что сам недавно проиграл в кости быка, и помрачнел. Долг все еще висел на его чести и мешал ему веселиться.
Руководитель отряда договорился с хозяином, что овец выбирать не будут, а прямо отсчитают первые двадцать голов, которые выйдут из загона. Писарь, хрустнув плетнем, перелез в загон и стал выгонять овец. Когда овец перегнали на скотный двор, оказалось, что среди них одна хромая, еле-еле волочится.
– Брак, – сказал руководитель отряда.
– О, аллах! – взмолился табачник. – Мы же договорились, не я выгонял овец.
– Но она же не дойдет? – задумался руководитель.
– Какое мое дело! – воскликнул хозяин. – Пусть кто-нибудь из твоих людей возьмет ее на плечи.
– Да ну ее, – сказали солдаты, – может, еще заразная.
– Какое мое дело, – повторил хозяин, закрывая загон и показывая, что торг закончился.
– Дайте мне ее, – не выдержал тут писарь, обращаясь к руководителю, – раз она вам не нужна.
– Черт с тобой, бери! – сказал тот. Он был рад, что не приходится заставлять солдат, потому что боялся, что они его не послушаются и ему будет стыдно перед дядей Сандро.
Писарь с жадной радостью поймал больную овцу, взвалил ее себе на плечи и стал выходить на дорогу. «Как собака, получившая свою кость», – подумал дядя Сандро, глядя на него.
– Чесотка к чесотке тянется, – сказал он, когда тот проходил мимо.
Писарь ничего не ответил, но нарочно, чтобы разозлить дядю Сандро, прочавкал мимо него по грязи, осторожно ликуя под тяжестью добычи. Как только он немного отошел, больная овца, вывернув шею и глядя в сторону загона, так жалобно заблеяла, что дяде Сандро стало не по себе. Потом, когда солдаты вслед за писарем погнали остальных овец, больная овца успокоилась. Но дядя Сандро знал, что, когда писарь свернет к себе домой, а солдаты пойдут дальше, она опять начнет кричать, и ему было жалко эту несчастную овцу, этого старого табачника и самого себя.
Когда меньшевики скрылись из глаз, дядя Сандро, не глядя на хозяина, сказал:
– Все равно они тебя в покое не оставят, дай мне этого быка…
Хозяин посмотрел на дядю Сандро и молча стал бить себя по голове. Дяде Сандро было неприятно говорить хозяину про быка, но этот проклятый писарь с больной овцой совсем доконал его.
– Бери, все бери, я здесь ни дня не останусь! – наконец закричал хозяин, продолжая бить себя по голове, словно исполняя мрачный обряд шахсей-вахсея.
– Нет, – сказал дядя Сандро, сдерживая рыданья, – я возьму только быка, я его должен одному человеку…
С этими словами он прошел в сарай и стал отвязывать быка.
– Все бери! – закричал ему вслед старый табачник. – Только веревку оставь!
– Зачем тебе веревка? – удивился дядя Сандро.
– Повеситься хочу! – весело крикнул ему старый табачник.
Не понравилось дяде Сандро его веселье, и он стал стыдить старого табачника за малодушие, напоминая, что у него семья и дети.
– В Батум, в Батум уеду, – бормотал старый табачник, уже не слушая его.
– Послушай, – сказал дядя Сандро вразумительно, – если ты один уедешь, тебя десять раз ограбят по дороге. Даю тебе слово Сандро из Чегема, что я провожу тебя до самого парохода, дай только знать, когда будешь ехать.
С этими словами он ударил быка так, чтобы он шел впереди по дороге, а сам вернулся во двор и подошел к своей лошади. Он быстро затянул подпруги и только хотел сесть, как вспомнил, что солдат рылся у него в сумке. «Может, бомбу подложил», – подумал он и, сунув руку в сумку, быстро обшарил ее. Она была пуста. Дядя Сандро вскочил на свою лошадь и выехал со двора. Бык медленно шел впереди него вдоль усадьбы старого табачника. Догоняя его, дядя Сандро не удержался и взглянул на хозяина. Старый табачник, пригнувшись к плетню, старательно поправлял разъехавшиеся прутья загона, словно в эту дыру утекли все его богатства.
Дядя Сандро исполнил свое обещание. Месяца через два старый табачник продал все, что можно еще было продать, нанял аробщика и отправился в город. Дядя Сандро сопровождал его верхом на лошади до самой пристани. Глядя на убогий скарб переселенца, никто бы не поверил, что это бывший богатый армянин, поставщик высокосортных табаков трапезундским и батумским купцам.
– Если б дверь была из каштана, еще можно было сопротивляться, – вспомнил дядя Сандро, прощаясь.
– Даже слышать не хочу об этом, – махнул рукой старый табачник. Так они расстались навсегда, и больше его дядя Сандро не встречал в наших краях.
– Вот так из-за меньшевиков лучшие люди нашего края вынуждены были покидать его, – заключил дядя Сандро свой рассказ, слегка выпучив глаза и многозначительно покачивая головой, как бы намекая на то, что последствия разбазаривания кадров до сих пор сказываются и еще долго будут сказываться как в административном, так и в чисто хозяйственном смысле.
Дядя Сандро у себя дома
Однажды, когда я собирался уехать из горной деревушки Чегем, где гостил у своих родичей в доме дедушки, мне сказали, что меня хочет видеть один человек.
Я вышел из дому и увидел старика, который, палкой отбиваясь от собак, входил во двор. В одной руке он держал довольно увесистый жбан. Я отогнал собак и подошел к нему.
Взглянув на старика, я подумал, что где-то его видел, но не мог вспомнить где. Вернее, даже не сам старик, а то, с какой радостной злостью накинулись на него собаки, и то, с какой неутихающей яростью он от них отбивался, напомнило мне знакомую картину, но я никак не мог припомнить, когда и где это было.
И только потом, уже в автобусе на обратном пути, я вспомнил, что это было там же, возле дедушкиного дома. Видимо, надо было отойти от этого места, чтобы восстановить в памяти полузабытую картину.
Я вспомнил, что в детстве во время войны, когда я жил у дедушки, этот человек проходил время от времени мимо нашего дома, и собаки всегда с такой же веселой злостью нападали на него, и он с такой же неутихающей яростью от них отбивался, при этом не убыстряя и не замедляя шагов.
Тогда у нас, посмеиваясь, говорили, что он до самого города ходит пешком, потому что во время войны машины были редки, да и сесть в них было не так-то просто.
Было странно, вернее, как-то чудно, что собаки только на него так набрасывались, потому что он проходил здесь довольно часто, так что им можно было привыкнуть к нему, как они привыкали ко всем остальным, но почему-то к нему они никак не хотели привыкать. Так что можно было, не выходя из дому, по собачьему лаю определить, что это он проходит по дороге.
Обычно, конечно, кто-нибудь выходил, чтобы унять собак, но не всегда это удавалось, да и он, видимо, нисколько их не боялся, а проходил с мешком или без мешка своей упорной походкой, даже успевал, если возвращался из города, прокричать сквозь собачий лай городские военные новости и, не останавливаясь, шел дальше. Но все это, повторяю, я вспомнил на обратном пути, уже в автобусе.
…Мы поздоровались со стариком. Он приподнял жбан и в то же время, озираясь на собак с презрительной яростью, попросил, чтобы я передал в городе этот небольшой гостинчик его брату Сандро.
Я покосился на жбан. Дело было не из приятных. Тащиться с ним километров десять до автобуса, а там еще искать в городе какого-то Сандро. Но и прямо отказать тоже было как-то неудобно, я замялся, чем и воспользовался старик. Поняв мой взгляд, который я бросил на жбан, он опередил мой отказ, сказав, что проводит меня до машины.
– Хорошо, – согласился я, – только где он живет?
– Бумагу внучка написала, – ответил он и, воткнув свой посох в землю, при этом снова покосился на собак, словно давая им знать, что все равно успеет схватить палку когда надо, достал из кармана негнущейся ладонью тетрадный лист. На нем крупным детским почерком был написан адрес. Тут я опять пожалел, что согласился, но было уже поздно. Брат его жил в пригороде. Правда, туда регулярно ходят автобусы, но все же что за охота тащиться к этому Сандро. Лень изобретательна, и мне пришло в голову, что, может, он работает где-то в городе, так что удобней будет этот жбан занести к нему на работу. Я спросил об этом старика.
– Сандро не из простых, он из присматривающих, – сказал старик, как мне показалось, со скрытой насмешкой над моим невежеством. По-абхазски слово «присматривающий» означает также и «руководящий».
Я попытался выяснить, за чем он присматривает. Старик снова посмотрел мне в глаза с тайной насмешкой, и теперь я понял, что смысл ее в том, что я не могу не знать людей присматривающих, потому что их не так уж много, и если я к ним не принадлежу или о них ничего не слыхал, то это не значит, что они сами по себе не существуют.
– Он бывает на сборищах, где собираются стоящие люди, – пояснил он терпеливо и в то же время давая знать, что мне не удастся его перехитрить.
Через полчаса я распрощался с родственниками и пустился в путь. Кстати, они мне напомнили, что речь идет о том самом Сандро, который до войны жил недалеко от дедушкиного дома. Потом, уже после наших первых встреч в городе, я, как это бывает, вспомнил многое, связанное с его жизнью в деревне, но тогда напоминание о нем мне почти ничего не сказало.
Мой спутник оказался очень услужливым и на редкость молчаливым стариком. По дороге он несколько раз порывался взять мой вещмешок, а когда тропа проходила сквозь кустарник дикого ореха, он придерживал нависающие ветки и пропускал меня вперед.
Когда мы спустились к реке и стояли на берегу в ожидании парома, он почему-то сунул жбан в воду и держал его там, покамест паром подходил. Зачем ему надо было охлаждать мед – для меня так и осталось загадкой. Не мог же он не знать, что мед и вообще-то не портится, а такое кратковременное охлаждение все равно никакой пользы не принесет. Солнце довольно сильно пекло, и я в конце концов решил, что он погрузил жбан в холодную горную реку просто для того, чтобы сделать приятное меду или даже самому жбану.
– Не потеряй жбан, он мне нужен для одного дела, – сказал старик, когда я влезал в автобус.
– Не потеряю, – ответил я, понимая, что означает его, якобы отвлеченный, интерес к жбану.
Он стоял возле машины, терпеливо дожидаясь отправки. Я ему сказал, чтобы он шел домой, но он остался ждать, продолжая загадочно улыбаться, словно я опять пытался его в чем-то перехитрить. Кажется, он хотел увериться, что жбан с медом, по крайней мере, выехал в нужном направлении.
– Передай Сандро, что орехи и кукурузу привезу, как только управлюсь! – крикнул он после того, как автобус тронулся. При этом он закивал головой, словно раскрывая более глубокий смысл своих слов: да, да, там-то я и проверю, как ты справился с моим поручением.
На следующий день я не без труда нашел участок дяди Сандро, как я его потом называл. Впрочем, так его называл чуть ли не весь город.
Обсаженный фруктовыми деревьями и мандариновыми кустами, участок был расположен на крутом косогоре. Поднимаясь к дому по узкой тропке, я подумал, что хозяин и здесь, поблизости от города, выбрал себе место, в миниатюре повторяющее рельеф гор. Теплый осенний день клонился к закату. В воздухе стоял запах перезревшего инжира и тонкий аромат цитрусов. Я подошел к дому.
Опрятная миловидная старушка, стоя на крыльце, ласковым голосом сзывала кур, равномерно, как сеятель, разбрасывая пригоршни кукурузы. Увидев меня, она собрала с подола последнюю горсть зерна, высыпала и, отряхивая фартук, приветливо улыбнулась.
– Хозяин дома? – спросил я.
– Тебя, – повернулась она в сторону веранды. Услышав ее голос, я вдруг вспомнил ее имя – тетя Катя!
– Кто? – спросил из веранды сдержанный, но сильный мужской голос. Веранда была открытая, и я удивился, что говорящего не видно. Я решил, что хозяин лежит на кушетке.
– Первый раз вижу, – сказала старушка, мельком улыбнувшись мне, словно извиняясь за то, что вынуждена объясняться при мне.
– Пусть подымется, – сказал голос откуда-то снизу. Я взошел на веранду и увидел дядю Сандро. Он сидел на низенькой скамеечке и мыл ноги в тазу.
– Добро пожаловать, – сказал он и чуть привстал, показывая, что тазик мешает ему сделать жест гостеприимства более широким, одновременно как бы предлагая убедиться в его потенциальной широте. После этого он удобней уселся на стульчике, потирая ногой ногу, с вежливым любопытством оглядел меня, показывая, что любопытство его целиком поглощено моей духовной сущностью и никак не распространяется на жбан.
– По обличью вижу, что городской, – сказал он, с хрустом потирая сильные, гибкие ступни ног.
Я назвал себя, объяснил ему цель своего визита и уселся на стул, который подала мне хозяйка, что-то невидимое стряхнув с него фартуком. Дядя Сандро повел бровями в сторону жбана и вполголоса бросил жене:
– Убери.
Старушка взяла жбан и, улыбнувшись мне в том смысле, что человека моего калибра, пожалуй, не стоило беспокоить из-за какого-то меда, унесла его на кухню.
Удивившись, что с тех довоенных времен я довольно сильно вырос, хотя было бы удивительней, если б я остался таким же, он, посетовав на быстротекущую жизнь, успокоился и стал расспрашивать о родственниках и видах на урожай в этом году. Я отвечал, разглядывая его.
Это был на редкость благообразный старик с короткой серебряной шевелюрой, белыми усами и белой бородкой. Розовое прозрачное лицо его светилось почти непристойным для его возраста младенческим здоровьем. Каждый раз, когда он приподнимал голову, на его породистой шее появлялась жировая складка. Но это была не та тяжелая заматерелая складка, какая бывает у престарелых обжор. Нет, это была легкая, почти прозрачная складка, я бы сказал, высококалорийного жира, которую откладывает, вероятно, очень здоровый организм, без особых усилий справляясь со своими обычными функциями, и в оставшееся время он, этот неуязвимый организм, балуется этим жирком, как, скажем, не слишком занятые женщины балуются вязаньем.
Одним словом, это был красивый старик с благородным, почти монетным профилем, если, конечно, монетный профиль может быть благородным, с холодноватыми, чуть навыкате голубыми глазами. В его лице уживался благостный дух византийских извращений с выражением риторической свирепости престарелого льва.
Во время нашей легкой беседы он продолжал омовение ног, время от времени подливая из кувшинчика теплую воду, словно добавляя в тазик благовонные масла.
Вымыв ноги, он расставил их, проследив за симметрией, по краям тазика и, продолжая разговаривать со мной, бросил жене:
– Принеси.
Старушка вошла в кухню и вынесла оттуда старое, но чистое полотенце. Он взял у нее из рук полотенце и легко приподнял обе ноги, показывая, что тазик можно убрать, что и сделала эта миловидная старушка. Она приподняла тазик и тут же шлепнула воду с крыльца.
Дядя Сандро оперся пяткой одной ноги о пол и, продолжая держать другую на весу, стал тщательно протирать ее полотенцем. Он протер одну ногу одним концом полотенца, затем другим концом другую ногу, словно давая каждой ноге, а также окружающим людям урок справедливости и равноправия в пользовании благами жизни.
Все это время он разговаривал со мной, иногда посматривая в дверной проем, словно ожидая кого-то, иногда давая своей жене мелкие хозяйские распоряжения. При этом он понижал голос, и это звучало как в театре – реплики в сторону, которые якобы зритель не слышит.
– Безразмерные, – сказал он неожиданно, и старушка принесла ему носки, которые он с удовольствием надел, тщательно расправив на них все складки. Старушка поставила рядом с ним галоши уже в качестве личной инициативы, но, видимо, неудачно, потому что дядя Сандро тут же поправил ее. – Новые, – сказал он, как мне показалось, по случаю моего прихода. Старушка унесла старые галоши и принесла новые, сверкающие черным лаком, с загнутыми вверх носками.
Дядя Сандро надел галоши, легко встал и оказался, ко всем своим достоинствам, еще и высоким, стройным стариком, широкогрудым и узкобедрым, что несколько размывало иконописность его облика и одновременно усиливало дух византийских извращений, возможно, отчасти за счет галош с загнутыми носками.
– Накроешь здесь, – сказал он жене, переходя к столу, что стоял в конце веранды.
Я попытался отказаться, но дядя Сандро не пустил меня. Старушка накрыла стол чистой скатертью, потом принесла сыр, лобио, зелень, хлеб, кислое молоко в запотелых банках и чайные блюдца, наполненные пахучим медом.
За ужином дядя Сандро спросил у меня, где я работаю. Я сказал, что работаю в газете.
– Писарь? – спросил он, насторожившись. Я ему сказал, что иногда пишу сам, а чаще всего привожу в порядок то, что пишут другие.
– Значит, присматриваешь за пишущими, – догадался и успокоился он.
Дядя Сандро на некоторое время задумался, а потом, взглянув мне в глаза, спросил, сколько теперь стоит нанять человека из газеты для написания фельетона. Я ему ответил, что для этого ничего не надо платить.
– А почему тогда за объявление о смерти родственника берут деньги? – спросил он.
Я объяснил ему разницу и сказал, что фельетоны пишутся о жуликах, тунеядцах и бюрократах.
– Значит, сначала надо нанять адвоката, чтобы он доказал, что этот человек жулик или бюрократ? – спросил он.
– А в чем дело? – сказал я.
– У меня есть враг в горсовете, – пояснил дядя Сандро, – инженерчик из Эндурска, хотя и скрывает, где родился. Должен деньги получить за оползень, а он не дает.
– Что за оползень? – спросил я.
– У меня на участке оползень, а дом застрахован. Этот негодяй не хочет акт подписывать. Хорошо бы его напугать фельетоном, – сказал дядя Сандро и, сжав кулак, пригрозил им инженерчику из горсовета.
В это время на веранду взошла женщина и, увидев нас за столом, смущенно остановилась.
– Дорогой дядя Сандро, – сказала она, краснея и запинаясь, – извините, что напоминаю, но вы не забыли…
– Как можно! – воскликнул дядя Сандро и, привстав, жестом пригласил ее к столу.
– Что вы, сидите! – всплеснула она руками. – Я забежала на минутку.
– Он такие вещи не забывает, – вставила тетя Катя не то с грустью, не то с насмешкой.
– Помолчи, – сказал дядя Сандро миролюбиво и добавил, деловито взглянув на женщину: – Вино откуда привезли?
– Вино лыхнинское, пьется как лимонад, – сказала женщина и добавила: – Говорят, с ними будет один человек, прямо, говорят, чудище какое-то… Собирается всех наших споить…
– Кто такой? – встрепенулся дядя Сандро.
– Родственник шларбовцев, – пояснила женщина, – прямо какое-то чудище, говорят. Как бы он нас не опозорил, дядя Сандро, уж вы постарайтесь…
– А-а, знаю я его, сидел с ним, – вспомнил дядя Сандро и презрительно выпятил нижнюю губу. В это мгновенье, казалось, он мысленно пробежал картотеку своих застолий и, вытащив нужную карточку, удостоверился, что соперник никакой опасности не представляет. – Передай своим: то, что он выпьет, я в ухо налью, – добавил дядя Сандро и для наглядности похлопал по уху.
– За вами мы как за большой крепостью, дядя Сандро, – сказала женщина и, пятясь к дверям, заспешила, – так я пойду, дядя Сандро, а то еще столько дел.
– Через час буду у вас, – сказал он и принялся за кислое молоко.
– За вами мы как за большой стеной, – донесся голос женщины уже с тропинки.
– Мясо не переварите, мясо! – напомнил дядя Сандро зычным голосом, когда она уже скрылась в зарослях мандарина.
– Не беспокойтесь, дядя Сандро, мы постараемся! – успела она ответить откуда-то снизу.
– Не забывай, что ты старик, – сказала тетя Катя с бесполезной грустью.
– С тобой забудешь, – сказал дядя Сандро и, макая ложку сначала в мед, а потом в кислое молоко, принялся за еду.
– Зятя впускают в дом, – пояснил он причину посещения женщины, легко, я бы сказал, красиво отправляя ложку в рот, – хотят, чтобы я был тамадой. Невозможно отказать – соседи.
– Для тебя весь город соседи, – сказала жена все с той же бесполезной грустью, вглядываясь в дорогу, проходящую под их усадьбой.
– И ты можешь гордиться этим, – заметил дядя Сандро, взглянув на меня.
– Вы еще хоть куда, – сказал я.
После ужина мы вымыли руки, причем дядя Сандро долго и тщательно полоскал водой свои большие желтоватые зубы. Потом он натянул на ноги легкие азиатские сапоги, надел черкеску, слегка пожурив жену, что газыри плохо протерты. Он чистым платком протер их и затянул кавказским поясом свою прямо-таки осиную талию.
– Пойдем покажу, что сделал оползень, – сказал дядя Сандро, и мы спустились.
Дядя Сандро шел легкой гарцующей походкой, и я снова залюбовался этим серебряноголовым, неправдоподобно сохранившимся стариком.
Он показал рукой на цементные сваи, подпиравшие дом. На двух сваях в самом деле были трещины, на мой взгляд, не слишком катастрофические. Забегая вперед, скажу, что дом его до сих пор стоит на месте, хотя с тех пор прошло несколько лет.
– Все-таки его можно было бы припугнуть фельетоном, – сказал дядя Сандро, заметив, что трещины на сваях не произвели на меня большого впечатления.
– Надо посоветоваться, – сказал я неопределенно. Я попрощался со старушкой, и мы с дядей Сандро пошли по тропинке к выходу.
– Не перепивай, не забывай, что ты старик, – с бесполезным упрямством кинула старушка ему вслед. Было похоже, что она ему эту мысль внушает уже десятки лет.
– Вот женщина, – пробормотал дядя Сандро и, не оборачиваясь, кивнул головой в сторону жены в том смысле, что она сознательно упрощает сложный круг его общественных обязанностей.
Покамест мы спускались, дядя Сандро спросил у меня – нет ли среди моих знакомых надежного проводника, чтобы ему можно было доверить фрукты для отправки в Москву. Я сказал, что у меня есть несколько знакомых проводников, но они, скорее всего, мошенники.
– Таких не надо, – сказал дядя Сандро и, просунув руку между штакетинами, щеколдой закрыл изнутри калитку. Мы вышли на дорогу.
Нам надо было идти в разные стороны, но дядя Сандро медлил, словно хотел спросить о чем-то важном, но не решался. Все же он спросил у меня, нет ли среди моих знакомых людей, которые хотели бы купить свежие фрукты прямо с дерева. По интонации я понял, что это не тот вопрос, который он хотел мне задать; скорее всего, этот вопрос – подступ к тому, который он сейчас решил отложить. Я сказал ему, что такие знакомые у меня есть.
– Так приведи их, – сказал он, – или же сам бери.
– Хорошо, – сказал я.
– Подумай насчет инженерчика, – напомнил он мне осторожно.
– Хорошо, – сказал я бодро, что ему, видно, понравилось. Он оживился.
– Лучше даже не печатать, – добавил он, – а так просто показать и припугнуть…
– Я подумаю, – сказал я серьезно.
– Мы, земляки, должны друг другу помогать, – заметил дядя Сандро, прощаясь, – заходи.
Видно было, что он доволен и решил, что на этот раз с меня хватит. Он пошел, а я еще немного постоял, любуясь его величественной и немного оперной фигурой, как бы иронически сознающей свою оперность и в то же время с оправдательной усмешкой кивающей на тайное шутовство самой жизни.
Так я стал бывать у дяди Сандро. Возможно, если бы не его рассказы о пережитых приключениях, которые я с удовольствием слушал, мы встречались бы гораздо реже. Я считаюсь хорошим слушателем, потому что умею отключаться, когда рассказ входит в нудную стадию своего развития. При этом я время от времени что-нибудь уточняю, ухватившись за хвост последней фразы, что до сих пор помогает мне поддерживать репутацию.
Только один раз в жизни я попался. В те студенческие времена я хаживал в один литературный дом, где устраивались чтения стихов и рассказов. После этого обычно следовало неплохое угощение, особенно если читал хозяин дома.
В тот день как раз он и читал. Предварив свое чтение меланхолическим замечанием, что этот рассказ мы в печати никогда не увидим, хотя другие его рассказы мы тоже никогда в печати не видели, он стал читать нестерпимо скучный рассказ об инспекторе рыбнадзора, который обречен был в конце оказаться хорошо замаскированным браконьером. Он так тщательно его замаскировал, что это было ясно с самого начала.
Скажу коротко, я уснул в самом грубом смысле этого слова. Видит бог, дело прошлое, я изо всех сил крепился и наконец, как это бывает на собраниях, если сидишь где-нибудь в задних рядах, решил на минуточку прикорнуть, с тем чтобы потом очнуться с посвежевшей головой.
Ни до, ни после этого такого со мной не бывало. Когда я проснулся, в комнате никого не было. Я сначала ничего не понял, а потом, услышав из другой комнаты звон посуды и бодрые голоса моих товарищей, все понял и пришел в ужас. Значит, пока я спал, они успели прочитать рассказ, может быть, даже обсудить его и, оставив меня спать, перешли в другую комнату. Хотелось войти и устроить скандал. Конечно, можно было набраться нахальства и, сказав, мол, здорово я вас разыграл, потирая руки, усесться за стол. Но это было опасно, могли спросить, кто что говорил во время обсуждения. Униженный и оскорбленный, я тихо вышел в переднюю, схватил плащ и выскочил из дома.
Во всяком случае, дядю Сандро я слушал всегда с неослабевающим вниманием и не помню случая, чтобы хоть на минутку отвлекся.
Постепенно из этих рассказов стала вырисовываться его полуфантастическая в молодости жизнь и довольно странная, во всяком случае, необычная старость.
Оказывается, впервые дядя Сандро переехал в город по приглашению самого Нестора Аполлоновича Лакобы еще в начале тридцатых годов. В те времена он прогремел как один из лучших танцоров знаменитого абхазского ансамбля песен и плясок под руководством Платона Панцулаи. Танцуя в ансамбле, он одновременно работал комендантом местного ЦИКа, куда его взял Нестор Аполлонович. Уже тогда он танцевал почти на уровне лучшего танцора ансамбля Паты Патараи, во всяком случае, горячо дышал ему в затылок, и, кто знает, может быть, дядя Сандро дотанцевался бы до такого времени, что почувствовал бы на собственном затылке ревнивое дыхание первого солиста, если бы не безумные события того безумного года.
После смерти Лакобы, когда начались повальные аресты и уже взяли руководителя ансамбля Платона Панцулаю, дядя Сандро, провидчески решив, что забирают всех лучших, сначала захромал, а потом и вовсе, уволившись из ансамбля, вернулся в деревню.
Бедняжка Пата, уже испорченный славой, не мог этого сделать и поплатился. Его взяли, обвинив в том, что он на одном из концертов во время исполнения танца c мечами якобы, невольно выдавая тайный замысел, нехорошо посмотрел в сторону правительственной ложи. Разумеется, он во всем признался и получил десять лет. Дядя Сандро, рассказывая об этом, горестно уверял, что этими мечами капусту нельзя было разрубить, а не то чтобы что-нибудь другое.
Второй раз дядя Сандро покинул деревню уже после войны. На этот раз, скорее всего из осторожности, свой половинчатый побег он закончил в пригороде. Он остановился в таком месте, где колхозы уже кончились, а город еще не начался.
За это время слава его как одного из лучших украшателей стола, веселого и мудрого тамады, продолжала расти и ко времени моего с ним знакомства достигла внушительных размеров, хотя я тогда ничего об этом не знал. Я как бы жил в другом измерении и, раз выйдя из него, стал встречать дядю Сандро или слышать его имя довольно часто.
В годы либерализации он стал появляться у должностных лиц, иногда на правах человека, который неоднократно встречался с ними за столом, а иногда просто входил к ним с административными предложениями. Так, мне доподлинно известно, что он побывал у одного крупного должностного лица с предложением вернуть местным рекам, горам и долинам их древние абхазские названия, ошибочно переименованные во времена, которые, в свою очередь, тоже ошибочно до последнего времени именовали временами культа. Культ, безусловно, был. Этого никто не отрицает. Но он был вне времени, поэтому нельзя говорить «времена культа», хотя и в пространстве, и притом довольно значительном.
Но вернемся к дяде Сандро. К сожалению, с его предложением вернуть местным рекам, горам и долинам древние абхазские названия тогда не посчитались. И напрасно, потому что во время известных событий в Абхазии это же самое прозвучало всенародно, что привело к некоторой путанице и бестолковщине.
Кстати, по рассказу дяди Сандро, это самое должностное лицо, к которому он обращался со своим предложением, не встало с места при его появлении в кабинете, а также не встало с места, когда он уходил. Возможно, говорил дядя Сандро, он этим хотел показать, что очень прочно сидит на своем месте.
Все же через некоторое время это самое должностное лицо вынуждено было покинуть свое место якобы в связи с переходом на другую работу, как об этом сообщалось в нашей газете, хотя он сам почти одновременно с этим сообщением благим матом орал на весь город, что не хочет покидать свое место, а потом даже разрыдался на бюро обкома, чем, безусловно, доказал свою искреннюю привязанность к покидаемому месту.
Дядя Сандро после всего этого говорил, что этого человека сняли именно потому, что он в свое время принял у себя в кабинете его, дядю Сандро, с недопустимой по абхазским обычаям степенью хамства. Я было посмеялся этому предположению, но потом решил, что в его словах все-таки есть доля истины. Ведь частное хамство по отношению к дяде Сандро могло быть признаком универсального охамения должностного лица до степени недопустимой не только по абхазским обычаям, но даже и по общепринятой всесоюзной норме.
Когда наступило поветрие защищать кандидатские диссертации, многие молодые научные работники нередко обращались к дяде Сандро с просьбой разъяснить внешние поводы некоторых дореволюционных, а иногда и послереволюционных княжеских междоусобиц. Дядя Сандро охотно разъяснял им внешние поводы, после чего они в своих диссертациях раскрывали внутренние причины и давали анализ разложения абхазского дворянства. В списке использованной литературы дядя Сандро проходил как престарелый очевидец разложения.
В первое время, когда я у него стал бывать, я обычно находил его в общественном саду, который он сторожил. Сад был расположен недалеко от дома и принадлежал табачной фабрике. В саду росли яблони, груши, сливы и хурма. Когда я первый раз появился в этом саду, почти все фрукты там уже были убраны, только хурма светилась фонарями своих плодов и несколько яблонь, абхазский предзимник, если можно так назвать этот местный сорт, все еще стояли в яблоках.
В этом саду дядя Сандро пас свою полулегальную корову, держа ее на длинной веревке. Обычно он сидел на старом потнике, опрятный, с таким горделивым видом, словно держал на привязи не обычную корову, а небольшого зубробизона, укрощенного лично им. Иногда на шее у него висел прекрасный цейсовский бинокль, как впоследствии выяснилось, личный подарок принца Ольденбургского.
Я заметил, что с места, на котором он сидел, хорошо просматривалась дорога, а если на ней появлялся, с его точки зрения, подозрительный человек, он загонял корову за большой развесистый куст ежевики, словно нарочно для этой цели выращенный в саду.
Корова, по-видимому, так к этому привыкла, что, как только дядя Сандро вставал, а то и не вставая, бывало, подергивал веревкой, она сама брела за куст и, выглядывая оттуда, ждала, пока пройдет подозрительный человек. Кстати, я ни разу не слышал, чтобы эта корова замычала.
Я этим не хочу сказать, что дядя Сандро приучил ее к молчанию или она сама понимала незаконность своего пребывания в пригороде. Все же было довольно странно видеть столь уж бессловесное животное.
В тот первый раз, когда я его посетил в саду, произошел забавный эпизод. Внизу на дороге появился милиционер, судя по буханке хлеба, которую он держал под мышкой, местный человек. Дядя Сандро, продолжая сидеть на своем потнике, слегка приосанился.
Милиционер, поравнявшись с нами, остановился у забора, почему-то бросил тоскливый взгляд на одну из яблонь, потом на дядю Сандро и сказал:
– Пасешь?
– Пасу, – твердо ответил дядя Сандро.
– Хорошую ты мне яблоню отвел, – вздохнул милиционер и снова оглядел яблоню, на которой, как я теперь заметил, и в самом деле почти не было плодов. Это была яблоня местного сорта.
– Сам выбирал, – ответил дядя Сандро загадочно.
– Хорошо ты мне удружил, по-соседски, – сказал милиционер и, укрепив под мышкой буханку, двинулся дальше, все еще продолжая ворчать.
– Что такое? – спросил я.
– Из-за коровы отвел ему яблоню, – сказал дядя Сандро, – а она в этом году, как видишь, не дала урожая. Вот он и сердится.
– И давно это вы так? – спросил я.
– Шестой год, – сказал дядя Сандро, – раньше я коз держал. Выбрать дерево я ему даю весной. В этом году ему не повезло. Я ему дал в придачу сливу-скороспелку, но он все равно недоволен.
Я спросил у него, чего он все следит за дорогой, если уж с милиционером у него налажены деловые отношения.
– А райсовет? – сказал дядя Сандро.
– Отведи и им какое-нибудь дерево, – предложил я.
– На всех не напасешься, – ответил он, как мне показалось, несколько раздраженный неуместной шутливостью моего тона.
Приходя сюда, я обычно усаживался рядом с ним, и мы беседовали, причем дядя Сандро предупреждал меня, чтобы я не сидел на голой земле, ибо от этого, по его мнению, происходит большинство болезней. Сидеть, уверял он, надо на камне, на бревне, на шкуре животного или, в крайнем случае, если ничего нет, на собственной шапке. По его словам, за всю свою долгую жизнь он ни разу не сидел на земле.
– И, как ты видишь, я неплохо сохранился, – говорил он, поглаживая ладонью свое лицо. На это возразить было нечего.
Почти по любому поводу он вспоминал случаи из своей бурной жизни или меня просил рассказать о том, что делается на свете. Слушал внимательно, но не слишком удивляясь, словно все, что происходит теперь, – это разновидность того, что он давно знал или сам пережил.
Когда я ему рассказал об убийстве президента Кеннеди и о том, что убийцу нашли, он спокойно меня выслушал и, обращаясь ко мне, как бы давая мне дружеский совет, сказал:
– Если ты собираешься убить человека, ты должен это сделать так, чтобы тебя не нашли… А так убить каждый дурак может…
Подвиги в космосе как будто оставили его равнодушным. Главное, что меня слегка раздражало, он сначала обо всем очень подробно расспрашивал, а потом, выслушав, махал рукой, мол, все это неправда.
– Один человек из нашей деревни, – сказал он как-то после очередного моего космического рассказа, – вбил кол у себя в огороде, а потом всем говорил, что это – середина земли. Попробуй проверь!
Меня это задело, и я, несколько горячась, стал доказывать, что тут не может быть никакого обмана.
– Послушай сюда, – сказал он и сановито дотронулся до своих серебристых усов, – один пастух, когда кончился март – самый дождливый и неприятный для пастухов месяц, – оказывается, сказал: «Слава богу, кончился этот вонючий март, теперь и вздохнуть можно».
Услышал это март и обиделся на пастуха. Ну, говорит, покажу я этому негодяю. Просит март у апреля: «Одолжи мне пару дней, отомщу я этому голодранцу за оскорбление». «Хорошо, – говорит апрель, – пару дней я тебе дам по-соседски, но больше не проси, потому что самому времени не хватает».
Взял март у апреля два дня и нагнал такую погоду, что по нужде не выйдешь из-под крыши, а не то чтобы стадо вывести. Что делать? Голодные козы кричат, козлята беспокоятся, без молока вот-вот перемрут. И все-таки пастух вывернулся. Посадил он кошку в козий мешок и повесил за балку в сарае, где держал коз. Кошка кричит из мешка и раскачивает его над головами коз. А козы, как ты знаешь, любопытные, вроде женщин. Вот они и прозыркали два дня, стараясь понять, почему этот мешок качается и кричит кошачьим голосом, а про голод забыли. Вот так наш пастух перехитрил март.
– Ну, это вы перехватили, дядя Сандро, – смеюсь я.
– Меня не проведешь, – улыбается он, довольный. – Сандро из Чегема кое-что видел на свете… С принцем Ольденбургским встречался, при Лакоба состоял как близкий родственник, со Сталиным два раза сидел вот так, как мы с тобой сейчас сидим… Чем ты меня еще удивишь?
– Расскажите, – прошу я.
– В свое время, в своем месте, – отвечает он, задумавшись, и глядит вдаль.
Под нами живописный косогор с домами, проглядывающими из зелени садов и виноградников. Дома самые разные: обычные, деревенские на высоких сваях, а рядом наскоро сколоченные хибарки только набирающих силы хозяев, а там и двухэтажные безвкусные домины процветающих пригородников.
Дядя Сандро, окидывая взглядом поселок, бросает замечания по поводу возвышения или падения отдельных хозяйств. Тут я впервые услышал о Тенгизе, которого он обычно уменьшительно называл «мой Тенго».
– Далеко пойдет этот парень, – сказал он, показывая на его дом, со стороны веранды уютно озелененный стеной винограда, а с другой – еще в строительных лесах.
– А что он? – спросил я.
– Он присматривает за всеми машинами, идущими по приморской дороге, – сказал дядя Сандро.
– Автоинспектор, что ли? – спросил я. Возможно, в моем вопросе ему почудился недостаток уважения к его любимчику, потому что глаза его внезапно вспыхнули, и выражение свирепости престарелого льва на лице его показалось мне теперь не столь уж риторическим.
– Ты его можешь назвать мусорщиком, но он присматривает за идущими машинами и имеет государственный пистолет…
– Я и не спорю, – вставил я.
– Какой может быть спор, – успокаиваясь, заметил он, – раз ему доверили пистолет, значит, ему доверили стрелять в нужное время, а тебе (тут он неожиданно ткнул пальцем по колпачку авторучки, торчавшей из кармана моего пиджака) доверили этот пугач, стреляющий чернилами, и то ты боишься пугануть инженерчика из горсовета.
С тех пор я старался быть осторожней, когда речь заходила о Тенгизе, и по мере сил изображал на лице восхищение его любимчиком.
Иногда я встречал дядю Сандро на берегу моря, где он сидел на скамейке, перебирая четки и любуясь мельтешением чаек. Порой он важно прохаживался вдоль берега, изредка поглядывая из-под руки на горизонт, словно переодетый адмирал, ждущий тайного транспорта. Или я его заставал сидящим на берегу с газетой в руках, и тут он неожиданно бывал похож на дореволюционного профессора, удачно вросшего в социализм и потому хорошо сохранившегося, если, конечно, не обращать внимания на его экзотический наряд или то, что он в отличие от профессора все же читал по складам.
Он сиживал и в кофейнях в окружении шумной компании, между прочим, нередко молодых людей. Видимо, он им рассказывал что-то веселое, потому что оттуда время от времени доносились взрывы смеха. Иногда я его перехватывал, едва он только заходил в кофейню, и усаживался с ним за отдельный столик.
– Встречаю на базаре братьев Ламба, – начал он однажды в кофейне без всякого вступления, – давно я с ними хотел поговорить, да все случая не было.
– Идемте, – говорю, – в кофейню, у меня к вам разговор есть.
– Пойдемте, – говорят, – дядя Сандро.
Заходим, садимся. Я за свой счет заказываю кофе, коньяк, боржом. Официантка подает. Я молчу. Думаю, пусть она отойдет.
Она отходит. Я смотрю на них, сидят напротив два здоровых лба и смотрят.
– Догадываетесь, – говорю, – зачем я вас позвал?
– Нет, – говорят лбы, переглянувшись.
– А отчего, – говорю, – вы такие недогадливые?
– Не знаем, – говорят лбы и снова переглядываются.
– Может, – говорю, – родители виноваты?
– Нет, – говорят, – мы сами такие.
– Значит, родители не виноваты?
– Нет, – говорят.
– В том числе и отец?
– В том числе и отец.
– Так слушайте меня внимательно, – говорю. – Я знал хорошо вашего отца. Сорок лет назад его убил холуй князя Чачба. С князем кое-как справилась советская власть, а холуй до сих пор ходит по нашей земле и смеется над вами про себя, а иногда и открыто. За сорок лет советской власти самые дремучие пастухи, – говорю, – из самых дремучих урочищ свет увидели, а некоторые даже депутатами стали. Неужели вы до сих пор такие темные, что не знаете – за отца сыновья должны отомстить?!
– И что, ты думаешь, они на мои чистые, красивые слова ответили? – обратился дядя Сандро ко мне.
– Не знаю, – говорю.
– Так слушай, если не знаешь, – заметил дядя Сандро, – так вот…
– Дядя Сандро, – говорит лоб, что постарше, – но ведь нас за это арестуют.
– Козлиная голова, – отвечаю ему, – конечно, арестуют, если поймают. Но ты подумай: как показал двадцатый съезд, партийные люди и то по десять, по пятнадцать лет даром просидели, а ты что, за родного отца отказываешься посидеть? Отрекаешься?
– Не отрекаемся, – отвечает теперь лоб, что помладше, – но, может, в этом деле отец был виноват?
– Ты что, – говорю, – судья?
– Нет, – говорит, – я – завмаг.
– Тогда, – говорю, – ты исполни свой долг, а судья, исполняя свой долг, разберется, кто был виноват.
– Нет, – говорит, – ты нас, дядя Сандро, в такие дела не втягивай…
Тут я не выдержал. Я ему напоминаю о чести, я его за свой счет угощаю коньяком, чтобы пробудить в нем мужество, и я же виноват!
– Чтоб я, – говорю, – твой гроб купил в твоем же магазине! Убирайтесь отсюда и чтоб на базаре и в других общественных местах вашей ноги не было, пока я жив!
Слова не сказали – встали, ушли. Да что толку – люди совесть забыли, освинели… Правда, я тоже ошибку допустил, надо было сначала отдельно друг от друга с ними поговорить, да понадеялся на их совесть… «Отец-то у них был орел, – добавляет дядя Сандро после некоторого молчания, как бы еще раз мысленно пересмотрев все возможные причины падения братьев Ламба, – но со стороны матери, кажется, у них кровь подпорчена эндурской примесью».
Он допивает свой остывший кофе несколькими большими глотками и окончательно успокаивается.
– Между прочим, мой Тенго помог мне с оползнем, – вспоминает он своего чистокровного скакуна, может быть, мысленно отталкиваясь от подпорченного завмага.
– Значит, выплатили?
– Нет, бетонную канаву провели за счет горсовета, и то хлеб…
После этой встречи мы с ним не виделись около месяца, и я стороной узнал, что дядя Сандро попал в автомобильную катастрофу. Он ехал на грузовике вместе со своими земляками на какие-то большие похороны в селе Атары. Навстречу им мчался грузовик, возвращавший людей с этих же похорон. Шофер встречного грузовика, оказывается, по неопытности перепил на поминках. Одним словом, машины столкнулись. К счастью, никого не убило, но было много раненых. Дядя Сандро сравнительно легко отделался, он вывихнул ногу и потерял один зуб.
– Чуть со своими покойниками не приехали на эти похороны, – рассказывал он во время нашей следующей встречи и, пальцем оттянув губу, показывал на единственный проем между зубами, явно насильственный, во рту, и без этого зуба переполненном крепкими желтоватыми зубами.
Он сидел в саду на таком же потнике, только теперь рядом с ним торчал посох, к которому он, оказывается, пристрастился после этой автомобильной катастрофы. Корова на длинной веревке паслась тут же. Время от времени отрываясь от своего сочного занятия, она, подняв голову, поглядывала на дорогу.
В то время как раз проходила кампания по пересмотру пенсионного дела. То ли дядя Сандро узнал о ней, то ли решил, что автомобильная катастрофа – это не что иное, как производственная травма, но он стал просить помочь ему выхлопотать пенсию. В каком-то идеальном смысле он и в самом деле получил производственную травму, но навряд ли собес захотел бы это понять.
Он показал мне два длинных заявления с перечислением его скромных заслуг в хозяйственном и культурном (годы, проведенные в ансамбле песен и плясок) строительстве Абхазии. Заявления были написаны на имя Хрущева и Ворошилова.
– Как ты думаешь, Хрущит поможет? – спросил он, называя его на абхазский манер.
– Не знаю, – сказал я, возвращая ему машинописные копии заявлений. По-видимому, оригиналы были уже посланы в правительство.
– Ну, и ты со своей стороны поднажми, – попросил он, пряча бумаги в карман.
– Дядя Сандро, – сказал я, – но ведь у вас нет трудового стажа.
– Шесть лет за этим садом присматриваю, гори он огнем, – сказал он без особого энтузиазма. Видно, вопрос этот уже подымался и без меня.
– Мало, – сказал я.
– Выдумали какой-то стаж, – проворчал он, – можно подумать, что все эти годы они меня кормили. Раз человек не грабил, не убивал, значит, он жил трудом… А что, если хлопотать как о престарелом колхознике?
Я засмеялся.
– Но мои братья там, – ответил он на мой смех, – все налоги платят вовремя…
– Навряд ли поможет, – сказал я.
– Посмотрим, – сказал дядя Сандро, – с моим Тенго посоветуюсь. Ты не слыхал, что он сделал?
– Нет, – сказал я, стараясь следить за собой.
– Электрическим насосом воду подымает на свой участок, вот что сделал! – воскликнул дядя Сандро.
– Выдающийся человек, – сказал я и твердо посмотрел ему в глаза.
– В хорошем смысле, – поправил меня дядя Сандро и тоже твердо посмотрел мне в глаза.
Опять на дороге появился милиционер. Дядя Сандро несколько подобрался в ожидании, когда тот поравняется с нами. Поравнявшись, милиционер снова остановился и мельком взглянул на свое дерево, как бы с презрительной надеждой увидеть на нем неожиданно появившиеся плоды, хотя теперь уже и на других деревьях не было ни одного плода.
– Пасешь? – перевел он взгляд на дядю Сандро.
– Пасу, – с достоинством ответил дядя Сандро.
– Чтоб ты столько счастья имел, сколько я пользы имею с твоего дерева, – проговорил милиционер и пошел дальше.
– Другой раз будешь летние выбирать, – крикнул ему вслед дядя Сандро.
Милиционер остановился и, обернувшись, горестно протянул:
– Летние… Ничего, Сандро, дождешься похуже того, что с тобой случилось, – добавил он и пошел дальше. Было похоже, что милиционер этой загадочной фразой дал знать, что автомобильная катастрофа – это деликатный намек того, кто свыше следит за нашими поступками и время от времени легкими щелчками напоминает о себе.
– Иди, иди, дуралей, – проговорил дядя Сандро скептически, но не очень громко.
– А почему ему летние сорта не нравятся? – спросил я.
– Наш сорт тем и хорош, что толстокожий… весной можно продавать…
Кажется, этим замечанием о выгодной толстокожести наших яблок в тот раз и закончилась наша встреча. В последующие годы, видимо потеряв надежду использовать меня в административном порядке, дядя Сандро поручал мне, если я к нему приходил в сезон, только собирать фрукты.
– Можешь есть от пуза, – говорил он, стоя под деревом и подавая мне снизу корзину, когда я вскарабкивался на нижнюю ветку.
Между прочим, пенсию он все же получил той же зимой. Правда, небольшую, что-то около двухсот рублей старыми деньгами, но все-таки пенсию. Я уж не знаю, что он там использовал для этого – то ли автомобильную катастрофу, то ли еще что. А может быть, люди, достигшие его возраста, вообще независимо от трудового стажа имеют право на пенсию.
– Нет, – сказал он, словно мягко возражая кому-то, – все-таки власть у нас неплохая, идет навстречу человеку.
– Как же все-таки получили? – полюбопытствовал я.
Мы сидели за столиком в той же приморской кофейне. Пытаясь загладить свою вину за неучастие в его пенсионных делах, я заказал графинчик коньяка, боржом и кофе – легкий горючий материал наших бесед.
Был один из тех чудных декабрьских дней, когда солнце не наваливает, распустив пояс, а доносит свое тепло в благородной, сдержанной дозировке. Дядя Сандро был в отличном настроении. Рассеянно, но доброжелательно оглядывая столики, он выслушал мой вопрос, погладил усы и, слегка запрокинув голову, притронулся к нежной складке на шее.
– Ты знаешь, что это такое? – спросил он, веселея глазами.
– Жир, – упрощенно ответил я.
– Мозоль, – ответил он с шутливой гордостью.
– От чего? – спросил я, стараясь угадать его стройный, хотя еще не совсем понятный силлогизм.
– Думаешь, легко быть вечным тамадой, – ответил он и еще сильней запрокинул голову, показывая, что, когда пьешь, все время приходится держать ее в таком положении. Он снова притронулся к этой складке на шее и даже поощрительно похлопал ее в том смысле, что она ему еще послужит.
Именно в эту встречу у нас разговор зашел о божественных промыслах. В это время газеты были переполнены разговорами о снежном человеке, и я кое-что пересказал ему.
Он с интересом выслушал меня и спокойно подтвердил, что все это правда, что он сам в молодости видел в горах лесную женщину, как он ее назвал на наш лад. На его глазах она выскочила из зарослей с длинными, до колен, развевающимися волосами и побежала вниз, в котловину, на ходу ударяя руками по голове, как это делают у нас женщины во время оплакивания.
– Вы не испугались? – спросил я.
– Нет, – сказал он просто, – у меня было ружье. Я даже пытался ее догнать, но она как чесанула в заросли рододендрона, вмиг сгинула.
– Вы что, хотели ее поймать? – спросил я.
– Сам не знаю, – пожал он плечами, – выдумывать не хочу. Вообще, когда женщина бежит, хочется погнаться за нею, а мы тогда пастушили в горах, и я несколько месяцев женщину не видел. В те времена лесных людей многие видели, но женщины среди них попадались очень редко. Вот другой случай был у меня в горах, тут я испугался по-настоящему. Но это он сам подстроил, – заключил дядя Сандро и кивнул головой на небо.
– Как он? – переспросил я, потому что никогда до этого не слышал, чтобы дядя Сандро ссылался на небеса.
– Он или кто-то из его людей, – уточнил дядя Сандро и посмотрел на меня многозначительно.
– Так расскажите, – попросил я.
– Выпьем еще по кофе и коньяку, – согласился дядя Сандро, кивнув на официантку, – я этот случай редко рассказываю, но тебе расскажу…
Я подозвал официантку и заказал. Дядя Сандро, пока я заказывал, спокойно сидел напротив, внушительно положив руки на посох, который он завел после автомобильной катастрофы. Я ждал, когда он начнет рассказывать, но дядя Сандро молчал, поглядывая на официантку, убирающую со столика, в том смысле, что рассказ не рассчитан для слуха непосвященных.
И вот он начал говорить, и я впервые понял, что вещи эпического склада получаются у него не хуже бытовых.
– Это было, – начал он, отхлебнув кофе из чашки, – за год до Большого Снега и через год после того, как наш народный герой Щащико убил стражника и ушел в лес. Его ловили пятнадцать лет и не могли поймать. Ни один пристав не мог пройти пешком или проехать на лошади от Чегема до самого Цабала. Везде его поджидала верная пуля Щащико. Но что о нем говорить, я не о нем, царствие ему небесное. Как всегда, обманом его выманили из леса, обещали амнистию, а потом вместе с братом убили в тюрьме.
Но я не об этом. Я хочу рассказать, что было со мной. В то лето отец держал скот в урочище Башкапсар. Здесь в те времена дичь еще была непугана, и косули иногда заходили в наше стадо поиграть с козами.
Однажды у нас пропала лошадь. Мы с раннего утра ее искали, и, когда солнце поднялось на высоту хорошего бука, мы напали на ее след. Часа два шли мы по ее следу, пока не увидели ее на таком выступе, откуда она сама спуститься не могла. Со скотом такое бывает, особенно когда он голоден и нападет на хорошую траву. А эту лошадь только-только пригнали из деревни. Семь потов с нас сошло, пока мы ее оттуда выволокли и пригнали обратно.
И вот мы уже подходим к нашему лагерю, но решили передохнуть на взгорье у ручейка. Лучшего места для отдыха не сыщешь.
Внизу в лощине версты две до нашего лагеря. Над балаганом дым – пастухи обед готовят. Справа на склоне пасутся коровы, выше – лошади, еще выше – козы. Слева пихты и кедрачи, ломая друг другу ребра, тянут головы к небу. А небо чистое – ни одной тучки. Воздух крепкий и вкусный, как буйволиное молоко. Такого воздуха, такой благодати сейчас нет. Сейчас и в горах воздух порченый, потому что везде самолеты летают.
Вот в таком месте мы присели у ручья, напились и решили передохнуть.
Товарищ мой, наш односельчанин, я его не называю, потому что он еще живой, решил смочить в воде свои чувяки. Они у него пересохли. Вижу: снимает с ног и сует прямо туда, где мы пили воду.
– Что ты делаешь, – говорю, – разве ты не знаешь, что это не положено по нашим обычаям? Раз ты пил здесь воду, значит, надо спуститься пониже, если хочешь вымыть ноги, или смочить чувяки, или платок постирать.
– А, – говорит, – ничего не случится. Мы уже напились, а люди здесь не ходят…
– Может, ничего и не случится, – говорю, – но зачем обычай нарушать? Не мы его придумали.
– Тех, кто придумал, – отвечает он вроде в шутку, – давно уже нет, а мы никому не скажем…
Не понравилось мне это, но что скажешь? Слишком легкий он был человек, да и я был молод. Думал, обойдется как-нибудь… Так вот он и сунул свои чувяки в воду, и даже камнем их прикрыл, чтобы лучше водой пропитались.
И вот, значит, лежим мы в медовой альпийской траве. Солнце греет, ручеек журчит, дремота забирает… Такое сладкое место – нельзя не уснуть. И уже я, наверное, видел второй сон и переходил к третьему, как почувствовал во сне – случилось что-то нехорошее.
Еще сплю, а сам думаю, что бы могло случиться? Неужели широколапый, медведь, значит, зарезал кого-нибудь из нашего стада? И так во сне хочу догадаться, что случилось, потому что, думаю, проснусь – поздно будет. Но чувствую – никак не могу догадаться во сне. Нет, думаю, надо проснуться и на все посмотреть своими глазами, тогда, может, пойму, что случилось. Подымаю голову, озираюсь.
Смотрю вниз – балаганы на месте, дым идет, пастухи обед готовят. Смотрю направо по склону – вижу, коровы пасутся, выше – лошади и совсем наверху – козы, как белые камни. Нет, думаю, там ничего не случилось, иначе стадо всполошилось бы. Товарищ мой спокойно спит. Отчего же, думаю, что-то душу свербит? И вдруг прислушался и обмер – ручей перестал журчать. Я заглянул в него и почувствовал – не дай тебе бог почувствовать такое! Словом, вижу – ручей пересох. Вода кое-где в углублениях, как на дороге после дождя. Так что и горсти не наберешь.
Тряхнул я своего товарища и говорю:
– Посмотри, что ты наделал!
Он так перепугался, что никак не мог на ноги натянуть свои чувяки. Руки болтаются, как сломанные, губы шепчут:
– Аллах, пощади…
В то лето его буйволица во время грозы, ошалев от крупного града, сорвалась со скалы и сдохла, а у меня медведь зарезал годовалого телка. С тех пор мы на эти пастбища не возвращались.
– Дядя Сандро, – говорю я, – а что, если где-то наверху сорвался большой камень или лавина перекрыла ручей?
– Так и знал, что что-нибудь такое скажешь, – ответил дядя Сандро с усмешкой. – Значит, по-твоему, лавина день и ночь ждала, покамест мой товарищ чувяки вымоет в этом ручье, а потом сказала себе: «Ага, теперь самое время сорваться и перекрыть ручей!»
– Мало ли что могло случиться, – сказал я.
– Тогда ответь, – вдруг оживился дядя Сандро, – почему он у него взял буйвола, а у меня только телку?
– При чем тут буйвол и телка? – не понял я.
– А при том, – ответил дядя Сандро, – что он, как хороший судья, наказал нас. У него, как у главного виновника, взял буйвола, а у меня – годовалую телку за то, что не остановил его.
– Дядя Сандро, – говорю я, – неужели он за вами не видел других грехов?
Дядя Сандро спокойно посмотрел на меня и сказал:
– Он не всякие грехи карает. Если ты грешил, рискуя жизнью, он это учитывает. Но если ты грешил, ничем не рискуя, наказания не избежать… И у меня есть такой грех.
– Расскажите, дядя Сандро, – попросил я, разливая остаток коньяка.
– Нечего рассказывать, – сказал дядя Сандро и, сполоснув рот коньяком, проглотил его. – На свадьбе Татырхана я своей рукой зарезал двенадцать быков, и теперь в последние годы кисть правой руки болит. – Дядя Сандро зашевелил вытянутой кистью правой руки, как бы прислушиваясь к действию давнего греха. – И тогда, помнится, вот так же болело запястье… Глупый был, согласился…
Он задумался, и выражение его слегка выпученных глаз мне впервые показалось сентиментальным.
– Да, – проговорил он, – двенадцать беззащитных быков…
Мне показалось, что он сейчас разрыдается. Но тут к нам подошел молодой человек, исполненный ликующего почтения.
– Дядя Сандро! – воскликнул он. – А я вас ищу по всему городу…
– Что ты говоришь! – оживился дядя Сандро. – А я совсем забыл. Старею, старею, дорогой.
– Как можно, дядя Сандро, вас ждут! – воскликнул молодой человек. – Никто ни к чему не хочет притронуться.
– Иду, мой мальчик, иду! – сказал дядя Сандро и, встав, оправил черкеску.
– Извините, дорогой, но компания ждет, – добавил молодой человек, миролюбиво, но твердо обращаясь ко мне, как бы давая знать, что было бы безумным расточительством тратить драгоценные силы великого тамады на одного человека, когда его ждут жаждущие массы.
– Так ты остаешься? – спросил дядя Сандро, словно до этого уговаривал меня пойти с ним, но я отказался.
– Да, – сказал я, – я еще посижу.
Постукивая посохом и кивая знакомым, дядя Сандро прошел между столиками походкой щеголеватого пророка и скрылся на улице.
Всегда бывает немного обидно, если кто-нибудь в твоем присутствии уходит веселиться, даже если ты и не собирался сопровождать его. Я еще посидел немного, раздумывая над рассказом дяди Сандро, а потом пошел домой в состоянии некоторой грусти.
Помню, в голове застрял какой-то обрывок мысли насчет того, что не только люди создали богов по своему подобию, но и каждый человек в отдельности создает бога по своему собственному подобию. Впрочем, возможно, я об этом подумал не тогда, а несколько позже, а то и раньше.
Принц Ольденбургский
Принц Ольденбургский стоял, задумавшись, над прудом гагринского парка, как Петр над водами Балтийского моря. Он стоял, слегка опершись на палку огромным, все еще поджарым, несмотря на возраст, телом.
Александр Петрович был не в духе. Свита вместе с адъютантом, в количестве шести человек, стоявшая рядом на длинной и широкой, как петербургский проспект, парковой аллее, всей своей позой выражала готовность броситься выполнять любой его приказ, как, впрочем, и разбежаться во все стороны.
Свита молча следила за принцем. Сам же принц следил за черным австралийским лебедем, бесшумно скользившим по воде в его сторону. Казалось, маленький пиратский фрегат бесстрашно атакует императорский крейсер, то есть самого принца.
Это был старый яростный самец, рвавшийся в драку с молодым соперником, стоявшим на воде в двух шагах от Ольденбургского. Молодой лебедь, изогнув свою бескостную шею, с глупой беспечностью рылся красным пасхальным клювом у себя под крылом.
Был чудный солнечный день начала октября. Легкая тень принца падала на воду. Молодой лебедь, стоя в его тени, продолжал рыться клювом под крылом. Александр Петрович вдруг подумал, что молодой лебедь потому и беспечен сейчас, что чувствует его отеческую тень. Возможно, так оно и было.
Между тем старый забияка, выгнув копьевидную голову, приближался к берегу. «Заклюет, сволочь», – подумал принц, когда тот, не снижая скорости и не меняя своих воинственных намерений, вплыл в его тень. Принц Ольденбургский с неожиданным проворством пригнулся и ударил палкой по воде перед самым носом старого самца. Тот остановился и возмущенно вскинул голову. Потом он вытянул шею и, уже не продвигаясь, попытался дотянуться до своего беспечного соперника. Принц Ольденбургский палкой надавил ему на шею и с трудом оттолкнул упрямо тормозящее, тяжелое тело лебедя. После этого он еще несколько раз ударил палкой по воде, и старый самец, несколько охлажденный ртутными брызгами, посыпавшимися на него, повернул обратно, чтобы взять разгон для новой атаки.
Розовый пеликан Федька дремал на искусственном островке, положив на крыло тяжелый меч клюва. Иногда он открывал глаз и без особого любопытства следил за происходящим. Так умная, уважающая себя собака иногда сквозь дремоту послеживает за щенячьей возней.
Огромный белый лебедь-шипун, привлеченный шумом воды, осторожно приблизившись, проплыл мимо принца. Было странное противоречие между белоснежным величием его царственно скользящего тела и выражением алчного любопытства его глупенького глаза, увенчивающего божественную шею. Хаос мировой глупости и жестокая глупость всех женщин глядели из этого глаза.
Лебедь, которого защищал принц, так и не заметив опасности, продолжал сладострастно рыться у себя под крылом.
Александр Петрович выпрямился и вздохнул. Сейчас он с особенной тоской вспомнил, что ему не хватало в последние недели. Он вспомнил мягкие, сильные пальцы своей массажистки Элеоноры Леонтьевны Картуховой, или Картучихи, как ее обычно называли гагринцы, да и сам принц, когда бывал шутливо или, наоборот, сердито настроен.
Почти месяц назад он приказал ей пребывать под домашним арестом и ни под каким предлогом не появляться на улицах местечка под угрозой высылки в отдаленные места, потому что открылось безобразное коварство этой женщины.
В те дни принц был занят хлопотами, подготовляя гостиницу к приезду из Петербурга фрейлин императрицы Александры Федоровны. Тогда же неожиданно запил, вернее, с неожиданной широтой запил бывший солдат Преображенского полка, промышлявший в местечке крысиным ядом и мочегонными средствами. Когда один из собутыльников бывшего преображенца спросил, откуда у него столько денег, тот проговорился, что Картучиха закупила у него крысиного яда для отравления прибывающих фрейлин, которые, кстати, так и не прибыли.
Преображенец спьяну проговорился, собутыльник с похмелья донес. И хотя Александр Петрович не вполне поверил, что Картучиха и в самом деле собирается отравить фрейлин императрицы или, по крайней мере, одну из них, которую он якобы собирается прельстить, но сама попытка шантажировать его таким образом привела принца в законную ярость.
В прошлом Картучиха была массажисткой и любовницей принца, совмещая эти две естественно перерастающие одна в другую должности. Но в последние годы ей все чаще приходилось ограничиваться массажами по причине мирного угасания страсти стареющего принца. Ему уже было за семьдесят.
Картучиха, думая, что принц охладел именно к ней, бешено его ревновала и особенно утонченными массажами пыталась восстановить свою вторую должность.
Никогда раньше принц Ольденбургский не чувствовал себя после этих массажей столь освеженным и бодрым, но отнюдь не для любовных утех, а для деятельности государственной, чего эта дура, без которой он уже не мог обойтись, никак не могла понять.
Александр Петрович сам никогда не был ни гулякой, ни развратником и терпеть не мог таковых. Он и с Картучихой сблизился из-за телесной необходимости, потому что когда-то горячо любимая жена его, принцесса Евгения Максимилиановна, уже долгие годы разбитая параличом, влачила слабоумное существование.
Бог с ней, с этой Картучихой, баба она и есть баба, но разве в Петербурге его понимают? Царь, которого Александр Петрович, несмотря на все его слабости, так нежно любит, постоянно вводится в гиблые заблуждения придворными интриганами. Сколько своевременных и прекрасных начинаний было испорчено из-за того, что люди, окружающие его, свою личную корысть ставят выше интересов империи, чем так ловко пользуются для своей агитации иуды-социалисты.
Когда в начале века он пришел к царю с проектом создания на Черноморском побережье климатической станции с тем, чтобы со временем превратить ее в кавказскую ривьеру, царь с неожиданной быстротой согласился с его предложением. Потом-то Александр Петрович догадался, что они таким образом просто хотят избавиться от него в Петербурге. Александр Петрович знал, что его при дворе считают чудаком за то, что он всегда, невзирая на лица, со всей откровенностью верноподданного высказывал свои мысли о средствах к спасению царя и государства Российского. Все Ольденбургские принцы были такими, и все считались чудаками.
Принцы Ольденбургские принадлежали к гольштейн-готторпской линии Ольденбургского дома. Они – прямые потомки Георга-Людвига Гольштинского, вызванного на русскую службу императором Петром Третьим. При Екатерине они несколько зачахли и даже как бы отчасти возвратились в Германию, демонстрируя преданность Петру Третьему, но позже всегда были на виду и всегда считались чудаками. С тех давних пор они, как водится, обрусели с запасом, продолжая, однако, пребывать в чудаках.
Так дед Александра Петровича, принц Георгий, будучи генерал-губернатором нескольких губерний, и притом дельным генерал-губернатором, писал стихи. Мало того что он их писал, он их еще и печатал на всеобщее обозрение, неизменно посвящая стихи собственной жене, великой княгине Екатерине Павловне, что было почти неприлично.
Александр Петрович не забыл, как посмеивались при дворе над его отцом, Петром Георгиевичем, когда тот предложил покойному Александру Третьему объявить торжественным манифестом, что отныне вместе с императорской короной и скипетром будет храниться под общим колпаком экземпляр свода законов.
Но что тут было смешного в этом благороднейшем и полезнейшем предложении, господа? Это был бы великий манифест, означавший, что отныне свод законов в пределах Российского государства так же свят, как императорская корона. Разве не от беззакония и злоупотреблений, ничего общего не имеющих с поистине общенародной идеей самодержавия, зашаталась Россия? Разве не они дают ядовитую пищу социалистическим горлопанам?
Для создания кавказской ривьеры принц Ольденбургский выдвинул весьма действенный аргумент, заключавшийся в том, что русские толстосумы будут ездить в Гагры вместо того, чтобы прокучивать свои деньги на Средиземноморском побережье. Но даже сам этот достаточно важный расчет был только тонким тактическим ходом. Истинная пламенная мечта принца, пока тщательно скрываемая от всех, заключалась в том, что он здесь, на Черноморском побережье, внутри Российской империи, создаст маленький, но уютный остров идеальной монархии, царство порядка, справедливости и полного слияния монарха с народом и даже народами. (Словно нарочно, для удобства эксперимента, берег был богат многообразием чужеродцев.)
И вот выросли на диком побережье дворцы и виллы, на месте болота разбит огромный «парк с насаждениями», как он именовался, порт, электростанция, больница, гостиницы и, наконец, гордость принца, рабочая столовая с двумя отделениями: для мусульманских и христианских рабочих. В обоих отделениях столовой кухня была отделена от общего зала стеклянной перегородкой, чтобы неряхи-повара все время были на виду у рабочих.
Это было личное изобретение принца, которое там, в Петербурге, тоже могло показаться смешным. Но бунт на броненосце «Потемкин», не забывайте, господа, начался с кухни!
И все-таки венец всего сделанного принцем здесь – лучшее в Европе пожарное депо, где каждый инструмент пронумерован, а наиболее отважные и сильные жители местечка снабжены особыми бляхами с соответствующим номером, чтобы в случае пожара не метаться, не хватать что попало, а бежать к месту бедствия со своим инструментом.
Наиболее ценные здания местечка были снабжены дырчатыми трубопроводами, расположенными в середине потолка каждого помещения. В случае пожара, по замыслу, в эти трубы должна была под большим давлением накачиваться вода, чтобы сбивать пламя не только снаружи, но, подобно неожиданному кавалерийскому рейду в тылы врага, уничтожать его изнутри. Потомственный преображенец, участник турецкой кампании, принц знал толк в таких вещах.
Правда, пожары в Гаграх, как в турецкой бане, случались крайне редко, но на то и санитарные меры. Санитария – великая вещь! Недаром принц Ольденбургскии в свое время возглавлял комиссию по борьбе с чумой.
Что и говорить, местечко процветало под неусыпным отеческим глазом Александра Петровича. И в дни празднеств в парке с насаждениями он всегда был в гуще народа, озаренный огнями фейерверков, многочисленных и в то же время не представляющих пожарной опасности ввиду их строгой направленности в сторону моря, кстати, самой могучей противопожарной стихии. И в дни бедствий он всегда был с людьми, личным примером воодушевляя растерянных и слабых духом. Так, недавно, когда наводнение прорвало плотину на Жоэкваре, не он ли первым с ротой верных преображенцев бросился в воду, так что свите ничего не оставалось, как последовать за ним?
Да, только личным примером можно воодушевить нацию, как учил и продолжает учить нас Великий Петр, сам неутомимый труженик на троне. Впрочем, личный пример принц Ольденбургский нередко подкреплял личной палкой, в ее прямом петровском предназначении гулявшей по спинам всех этих полицеймейстеров, канцеляристов, нагловатых инженеров, а иногда и до генералов добиралась его поистине демократическая палка.
Но, разумеется, не только на простолюдинов старался воздействовать личным примером принц Ольденбургский. Нет, его деятельность была отчасти укоряющим, но в то же время и воодушевляющим кивком в сторону Петербурга. К сожалению, там все еще недопонимали истинный смысл его работы.
Даже нежно любимый царь, когда в 1911 году, проездом на крейсере, посетил гагринскую климатическую станцию, пробыл на ней всего два часа. А царица даже не соизволила сойти с крейсера на гостеприимный гагринский берег.
Царь очень одобрительно отозвался о парке с насаждениями, но пожарное депо и рабочую столовую почему-то отказался осмотреть. А главное, не сделал никаких указаний в смысле постепенного, но повсеместного распространения гагринского опыта.
Истинный замысел принца поняли как раз те, кто пытался разрушить и разложить Российское государство, то есть иуды-социалисты. Еще в 1903 году принц получил анонимное письмо, по-видимому от одного из придворных прохвостов. В письмо была вложена подпольная газетка с вызывающим, огнеопасным названием – не то «Пламя», не то «Костер». Там против Ольденбургского была статейка под названием «Коронованный вор, или Царское приданое». Статейка представляла из себя смесь чудовищного нахальства и такого же невежества. Особенно его поразило одно место, где говорилось, что «захват гагринской дачи вызвал целую бурю недовольства у абхазцев, аборигенов края, и для них в Гагры приглашены две пехотные роты».
Во-первых, почему захват гагринской дачи, когда объяснительную записку по делу гагринской дачи одобрил царь, рассматривало и изучало министерство финансов и, наконец, с полным соблюдением всех законов проект был принят по докладу министра финансов? Какой же это захват, иуды-социалисты? Вот ваше учение о том, что все на свете принадлежит пролетариату, – вот это захват, вот это грабеж и разбой, а тут абсолютно законный, а главное, полезный для судеб империи акт.
Что касается двух пехотных рот, опять вранье. Пехотные роты тогда никто не приглашал, поскольку никакой бури недовольства у аборигенов края не было и не могло быть.
Правда, через два года некоторые рабочие взбаламутились, да и то не местные аборигены, а свои же босяки. И тогда в самом деле просили из Новороссийска пехотную роту (роту, а не две, иуды), и ту не прислали, потому что у самих было неспокойно.
Александр Петрович, получив письмо с этой поджигательской газеткой, не только не пришел в бешенство, как, по-видимому, ожидал анонимный прохвост, но почувствовал огромное удовлетворение. Да, да, именно враги первыми разгадали его замысел и забили тревогу.
Что касается аборигенов, то у него с ними сложились самые хорошие отношения. Он нередко защищал их от жуликов-подрядчиков, нанимавших их на общественные работы, и от канцелярских бумагомарателей.
Некоторые обычаи их восхищали его своей первозданной мудростью. В исключительном уважении к старости, вернее, к возрастному старшинству, естественно восходящему самой большой почтительностью к самому старому человеку, он с радостью ученого угадывал биологический монархизм, как бы предтечу стройной идеи христианского самодержавия, к сожалению во многом испоганенную сословными паразитами и бездельниками.
Подобно Великому Петру, принц Ольденбургский организовал в Гаграх кунсткамеру с живыми и мертвыми чудесами. Кунсткамера была организована для развития любознательности у аборигенов. За интересные экспонаты принц щедро вознаграждал. Дабы избежать в этом деле бюрократической рутины, Александр Петрович особым приказом повелел направлять людей с интересными находками лично к нему.
В кунсткамере хранились образцы местных минералов и руд, огромная древнегреческая амфора с лепешкой запекшегося вина на дне, еще не слишком проржавевшие стрелы и феодальные мечи, женское седло величиной с верблюжий горб, названное седлом «неизвестной амазонки», и многое другое – не менее любопытное и поучительное.
Живая природа была представлена в виде чучел местных орлов, с ненавистью взиравших на своих живых собратьев, кукурузный стебель с четырнадцатью початками, корни абхазского женьшеня, совершенно белый дикий кабан-альбинос, папоротниковое дерево величиной с вишню, дикий буйвол, пойманный в горах, но впоследствии узнанный хозяином и признанный одичавшим.
Кроме всего, принц Ольденбургский много экспериментировал для украшения и развития самой природы, хотя наряду с успехами в этой области были и досадные неудачи.
Так полсотни розовощеких ангольских попугайчиков, купленные в берлинском зоопарке, были выпущены на волю. Попугайчики сначала хорошо прижились и даже прилетали в парк, но потом их довольно быстро переклевали растерявшиеся было местные ястребы.
Вопреки уверениям специалистов, что обезьяны не могут перенести местной зимы, принц Ольденбургский выпустил на волю десять мартышек обоего пола. Вопрос о возможности приживания африканских мартышек остался открытым, потому что еще до наступления зимы их перестреляли местные охотники.
Первую убитую мартышку принцу привез сам охотник, ничего не знавший об эксперименте и требовавший вознаграждения. Потом явилась целая делегация старейшин окрестных сел и довольно твердо заявила, что абхазцы в дальнейшем не потерпят осквернения дедовских лесов человекоподобными тварями. Принц смирил гордость и махнул рукой на обезьян во имя главного дела. Ведь он надеялся неустанно привлекать чужеродцев разумной целесообразностью русского покровительства.
Цивилизация края шла полным ходом, хотя иногда натыкалась на неожиданные препятствия. Так и сегодня ряд безобразных случаев испортил ему настроение.
Ровно в шесть утра Александр Петрович проснулся по сигналу горниста и сразу же покинул постель. По замыслу, серебряный звук горна, раздававшийся над Гаграми в шесть утра, должен был призывать жителей местечка к созидательной работе. На самом деле по сигналу горна вставал только сам принц и рабочие ремонтных мастерских, которых он, кстати говоря, назло теориям иуд-социалистов, любил больше всех остальных жителей городка.
Обход своих владений принц в этот день решил начать с ремонтных мастерских. Ряды деловито жужжащих станков, сосредоточенные фигуры рабочих, склоненные над ними, всегда способствовали его радостному созидательному настроению.
В это утро душевное состояние принца было недостаточно ясное, все еще мешала некоторая оскомина вчерашнего безобразия. Накануне утром он посетил бараки, расположенные недалеко от Гагр, где жили пленные австрийцы, работавшие на прокладке железной дороги. Принц нашел общее состояние бараков неудовлетворительным. Особенно его возмутило, что при огромной вместительности бараков они имели только по одной двери, что в случае ночного пожара могло привести к панике и человеческим жертвам. Принц Ольденбургский приказал начальнику участка инженеру Бартмеру немедленно вызвать всех плотников и к пяти часам вечера во всех бараках прорубить двери через каждое третье окно. Ровно в пять часов вечера лимузин «бенц» Ольденбургского снова остановился в ущелье Жоэквары недалеко от бараков. К этому времени оставалось прорубить и навесить три двери. На начальника участка инженера Бартмера был наложен месячный арест с исполнением служебных обязанностей.
Принц Ольденбургский ко всем своим многочисленным служебным обязанностям с начала мировой войны был назначен начальником санитарно-эвакуационной службы, и следить за содержанием пленных входило в его прямые полномочия.
Александр Петрович придавал большое значение человечному отношению к пленным. Сегодня он пленный, думал принц, но завтра возвратится домой, и от нас зависит, кем там будет, хвалителем или хулителем империи. Так учил нас Великий Петр. Как там сказано у Пушкина: «И славных пленников ласкает…» Этого не понимает инженер Бартмер своим куцым практическим умом, за что и несет наказание.
Вот что случилось вчера и от чего на душе у принца оставалась некоторая смутность. Для восстановления ясности духа Александр Петрович и решил начать день с ремонтных мастерских.
…Золотисто-зеленое утреннее небо обещало хороший день. Лимузин «бенц», ведомый кожаным шофером-итальянцем, вместе с сонной свитой и дураком-адъютантом вез его к рабочим.
– Зхаствуйте, бхатцы! – гулко разнеслось в помещении мастерских, и принц Ольденбургский легко зашагал в сопровождении мастера между деятельно жужжащими станками. Иногда он останавливался у станка и спрашивал у мастера, кто, что и для чего делает, каждый раз получая толковый умиротворяющий ответ. Настроение улучшалось. Хотелось жить и работать. А главное – эти прекрасные, сосредоточенные лица рабочих, которые без тени подобострастия или жульничества продолжали работать даже тогда, когда он останавливался возле их станков. Поблагодарив рабочих за службу, Александр Петрович уселся вместе со свитой в машину и поехал дальше, осматривать другие заведения местечка.
– Выключай станки, – сказал мастер, проследив в окно за удаляющейся машиной. Часть станков, ненужных для дела, тут же выключили. Было замечено, что принцу нравится, когда работают все станки.
Взбодренный ремонтными мастерскими, Александр Петрович катил по чистому, как стеклышко, гагринскому шоссе. И вдруг недалеко от полицейского участка машина остановилась как вкопанная: посреди дороги валялся разбитый арбуз. Главное, что полчаса назад, когда они здесь проезжали, ничего такого не было и уже кто-то успел нагадить.
Принц Ольденбургский медленно багровел. Услышав, что машина остановилась, от полицейского участка, стуча сапогами, бежал помощник начальника полиции. Адъютант и свита несколько ожили и задвигались на сиденье в ожидании развлекательной взбучки. Комизм положения усугублялся тем, что помощник начальника полиции бежал сзади по ходу машины. Поравнявшись с сидящим принцем, он остановился, так и не заметив разбитого арбуза.
– Что это? – Александр Петрович, вытащив палку, ткнул ею в сторону безобразия.
Обреченно косясь на палку, полицейский осторожно заглянул за радиатор:
– Арбуз, ваше высочество!
– Кто?! – взорвался принц.
– Не смею знать, ваше высочество!
– Убхать! – и палка, выбив струйку пыли, опустилась на мгновенно отвердевшую спину блюстителя порядка. Лимузин «бенц», брезгливо объехав безобразие, покатил дальше.
В то же утро за завтраком принц узнал о новых безобразиях. Как обычно, завтракая, он просматривал свежую почту. Письма, требующие безотлагательного ответа, складывались в аккуратную стопку, остальные отбрасывались в ворох никчемных или не требующих быстрого ответа.
Внимание Александра Петровича задержало письмо одного очень богатого помещика, недавно отдыхавшего в Гаграх в течение двух месяцев. Помещик писал, что скучает по этому райскому уголку, созданному руками принца, что Гагры снятся ему по ночам и он прямо не находит себе места в родовом имении.
Александру Петровичу, с одной стороны, было приятно впечатление, произведенное его детищем на этого видавшего все, пресыщенного эпикурейца, но, с другой стороны, ему хотелось, чтобы Гагры внушали таким людям более созидательные мысли, а не эти сентиментальные вздохи.
Вот чудак, думал принц, сделай у себя то же самое – и не будешь скучать. Так и не решив, напомнить ему об этом или не стоит заводить с ним переписку, Александр Петрович бросил его письмо между ворохом никчемных и стопкой безотлагательных.
Дальше шло письмо от студента Дадиани, родственника по грузинской линии. Родственник был так себе, десятая вода на киселе, но он был в числе тех, кому принц помогал. Александр Петрович помогал бедным студентам из хороших дворянских семей.
В почтительных тонах студент напоминал о помощи, но само письмо было написано без единого ятя, от чего почтительный тон превращался в утонченное издевательство. Письмо было скомкано и отброшено – и сюда проникла социал-демократическая зараза!
– Ни копейки мехзавцу!
Управляющий легким поклоном-кивком дал знать, что распоряжение, и притом не без личного удовольствия, принято к сведению.
Еще одна корреспонденция остановила внимание принца. Это была копия телеграммы инженера Бартмера дирекции компании, в которой он служил. Инженер Бартмер жаловался на инцидент с бараками, впрочем абсолютно точно излагая факты. Это его право, подумал принц, откладывая телеграмму.
– Ваше высочество, – проговорил управляющий, – телеграфист спрашивает, передавать телеграмму или нет?
– В пределах Российской империи, – строго ответил принц, – каждый имеет право телегхафиховать, куда он хочет и что он хочет.
Управляющий замер, чувствуя, что Александр Петрович сел на любимого конька.
– А если злоумышленник, ваше высочество?
– Даже если готовится покушение на особу царствующего дома, – страшным от вдохновения голосом проговорил принц, – он обязан, не останавливая преступной телегхаммы, вехноподданно упредить, известив об этом полицию.
«А как же быть с тайной переписки?» – подумал управляющий, но еще более замер, как бы потрясенный трагической красотой независимости российских законов.
Теперь управляющему предстояло доложить еще о двух безобразиях, что было особенно трудно, учитывая характер этих безобразий и высокое состояние принца. Но так или иначе доложить пришлось.
Первое безобразие состояло в том, что сегодня рано утром некий абхазец разбил голову сторожу гостиницы «Альпийская» у него же выхваченным из рук ружьем. Преступник, не оказавший сопротивления, был схвачен служителями гостиницы и отправлен в полицию вместе со своей лошадью. В свое оправдание он заявил, что сторож оскорбил его посредством непристойного звука, якобы нарочно изданного, когда абориген пил воду из источника около гостиницы.
Издавал ли сторож непристойный звук, и притом нарочно, чтобы оскорбить аборигена, было неизвестно, потому что сам он в бессознательном состоянии был отправлен в больницу, а других свидетелей нет.
Второе безобразие состояло в том, что ночью исчез один из трех черных лебедей, как раз любимец принца. По слухам, из парка в эту ночь раздавались пьяные голоса неизвестных людей, а сторож за день до этого был свален тропической лихорадкой.
– Узнать, кто знал, что сторож болеет, – приказал принц, но это ничего не дало, потому что все знали, что сторож заболел.
Принц приказал своему адъютанту на моторной лодке обойти море в окрестностях Гагр на случай, если лебедь просто улетел от преследователей. Иногда лебеди и сами улетали в море, но потом всегда возвращались.
Поиски лебедя на моторной лодке окончились безрезультатно. О пьяных ничего не было известно, кроме того, что на берегу пруда был найден ремень без опознавательных знаков, из чего можно было заключить, что пьяные, во всяком случае один из них, раздевшись, пытались поймать лебедя в самом пруду.
Не давая волю личным переживаниям, принц Ольденбургский непреклонно продолжал свой распорядок дня, приказав к одиннадцати часам привести преступника в парк, где он будет в это время рассматривать место ночного происшествия.
Исчезнувший лебедь обычно защищал молодого самца от наскоков старого вояки. Отчасти за эти рыцарские качества принц Ольденбургский его и любил. Он вообще очень любил все свое птичье хозяйство, но особенно выделял розового пеликана и этого исчезнувшего лебедя за красоту и благородство.
После массажей Картучихи, будь она неладна, и осмотра ремонтных мастерских кормление пеликанов было третьим по силе воздействия успокаивающим средством Александра Петровича.
Розовый пеликан все еще дремал на островке, а три черные лебедицы, из-за которых старый самец не давал покоя молодому, спокойно паслись в дальнем конце пруда. Судя по всему, поглощенный процессом вражды, старый самец забыл о ее причине. Сейчас он опять приближался к своему сопернику.
– Так и буду стоять, – пробормотал принц, снова отогнав самца и отряхивая свою палку.
– Уже ведут, ваше высочество, – как всегда, невпопад отозвался адъютант, кивнув на парковую аллею, в конце которой появились три фигуры – начальник полиции, переводчик канцелярии принца и преступный абхазец. Адъютант даже приподнял на груди бинокль и взглянул на эту группу из присущей ему, как считал принц, паразитической праздности. Бинокль остался у него на груди после бесцельных поисков пропавшего лебедя.
Александр Петрович не любил своего адъютанта, считая его шалопаем и бездельником. Он бы давно его выгнал, но, подозревая, что адъютант отчасти следит за ним и время от времени доносит на него в Петербург, нарочно из гордости продолжал оставлять его при себе.
Принц Ольденбургский подошел к свите и посмотрел вперед. Они приближались. Впереди шел, по-видимому, сам преступник – стройный молодой человек в черкеске и мягких азиатских сапогах. Одной рукой он придерживал перекинутый через плечо дорожный хурджин. Александр Петрович невольно залюбовался его упругой рысьей походкой.
Шагов за тридцать преступник оглянулся и спросил у переводчика по-абхазски:
– Кто из них сам?
– Тот, что с палкой, – тихо ответил переводчик.
– Я так и думал, – сказал молодой человек.
Молодой человек – увы, это был дядя Сандро – приостановился шагах в пяти от принца и, слегка поклонившись, пробормотал по-абхазски приветствие. На приветствие ему никто ничего не ответил, и он притих, стараясь умерить природную живость своих глаз, которая сейчас не без основания могла быть воспринята как признак дерзости, граничащей с нахальством.
Несколько секунд длилось неловкое молчание, потому что Александр Петрович почувствовал неудобство оттого, что судилище приходится производить стоя. В этом был какой-то непорядок, и он молча двинулся к скамейке, стоявшей в десяти шагах от него под олеандром. Все последовали за ним.
Наконец принц уселся, а свита, симметрично разделившись, стояла по обе стороны от скамейки.
– Как случилось? – спросил принц, сутуло наклоняясь вперед и исподлобья оглядывая дядю Сандро. Эта привычка придавала его позе грозную стремительность и внушала собеседнику необходимость идти к истине кратчайшим путем.
Дядя Сандро это сразу понял и, почувствовав, что кратчайший путь к истине будет для него наиболее гибельным, решил не поддаваться, а навязать ему свой путь к истине. Начало этого пути уже было заложено в полицейском участке, где он притворился не понимающим русского языка.
Переводчик перевел вопрос принца. Дядя Сандро благодарно ему кивнул за перевод и начал излагать свою версию происшествия. Принц Ольденбургский почувствовал, что дядя Сандро уклоняется от кратчайшего пути к истине, перебил его, ткнув палкой на хурджин.
– Что это у него там шевелится? – спросил он у переводчика.
Дядя Сандро закивал головой и стал развязывать хурджин. К великому удивлению окружающих и самого принца, он вытащил оттуда несколько придушенного и измазанного в собственном помете черного лебедя.
– Откуда? – встрепенулся принц и, легко вскочив на ноги, взял у него любимую птицу.
– Может запачкать, – предупредил дядя Сандро, но переводчик не осмелился перевести. – В подарок привез, – добавил дядя Сандро.
Принц Ольденбургский с лебедем в руках подошел к пруду и поставил его на воду. Лебедь несколько секунд скучно стоял на воде, но потом вдруг встрепенулся и с криком поплыл на середину пруда, раскатывая грудью треугольную рябь.
– Что ж ты сразу не сказал? – спросил принц, удивленно уставившись на дядю Сандро.
Наглое обаяние дяди Сандро начинало действовать на принца.
– Я это вез ему в подарок, но раз такое случилось, решил: пусть сначала накажут, а потом подарю, – ответил дядя Сандро.
– Что ж, благоходно, – кивнул принц, снова усаживаясь на скамейку. На самом деле дядя Сандро, увидев в пруду несколько черных лебедей, приуныл, решив, что у принца уже такое есть и находка его не представляет большой ценности.
– Где ты его нашел? – спросил принц, откидываясь на скамейке и доброжелательно оглядывая дядю Сандро, как бы разрешая ему несколько удлинить путь к истине. Дядя Сандро это сразу же почувствовал и, не скупясь на краски, рассказал историю поимки черного лебедя.
В то раннее утро дядя Сандро ехал верхом из Гудауты в село Ачандары, где он собирался погостить несколько дней у своего родственника в ожидании поминального пиршества, которое должно было состояться в соседнем доме. В наших краях сороковины устраиваются не очень точно, то к погоде прилаживаются, то еще какие-нибудь хозяйственные расчеты, так что дядя Сандро решил, что лучше не рисковать и подождать на месте, чем пропустить хорошие поминки.
И вот он едет по приморской дороге и вдруг видит, что недалеко от берега на воде сидит невиданная в наших краях черная птица с длинной шеей.
До этого он о лебедях Ольденбургского и слыхом не слыхал, хотя о самом принце наслышался, но не видел его ни разу.
Так вот дядя Сандро заинтересовался этой птицей и осторожно подъехал к самому берегу. Птица тоже заметила дядю Сандро и, может быть, даже заинтересовалась им, потому что, вытянув длинную шею, стала за ним следить. Дядя Сандро очень удивился этой странной встрече и решил пристрелить ее и принести родственникам на завтрак, если она не слишком воняет рыбой. По его словам, она была покрупнее хорошей индюшки.
Дядя Сандро, не слезая с лошади, вытащил свой «смит-вессон», прицелился и выстрелил. Птица стояла на воде метрах в тридцати от берега, но дядя Сандро в нее не попал. Но самое главное, что птица никуда не улетела, а только отплыла метров на двадцать, и не в глубь моря, а вдоль берега. Дядя Сандро слегка тронул лошадь и, поравнявшись с птицей, еще более тщательно прицелился и снова выстрелил. Опять не попал, а главное, птица никуда не улетела, а только проплыла вдоль берега, примерно на такое же расстояние. Дядя Сандро раззадорился и, снова поравнявшись с птицей, снова пальнул в нее. Опять не попал. То ли «смит-вессон» не брал на таком расстоянии, то ли птица была завороженная. Будь у меня, говаривал дядя Сандро, побольше патронов, так бы и пригнал ее в Гагры, потому что она все время отплывала в одну сторону. У дяди Сандро было всего пять или шесть зарядов, и, расстреляв их задаром, он пришел в такое бешенство, что решил вплавь пуститься за ней, раз уж она не улетает.
Недолго думая, он загнал в море своего рябого скакуна. До этого дядя Сандро в море его никогда не пробовал, но абхазские и мингрельские реки скакун одолевал хорошо.
Все же в море ему не понравилось, и он долго упирался. Дядя Сандро загнал его в воду. Как только конь поплыл, он сразу же сделался послушным, потому что упираться стало не во что. Проклятая птица подпускала его довольно близко, но, как только он подплывал, отходила, и опять же в сторону Гагр.
Или подранок, или наваждение, думал дядя Сандро, и хотя весь промок, но до того разгорячился, что не замечал холода, и, главное, конь, рассказывал дядя Сандро, уже как хорошая собака, напавшая на след дичи, сам рвался за ней, но все же догнать не мог.
Неизвестно, чем бы все это кончилось, если б, на счастье, они не вышли на мелководье. Почувствовав под ногами дно, конь припустил, а птица, рассказывал дядя Сандро, припустить не могла, потому, хоть шея у нее и была длиной с мою руку, ноги все же у нее были короткими, особенно против лошадиных. В последнее мгновенье она попыталась нырнуть, но дядя Сандро успел ухватить ее за черную задницу и приподнять над водой.
Дядя Сандро страшно замерз и разозлился на эту странную птицу, особенно после того, как, пощупав ее, убедился, что тело у нее твердое, как доска, и до индюшки ей далековато. Хотел он ей тут же размозжить голову, но вспомнил, что рядом, в Гаграх, живет принц Ольденбургский и от скуки покупает всякую всячину.
Может, купит, подумал дядя Сандро и, сунув птицу в хурджин, приторочил его к седлу и поехал в Гагры.
Часа через два дядя Сандро был в Гаграх. Одежда на нем кое-как обсохла, но все же он сильно продрог и очень хотел выпить, чтобы согреть кровь, но выпить было нечего и не на что.
В самих Гаграх он встретил одного абхазца и спросил у него, принимает ли еще принц всякую всячину.
– Если всякая всячина понравится, то принимает, – ответил абхазец.
Тогда дядя Сандро попросил отвести его к принцу. Но тот отказался, ссылаясь на то, что принц со вчерашнего дня не в духе.
– Что же случилось вчера? – спросил дядя Сандро, начиная раздражаться.
Тут абхазец этот радостно, но под большим секретом рассказал ему, что двери в бараках австрийских пленных до сих пор еще не прорубили и что принц из-за этого сильно серчает, особенно на инженера Бартмера, который считай что мертвый и не слишком ошибешься.
Дядя Сандро еще больше помрачнел, и тогда абхазец сказал, что в Гаграх живет один грек, который перекупает подарки принцу, а потом сам или через своих родственников преподносит ему.
– Дом построил на этом деле, – похвастался он своим знакомым греком и предложил свести его с ним. Дядя Сандро отказался. Тогда абхазец попросил показать ему подарок принцу, но дядя Сандро и тут отказался.
– Да так, пустячок, – сказал он.
– Учти, если орел, – сказал абхазец, оглядывая хурджин и стараясь угадать, что в нем лежит, – можешь его собакам отдать, орлов уже не принимает.
– Как же, орел, – сказал дядя Сандро, радуясь за свою птицу, – чуть не заклевал меня вместе с лошадью.
Тут абхазец двинулся дальше, и дядя Сандро, оставшись один, опять помрачнел.
– Так когда же они эти проклятущие двери прорубят?! – крикнул ему вслед дядя Сандро.
– Никто не знает! – радостно обернулся абхазец. – Одно могу сказать, за мильон рублей не хотел бы я быть инженером Бартмером.
Абхазец, махнув рукой, скрылся за углом, все еще радуясь, что он не инженер Бартмер.
Дядя Сандро поехал дальше. Он подъехал к гостинице «Альпийская» и увидел этого несчастного сторожа. Дядя Сандро спросил у него, нельзя ли ему увидеться с принцем Ольденбургским, которому он привез одну диковинку. Сторож ему на это ответил, что с принцем увидеться нельзя, и опять, как тот абхазец, стал ему рассказывать про ненавешанные двери и пленных австрийцев, хотя про инженера Бартмера ничего не сказал.
Можно себе представить, каково было дяде Сандро слушать все это во второй раз. К тому же сторож поинтересовался, какой подарок он везет принцу Ольденбургскому.
– Камень или животное? – спросил сторож.
– Уж, во всяком случае, не орел, – ответил дядя Сандро, еле сдерживая себя.
Видя, что из-за этих дурацких ненавешанных дверей ему не удастся свидеться с принцем, дядя Сандро, отчаявшись, спросил у сторожа, как найти того грека, который перекупает всякую всячину для принца. Сторож ему на это ничего не ответил, а только подозрительно посмотрел на него и сурово замкнулся, намекая на свою должность.
Дядя Сандро проглотил это оскорбление, но, чтобы сторож не подумал, что он его испугался, он слез с лошади и стал пить воду из фонтанчика, устроенного перед входом в гостиницу, хотя пить ему не хотелось.
Дядя Сандро, нагнувшись, сделал пять-шесть глотков из этого фонтанчика, как вдруг услышал непристойный звук, изданный гяурской задницей сторожа.
Ошеломленный странными гагринскими делами, еще до этого замученный птицей, дядя Сандро не выдержал. Он бросил свою лошадь, подскочил к сторожу, выхватил у него винтовку и дал ему прикладом по голове. Обливаясь кровью, сторож рухнул у своей гостиницы. Из гостиницы выскочили служители, схватили дядю Сандро и переправили его в полицейский участок.
Все это дядя Сандро рассказал принцу, по дороге отбрасывая ненужные детали и, наоборот, останавливая внимание на деталях полезных. Так он решил, что про «смит-вессон» и упоминать не стоит, тогда как расстояние от берега до черного лебедя смело увеличил до одной версты.
– Да как ты его разглядел с бехега? – удивился принц.
– У нас, у чегемцев, глаз острый, – скромно пояснил дядя Сандро.
Принц Ольденбургский выразительно посмотрел на адъютанта.
– Так он же возле Гудаут нашел его, – напомнил адъютант.
– А бинокль? – спросил Александр Петрович, на что адъютант ничего не смог ответить.
– Так, значит, – повернулся принц к дяде Сандро, – у всех чегемцев глаз острый?
– Да, – сказал дядя Сандро, не моргнув своим острым чегемским глазом, – у нас вода такая.
– Интересно, что за вода, – сказал принц Ольденбургский задумчиво, – надо будет снарядить человека за пробой…
Дядя Сандро ясным взором смотрел на принца, выражая готовность внести любые уточнения по поводу чегемских источников.
– Дарю тебе за любознательность и остроглазие, – сказал принц Ольденбургский и кивнул на бинокль адъютанта. Тот молча снял его и передал дяде Сандро. Дядя Сандро поблагодарил принца и повесил бинокль на шею.
– Ах ты, везунчик, – сказал переводчик по-абхазски.
Происшествие со сторожем дядя Сандро изложил как бы мимоходом, стараясь не портить хорошее впечатление от остального рассказа. Он сказал, что, проезжая мимо гостиницы, решил напиться и, когда, спешившись, стал пить воду из фонтанчика, сторож без всякого повода стрельнул в него задницей, что по абхазским обычаям считается страшным оскорблением. Вот он и не выдержал.
Дикарь, подумал Александр Петрович, но какое чувство собственного достоинства.
– Спроси, – кивнул он своему переводчику, – откуда он знает, что сторож хотел его этим оскорбить?
– А там больше никого не было, – ответил дядя Сандро.
Свита рассмеялась. Принц нахмурился: не вполне законная симпатия к этому молодому человеку начала передаваться свите.
– А если сторож умрет? – спросил принц, стараясь постигнуть психологию поступка молодого аборигена.
– Значит, так у него на роду написано, – ответил дядя Сандро и для полной ясности постучал указательным пальцем себя по лбу.
– Тогда мы тебя сошлем на каторгу, – сказал принц, все еще пытаясь раскрыть перед его сознанием, упрямо отказывающимся рефлектировать, всю трагическую нелепость его поступка.
– Знаю, в Сибирь, – поправил его дядя Сандро и добавил: – Значит, так суждено.
– Ну, а если у него это нечаянно получилось? – не унимался принц.
– Он должен был сразу же, пока я еще не успел оскорбиться, сказать: «Не взыщите, нечаянно!» – радостно ответил дядя Сандро, показывая, что при отсутствии злого умысла всегда можно найти общий язык.
Принц Ольденбургский задумался. Дядя Сандро, почувствовав, что допрос, по-видимому, кончился, вывернул свой хурджин и, присев у пруда, стал его обмывать.
«Дикарь, но как свободно держится, – думал Александр Петрович, – крепостного рабства не знали, вот в чем дело…»
В это время по парковой аллее в кресле-коляске, запряженной осликом, тряся сухонькой головкой, проехала принцесса Евгения Максимилиановна. Ослика вел под уздцы казак. Другой казак придерживал коляску сзади. Свита поклонилась. Ничего не замечая, принцесса проехала, как страшный сон.
– А это еще кто? – тихо спросил дядя Сандро у переводчика при виде такого странного зрелища.
– Его жена, – так же тихо ответил переводчик.
– Ну и жена, – вздохнул дядя Сандро, жалея принца.
– Ваше высочество, как быть с этим? – спросил начальник полиции, почувствовав, что дальше занимать время принца неприлично и опасно.
– Если сторож придет в себя, отпустить, а если что, будем судить, – сказал принц.
Дядя Сандро вместе с переводчиком и начальником полиции пустился в обратный путь. Сейчас спутники дяди Сандро едва поспевали за ним, ему хотелось догнать коляску и еще раз посмотреть в лицо страшной принцессы.
Начальник полиции туго обдумывал слова принца, стараясь вникнуть в их подспудный смысл, угадать, нет ли ловушки, тайного испытания. Он почувствовал, что преступник чем-то понравился принцу, иначе он не стал бы дарить ему бинокль, но, с другой стороны, ему же, принцу, в угоду надо было неукоснительно выполнять законы.
– Рабства не знали, вот в чем положительная особенность абхазов, – многозначительно сказал принц, обращаясь к свите. Свита вздохнула, и на некоторых лицах даже как бы появилось выражение некоторой запоздалой вины за слишком долгое крепостное рабство в родной стране.
С пристани раздался звук шомпольной пушки, возвестившей законный полдень. Принц Ольденбургский покосился на свиту. Свита подчеркнуто замерла, выражая полное доверие к точной работе шомпольной пушки. А раньше, бывало, как только ударит пушка, кто-нибудь нет-нет и посмотрит на часы, словно надеясь, что пушка вдруг ошибется. Но пушка не могла ошибиться, потому что была связана электрической проводкой с башенными часами.
В двенадцать часов начинался перерыв на всех рабочих предприятиях Гагр. Кроме того, это было время кормления пеликанов и цапель.
Услышав выстрел, розовый пеликан бросился в воду и теперь ракетными толчками пересекал пруд.
Через несколько минут у пруда появился боцман пристани с мокрым сачком, наполненным ставридой. Принц Ольденбургский требовал для кормления пеликанов самой свежей рыбы, поэтому боцман всегда держал про запас сачок, наполненный рыбой и опущенный в море. Такая рыба, по крайней мере, в течение суток была похожа на свежевыловленную.
Увидев боцмана, пеликан, выходя из воды, клокотнул и, расправив огромные крылья, словно прикрывая беговую дорожку от возможных соперников, побежал к нему. Как пеликан ни спешил, а все-таки остановился на краю аллеи, там, где кончался зеленый дерн, – знал, дальше не положено. За пеликаном более сдержанно приковыляла пеликанша, а там и вовсе скромно, не доходя до границы аллеи, остановились цапли.
Птицы лучше иных людей усваивали порядок, который с такой энергией насаждал принц Ольденбургский. Птицы и рабочие ремонтных мастерских, и потому он тех и других любил больше всех.
Началось кормление. Александр Петрович вынул из сачка крупную ставриду и бросил ее пеликану. Разинув свой чудовищный клюв, пеликан с ловкостью собаки на лету подхватил добычу. Мгновенье было видно, как рыба, скользя, проваливается по желобу нижней челюсти. Пасть захлопнулась с полноценным звуком одернутого зонта. Александр Петрович бросил рыбу пеликанше. Тот же благородный костяной звук с металлическим оттенком, только зонт поменьше. Так повторялось много раз, и пасти пеликанов перещелкивались, прихватывая рыбу.
Иногда Александр Петрович нарочно подбрасывал обезглавленные экземпляры ставриды, и оба пеликана гневным движением так и не раскрывшихся клювов отменяли попытку подсунуть им неполноценную добычу. Обезглавленная рыба каждый раз определялась безошибочно и на лету, вызывая горестное восхищение Александра Петровича. О, если бы правители России и ее народы так же точно подхватывали полноценные идеи и отбрасывали порочные!
Наконец пеликаны наелись. Самка отошла, а самец, расправив мощные крылья из розового мрамора и выставив вперед первобытный клюв, застыл в позе неведомого герба. С остатками рыбы, в том числе и обезглавленной, скромно расправлялись цапли.
Александр Петрович почувствовал, что к нему возвращается гармоническое состояние.
– Поехали поглядим, как поубили двеи в бахаках, – обратился он к свите, вытирая руки чистым полотенцем, поданным боцманом пристани.
Усаживаясь в машину рядом с кожаным шофером, он подумал: если все будет хорошо, после обеда зайду к Картучихе. В сущности, думал он, это не будет нарушением собственного приказа. Ведь приказ пребывать под домашним арестом, до конца которого оставалось два дня, никак не оговаривал ежедневные массажи. Массажи он отменил ввиду личной немилости, хотя сам же от этого и страдал.
– Пеедай, буду после обеда, – сказал он адъютанту, усевшись рядом с шофером и тем самым останавливая его попытку влезть в машину. Надо было показать, что его бездарный объезд залива в поисках черного лебедя не остался безнаказанным. Адъютант придал лицу кающееся выражение, хотя был рад, что ему не придется топтаться возле этих вонючих бараков.
Лимузин «бенц» ехал в сторону ущелья Жоэквары. Редкие прохожие, останавливаясь, смотрели на экипаж принца и на самого Ольденбургского. Он сидел, откинувшись назад, как бы полностью доверяясь стремительности мотора и потому давая отдохнуть собственной стремительности. Рука его, зацепившись большим пальцем за крючок мундира, лежала на груди. Сейчас загнутая ручка его знаменитой палки висела на его костистом запястье – верный признак ясного состояния духа.
Через полчаса веселый абхазец, встретивший утром дядю Сандро, потерял свой мифический миллион – инженер Бартмер был прощен ввиду того, что последняя дверь в последнем бараке (приказ: по фасаду через три окна) ко времени приезда принца была навешена.
В шестом часу вечера огромная спина принца принимала заслуженную дозу блаженства. Принц лежал в спальне Картучихи на низкой тахте, уютно продавленной за многие годы его большим телом. Картучиха работала над ним, как истосковавшийся арендатор над своим участком. Александр Петрович засыпал. Последние волны блаженства стекали к ногам и подымались к затылку. Картучиха прикрыла его легким одеялом и тихо вышла из спальни.
Через минуту, хлопнув калиткой, она шла по улице к соседу турку-кофевару якобы для покупки кофе. На самом деле она хотела показать людям, что полоса великого гнева сменилась на милость. Хотя принц Ольденбургский и не отменял своего наказания, она знала по опыту, что спина Александра Петровича, вкусившая массаж, сама похлопочет за нее и в конце концов смягчит суровую точность его приказа.
На улице Картучиха встретила санитара, бежавшего из больницы в полицейский участок.
– Куда бежишь, Серафим? – спросила Картучиха, останавливая его.
– Сторож очнулся и попросил водицы, – сказал санитар, обалдело оглядывая ее, – бегу в полицию.
– А-а, – сказала Картучиха, – давай беги.
И санитар припустил дальше. Услышав сообщение санитара, заместитель начальника полиции, точно исполняя приказ своего начальника, лично открыл камеру, в которой сидел дядя Сандро, и выпустил его, сказав при этом:
– Катись к едреной матери, пока сторож в сознании. Моя бы воля…
В чем заключалась его воля, дядя Сандро так и не узнал, хотя догадывался, что она ему ничего хорошего не сулила. Он поспешно вывел свою лошадь из полицейской конюшни и выехал на улицу.
В тот раз дядя Сандро так и не попал на поминальное пиршество в селе Ачандара, потому что, не слишком надеясь на здоровье сторожа, решил не рисковать и ехать к себе в Чегем. Бинокль, болтавшийся у него на груди, приятно тяжелил ему шею, напоминая об удивительной встрече с удивительным принцем Ольденбургским.
Остается сказать, что после революции принц Ольденбургский переехал в Финляндию, где, по слухам, занимался цивилизацией некоего местечка, которое по доброй старой памяти назвал Новыми Гаграми. Продолжил ли он свои опыты, надеясь на скорое падение советов, или просто деятельная его натура ни в чем не терпела застоя, остается неизвестным. О дальнейшей его судьбе ни мне, ни владельцу великолепного бинокля ничего не известно.
– Он хотел людям хорошего, – говаривал дядя Сандро, вздохнув, – но среди людей немало сукиных сынов оказывалось…
Игроки
Третьи сутки в большом зале особняка известного табачника Коли Зархиди шла большая игра.
Играли в нарды. В эту ночь трижды менялись свечи в подсвечниках, и постепенно играющие отпадали, переходили в более укромные уголки, где, попивая вино, перекидывались в карты на небольшие ставки. Некоторые толпились у низенького столика посреди залы, как бы составляя кордебалет при двух основных солистах – хозяине дома и эндурском скотопромышленнике.
Дядя Сандро знал Колю Зархиди, потому что тот покупал табак у его отца и, кроме того, сам держал несколько плантаций в селе Чегем, как и в некоторых других селах. Летом в доме дяди Сандро нередко гостили родственники Коли Зархиди, особенно те, кого донимала всесильная в те времена колхидская лихорадка. Бывал там и Коля.
Дядя Сандро, приезжая в город, обязательно захаживал к своему высокому кунаку, ценившему в нем легкость на ногу, когда дело касалось опасных приключений, и твердость в ногах при питье.
Коля Зархиди, несмотря на свой солидный авторитет крупного табачника, был известным в Абхазии кутилой и игроком. Вернее даже сказать, что Коля Зархиди, несмотря на то что был известным кутилой и игроком, все же не терял наследственного чутья торговца и знатока табаков.
Игра эта готовилась давно. Среди собравшихся было несколько тайных союзников скотопромышленника и еще больше не слишком тайных друзей Коли. Среди них на первом месте был дядя Сандро, заранее предупрежденный и приглашенный Колей. В таких играх мало ли что может быть, надо быть готовым ко всему.
Коля Зархиди рассчитывал сорвать с этой игры большой куш. Но провидению было угодно другое. Третьи сутки с небольшими перерывами маленький бледный грек сидел против разлапого, широкоплечего скотопромышленника с зоркими под лохмами бровей глазами умного кабана.
Удачливый Коля на этот раз проигрывал. Если ему удавалось взять «оин», скотопромышленник отвечал «марсом», то есть двойным выигрышем. Скотопромышленник играл смело и раскидисто, открывался и давал бить свои фишки. Пленные фишки неожиданно взрывали оборону грека и сами, в конце концов, пленяли и растаскивали его камни.
Четырежды грек менял кости, но ничего не помогало, они ложились так, как хотел скотопромышленник. Он был в ударе и каждый раз из дюжины возможных комбинаций почти безошибочно выбирал наиболее надежную для продолжения партии. Так, бывало, в стаде нежноглазых телят он угадывал и метил самого мощного в будущем, самого крутолобого производителя.
Кроме того, ему везло, как везет всем скотопромышленникам в мире. А ничто так не обостряет способности, не вдохновляет, как везение, и ничто так не способствует везению, как вдохновенная игра.
За эти трое суток между партнерами произошло несколько неприятных стычек в связи с оценкой некоторых плантаций, но все обошлось благополучно, потому что в качестве третейского судьи в эту последнюю ночь был приглашен персидский коммерсант Алихан, как представитель солидной нейтральной нации.
Алихан держал в городе кофейню-кондитерскую под названием «Кейф», где продавались восточные сладости собственного изготовления, горячительные и прохладительные напитки и, конечно, кофе по-турецки.
После того как все плантации были проиграны, Алихану предложили уйти домой, но он почему-то остался и стал помогать юной хозяйке, любовнице табачника, варить кофе и подавать гостям. Эту сонную толстушку, волоокую красавицу по имени Даша, Коля Зархиди увел, вернее, как бы одолжил у своего приятеля, гарнизонного офицера, такого же кутилы, как и он. Даша ему давно нравилась, может быть, он даже влюбился бы в нее, если б у него было больше времени. Но времени у Коли не было, и потому однажды ночью, когда Коля с друзьями возвращался на фаэтонах после одного из загородных кутежей (Даша вместе с офицером ехала с ним в одном экипаже), он спросил у офицера:
– Что скажешь, если Даша поедет со мной?
– Скажу «уф», – ответил офицер.
Даша была родом из Екатеринодара, куда офицер этот, возвращаясь из отпуска в Россию, заехал погостить к своему товарищу. Почти в шутку, смехом, он тайно увез ее из дому, обещая показать ей Москву и там жениться на ней.
Только в Туапсе, увидев море, Даша догадалась, что они едут не в Москву, а даже в противоположную сторону. Даша встала, чтобы выйти из дилижанса, на котором они катили вдоль моря, но дилижанс шел слишком быстро, к тому же в нем были чужие люди. Даша постеснялась чужих людей, вздохнула и села на место. Через два дня, уже подъезжая к Мухусу, она успокоилась и сказала, что море ей напоминает степь, только по степи можно ходить, а по морю нельзя.
Офицер этот жил с нею четыре года, случалось, бивал ее плеткой, чтобы вызвать в ней интерес к жизни, или добраться до ее спящей души, или, по крайней мере, хотя бы отучить ее рассказывать по утрам сны, бесконечные, как степные дороги с однообразными вехами эротических миражей.
Он считал, что терпит Дашу в ожидании удачной женитьбы, когда он сможет вырваться из армии, из Кавказа, из этой малярийной дыры и богатого убожества провинциальных кутежей. Но удачная партия здесь никак не подворачивалась, а в Москве не хватало отпускного времени и полезных знакомств. За время гарнизонной службы он достаточно окавказился, чтобы разделять застолье местных табачников, но не настолько, чтобы кто-нибудь из них захотел вступить с ним в родство и отделить ему часть своих накоплений или тем более взять его в компаньоны.
На легких кавказских хлебах Даша расцвела и, как свойственно славянской натуре, быстро приспособилась к чуждым формам блаженства. Она принимала участие в кутежах своего возлюбленного, волнуя застольцев юным обилием и сонным цветеньем.
Но больше всего она любила пить кофе по-турецки, запивая его знаменитым лимонадом братьев Логидзе. Она научилась гадать и, выпив кофе, переворачивала чашку, давая стечь кофейной гуще, потом заглядывала в нее. Показания кофейной гущи она сопоставляла с картинами своих снов, соединяла их, мысленно прочерчивая кривую судьбы.
– Чтой-то будет, – вздохнув, говорила она, закончив гадание.
Показания кофейной гущи, подстрахованные снами, в самом деле сбывались, потому что в жизни всегда что-нибудь случается.
Так и теперь, услышав разговор своего возлюбленного с Колей, Даша поняла, что сбывается то, что должно сбыться, и промолчала. Она только закусила губу от смущения и крепче повязала на шее платок, как бы почувствовав на лице дуновенье судьбы. Вместе с тем она обиделась на своего возлюбленного за его ответ-выдох и с покорной грустью поняла, что никогда ему этого не сможет простить.
С этого мгновения ее мерцающее сознание обратилось на Колю. Она вспомнила, что маленький порывистый грек ей нравился всегда, она испытывала к нему почти материнскую нежность. Только от его мельтешенья у нее, бывало, рябило в глазах, бывало, все ей хотелось как-нибудь угомонить его, да она не знала, как это сделать. И в том, что ей и раньше хотелось угомонить Колю Зархиди, Даша разгадала давний намек судьбы и окончательно успокоилась. Она стала думать, как запутает его обволакивающей нежностью, запеленает ласками, замурлыкает. «Небось угомонится», – думала она, заранее стараясь не пропустить, а главное, не забыть новые сны, которые она увидит на новом месте.
Рано утром, пока Даша старательно спала на новом месте, Коля встал (выпутался-таки) и, как обычно, ушел в кофейню, где за хашем, чачей и турецким кофе опохмелялся и получал свежую коммерческую информацию.
Коля ушел, но многочисленная родня его оставалась дома. И когда мать зашла в его спальню, куда она обычно заходила по утрам, чтобы прибрать ее и по запахам определить, где кутил ее сын и сколько он выпил, и вдруг обнаружила в постели сына женщину, старуха завопила. Этого еще не бывало, чтобы ее единственный сын, Коля Зархиди, приводил русскую женщину в честный греческий дом. На шум сбежалась родня, дюжина кривоногих и патриархальных приживалок.
Даша проснулась и попыталась привстать, спросонья улыбаясь улыбкой гимназистки, вспоминающей свой первый школьный бал. На самом деле она старалась вспомнить сны этой ночи. Выражение лиц и шум, поднятый женщинами, постепенно привели Дашу к враждебной яви. Она сделала еще одну попытку привстать и даже в самом деле села на постель, удивленно оглядывая женщин и вслушиваясь в их враждебное лопотанье.
– А мы с Колей решили, – начала было она, всплеснув одеялом, и вдруг забылась, обдав женщин сладостной чумой наспанного греха.
– Дьяволос! – закричали они и, путаясь в дверях ногами, ринулись из комнаты.
В тот вечер в доме Зархиди собрались на семейный совет все родственники, среди которых было немало почтенных коммерсантов. Взрослые замужние сестры Коли неистовствовали, как голодные тигрицы. Во время совета они несколько раз рвались в его спальню, где дожидалась своей участи Даша, чтобы избить ее. К счастью, мужья вовремя перехватывали их и оттаскивали назад с добровольно преувеличенным усердием.
Успокоившись, сестры предложили объявить Колю сумасшедшим и на этом основании взять над ним опеку. Но этот способ уже тогда опытным людям казался устаревшим, потому что почтенные коммерсанты стали возражать. Они утверждали, что этим немедленно воспользуются другие табачники, чтобы подорвать его коммерческое имя. Матери тоже было обидно объявлять Колю сумасшедшим, и она не поддержала дочерей.
Сам Коля откровенно и нагло смеялся над родней, потому что был уверен в своем главном козыре: он был единственным сыном своего отца, и было никак невозможно продолжить славный род Зархиди, не прибегнув к его услугам, притом добровольным.
В конце концов по совету старейшего родственника решили подождать, пока Даша надоест Коле, потому что, как он пояснил, всякая женщина надоедает мужчине, если у него ее не пытаются отобрать.
Поджав губу, мать скорбно согласилась с этим решением, но сестры требовали, чтобы Коля точно сказал, когда она ему надоест.
– Откуда я знаю! – кричал Коля, весело размахивая руками.
Сестры уходили, бросая гневные взгляды на дверь, за которой ждала своей участи Даша. Мужья их, завидуя Коле, задумчиво медлили на мраморной лестнице.
Решение ждать, пока Даша надоест Коле, оказалось роковым. Все получилось наоборот – тихая, сонная Даша выжила из дому дюжину воинственных и шумных гречанок.
Как и во всяком южном доме, в особняке Коли с утра начиналась бешеная деятельность. Многочисленная родня хваталась с утра за веники, шваркала половыми тряпками, грохоча ведрами, бегала за водой. Все эти приживалки, под зычным руководством матери Коли, скрипели базарными корзинами, стучали столовыми ножами, соскребали нагар с подсвечников и налеты органических окаменений с мидий, перерывали горы риса, выискивая порченые зерна, переругивались с продавцами фруктов, на своих осликах въезжавших во двор особняка, выбрасывали на окна и балконы и тут же колотили палками ни в чем не повинные матрацы, шушукались с греческими свахами, постоянно ждали неведомых гостей, с ужасом прислушивались к вестям из России, где, по слухам, рабочие не только греческих коммерсантов, собственного царя не пощадили, оставив его с женой и детьми без куска хлеба.
И что же? Посреди этого могучего жизнеутверждения семейственности, очаголюбия ходила сонная волоокая женщина, шлепая по мокрому полу босыми ногами, пытаясь рассказывать свои степные сны, непонятные и ненужные, как валенки киприоту.
И эта женщина завладела сердцем единственного мужчины, продолжателя славного рода Зархиди?! Где справедливость, где божественный промысел?! Поистине боги отвернулись от Греции и от каждого грека в отдельности.
Однажды за обедом Даша отказалась есть плов с мидиями.
– Зачем? – кротко спросила свекровь поневоле.
– Они противные, они как улитки, – сказала Даша, не подозревая, что улитки еще более национальное блюдо, чем плов с мидиями. Во всяком случае, для черноморских греков.
– Борщ лучше? – все с тем же кротким любопытством спросила Колина мама. Приживалки, вытаращив глаза и стараясь не шуметь челюстями, глядели на Дашу. Надвигалась гроза, но Даша не понимала.
– Конечно, – сказала Даша, – маменька готовила такой борщ…
– Езжай маменька, деньги дам, – ласково предложила мать Коли.
– Мне нельзя, – вздохнула Даша, – меня папенька убить могут…
– Зато мине можно, – внятно сказала старуха и встала из-за стола. Смертельно перепуганные приживалки последовали за ней.
В тот же день небольшая траурная процессия во главе с матерью Коли Зархиди вышла из особняка, прошла по городу и скрылась в доме одной из сестер Коли. Правда, в доме оставалась преданная служанка, которой старуха наказала следить и следить за этой русской дьяволос, мечтающей разорить сына на радость конкурирующим табачникам.
Она была уверена, что офицер этот, купленный табачниками, подсунул Дашу ее бесхитростному сыну. Исподволь, через верных людей она стала выяснять, сколько получил офицер за свою операцию, чтобы не слишком переплатить, когда она попытается откупиться от Даши. Говорят, они встречались, но свидетелей при этом не было, поэтому точно ничего не известно.
А Даша целыми днями в халате с короткими рукавчиками сидела на балконе особняка, поглядывая на улицу, прихлебывая кофе и запивая каждый глоток знаменитым лимонадом братьев Логидзе. Если по улице проходил кто-нибудь из знакомых, Даша окликала его и спрашивала:
– Колю не видел?
– Видел, в кофейне, – обычно отвечал прохожий.
– Гони его домой, – обычно наказывала Даша, прихлебывая кофе.
Если прохожий отвечал, что не видел Колю, Даша не огорчалась.
– Гони, если увидишь, – просила Даша, тут же забывая о человеке, с которым только что говорила. А тот, бывало, стоял, переминаясь, чего-то ожидая, и, наконец вздохнув бог знает о чем, шел дальше своей потускневшей дорогой.
Так обычно она проводила свои дни, если не возилась во дворе особняка, где она разбила грядку подсолнухов между благородными лаврами, посаженными еще отцом Коли.
Однажды, когда Даша, как обычно, сидела на балконе, попивая кофе, к особняку верхом на лошади подъехал ее бывший возлюбленный. Он остановил лошадь, поднял голову и сказал:
– Высоко забралась, Дашка?
– Мне не то обидно, что бил, – ответила Даша, продолжая держать в руке чашку с кофе и ложась грудью на перила балкона, – а то обидно, что ты сказал «уф».
– Погуляла, и хватит, – примирительно посоветовал офицер, – вон и мамаша его от тебя сбежала.
– Я теперь Колю люблю, – ответила Даша, – а морских улиток я не могу уважать…
Уже начиная раздражаться, офицер начал уговаривать ее, переходя от любовных воспоминаний к угрозам и наоборот. Даша тихо слушала его, положив голову на перила, высунув неуклюжую полную руку, и скапывала из чашки остатки кофейной гущи, стараясь попасть ими в шевелящееся ухо лошади. Наконец попала. Лошадь, гремя уздечками, замотала головой.
– Значит, не хочешь? – спросил офицер. Даша, все еще лежа щекой на периле, тихо покачала своей волоокой кудлатой головой.
– Видно, мало я тебя лупцевал, Дашка, – крикнул офицер и, ударив лошадь плетью, галопом помчался в сторону моря.
– Видно, мало, – повторила Даша и заплакала, продолжая лежать щекой на периле, так и забыв убрать руку с запрокинутой чашечкой в ладони.
Так Даша навсегда осталась у беспутного Коли Зархиди. В тот вечер самая старшая из Колиных сестер пыталась ворваться в особняк, чтобы собственноручно рассчитаться с Дашей. К счастью, Коля оказался дома. Он закрыл парадную дверь на цепочку, но та ворвалась в дом через вход со двора. Коля едва успел ее перехватить. В виде жалкой отместки она сломала все подсолнухи на Дашиной грядке, чем сильно огорчила ее. В тот же вечер Коля собственноручно заколотил дверь, ведущую во двор, и велел Даше не открывать парадной двери незнакомым людям, пока не посмотрит на них с балкона.
– Я и так всегда на балконе, – сказала Даша.
Дней через десять после посещения Даши застрелился офицер, ее бывший возлюбленный. Все это время он беспробудно пил, но в то утро, по словам денщика, был спокоен и абсолютно трезв. Сидя за своим столом и глядя в зеркало, он тщательно побрился и велел денщику принести полотенце, вымочив его в горячей воде. Денщик принес полотенце, помог ему сделать горячий компресс, после чего офицер отдал ему полотенце и сказал:
– Спасибо, братец.
Унося полотенце, денщик оглянулся и увидел, что офицер, боком глядя в зеркало, как если бы бритвой выравнивал висок, осторожно поднес к нему пистолет, посмотрел в зеркало и выстрелил. Некоторые говорили по этому поводу, что это тихий случай белой горячки, другие говорили, что тут замешана какая-то женщина.
Интересно, что о Даше никто не подумал, потому что все знали о том, как он к ней относился и как лихо сказал «уф», когда отдавал ее греку.
Денщик, допрошенный с пристрастием, повторил то же самое, только признался, что офицер перед выстрелом не говорил ему «спасибо, братец», а что это он сам придумал для красоты несчастья.
Начальник гарнизона, посылая рапорт по этому случаю, писал, что офицер наложил на себя руки во время очередного приступа тропической лихорадки, тем самым облагородив версию о белой горячке.
Так обстояли дела и жизнь к тому времени, когда маленький стройный грек и грузный эндурец насмерть уселись посреди залы за низеньким игральным столиком.
Игра продолжалась. Бледные лепестки огня на свечах вздрагивали, когда скотопромышленник, тряхнув в ладони, бросал на доску щебечущие кости и бил этой же ладонью по груди, словно давая клятву верности.
Два маленьких кубика, бешено вращаясь, прокатывались по лакированному днищу игральной доски.
– Щащь-бещь!
– Иоган, прошу!
– Ду-се!
– Иоган, прошу, да?!
– Чару-се!
– Ду-як!
– Иоган, прошу как брата!
– Дорт-чар!
– Иоган-раз! Иоган-два! Иоган-три! Иоган-четыре!
Удары передвигаемых фишек, особенно когда ложились на битые, щелкали, как бичи надсмотрщиков. В голосе Коли, когда он называл выпавшие кости или выкликал желанные, слышалось вибрирующее отчаяние. Скотопромышленник, как выигрывающий, играл шумно, фамильярничал с судьбой, с хохотом, с прибаутками выкликал свои кости, что нервировало грека и давало эндурцу дополнительный психологический перевес.
– Щащи-бещи! – говорил он. – Снимай вещи!
– Ду-бара-дубринский, – сообщал он, – танцует по-лезгински!
Коля Зархиди продолжал проигрывать. Плантации и два табачных склада остались позади. Уже был пущен в ход особняк, и его, партию за партией, крупными ломтями, как рождественский пирог, пожирал эндурский скотопромышленник.
Светало. Дядя Сандро нервно прохаживался по зале. Он искал выхода из создавшегося положения и не мог найти. Двое из гостей, переглянувшись, тихо вышли. Дядя Сандро догадывался, что эти люди связаны с другими табачниками, которые кровно заинтересованы первыми узнать окончательный исход игры. Надо было спасать Колю, надо было остановить игру и повернуть ее вспять, но как это сделать, сохранив приличие?
От избытка энергии дядя Сандро заглянул в кухню, где персидский коммерсант, сдержанно горячась, что-то доказывал Даше. Из соседней комнаты доносилось тихое надгробное песнопенье служанки, запертой там Колей, чтобы она не шпионила за ним и не вмешивалась в игру.
Дяде Сандро показалось, что персидский коммерсант уже уговаривает Дашу бежать с ним. Во всяком случае, при виде дяди Сандро он замолк и пожал плечами, давая знать, что он ничего такого не говорил, а если что-нибудь такое и говорил, то может тут же взять свои слова обратно. При этом он опускал не по возрасту длинные ресницы, чтобы притушить настойчивый блеск в глазах, больше слов выдававший тайные старания хорасанского сластолюбца. Дядя Сандро молча вышел из кухни. Этого он не принимал всерьез, опасность была не здесь.
Дядя Сандро подошел к столику, чтобы проследить за очередной партией. Скотопромышленник, подняв голову, хозяйски оглядывал потолок залы. И вдруг, молча кивнув дяде Сандро, он показал рукой на один из углов, где от сырости слегка размыло роспись орнамента.
Казалось, новый хозяин пригласил мастера и показал ему, какие работы предстоит произвести. Дяде Сандро большого труда стоило сдержать себя. Он заставил себя углубиться в игру, тем более что Коля эту партию выигрывал.
Но когда скотопромышленник и эту партию повернул назад, поставив на место все свои битые фишки, да еще по дороге прихватил фишки противника, что неминуемо вело грека к очередному проигрышу, дядя Сандро не выдержал. Он схватил серебряный фруктовый нож, лежавший на столике, и с такой силой ударил его о столик, что нож сломался, и лезвие со свистом пролетело мимо головы скотопромышленника и ударилось о стену. Тот и ухом не повел. Он только провел ногтем большого пальца по выщербу, оставленному ножом на поверхности столика, и сказал:
– Лакировка…
Дядя Сандро заметил, что скотопромышленник чем больше выигрывал, тем наглее оглядывал Дашу. Принимая кофе из ее рук, прихлебывал, чмокал губами и, оглядев ее пышный бюст, двусмысленно хвалил:
– Хорош каймак, хорош…
На этот раз, когда Даша, собрав на поднос пустые чашечки, сонно удалилась на кухню, скотопромышленник подозвал одного из своих людей и что-то шепнул ему на ухо. Дядя Сандро все понял, но сделал вид, что ничего не заметил. Через некоторое время тот вернулся и подошел к скотопромышленнику. Дядя Сандро тихо прошел на кухню.
Даша, потупившись, стояла у плиты, а персидский коммерсант взволнованно ходил по кухне, время от времени взмахивая руками под давлением распиравшего его гневного, но безгласного монолога.
– Что случилось, Даша? – спросил дядя Сандро.
– Они зовут меня в Эндурию; они говорят, что Коля теперь нищий, – сказала Даша, задумавшись.
– Что за нац?! – всплеснул руками персидский коммерсант и посмотрел на дядю Сандро, взглядом призывая закончить его возмущение своим действием.
– А ты что? – спросил дядя Сандро.
– Я что? Я как Коля скажет, – ответила Даша.
– Что за нац?! – снова всплеснул руками персидский коммерсант, выслушав Дашу и тоном показывая, что он на этот раз в свое восклицание включает более широкий круг народов.
– Пока у вас есть я, не бойся, Даша, – сказал дядя Сандро загадочно и вышел из кухни.
Неизвестно, что бы придумал дядя Сандро, если бы в это раннее утро Даша еще раз не вошла бы в залу с дымящимся подносом. Увидев ее, скотопромышленник вдруг откинулся на стуле, отставил ногу и, улыбчиво глядя на Дашу, неожиданно пропел:
- Базар большой, народу много.
- Русский девушка идет,
- Давай дорога.
– Поет! – громовым голосом воскликнул дядя Сандро и, как выпущенный из пращи, вылетел из залы. В зале вдруг замолкли все звуки. Стало слышно, как работают в столовой фамильные часы, а из комнаты служанки донеслось надгробное песнопение.
Все почувствовали, что в воздухе запахло смертельной опасностью. Скотопромышленник, в это мгновенье взяв кофе с подноса, осторожно приподнял чашечку. Сторонники грека и самого скотопромышленника, замерев, жадно следили за его рукой, ожидая, вздрогнет она или нет. Но не вздрогнула рука скотопромышленника, выдержали его буйволиные нервы. Он отпил кофе, облизнулся, поставил чашечку на столик и сказал, кивнув в сторону двери:
– За гитарой побежал…
Сторонники скотопромышленника приободрились.
– Сандро просто так ничего не делает, – не слишком уверенно заметил один из друзей грека.
Не успел он договорить, как в зал вбежал персидский коммерсант и закричал:
– Сандро подымается!
Почти одновременно послышалось усиливающееся цоканье металла по мрамору, бронзовый звук судьбы. Гости повскакали с мест, не зная, к чему готовиться, а маленький грек и скотопромышленник, не шевелясь, продолжали сидеть за своим столиком. И тут все заметили, что кровь стала медленно отливать от лица скотопромышленника, а посеревшее за трое суток лицо грека стало розоветь, словно они были связаны, как сообщающиеся сосуды, словно какой-то невидимый перепад давления погнал эту самую общую кровь в обратном направлении.
Античный звук ударов копыт по мрамору забытой доблестью пьянил душу маленького грека. И когда звук этот подошел к самым дверям, где все еще стоял персидский коммерсант, тот вдруг лягающим движением ноги распахнул обе створки и, как вспугнутый заяц, метнулся в сторону перед самой огнедышащей мордой коня.
Сдержанной рысцой дядя Сандро прогарцевал по зале, не сводя со скотопромышленника гневных выпуклых глаз. Дядя Сандро пересек залу и, сам открыв себе дверь, въехал в другую комнату.
– Играй! – крикнул Коля замешкавшемуся скотопромышленнику.
Тот вяло кинул кости, продолжая прислушиваться к удаляющемуся цоканью копыт.
– Что случилось, Коля?! – раздался истошный крик запертой служанки.
– Сандро лошадь прогуливает! – крикнул в ответ повеселевший Коля.
– Уехал? – спросил скотопромышленник, когда звук копыт замолк в одной из задних комнат.
Друзья грека радостно объявили ему, что Сандро уехать никак не мог, даже если бы захотел, потому что второй выход из дома Коля вынужден был заколотить из-за плохого поведения старшей сестры.
– При чем сестра, – сморщился скотопромышленник, и все почувствовали, что нервы у него сдают.
Дядя Сандро проехал по всем комнатам особняка. Выпростав ногу из стремени, он на ходу отбрасывал или отодвигал столы, стулья и все, что могло помешать свободному движению лошади. В столовой, увидев свое отражение в большом настенном зеркале, лошадь заржала и попыталась въехать в него. Дядя Сандро с трудом ее повернул и погнал обратно.
На этот раз он влетел в залу и, огрев ее камчой, перебросил через столик игроков.
– Браво, Сандро! – закричали в один голос сторонники грека, а эндурец в знак протеста положил кости на дно игральной доски.
– Играй! – приказал Коля и, вынув из кармана пистолет, положил его на столик рядом со своим портсигаром.
– Скажи ему, чтоб не прыгал, – попросил скотопромышленник, – я под лошадью не привык играть.
– Успокой нервы и играй, – снова приказал грек и постучал по столику дулом пистолета, как учитель указкой.
Складывалось щекотливое положение. С одной стороны, по неписаным и потому твердым законам игры выигрывающий обязан играть до тех пор, пока проигрывающему есть что проигрывать, но, с другой стороны, дядя Сандро выделывал черт-те что. Скотопромышленник обратился к своим сторонникам, но те, сломленные дерзостью Сандро, а может быть, из любопытства к необычности происходящего решили, что он все-таки должен продолжать игру в случае, если Сандро будет прыгать через игральный стол с одинаковым риском для обоих игроков, то есть через середину стола.
– Зачем он должен прыгать, зачем? – пытался эндурец поднять голос.
– Судьба, – отвечали ему.
Опять в качестве третейского судьи был выбран персидский коммерсант как представитель солидной нейтральной нации.
Его поставили к стене таким образом, чтобы между дверями, серединой стола и местом, которое он занимал, проходила прямая и он мог бы точно видеть, насколько отклоняется лошадь дяди Сандро во время полета.
Игра была продолжена. Дядя Сандро прыгал только в одну сторону, потому что для обратной стороны не хватало разгона. Так что из залы он обычно выезжал на холостом ходу, не забыв бросить гневный взгляд на скотопромышленника.
Каждый раз, услышав приближающийся стук копыт, эндурец нагибал голову и, втянув ее в плечи, замирал, пока лошадь не проскакивала над столиком. Как только лошадь проскакивала, он с надеждой смотрел на персидского коммерсанта. Но тот грустно качал головой в том смысле, что Сандро и на этот раз не проштрафился.
Иногда дядя Сандро, доскакав до столика, неожиданно поворачивал лошадь, как бы не соразмерив разгон, и уходил в новый заезд. Эти ложные попытки еще больше сбивали с толку скотопромышленника.
А маленький грек с каждым прыжком дяди Сандро делался все уверенней, все веселей – былая удачливость возвращалась к нему. И когда во время одного из прыжков дяди Сандро он поднял свою чашечку с кофе и отпил глоток под самым летящим, обдающим горячим воздухом брюхом лошади, «Браво, Коля!» – заревели сторонники грека и захлопали в ладоши.
Скотопромышленник сникал.
– Лошадь устает, – начал он тревожиться после десятого прыжка.
– Ничего, она у меня застоялась, – ответил дядя Сандро и, потрепав ее по шее, выехал из залы, готовясь к новому заезду. Через минуту из глубины особняка раздался страшный грохот, казалось, лошадь вместе с всадником провалилась в тартарары.
– Я же говорил, лошадь устала! – радостно закричал скотопромышленник и вскочил с места.
Но тут снова раздался стук копыт приближающейся лошади, а скотопромышленник, еще стоя, стал втягивать голову в плечи, постепенно оседая.
– Что случилось, Сандро? – крикнули в один голос гости, когда он появился в дверях.
– В зеркало въехала, – ответил дядя Сандро на лету, перемахивая через столик.
– Она думала, другая лошадь едет, – приземлившись, стал пояснять дядя Сандро, поглаживая по шее, чтобы немного успокоить разгоряченную лошадь, – но она не знает, что в Абхазии другой такой лошади нет…
В самом деле, это была лошадь хоть и местной породы, но довольно странной масти – гнедая, в то же время яркопятнистая, как рысь. Дядя Сандро говорил, что конокрады дважды бежали из отцовской конюшни, неожиданно увидев ее среди лошадей. И хотя трудно установить, отчего бежали конокрады, по словам дяди Сандро получалось, что они принимали его лошадь за дикого зверя, поставленного сторожить обычных лошадей.
– Никак голову не мог удержать, – радостно продолжал пояснять дядя Сандро, выезжая из залы и отряхиваясь от мельчайших осколков зеркала, как от воды.
– Почему? – восторженно спросили сторонники грека.
– Такую шею имеет, – уже в дверях сказал дядя Сандро, – пароход может поднять, – и, не оборачиваясь, выехал из залы.
– Эта лошадь ему идет, – задумчиво сказала Даша, глядя ему вслед.
Стоит ли говорить, что скотопромышленник проигрывал партию за партией. Примерно на четыре прыжка приходился один проигрыш.
– Ну, как? – спрашивал дядя Сандро, перебросив лошадь через играющих.
– Один мой, – радостно отвечал грек, раскладывая фишки, если партия была закончена.
Два с половиной часа длилась эта необычная игра под брюхом летящей лошади. За это время Коля Зархиди успел отыграть весь проигрыш, всю наличность и коляску скотопромышленника, на которой он приехал из Эндурии.
Наверное, в ход были бы пущены эндурские бойни, если бы лошадь в самом деле не устала. После сорокового прыжка дядя Сандро не стал выезжать из залы, а, вплотную подъехав к столику играющих, поднял лошадь на дыбы и несколько сокрушительных секунд стоял над столом, задрав хрипящую и шмякающую кровавую пену на игральную доску голову лошади.
Как только лошадь опустила копыта, скотопромышленник встал.
– Я в проигрыше, и я кончаю, – сказал он, как-то странно заспешив, и вдруг все заметили, что это уже не тот всесильный скотопромышленник, а просто пожилой, сломленный человек.
– Ваше дело, – ответил Коля, пряча пистолет в карман. К нему вернулась корректность крупного табачного дельца.
Все еще разгоряченный, дядя Сандро выехал на балкон и, расстегнув рубаху, подставил грудь под прохладный утренний ветерок.
Окрестные крестьяне, погоняя осликов, навьюченных огромными корзинами с зеленью, фруктами, краснозобыми индюшками, шагали в сторону базара. Портовые рабочие, ежась от утренней прохлады, плелись в сторону порта, и только стайки алкоголиков, оживленно узнавая друг друга, целенаправленно торопились в хашные и кофейни.
С видом усталого триумфатора дядя Сандро глядел на утренний город.
– Сандро, прошу как брата, – крикнул ему Коля, – кто-нибудь увидит и матери расскажет за лошадь.
– Ты моей лошади должен задницу целовать, – сказал дядя Сандро, въезжая в залу.
– И буду, клянусь прахом отца, – ответил Коля.
Выпущенная служанка выносила полное ведро разбитых тарелок. В столовой лошадь дяди Сандро врезалась задней ногой в буфет. Кроме зеркала и буфета да еще куска мрамора величиной с кулак, отбитого от лестницы копытом лошади, когда он выезжал из особняка, никакого другого ущерба прыжки и скачки дяди Сандро особняку не нанесли.
Скотопромышленнику дали на своей коляске доехать до гостиницы «Ориенталь», откуда он в тот же день выехал в Эндурию на местном дилижансе.
Говорят, именно в тот год дела его пошли прахом. В Эндурии выдвинулся другой скотопромышленник. Он тайно закупил на Кубани огромную партию истощенного бескормицей скота, перегнал его на летние пастбища альпийских лугов, и осенью орды ожиревшего кубанского скота ринулись на рынки Эндурска и разорили старого скотопромышленника.
Говорят, старик после такого двойного удара тронулся. Коля Зархиди, надо отдать ему справедливость, узнав об этом, снарядил из Мухуса в Эндурск известного городского психиатра и велел его лечить за свой счет, пока тот не войдет в ум.
Как это ни странно, вылечил его не психиатр, а Октябрьская революция, когда она реально утвердилась в Закавказье. В день, когда старик узнал, что все имущество молодого скотопромышленника конфисковала новая власть, он поставил во здравие Ленина в Иллорском монастыре пятьдесят свечей в человеческий рост из самого благоухающего цебельдинского воска. Кроме того, он устроил народное пиршество, на котором скормил эндурским нищим десяток последних быков.
Старик настолько оправился, что через некоторое время пошел работать мясником в одну из своих бывших лавок, где проработал до конца своих дней.
Потрясение от знаменитой игры с Колей осталось у него в виде небольшой странности – заслышав цоканье лошадиных копыт, даже если это были обычные извозчичьи дроги, старик, втянув голову в плечи, замирал в той позе, в какой застал его тревожащий душу звук. Покупатели к этой его небольшой странности привыкли и не тормошили его до тех пор, пока он сам не отходил.
После этой знаменитой победы пиры в доме Коли Зархиди и в окрестных ресторанах длились почти беспрерывно до самой Октябрьской революции (в ее закавказском варианте), которая, по ложному учению Троцкого, тоже должна была развиваться перманентно, что было бы ужасно и потому нежелательно.
Злые языки утверждают, что Коля Зархиди вознаградил дядю Сандро через Дашу, но другие говорят, что этого не могло быть потому, что было и так. Сам дядя Сандро оба эти предположения до сих пор с негодованием отвергает.
Возможно, вмешательство дяди Сандро в эту знаменитую игру (хотя она тем и знаменита, что он вмешался в нее) с точки зрения содержателей европейских игорных домов и покажется недопустимым давлением на психику игрока, я все-таки склонен считать поступок дяди Сандро исторически прогрессивным.
Так или иначе, он помог сохранить имущество Коли Зархиди, которое, за исключением настенного зеркала, проломанного буфета и других мелочей, полностью перешло в руки советской власти.
– Я же говорила, чтой-то будет, – напомнила Даша, когда в согласии с решением местного Совета им предложили покинуть особняк, что они и сделали. Правда, мать Коли Зархиди опять ухитрилась оставить при особняке служанку, которая теперь работала уборщицей и жила во дворе в одной из пристроек. На этот раз мать Коли оставила ее здесь с тем, чтобы она присматривала за советской властью, что, безусловно, было гораздо сложней. В особняке были размещены учреждения местной власти.
Хотя Коля, конечно, был разорен, все же многое в его жизни прояснилось. Во-первых, мать примирилась с его любовницей, которая теперь не могла ему сделать ничего плохого, польстясь на его добро. Она даже сама настояла на том, чтобы Коля женился на ней, что он и сделал, быстро оформив легкий в те времена советский брак.
Сначала им пришлось довольно туго, но потом, во времена нэпа, персидский коммерсант снова открыл свою кофейню-кондитерскую, на этот раз осторожно назвав ее «Кейфующий пролетарий». Он взял в долю бывшего табачника, все еще пытаясь осуществить свои хорасанские виды на Дашу. Коля числился на работе, хотя целыми днями только и делал, что пил кофе и водку за счет бывших друзей, а иногда даже и за счет своих бывших рабочих табачных складов.
В связи с последним обстоятельством некоторые люди, уполномоченные для этого, нарочно подсаживались к ним и узнавали, не баламутит ли он своих бывших рабочих. Как выяснилось, Коля рабочих не баламутил, и его оставили в покое с тем, чтобы он в согласии с ходом истории перековывался или отмирал вместе с нэпом.
Иногда, раздухарившись со своими бывшими друзьями, а ныне деклассированными собутыльниками, он кричал Алихану прислать за его счет пару бутылок. Алихан целыми днями стоял за прилавком, варил с утра до вечера кофе в джезвеях и отпускал напитки.
– Какой счет? – неизменно спрашивал Алихан, услышав этот нахальный призыв, и, разводя руками, удивленно подымал свои круглые брови. Тем не менее он всегда посылал эти запрошенные бутылки, потому что Даша была рядом. С сонной медлительностью она разносила заказы, и на нее никто не обижался, потому что для этого и приходили тогда в кофейни, чтобы помедлить, покейфовать, согласно названью кофейни, передохнуть от мчащегося и гремящего, как порожняк на рельсах, времени.
Но судьбе было угодно еще раз возвысить Колю Зархиди. Однажды нежданно-негаданно его к себе вызвал наш замечательный революционер, бессменный, пока его не отравил Берия, председатель Совнаркома Абхазии Нестор Аполлонович Лакоба.
Стране нужна была валюта. Абхазские высокогорные табаки все еще помнили на международных рынках. Необходимо было восстановить старые торговые связи и организовать новые.
Нестор Аполлонович пригласил его в свой кабинет, расположенный в его бывшем особняке. Он рассказал ему суть дела и предложил честно работать с советской властью. За это он обещал ему предоставить приличную квартиру и вернуть все, что найдется из реквизированной мебели.
– Я согласен, – сказал Коля, – только мебель не надо.
– Почему? – удивился Нестор Аполлонович и, наклонившись над столом, приложил ладонь к уху. Он был глуховат, Нестор Аполлонович. С плутовской улыбкой (каждый грек немного Одиссей) Коля кивнул на фамильные часы, стоявшие за спиной наркома. Нестор Аполлонович обернулся и сказал со своей милой, обезоруживающей улыбкой: – У них бой хороший, а я плохо слышу…
Больше к вопросу о мебели не возвращались. Впоследствии Нестор Аполлонович никогда не пытался, в отличие от некоторых, отомстить ему за этот дерзкий жест, потому что, опять же в отличие от некоторых, сам был человеком остроумным и ценил в людях находчивость.
Кстати, небольшой пример его находчивости. Однажды на одном совещании в Тбилиси один из ораторов сказал, что в Абхазии, несмотря на неоднократные указания, все еще медленно строят шоссейные дороги.
– По-видимому, – добавил он не слишком тактично, – мы недостаточно громко об этом говорим, и Нестор Аполлонович нас плохо слышит.
– Слышу, – писклявым голосом, свойственным людям с поврежденным слухом, выкрикнул Нестор Аполлонович.
– Тогда давайте, – попросил оратор и, уступив ему трибуну, проковылял на место походкой, свойственной хромым от рождения.
Говорят, в ответной справке Нестор Аполлонович дал толковый отчет о дорожном строительстве в Абхазии, сказал о недостатках и достижениях в этом деле. В конце он добавил, что хотя в Абхазии строились и будут строиться шоссейные дороги так, как тому нас учит партия, все же проложить такой шоссейной дороги, особенно в горных условиях, на которой данный товарищ не хромал бы, мы, конечно, не можем.
Но я отвлекся. Таким образом, Коля Зархиди снова оказался при деле. В ближайший год он наладил закупку табаков у населения, переработку и дальнейшую продажу за границей.
Нестор Аполлонович доверил ему самому съездить с табаками в Стамбул, откуда он через некоторое время привез золото. Через год Коля Зархиди повез в Стамбул еще большую партию табаков и получил за нее еще больше валюты. А еще через два года он увез в Турцию чуть ли не целый пароход душистого высокогорного табака и не вернулся. В Стамбуле играют прямо в кофейнях, и, видно, Коля не удержался…
Это вероломство (вольное или невольное) сильно огорчило Нестора Аполлоновича. Пожалуй, всех огорчил Коля Зархиди своим поступком, кроме персидского коммерсанта, что в достаточной степени говорит о его аполитичности. Он добился своего – Даша осталась с ним.
Но и ему пришлось несладко – кончался нэп, наступал государственный сектор. Для начала Алихану предложили расчленить кофейню-кондитерскую и свободно выбрать одно из двух: или кофейню, или кондитерскую. Алихан подумал и выбрал кофейню. Через некоторое время ему предложили прекратить продажу в кофейне горячительных напитков, одновременно расширив ассортимент прохладительных. Алихан согласился, но схитрил, продолжая из-под прилавка продавать горячительные напитки. Так как дело шло к полному подавлению частного сектора, ему предложили прекратить в кофейне продажу кофе, но оставить прохладительные напитки. На этот раз Алихан не согласился и совсем закрыл кофейню.
Алихан крепился. Он приобрел лоток на колесиках, в котором продавал восточные сладости собственного изготовления: рахат-лукум, козинаки, халву, щербет… Бесполезно упорствуя, он все еще продолжал именовать себя коммерсантом.
В этом качестве его привел в наш двор мой отец. Он переехал к нам вместе со своей простоволосой, неряшливой женой, которую во дворе иногда называли бывшей красавицей, а иногда, по-видимому, для сокращения, просто бывшей.
Целыми днями, я об этом смутно помню, она варила себе кофе на мангале, помыкала худым высоким стариком и что-то кричала ему вслед, когда он вывозил со двора на своем лотке маленькую витрину магометанского рая.
Потом он почему-то перестал продавать восточные сладости и перешел на жареные каштаны и, как непонятно говорили взрослые, стал морфинистом. Через несколько лет он вместе с женой переехал в Крым, и запах жареных каштанов постепенно выветрился со двора.
А бывало, вечерами дядя Алихан сидел на пороге своей комнатенки, парил мозоли в теплой воде, курил и напевал персидские песни. Помню стекленеющий взгляд каштанщика, мелодию, цепенящую сладкой горечью бессмысленности жизни, бесконечную, как караванный путь в никуда.
Бисмилах ирахмани ирахим! – блажен, кто блажен!..
Битва на Кодоре, или деревянный броневик имени Ной Жордания
Подобно тому, как на скотном дворе стоит сделать неосторожный шаг, как тут же угодишь в коровью лепешку, так и в те времена, говаривал дядя Сандро, бывало, носа не высунешь, чтобы не шмякнуться в какую-нибудь историю.
В тот день дядя Сандро гостил у своего друга в селе Анхара, расположенном на живописном берегу Кодора. В этом большом и зажиточном селе уже с полгода стоял меньшевистский отряд. На другом берегу реки стояли красные. В этом месте был проложен, тогда еще единственный, мост через Кодор. С этой стороны моста меньшевики охраняли мост от большевиков, тогда как с другой стороны моста большевики охраняли мост от меньшевиков.
В то время было или казалось, а то и делали вид, что было, временное равновесие сил. Так или иначе меньшевистская охрана так же, как и наша, скучала, и от нечего делать, а также для разнообразия солдатского стола, глушила рыбу.
Глушили рыбу километра за два выше моста, и мертвая форель кверху брюхом плыла вниз по течению. Иногда рыба, оглушенная меньшевиками, попадала к большевикам, иногда наоборот.
Как только раздавались взрывы, по обе стороны реки появлялись мальчишки, потому что солдаты и красноармейцы, как ни старались, не могли выловить всю рыбу – течение, даже здесь, в низовьях Кодора, очень быстрое.
Так как было еще неясно, кто будет наступать – большевики или меньшевики, – обе стороны по взаимному согласию и договоренности глушили рыбу, чтобы не повредить моста, на достаточно большом расстоянии от него. Таким образом, сравнительно мирные взрывы раздавались почти каждый день, потому что обе стороны отчасти старались доказать, что у них гранат и других боеприпасов достаточно, так что в случае войны есть чем встретить врага.
Меньшевики в первое время, когда расположились в этом селе, объявили его Закрытым Городом, чтобы красные лазутчики не могли шпионить за ними. Кроме того, они побаивались и партизан, хотя, как потом выяснилось, в этих местах никаких партизан не было, потому что те, кто хотел воевать на стороне большевиков, могли просто переплыть Кодор и присоединиться к ним.
Как только меньшевики объявили село Закрытым Городом и стали ограничивать впуск и выпуск людей из села, жители его с особенной остротой стали переживать вынужденную разлуку со своими близкими и не могли успокоиться до тех пор, пока те не приезжали или они сами не наведывались к ним.
А как быть с освященной древними традициями необходимостью побывать на свадьбе и других родовых торжествах? А дежурство у постели больного родственника? А годовщина смерти, а сорокадневье? Я уж не говорю о свежих похоронах.
Одним словом, поднимался ропот, и командование, не решаясь осложнять свои отношения с местным населением, тем более что отряд в значительной степени кормился за счет него, и в то же время стараясь сохранить престиж, отменило свой приказ и, наоборот, объявило село Анхара Открытым Городом для всех, кроме большевиков.
Тут местные жители успокоились, и уже разлуку с близкими стали переживать менее болезненно, и уже никто никого не приглашал чересчур настойчиво и никто никуда не уезжал без особой надобности, а все делалось в меру, как того требуют обычаи и собственное желание.
Так обстояли дела в селе Анхара до первых дней мая 1918 года. Именно в эти дни дядя Сандро гостил у своего друга, жителя этого села, и на его глазах, можно сказать, история сдвинулась с места и покатилась по черноморскому шоссе.
Друга дяди Сандро звали Миха. Был он, по его описаниям, человеком статным, приятным с виду и умным. Слегка разводя руками и оглядывая свою сановитую фигуру, дядя Сандро так о нем говорил:
– Видишь, какой я? Так вот он был почти не хуже.
По словам дяди Сандро, этот самый друг его разбогател на свиньях. Каждую осень он перегонял своих свиней в самые глухие каштановые и буковые урочища и держал их там вплоть до первого снега.
В те времена в этих урочищах каштанов и буковых орешков лежало на земле по колено. Свиньи жирели с неимоверной быстротой, так что к концу осени некоторые уже не могли встать на ноги и, ползая на брюхе, продолжали пастись и жиреть. В конце концов, когда выпадал первый снег, свиней перегоняли домой, а оттуда на базар.
Наиболее преуспевших в ожирении приходилось перевозить на ослах, потому что сами они передвигаться не могли. Конечно, какую-то часть уничтожали волки и медведи, но все равно выручка от продажи свиней перекрывала эту усушку и утруску за счет хищников.
Ни до него, ни, кажется, после него никто не догадывался перегонять свиней на осенний выпас в каштановые леса, подобно тому, как перегоняют травоядных на летние пастбища.
Впрочем, все это не имеет никакого отношения к самой сути моего рассказа. Вернее, почти никакого.
Правда, время было тревожное. И когда на дорогах Абхазии люди стали встречать ослов, навьюченных свиньями, этими злобно визжащими, многопудовыми бурдюками жира, верхом на длинноухих терпеливцах, то многие, особенно старики, видели в этом зрелище мрачное предзнаменование.
– Накличешь беду, – говаривали они Михе, останавливаясь на дороге и провожая глазами этот странный караван.
– Я сам не ем, – пояснял тот мимоходом, – я только нечестивцам продаю.
Так вот, в то утро дядя Сандро вместе со своим другом сидел за столом и завтракал. Они ели холодное мясо с горячей мамалыгой. Дядя Сандро нареза2л аккуратные кусочки мяса, обмазывал их аджикой, клал в рот, после чего досылал туда же ломоть мамалыги, не забыв предварительно окунуть его в алычевую подливку. Хозяин время от времени подливал красное вино.
Разговор шел о том, что горные абхазцы, в отличие от долинных, более консервативны и все еще не хотят разводить свиней, тогда как это очень выгодное дело, потому что в горах полным-полно буковых и каштановых рощ.
Хозяин давал знать, что ценит широту взглядов, которую проявляет дядя Сандро как представитель горной Абхазии, тем более что в самом селе Анхара многие никак не могли смириться с тем, что Миха вот так вот запросто, ни с того ни с сего взял да и разбогател на свиньях.
Земляки завидовали Михе, а так как догнать его в обогащении на свиньях уже не могли, им ничего не оставалось, как кричать ему вслед, что он плохой абхазец.
Дядя Сандро жаловался, что у него нет времени заниматься свиньями, а отец не соглашается их разводить из глупого мусульманского упрямства. Миха обещал ему при случае поговорить по этому поводу с отцом дяди Сандро, хотя ему было неясно, почему у дяди Сандро находится время на всякое мало-мальски заметное застолье (в пределах Абхазии), а на разведение свиней не хватает. Миха, разговаривая с гостем, по привычке прислушивался к мирному похрюкиванию свиней в загоне и глухим взрывам со стороны реки. Сегодня взрывы эти доносились отчетливей, и разговор невольно обратился к последним новостям, вызвавшим усиление этих неприятных звуков.
Дело в том, что позапрошлой ночью к меньшевикам прибыло подкрепление, и они стали готовиться к штурму моста. И то и другое они старались, насколько это возможно, скрыть от постороннего глаза. Скрыть, разумеется, не удавалось, и тот берег обо всем знал.
Во всяком случае, сразу же после прибытия подкрепления, то есть на следующий день с утра, большевики первые нарушили договор и стали глушить рыбу совсем рядом с мостом, тем самым показывая, что они знают и о прибывшем подкреплении, и о готовящемся штурме.
Глушением рыбы возле моста они показывали, что у них теперь нет никакого резона беречь мост, по которому собираются наступать меньшевики, а, наоборот, даже есть интерес взорвать его. И все-таки они его не взрывают. А почему? А потому, что уверены в своих силах.
Кстати, меньшевики после прибытия подкрепления заняли большой сарай местного князя, который использовал его обычно для общественных собраний (понимай – пиршеств) при плохой погоде.
Они выставили усиленную охрану и стали что-то строить внутри сарая. А что они строят, никто не знал. Знали только одно: что меньшевики купили у местного населения десять арб, но использовали от них только колеса, а почему не использовали остальные деревянные части, было неизвестно. Кроме того, они купили у местных крестьян каштановые балки и доски, и, надо честно сказать, купили щедро – по хорошей цене.
Одним словом, было ясно, что там что-то строится, что это что-то будет на колесах арб, но что из себя представляет это что-то, никто не знал.
Одни говорили, что меньшевики строят огромную бомбу, которую на колесах довезут до Мухуса и там, раскатив ее с пригорка Чернявской горы, пустят на город и взорвут его. Другие говорили, что строится не бомба, а деревянный броневик имени Ной Жордания. Правда, на вопрос, что же послужит тягловой силой этому броневику, никто ничего определенного не мог ответить.
Рядом с этим сараем лежало зеленое поле, общественный выгон, и некоторые крестьяне беспокоились, как бы во время строительства этого сооружения оно не взорвалось и не покалечило скот или кого-нибудь из людей.
На этот день, который мы сейчас описываем пером, свободным от предрассудков, была назначена сходка перед конторой старшины. На нее должно было явиться взрослое население мужского пола.
Насильственная мобилизация была маловероятна, хотя и не вполне исключена, поэтому Миха не спешил на сходку, а ждал оттуда вестей, тем более что для неявки у него была достаточно уважительная причина – в доме гость.
После того как жена его прибежала от соседей и сказала, что мобилизации не будет, потому что сходку уговаривать уговаривают, а оцеплять не оцепляют, хозяин решил пойти туда вместе с дядей Сандро.
Верный своему правилу за большими общественными делами не забывать маленьких личных удовольствий, дядя Сандро тщательно выскоблил из кости, лежавшей перед ним, костный мозг, слегка обмазал его аджикой и отправил все в рот, жестом показывая хозяину, что теперь он готов идти на сходку.
Дядя Сандро и Миха вышли на веранду, где вымыли руки и ополоснули рты. Спустились вниз во двор. Здесь их встретил десятилетний хозяйский мальчик, всем своим видом показывая готовность выполнить любое поручение.
Дядя Сандро подумал, что друг его, несмотря на то что занимается разведением свиней, все-таки правильно, по-нашему воспитывает детей. Он одобрительно посмотрел на мальчика и поручил ему поймать свою лошадь и загнать во двор. Он хотел быть готовым ко всему.
– С этими никогда не знаешь, то ли гнаться за кем, то ли бежать от кого, – сказал он своему другу, на что тот понимающе кивнул.
– С теми тоже, – добавил Миха.
Дядя Сандро и Миха вышли на проселочную улицу. Со стороны моря дул свежий бриз, внизу под обрывистым склоном желтела всеми своими рукавами дельта Кодора. Солнце играло на зелени, до того свежей и пушистой, что хотелось стать возле молодого куста дикого ореха и кротко обглодать его.
Дядя Сандро подумал, что такие мысли не ко времени, и, щелкнув камчой по мягкому голенищу своего сапога, бодро зашагал, как бы подгарцовывая небесной музыке этого цветущего и тревожного дня.
Дядя Сандро любил, спешившись, ходить вот так вот с камчой. Он чувствовал, что человек с камчой всегда производит на других благоприятное впечатление. Держа в руках камчу, прохаживаясь и постукивая ею по голенищу, дядя Сандро чувствовал, как в нем крепнет хозяйская готовность оседлать ближнего, тогда как та же камча нередко на глазах у дяди Сандро вызывала и укрепляла в ближнем способность быть оседланным. А у иных, замечал дядя Сандро, при взмахе камчи в глазах появлялась даже как бы робкая тоска по оседланности.
Дядя Сандро любил прогуливаться с камчой, но не потому, что стремился оседлать ближнего. Здесь была своего рода военная хитрость, самооборона. Если у тебя вид человека, стремящегося оседлать ближнего, говаривал дядя Сандро, то уж, во всяком случае, тебя не слишком будут стремиться оседлать другие.
Конечно, бывали случаи, когда у некоторых людей вид этой камчи вызывал раздражение, но дядя Сандро считал, что это просто зависть или ревность к его хозяйской готовности оседлать ближнего.
По дороге стали попадаться жители села, верхом или пешком идущие на сходку. Кое-кто торопился, а кое-кто не спешил. Через некоторое время они догнали арбу, груженную песком. Друзья заторопились, потому что знали – она направляется к этому сараю, где меньшевики строят свое секретное оружие. Оказывается, для этого оружия им понадобился песок и они наняли крестьян возить его.
Было известно, что аробщиков, привозящих песок, к самому сараю не подпускают, им приказывают отойти в сторону и сами заводят арбу в сарай, сами ее разгружают и потом подводят пустую арбу к хозяину, с тем чтобы она снова ехала за песком.
Поравнявшись с арбой, дядя Сандро сразу же узнал аробщика, это был Кунта Маргания, когда-то работавший пастухом и живший в их доме.
Увидев дядю Сандро, Кунта обрадовался и на ходу спрыгнул с арбы. Обнялись. Кунта теперь шел рядом с дядей Сандро, изредка помахивая над буйволами длинным прутом.
– Ор! Хи!
Арба немилосердно скрипела, а буйволы, наклонив рогатые головы, тянули ее, как бы стараясь разъехаться в разные стороны.
Разговаривая с Кунтой, дядя Сандро поглядывал на него и думал о том, что рановато постарел Кунта. Ему было не больше сорока, но выглядел он уже чуть ли не старичком. Маленького роста, большерукий, и горб за спиной как вечная кладь. В чувяках из сыромятной кожи, сейчас он бесшумно шагал рядом, напоминая дяде Сандро о собственном детстве, таком далеком и таком безгрешном.
Кунта был человеком добрым и, прямо скажем, глупым. Он почти не мог самостоятельно вести хозяйство – разорялся. Обычно после этого он нанимался к кому-нибудь пастушить. За несколько лет становился на ноги, брался за самостоятельную жизнь и снова разорялся.
Правда, по слухам, теперь у Кунты взрослый сын, и он с его помощью справляется со своим нехитрым хозяйством. После обычных расспросов о здоровье родных и близких Кунта вдруг ожил.
– Слыхали? – спросил он и заглянул в глаза дяде Сандро.
– Смотря что? – сказал тот.
– Меньшевики добровольцев берут, – важно заметил Кунта.
– Это и так все знают, – сказал Миха.
– Говорят, – пояснил Кунта с хитрецой, – если возьмут Мухус, разрешат потеребить лавки большевистских купцов.
– Выходит, если Мухус возьмешь, что хочешь бери? – спросил дядя Сандро, потешаясь над Кунтой и подмигивая Михе.
– Сколько хочешь не разрешается, – сказал Кунта, не чувствуя, что над ним смеются, – разрешается только то, что один человек на себе может унести.
– Что же ты хотел бы унести? – спросил дядя Сандро.
– Мануфактуру, гвозди, соль, резиновые сапоги, халву, – с удовольствием перечислял Кунта, – в хозяйстве все нужно.
– Слушай, Кунта, – серьезно сказал дядя Сандро, – сиди дома и кушай свою мамалыгу, а то худо тебе будет…
– Переполох, – вздохнул Кунта, – в такое время многие добро добывают.
– Сиди дома, – подтвердил Миха, – сейчас не знаешь, где найдешь, где потеряешь…
– Тебе хорошо, у тебя свиньи, – как о надежной твердой валюте, напомнил Кунта и, немного подумав, добавил: – Я-то сам не иду, сына посылаю…
Они вышли на лужайку перед конторой, и сразу же гул толпы донесся до них. Под большой, развесистой шелковицей стояло человек триста-четыреста крестьян. Те, что уместились в тени шелковицы, сидели прямо на траве. Позади них, стоя, толпились остальные. Среди них выделялось десятка полтора всадников, что так и не захотели спешиться. У коновязи трепыхалась сотня лошадиных хвостов.
Кунта попрощался с друзьями и легко вскочил на арбу.
– Подожди, – вспомнил дядя Сандро про тайное оружие меньшевиков, – ты о нем что-нибудь знаешь? – Он кивнул в сторону сарая.
– Нас близко не подпускают, – сказал Кунта.
– А ты попробуй, придурись как-нибудь, – попросил дядя Сандро.
– Хорошо, – уныло согласился Кунта и, взмахнув прутом, огрел вдоль спины сначала одного, а потом и второго буйвола, так что два столбика пыли взлетели над могучими спинами животных.
– Да ему, бедняге, и придуряться не надо, – заметил Миха.
Дядя Сандро кивнул с тем теплым выражением согласия, с которым все мы киваем, когда речь идет об умственной слабости наших знакомых.
– Эртоба! Эртоба! – первое, что уловил дядя Сандро, когда они с Михой приблизились к толпе. Это были незнакомые дяде Сандро слова. Они подошли к толпе и осторожно заглянули внутрь.
У самого подножия дерева за длинным столом сидело несколько человек. Стол этот, давно вбитый в землю для всяких общественных надобностей, сейчас, из уважения к происходящему, был покрыт персидским ковром, принадлежащим местному князю.
Сам князь, пожилой, подтянутый мужчина, тоже сидел за столом. Кроме него, за столом сидели два офицера: тот, что был с отрядом, и тот, что прибыл с подкреплением. Дядя Сандро сразу же по глазам определил, что оба настоящие игроки, ночные птицы.
Рядом с князем сидел и явно дремал огромный дряхлый старик в черкеске с длинным кинжалом за поясом, с башлыком, криво, по-янычарски повязанным на большой усатой голове. Усы были длинные, но как бы изъеденные временем, негустые. Это был известный в прошлом головорез Нахарбей.
Хотя по происхождению он был простым крестьянином, за неслыханную дерзость и свирепость в расправе со своими недругами он пользовался уважением почти наравне с самыми почтенными представителями княжеских фамилий, что, в свою очередь, рождало догадку о характере заслуг далеких предков нынешних князей, которые вывели их когда-то из толпы обыкновенных людей и сделали князьями.
Поговаривали, что Нахарбей участвовал в походах Шамиля, но так как сам он уже смутно помнил все кровопролития своей цветущей юности и иногда аварского Шамиля путал с абхазским Шамилем, известным в то время абреком, то местные заправилы, стараясь преуспеть в большой политике, поддерживали то одну, то другую версию. Сейчас господствовал аварский вариант, потому что борьба меньшевиков с большевиками довольно удобно укладывалась в традиции борьбы с царскими завоевателями.
Нахарбей дремал, склонив голову над столом, иногда сквозь дрему ловя губами нависающий ус. Порой он открывал глаза и смотрел на оратора грозным склеротическим взглядом.
У края стола возвышался оратор. Никто не знал его должности, но дядя Сандро, оценивая происходящее, решил, что он – меньшевистский комиссар. Это был человек с бледно-желтым лицом, с чересчур размашистыми движениями рук и блестящими глазами.
Говорил он на чисто абхазском языке, но иногда вставлял в свою речь русские или грузинские слова. Каждый раз, когда он вставлял в свою речь русские или грузинские слова, старый Нахарбей открывал глаза и направлял на него смутно-враждебный взгляд, а рука его сжимала рукоятку кинжала. Но пока он это делал, оратор снова переходил на абхазский язык, и взгляд престарелого джигита затягивался дремотной пленкой, голова опускалась на грудь, а рука, сжимавшая рукоятку кинжала, разжималась и сползала на колено.
Время от времени оратор хватался за стакан и отпивал несколько глотков. Когда в стакане кончалась вода, сидевший рядом с оратором писарь услужливо наливал ему из графина. Звук льющейся воды или звяканье графина о стакан тоже ненадолго будили престарелого джигита.
Перед писарем лежала открытая тетрадь. Слушая оратора, он постукивал по столу карандашом, держа его длинным отточенным концом кверху. Оглядывая крестьян, он взглядом давал знать, что с удовольствием внесет в свою тетрадь эту замечательную речь, но только плодотворно преображенную в виде списков добровольцев.
Во время своей речи оратор то и дело выбрасывал руку вперед и сверкающими глазами как бы указывал на какой-то важный предмет, появившийся вдали. Дядя Сандро уже знал, что это делается просто так, для красивой убедительности слов, но многие крестьяне еще не привыкли к этому жесту, тем более в сочетании со сверкающими глазами, и то и дело оглядывались назад, стараясь разглядеть, на что он им показывает. Те, что попривыкли к этому жесту, посмеивались над теми, кто все еще оглядывался.
Справа от дяди Сандро сидел на лошади незнакомый крестьянин. Лошадь его, косясь на камчу дяди Сандро, беспокоилась и все норовила уйти в сторону, но отойти было некуда, и хозяин, не понимая причины ее беспокойства, тихонько ругался, каким-то образом связывая в один узел это ее беспокойство и суетливость оратора.
После очередного выбрасывания руки, когда многие крестьяне оглянулись по направлению руки, всадник этот с довольной улыбкой посмотрел на дядю Сандро и сказал:
– В первый раз, как увидел, думаю: на что это он там показывает? Может, думаю, скот в поле… На потраву показывает… Как же, думаю, я с лошади не вижу, а он со своего места замечает?!
В конце лужайки за плетнем виднелось кукурузное поле. Всадник, поглядывая на дядю Сандро и одновременно косясь на это поле, давал убедиться своему собеседнику, что у него кругозор гораздо шире, чем у оратора, и, стало быть, оратор никак не может видеть что-нибудь такое, чего не видит он со своей лошади.
После этого он неожиданно притянул одну из веток, нависающих над его головой, и стал бросать в рот, посасывая и причмокивая, мокрые продолговатые ягоды шелковицы.
– А ну, тряхни! – сказал кто-то из сидящих впереди. Всадник покрепче ухватился за ветку и несколько раз тряхнул ее. Черный дождь шелковиц посыпался вниз. Впереди образовалась небольшая суматоха, и писарь, заметив ее, направил на всадника осуждающий взгляд. Дядя Сандро с усмешкой отметил, что писарь старается придать своим глазам такой же блеск, как у оратора. Постепенно крестьяне притихли, и только лошадь, шумно дыша на траву, дотягивалась до рассыпанных ягод.
А между тем оратор продолжал говорить, стараясь разгорячить сходку и довести ее до состояния митинга. Но сходка до состояния митинга никак не доходила. Самому оратору почему-то мешали взрывы, то и дело доносившиеся со стороны реки, да и сами крестьяне, задававшие всякие уводящие от митинга вопросы.
Как только слышался очередной взрыв, оратор замирал, поворачивал к реке свое бледное подвижное лицо и говорил:
– Слышите?! Сами нарушают, а потом сами будут жаловаться, что мы наступаем.
Дядя Сандро никак не мог понять, кому будут жаловаться большевики, если меньшевики начнут наступать. Вообще, он многого из речи оратора не понимал, объясняя это отчасти своим опозданием на сходку, отчасти всеобщим безумием.
Оратор, по-видимому, еще до прихода дяди Сандро объяснил, почему меньшевистская власть хорошая, а советская – плохая. Теперь, уже исходя из этого, он останавливался на выгодах, которые получат крестьяне при меньшевистской власти именно потому, что она хорошая, а не наоборот. А раз так, говорил он, крестьяне должны проявить сознательность и вступать в ряды добровольцев. Каждый, говорил он, кто не превышает тридцатипятилетний возраст и еще не потерял совести под влиянием большевиков, должен в это трудное время вступить в ряды добровольцев.
Для тех, пояснил он, кто превышает этот возраст и в то же время не потерял совести под влиянием большевиков, командование сделает исключение и будет принимать в ряды добровольцев. Так пояснил он, хотя никто у него не просил пояснения.
– Эртоба! Эртоба! – при каждом удобном случае выкрикивал он.
– Что это за слово? – спросил дядя Сандро у своего товарища, который во всех отношениях был почти не хуже дяди Сандро, а в отношении грузинского и русского языка даже лучше, опять же как человек, торгующий свиньями, то есть имеющий дело с христьянскими народами.
– Эртоба значит единство, – ответил Миха, – он хочет, чтобы мы с ним были заодно.
Слева от дяди Сандро стоял незнакомый крестьянин. Дядя Сандро заметил, что тот каждый раз, когда недослышивал или недопонимал оратора, приоткрывал рот, словно включал инструмент, усиливающий как смысл, так и звук ораторской речи. Сейчас он обернулся на слова Михи.
– Я могу быть с родственником заодно, – сказал он, загибая корявый палец и с дурашливой улыбкой кивая на оратора, – с соседом заодно, с односельчанином заодно, но с этим эндурцем, которого первый раз вижу, как я могу быть заодно?
– В том-то и дело, что чушь болтает, – отозвался верховой, снова пригибая ветку шелковицы и ища глазами, где она гуще облеплена ягодами, – стоящий человек никогда не будет показывать рукой на то, чего сам не видит.
– …Завтра наступаем, – объявил оратор, – кто с нами, записывайтесь до шести утра, а после шести, хоть золотом осыпьте, ни одного человека не возьмем… Спешите в ряды! Эртоба! Эртоба! – крикнул он и взмахнул рукой, как бы призывая весь оркестр звучать в едином марше.
– Эртоба! – повторили за ним несколько голосов, да и те запнулись, смущаясь своим одиночеством.
Видя, что люди слишком мнутся, оратор решил им помочь и сказал, что если прямо сейчас некоторым записываться стыдно перед близкими, у которых родственники ушли с большевиками, то такие позже могут заходить в контору и записываться тайно, потому что командование, в отличие от тех (кивок в сторону реки), уважает родственные чувства.
Писарь, оглядывая собрание и молча останавливая взгляд то на одном, то на другом, предлагал вписать их в свою тетрадь, но те, на ком он останавливал свой взгляд, чаще всего отворачивались или, не успев отвернуться, прикладывали руку к груди и отказывались, смягчая отказ этим жестом благодарности за доверие.
Все же человек пятнадцать-двадцать записалось. Первым по предложению князя зачислили в отряд в качестве Почетного Добровольца старого Нахарбея. При этом все радостно зашумели, писарь медленно, словно продлевая удовольствие, вписывал его в тетрадь, а оратор в это время уверял сходку, что дух Нахарбея осенит правое дело меньшевиков.
Сам престарелый джигит, услышав свое имя в сопровождении слишком громкого шума, кусанул ус и уставился на оратора до того неподвижным и долгим взглядом, что тот не на шутку смутился. Но тут к Нахарбею наклонился князь и что-то зашептал ему на ухо. Тот кивнул усатой головой и успокоился.
– Задавайте вопросы, – сказал оратор, ободренный тем, что все-таки кое-кто записался. После добавил, с намеком на тех, кто за рекой: – Мы вопросов не боимся…
Он победно оглядел собравшихся и, теперь уже сам налив себе воду из графина, стал ее пить большими глотками.
– Как мельница, на воде работает, – сказал кто-то из задних рядов.
– Работает-то как мельница, да муки не видать, – добавил другой.
– Сынок, – кто-то обратился к оратору из толпы, – говорят, если Мухус возьмете, большевистских купцов разрешат потеребить. Интересуемся, это правда?
Оратор все еще пил воду, когда прозвучал вопрос, но, услышав его, он быстро отставил стакан и замахал рукой:
– Ничего такого я не говорил и даже не имею права говорить! – как-то чересчур сварливо открестился он, из чего многие поняли, что так оно и будет, только прямо говорить об этом не хотят.
– Послушай, – вдруг закричал тот, что стоял слева от дяди Сандро, – а что будет с нами, если мы с вами пойдем, а большевики вас побьют?
Сразу же установилась неловкая тишина. Стало слышно, как у коновязи щелкает железо во рту у лошадей и шуршат их хвосты, отмахивающиеся от мух. С одной стороны, всем не терпелось узнать, что скажет оратор, а с другой стороны, вопрос прозвучал слишком дерзко для этих гостелюбивых краев. А ведь меньшевики были некоторым образом гостями, хотя и незваными.
– Интересный вопрос, – сказал оратор и посмотрел на сидящих рядом с ним за столом. Оба офицера презрительно закачали головами, показывая, что исход предстоящего сражения у них не вызывает тревоги.
– Интересный вопрос, – повторил оратор и прибавил, – но нас коммунисты никогда не побьют, тем более…
Оратор умолк и многозначительно кивнул в сторону сарая, откуда доносился приглушенный перестук топоров.
– Кто его знает, – миролюбиво заметил сосед дяди Сандро, задававший вопрос. Он был рад, что кое-как выкарабкался из своего вопроса.
– А почему вы не говорите, что у вас там делается в сарае? – вдруг раздался чей-то раздраженный голос из задних рядов. Люди, видно, продолжали подходить. Дядя Сандро говорящего не видел, но по голосу почувствовал, что тот стоит на солнце, и, может, даже без шапки.
– …Может взорваться, – продолжал раздраженный голос, – а у нас там скот пасется, женщины ходят…
– Взорваться не может, не допустим… Но военную тайну разглашать не имею права, – ответил оратор и прибавил: – Завтра сами увидите.
– А как быть с теми абхазцами, – вдруг кто-то выкрикнул из толпы, – которые, пользуясь суматохой, вовсю разводят свиней?!
– Каких свиней?! – растерялся оратор.
– Да, да, как быть?! – с нескольких сторон оживились завистники Михи. Оратор растерялся, но зато сам Миха ничуть не растерялся.
– Я сам не ем, черт вас подери! – громко выкрикнул он. – Я только нечестивцам продаю!
– И я, как гость, подтверждаю! – зычно добавил дядя Сандро.
Все оглянулись на него, многие удивленно, потому что видели его в первый раз.
– Сандро из Чегема, – теплым, ласкающим слух ветерком прошелестело по толпе.
– Ты гость, ты можешь не все знать, – вяло огрызнулся тот, кто выкрикнул насчет свиней.
– Вы у человека про дело спрашивайте, – вставил князь, – а со своими свиньями мы тут сами разберемся.
Князь тоже был противником свиноводства. Он считал, что вместе со свиньями в чистую жизнь абхазцев проникает гибельное неуважение к старшинству, хамская односложность отношений, свойственная другим, простоватым по сравнению с абхазцами народам. Но сейчас заниматься этим было неуместно.
– А сколько продлится поход? – раздался голос из толпы.
– Думаю, с месяц, – сказал оратор довольно уверенно.
– Ого! – громко удивился тот же голос. – Как же я пойду, если мне через две недели кукурузу мотыжить, а там и табак подоспеет?!
– Пусть родственники… – начал было оратор, но он не договорил, потому что со стороны реки опять раздались взрывы.
– Видите, что делают! – дернулся он в сторону взрывов. – Сами нарушают, а потом сами будут говорить, что мы первые…
– Интересуюсь, – раздался голос, – до какого места будем воевать, до Гагры или до Сочи?
– До Сочи и даже дальше…
– Зачем дальше? Дальше Россия…
– Чтобы окончательно Ленина победить, надо идти и на Россию! – выкрикнул оратор. – Но для этого нам нужны три вещи…
Он замолк и, поджав губы, уставился в толпу нагловато-стекленеющими глазами, стараясь заранее внушить важность того, что он собирается сказать.
– Ленина сами русские победить не смогли, а ты что, сможешь?
– Тише, говорит, какие-то вещи нужны…
– Лошадь, седло, винтовка – вот тебе три вещи…
– Эртоба, Эртоба, Эртоба! – разрядился наконец оратор с таким видом, словно сказал что-то новое.
– Надоел со своим единством…
– Попомните мое слово, – опять заметил всадник и, деловито оглядев шелковицу, слегка сдвинул коня, чтобы достать ветку получше, – человек, который показывает на то, чего сам не видит, порченый…
– Ты хоть шелковицы налопаешься, – заметил крестьянин, что стоял слева от дяди Сандро, – а мы чего сюда притащились?
– Ша! Кто-то из наших будет говорить…
Какой-то старик пробрался в толпе, вышел из первого ряда, спокойно всадил посох в землю, положил на него обе руки и сказал, что выступит от имени многих, хотя и не всех.
Он сказал, что некоторые согласны служить в армии меньшевиков, но с тем условием, чтобы охранять склады, готовить еду, присматривать за лошадьми. Но стрелять те многие, хотя и не все, от имени которых он выступает, не согласны, потому что среди большевиков немало родственников и односельчан.
Поэтому, сказал он, если наши добровольцы сейчас начнут стрелять по большевикам, то не исключено, что кто-нибудь из них попадет в нашего, а пролитая кровь будет взывать к мести и погибнет много невинных. Особенно неприятно, сказал он, что большевики с меньшевиками или замирятся, или (добавил он с какой-то обидной непричастностью) победят друг друга, а кровная месть будет продолжаться годами.
Поэтому те многие, хотя не все, от имени которых он говорит, решили, что нашим добровольцам можно идти в поход, но от стрельбы их следовало бы освободить. С этими словами он вытащил свой посох из земли и уважительно, но с достоинством пятясь, вошел в толпу, которая поддерживала его речь одобрительными выкриками, может быть, как раз тех многих, хотя и не всех, от имени которых он говорил.
– Когда дело касается свободы, не будем торговаться, – заметил оратор, сделав кислую мину. Видно, речь старика ему не совсем понравилась.
– Будем торговаться! – злобно выкрикнул тот, что говорил о сарае. Дядя Сандро, узнав его по голосу, удивился, что тот все еще стоит на солнце.
– ….Большевики говорят, не будем торговаться, вы говорите, не будем торговаться, – окончательно закипел тот, что стоял на солнце, и притом, возможно, без шапки, – а мы отрезаны от города: соли нет, мануфактуры нет!
– Вы не так поняли! – крикнул оратор, но тут другие ему не дали говорить.
– Так поняли, потому что и стекол для ламп тоже нет, – крикнул кто-то, и всем почему-то сделалось смешно. Толпа задвигалась и стала распадаться на части, и уже ни оратор, ни, как бы пораженный неуважительностью своих земляков, князь никого остановить не могли. Некоторые стали отходить к коновязи, другие, что пришли пешком, уходили, громко зовя родственников и попутчиков.
Последнее, что успел прокричать оратор, – это чтобы родственники ушедших с большевиками не мешали односельчанам вступать в ряды добровольцев.
– Мы вас не агитируем, вы их не агитируйте! – прокричал он, выбросив вперед руки с выпяченными ладонями, как бы намекая на необходимость соблюдать равенство шансов.
Дядя Сандро вместе со своим другом отошел к дороге, где должен был проехать Кунта. Во время сходки он то и дело поглядывал на дорогу, чтобы не пропустить его. Наконец Кунта появился на дороге.
– Я придурился, но ничего не получается, – сказал он, поравнявшись с друзьями. Он остановил арбу и хотел сойти с нее.
– Ладно, поезжай, – сказал дядя Сандро, не давая ему сойти с арбы.
– Может, зайдешь? – неуверенно спросил Кунта, глядя в лицо дяде Сандро. – Уж цыпленочка-то для тебя отыщем…
– Спасибо, Кунта, в другой раз, – сказал дядя Сандро, думая о своем.
Кунта заскрипел дальше, поигрывая хворостиной и мурлыкая песню аробщика. Миха и дядя Сандро оглянулись на шелковицу. Там уже почти никого не было. Князь и один из офицеров сидели за столом друг против друга, расставляя фишки для нардов. Вокруг собралось несколько любопытных, а может, и желающих принять участие в игре.
Из усадьбы князя, которая примыкала к площади, три женщины вытащили корзины с закусками и вином. У опустевшей коновязи двое княжеских людей, хозяйственно переговариваясь, громоздили на лошадь престарелого Нахарбея.
– Что думаешь о сходке? – спросил Миха, когда они повернули к дому. Дядя Сандро долго не отвечал, и Миха терпеливо ждал, зная, что слово дяди Сандро чего-то стоит.
– Это не власть, – сказал дядя Сандро, шлепнув камчой по голенищу, и громко, как бы стараясь преодолеть его социальную тугоухость, повторил: – Попомни мое слово, Миха, это не власть!
– Что же делать? – спросил Миха, прислушиваясь к своему загону, хотя до дому еще было далеко и ничего не было слышно.
– Надо попробовать с большевиками, – сказал дядя Сандро и выразительно посмотрел на Миху, – но к ним с голыми руками не пойдешь…
– А как узнать? – пожал плечами Миха, все еще безуспешно продолжая прислушиваться к своему загону. – Чтобы стражников купить, надо время, а завтра начнется…
– Я что-то придумал, – кивнул дядя Сандро в сторону засекреченного сарая, – попробуем…
Судя по тому, что Миха на лету ухватил мысль дяди Сандро, можно заключить, что он быстро одолел свою социальную тугоухость. Не забудем, что он при этом прислушивался, правда, безуспешно, к своему загону. Впрочем, ему даже безуспешно прислушиваться к своему загону было гораздо приятней всего, что можно было успешно услышать на митингах и сходках тех дней.
Да и вообще, если подумать, была ли свойственна социальная тугоухость человеку, который первым из абхазцев не только сделал ставку на свиней, но и первым же догадался перегонять их осенью в каштановые и буковые урочища? Нет, сдается мне, что она ему не была свойственна!
Ведь даже сейчас, возвращаясь домой, он продолжал с каким-то сердитым недоумением прислушиваться к своему загону, словно всем своим видом хотел сказать:
«Да войдем мы, в конце концов, в зону хрюканья или все еще будем болтаться черт знает где?!»
А может, не это хотел сказать, может, хотел сказать:
«А не оглох ли я на сходке, слушая эту тарабарщину, чтой-то свиней своих не слышу?!»
Нет, нет, пока существует эта самая зона хрюканья (блеянья, ржанья, мычанья), ни о какой социальной тугоухости не может быть и речи. Это потом, гораздо позже она придет вместе с: «А-а-а, гори огнем! А-а-а, в задницу!» И наконец, спокойный и потому непобедимый возглас, тихо подхваченный всей страной, как новая молитва, как буддийский призыв к самосозерцанию: «Пе-ре-кур…»
Через два часа в зарослях папоротника неподвижно лежал дядя Сандро и в цейсовский бинокль следил за тем, что делается у засекреченного сарая.
Он видел, как время от времени к нему подъезжает арба, как она останавливается, как с нее лениво спрыгивает аробщик, отходит в сторону под жидкую тень алычи, как один из солдат залезает на арбу, а другой в это время распахивает ворота, где виднеется…
О возможности заглянуть в сарай дядя Сандро догадался, когда оглядывал его еще на площади. Но, чтобы использовать промежуток в пять-десять минут, пока арба не пройдет в открытые ворота, надо было находиться прямо напротив них, то есть на выгоне, который хорошо просматривался со всех сторон.
В конце выгона, примерно в полукилометре от сарая, начинались заросли. Часовым никак не могло прийти в голову, что на таком расстоянии кто-то наблюдает за воротами. Да и кто мог подумать, что в этом селе окажется человек с великолепным биноклем, когда-то принадлежавшим принцу Ольденбургскому, а теперь ставшим собственностью неведомого меньшевикам, впрочем, как и большевикам, дяди Сандро?
Но что же он увидел? Он увидел деревянное сооружение, чуть выше человеческого роста, гигантский ящик, слегка приподнятый колесами над землей. Колеса были закреплены изнутри и едва высовывались из-под боковой стены сооружения.
Дядя Сандро сразу же догадался, что это так сделано для того, чтобы защищать колеса от вражеских пуль, и удивился военной хитрости меньшевиков.
Продолжая наблюдать, дядя Сандро пришел к выводу, что боковые стены сооружения сдвоены, потому что на одной из них довольно свободно стоял солдат и что-то проделывал лопатой. Как только дядя Сандро догадался, что стены сдвоены и только потому солдат так свободно стоит на стене, он тут же сообразил, что солдат выравнивает и трамбует песок, насыпанный между стенами.
Тут дядя Сандро окончательно раскусил назначение этой крепости на колесах. Он понял, что меньшевики под ее прикрытием постараются переехать через мост. «Вот тебе и меньшевики, – подумал дядя Сандро, опуская бинокль, – а мы-то считали их простаками».
Он повернулся на спину, с трудом вытянул затекшую в неудобной позе ногу и стал смотреть на синее небо. По кустам прошелестел ветерок, и дядя Сандро почувствовал запах еще влажной земли, высохших прошлогодних стеблей папоротника, услышал высоко над собой пение жаворонков и вдруг подумал: «Зачем меньшевики, зачем большевики, зачем вообще я здесь лежу и выслеживаю это деревянное чудище?»
Боясь шевельнуть затекшей ногой, он смотрел в небо и думал о бренности человеческих усилий. Да и стоит ли делать какие-то усилия, думал он, если оттуда, сверху, Главный Тамада следит в небесный бинокль за всеми людьми, чтобы каждый делал предписанное ему в согласии с Его великим замыслом?
Так думал дядя Сандро, чувствуя, что постепенно нога его отходит и начинает подчиняться ему. Дядя Сандро пошевелил ею и ощутил, как последние мурашки пробежали по ней и исчезли вместе с расслабляющими мыслями о бренности человеческих усилий.
«Подобно тому, – подумал дядя Сандро, – как моя нога после некоторого застоя пришла в подчинение моему замыслу пошевелить ею, так и я после некоторой слабости должен подчиниться Его замыслу, который, скорее всего, состоит в том, чтобы мне лежать в этих кустах и следить за приготовлениями меньшевиков. Иначе с чего бы я здесь мог очутиться», – решил дядя Сандро и, перевернувшись на живот, приподнял бинокль.
Теперь одно недоумение оставалось у него: какая сила будет тащить это огромное и тяжеловесное сооружение? Мотор? Но если это мотор от автомобилей, которые, фырча и воняя, сейчас бегают по приморскому шоссе, то почему его никто не слышал? А если это мотор от парохода, то где же труба? Без трубы ни один пароход не движется. Это дядя Сандро знал точно. Правда, некоторые говорили, что деревянный броневик может двигаться на буйволах, запряженных изнутри, но дядя Сандро сомневался в этом.
…Арбы все еще подъезжали к сараю. Ворота открывались и закрывались, но увидеть больше того, что он уже увидел, не удавалось. Потом один из солдат вышел из сарая и ушел куда-то, а через некоторое время к сараю подошли человек сорок солдат и все они вошли внутрь. Дядя Сандро догадался, что их привел солдат, что выходил из сарая.
Часовой, что стоял у ворот, сейчас вместе со всеми вошел в сарай и закрыл за собой ворота. Дядя Сандро даже заерзал от нетерпения, до того ему было любопытно узнать, чего это они там заперлись.
Подошла арба. Один из солдат вышел из сарая и, как обычно, ввел ее внутрь. Аробщик, как обычно, отошел и присел в тени алычи. Может быть, потому, что сейчас у ворот не было часового, их забыли закрыть за въехавшей в сарай арбой.
Дядя Сандро впился биноклем в открытые ворота. Даже аробщик, который сидел в холодке, на этот раз заметив, что за ним никто не следит, а ворота остаются распахнутыми, осторожно поднялся и перешел на такое место, откуда было видно, что делается внутри.
Дядя Сандро улыбнулся. Издали в бинокль было забавно подглядывать за подглядывающим. Он опять вспомнил про Главного Тамаду и подумал, что «может быть, Ему так же забавно в свой небесный бинокль следить за мной, как мне за этим аробщиком? Так вот и живем, послеживая друг за другом», – подумал дядя Сандро и, уже больше не отвлекаясь, следил за тем, что происходило в сарае.
А между прочим, друзья, некоторые наблюдения дяди Сандро представляются мне довольно любопытными. Нет, я имею в виду не то, что, мол, живем, послеживая друг за другом, хотя и это достаточно любопытно, а то, что издали в бинокль было забавно подглядывать за подглядывающим. Именно издали, а не вблизи!
Вообще издали странно следить за человеком, который хитрит. Можно издали следить за человеком, когда он спит, ест, работает, целуется, и все это, друзья, не кажется чем-то особенным.
Но стоит издали увидеть, как человек хитрит, чего-то доказывает, изворачивается или, в крайнем случае, просто жульничает, как все это представляется чем-то странным, невероятным, даже как бы фантастическим. Да что ж тут невероятного, вправе вы у меня спросить. Что делает это обыкновенное зрелище из ряда вон выходящим видением?! Расстояние, даль – вот что, друзья мои! Оказывается, наше зрение так устроено, что чем дальше находится от нас наш наблюдаемый собрат, тем приятней нам его видеть в общечеловеческих, так сказать, исторически оправданных проявлениях.
Наблюдая за человеком на расстоянии и догадываясь, что он хитрит, или краснобайствует, или, в крайнем случае, просто ворует стакан из выемки автомата с газированной водой, мы с особой остротой чувствуем, что это совсем не те проявления человеческих свойств, которые мы считаем исторически оправданными. Но так как эти свойства, вопреки исторической оправданности, все-таки разворачиваются на наших глазах, мы начинаем находить во всем этом мистический оттенок, я бы сказал, некоторую, хотя и вялую, связь с кознями дьявола.
А ведь те же проявления человеческих свойств в непосредственной близости представляются хотя и неприятными, но достаточно терпимыми. Вот что значит расстояние!
Кстати сказать, прямо напротив моего дома за высокой каменной стеной находится какое-то предприятие – не то мебельная фабрика, не то секретный завод. Днем там что-то визжит, а в проходной всегда стоит вахтер. Одним словом, не знаю, секретное это предприятие или полусекретное, одно знаю точно, что там днем в рабочее время пить не разрешается.
Я так думаю, потому что каждый день из окна вижу одну и ту же картину. Возвращаясь с перерыва, двое рабочих подходят к углу этой стены и один из них влезает на плечи другого. После этого оба, пошатываясь, выпрямляются, и получается довольно высокая, хотя конструктивно (морально тоже) и неустойчивая пирамида с бутылкой на вершине вытянутой руки.
Бутылка осторожно ставится на стену, после чего конструкция без всяких предосторожностей распадается и уже в виде двух отдельных, якобы независимых друг от друга рабочих исчезает в проходной.
Через некоторое время я вижу, как с той стороны стены появляется голова, из чего я заключаю, что с той стороны имеется земляной вал или еще какое-нибудь подобное сооружение.
Так вот, появляется голова человека, но нет чтобы сразу забрать бутылку и спрыгнуть на землю или в объятия друзей (чего не знаю, того не знаю), так он, владелец этой головы, почему-то сначала смотрит по сторонам, словно любуется неожиданно открывшимся ландшафтом, а потом, как-то рассеянно скользнув глазами по стене, обнаруживает бутылку и, приподняв ее, несколько мгновений оглядывает чахлый скверик, а также окна нашего дома, словно с некоторым осуждением спрашивает: «Кто сюда поставил бутылку?» И словно получив на свой молчаливый вопрос какой-то ответ, он, как бы не вполне удовлетворенный этим ответом, исчезает вместе с бутылкой.
Теперь представьте себе положение человека, который с какого-то космического расстояния следит за всем человечеством сразу и за каждым человеком в отдельности. Я имею в виду Главного Тамаду, как сказал бы дядя Сандро.
Каково ему все это видеть? Какое трагическое противоречие в его положении! С одной стороны, согласно нашей почти доказанной гипотезе, сама огромность расстояния между наблюдателем на небесах и землей создает в душе Главного Тамады неимоверную тоску по человеку, ласкающему взор благородством своих проявлений. А с другой стороны, беспощадная острота зрения, естественная для Всевидящего, не оставляет никаких иллюзий относительно характера подобных внеисторических проявлений.
Но довольно, довольно останавливать нескромный взгляд на этих чересчур интимных мелочах нашего существования. Лучше вернемся к дяде Сандро, тем более что он явно чем-то взволнован.
Вот он переставил локти поудобней и замер, наблюдая. Что же случилось?
На глазах дяди Сандро сооружение сдвинулось с места и отошло в глубь сарая. Он увидел множество ног, примерно по щиколотку торчащих из-под боковой стены. Казалось, чудище ожило и поползло, передвигая множеством коротких лап.
Потом оно в раздумье остановилось, постояло и снова двинулось вперед. Потом опять отъехало назад и наконец остановилось прямо напротив ворот. Из чудища посыпались солдаты. Они влезали на боковые стены и спрыгивали на землю. Один из них подвел арбу к задней стене и вместе с несколькими товарищами стал лопатами сыпать в нее песок.
Теперь дяде Сандро было все ясно. Он понял, что солдаты сами же и будут изнутри толкать свою крепость. Ну и эндурцы, ну и хитрецы, думал дядя Сандро, потихоньку покидая свою засаду. А все же эндурец, он и есть эндурец: голову спрячет, а хвост торчит. Ноги-то виднеются, значит, по ногам и можно будет стрелять.
В это время солдаты стали выходить из сарая, аробщик быстро отошел к алыче, а следом за солдатами выехала из сарая пустая арба. Ворота закрылись, и возле них, как обычно, стал часовой.
Дурачок, подумал дядя Сандро, теперь-то уж мог бы и не стоять. Все-таки он чувствовал некоторую ревность к аробщику, которому и без хитроумной выдумки дяди Сандро удалось узнать, что делается в сарае. Пробираясь в кустах, кружным путем, он возвращался к дому своего друга.
Ночью, дождавшись луны, дядя Сандро выехал со двора своего друга и направился в сторону Кодора. Он решил отъехать на несколько километров выше моста, чтобы не встречаться с красными часовыми, и там перейти реку. Миха сопровождал его до реки.
– Пожалуй, здесь дно получше будет, – сказал Миха, останавливаясь возле заброшенных мостков. Видно, раньше здесь был паром, но сейчас его перенесли в другое место. От парома остался ржавый железный канат, переброшенный через реку, да столбы на обоих берегах.
В призрачном лунном свете неслись к морю воды Кодора. От весеннего таянья снегов река взбухла и помутнела. Слышался беспрерывный гул воды, клацанье и глухие удары камней о камни, сносимые течением. Миха еще раз напомнил ему, как найти дом, где живет комиссар.
– Не забудь за меня словечко, – прокричал он сквозь шум воды, – с богом!
Дядя Сандро кивнул ему и ударами камчи загнал упирающуюся лошадь в воду. Миха криками и свистом взбадривал его сзади.
Дядя Сандро договорился с Михой о том, что в случае победы красных он постарается уверить комиссара в том, что Миха всегда сочувствовал красным. Кроме того, если дела пойдут очень хорошо, они договорились, что дядя Сандро прямо оттуда, с левого берега, покажет комиссару на дом своего друга, благо он стоял на возвышенном месте и возле него росли два кипариса, с тем чтобы комиссар предупредил своих бойцов, чтобы во время завтрашнего боя они стреляли поосмотрительней, оберегая дом левеющего свиновода.
Осторожно перебирая ногами, вздрагивая и останавливаясь каждый раз, когда копыта соскальзывали с камней, лошадь шла вперед.
Вдруг дядя Сандро услышал сквозь гул реки голос Михи и обернулся. Миха показывал рукой куда-то вверх по течению и что-то кричал. Грохот воды не давал расслышать слов, но дядя Сандро почувствовал опасность и посмотрел вверх по течению. Огромная коряга, то высовываясь из воды, то погружаясь, неслась вниз.
«Конец», – подумал он и в то же время сделал единственное, что мог. Он остановил лошадь и вытащил ноги из стремян. Лошадь, не понимая причины остановки, попыталась повернуть, но дядя Сандро натянул поводья и удержал ее.
Он перебросил камчу в левую руку, чтобы правая была совсем свободна. Дядя Сандро решил, что, если коряга налетит на них, он попытается оттолкнуться от нее рукой, если же она все-таки ударит лошадь и опрокинет ее, надо быть готовым к тому, чтобы бросить ее.
В эти несколько секунд решалась судьба лошади и всадника. Он навсегда запомнил эти мгновенья, когда черная коряга, мокрая и блестящая, погружаясь и выныривая, неслась на него, а рядом в мутной воде, бешено подпрыгивая, шатался блик луны, и лошадь мелко и беспрерывно дрожала под ним.
Метрах в десяти от них коряга погрузилась в воду, и дядя Сандро, замерев, сосредоточив всю свою волю, глядел в воду, чтобы успеть опередить любую неожиданность. И все-таки он ничего не успел.
Она вынырнула перед самой лошадиной мордой, со страшной силой хлестанула лошадь и дядю Сандро мокрыми тонкими ветками, так что дядя Сандро на мгновенье ослеп от боли и неожиданности. Лошадь мотнула головой, дядя Сандро еле-еле успел удержать поводья, а в следующее мгновенье он увидел хвост коряги, вынырнувшей ниже по течению, и убедился, что это была не коряга, а целое дерево, подмытое водой. Если б оно напоролось на них, он, конечно, ничего бы не смог сделать.
– Чоу, аннассыни! – крикнул он и погнал лошадь. Лошадь пошла, и он почувствовал первые ожоги ледяной воды, сначала в сапогах, а потом все выше и выше.
– Чоу, аннассыни, чоу! – кричал дядя Сандро и гнал лошадь, чтобы она ни на миг не останавливалась. Теперь над водой торчали только головы лошади и всадника. Дядя Сандро чувствовал, как напрягается тело животного, скособоченное мощным течением, и все кричал и кричал на нее, чтобы перешибить властью страха перед человеческой волей власть страха перед стихией воды. И она шла вперед и вперед, и у дяди Сандро уже покруживалась голова от этого тошнотворного обилия несущихся вод и неотвязчивой пляски мутного блика луны на мутной поверхности реки.
Вдруг лошадь, екнув, погрузилась в воду, копыта потеряли дно, и дядя Сандро почувствовал, что их уносит течение. Ледовитая вода перекатилась через голову. За спиной мгновенно пузырем вздулась бурка, и этот пузырь приподнял его над лошадью и стал смывать с нее. Дядя Сандро до судороги в костях стиснул ногами лошадиный живот, и в этот миг их снова вынесло над водой.
– Чоу, аннассыни! – крикнул он что было сил. Лошадь рванулась вперед и в каком-то допотопном земноводном прыжке нащупала ногами дно и, клацая копытами о камни, все уверенней, все яростней, все победней вынесла его на мелководье того берега. Дядя Сандро оглянулся назад, махнул рукой Михе и, еще разгоряченный смертельной опасностью, погнал лошадь вверх по отлогому берегу.
Примерно через час он подъехал к дому, где остановился комиссар. Хозяин дома был еще более редкий, чем Миха, для того времени абхазец, потому что он целиком жил торговлей, держал в деревне лавку, которая стояла прямо во дворе его дома.
Абхазец этот хорошо говорил по-русски, и дом его на высоких сваях выглядел, даже на взыскательный взгляд дяди Сандро, внушительно и красиво. Так что, учитывая, что дом стоял у самой дороги на Мухус, все удобства у комиссара оказывались под рукой: и толмач рядом, и дом зажиточный, и ближе всех к проезжей дороге.
Обо всем этом думал дядя Сандро, открывая себе ворота и удивляясь, что на этом чистом дворике с голубеющей от лунного света травой не видно собаки. И еще он успел подумать, распахнув ворота и въезжая во двор, что и большевики и меньшевики, хотя по-разному относятся к богатым и бедным крестьянам, все же предпочитают жить в хорошем, сытном доме. Дядя Сандро не только не осуждал их за это, но, наоборот, радовался, находя в этом подтверждение тому, что и у тех и у других за многими странными делами нередко затаен ясный и приятный для всех смысл.
Въехав во двор, он заметил в черной, густой тени лавровишни две русские лошади под кавалерийскими седлами. Еще раньше он заметил часового, сидевшего на крыльце, и, так как тот его не окликнул, дядя Сандро догадался, что он спит.
Дядя Сандро бесшумно соскочил с седла и привязал свою лошадь рядом с этими огромными и, на его взгляд, неудобными лошадьми. Одна из них потянулась укусить его лошадь, но дядя Сандро незаметно для часового, хотя и знал, что тот спит, огрел ее камчой.
Пощелкивая камчой о голенище, стараясь этим мирным, но и достаточно независимым звуком разбудить часового, он подошел к крыльцу. На полу веранды, загородив ногами верхнюю ступеньку крыльца, обняв руками винтовку и откинувшись головой на барьер, спал боец.
Дядя Сандро, подойдя к нему совсем близко, поразился его юности, его стриженой, вытянутой кубышкой голове и тоненькой, прямо-таки замученной шее, подогнувшейся под тяжестью этой маленькой головки.
Как бы не выстрелил спросонья, подумал дядя Сандро и притронулся камчой к его плечу.
– Эй, – позвал он и осторожно добавил новое слово, – товарищ…
Часовой не просыпался. Дядя Сандро оглядел веранду, заглянул в пустые темные окна комнат, обратил внимание, что над барьером веранды висит незнакомый предмет, как догадался дядя Сандро, бачок для умывания с торчащим из него стерженьком. Рядом на гвозде висело полотенце. Дядя Сандро уже видел в богатых домах большие мраморные умывальники, а такого маленького и удобного еще не видел. Он решил, что эту умывалку с собой привез комиссар.
Чего только не напридумают эти русские, с удивлением думал дядя Сандро, оглядывая умывалку. Ему захотелось поддеть стерженек концом камчи, чтобы полилась вода, но он не решился, боясь владельца.
Дядя Сандро снова притронулся камчой к плечу красноармейца. Тот что-то промычал во сне, горло у него заходило, словно он делал над собой усилия, чтобы проснуться. Он и в самом деле проснулся и хмуро, а главное бесстрашно, что неприятно удивило дядю Сандро, оглядел его.
– Комиссара хочу, – сказал дядя Сандро просто и выразительно, чтобы боец спросонья не усомнился в его миролюбии.
– Не велено будить, – хмуро ответил боец и, поуютней обхватив винтовку, снова уснул.
Дядя Сандро вдруг почувствовал, как непривычно тяжело давит ему на плечи мокрая бурка и едва подчиняется его воле окоченевшее тело. Он снова ткнул его камчой, теперь гораздо решительней.
– Сказано, не велено, значит, все, – сказал боец сердито и тут же закрыл глаза.
Вдруг дядя Сандро заметил, что на кухне зажегся свет, оттуда донеслось какое-то перешептывание. Он понял, что там хозяин. Он уже хотел было пройти туда, но отворилась дверь, и из кухни вышел человек. Почему-то прикрыв глаза ладонью, он стал неуверенно приближаться к дяде Сандро, стараясь издали его узнать, даже как бы испытывая, поддается ли этот человек узнаванию.
– По обличью вижу, что ты наш, – сказал человек, слегка сожалея, что узнавание остановилось на самой общей этнографической стадии.
– Да, – сказал дядя Сандро, – я Сандро из Чегема.
– Добро пожаловать, – сказал хозяин, радуясь родной речи и удивляясь визиту, – но что тебя пригнало в такое время из Чегема?
– Я сейчас не из Чегема, а оттуда, – сказал дядя Сандро и кивнул головой в сторону Кодера. Он покосился на бойца, но тот безмятежно спал.
– Да ты, я вижу, весь мокрый, эй! – Он оглянулся в сторону кухни. – Пораздвинь головешки, человеку погреться надо. Войдем, – повернулся он к дяде Сандро. Тайный жар любопытства придавал его голосу воркующие нотки.
– Мне комиссара надо увидеть, да этот паренек не пускает, – сказал дядя Сандро.
– Эти целый день готовятся к завтрашнему, – заметил хозяин и кивнул на часового, – вот этот мальчишка сегодня два раза скакал в Мухус. Если его лошадь выживет, значит, я ничего в жизни не понимаю.
– Да, такое время, – протянул дядя Сандро неопределенно. В щелях дощатой кухонной стены посветлело, и дядя Сандро понял, что это занялся очаг. Он уже хотел было войти туда, но тут скрипнула дверь, и из комнаты на веранду вышел человек в нижней рубашке. Уверенно шлепая босыми ногами, он подошел к барьеру. Это был комиссар. Боец, как только скрипнула дверь, мгновенно вскочил и стал с винтовкой.
– Что случилось? – спросил комиссар, наклоняясь над барьером веранды и одновременно почесывая лохматую грудь.
– Я оттуда, – кивнул дядя Сандро в сторону Кодора.
– Ну и что? – спросил комиссар и, перестав чесаться, подтолкнул стерженек умывалки и провел мокрой ладонью по зашерстевшему щетиной лицу.
Дядя Сандро, ожидавший более достойного приема, обиженно молчал.
– Может, еще расскажешь про деревянный броневик? – спросил комиссар, не слишком торопясь и любуясь, как показалось дяде Сандро, его растерянностью. Комиссар еще раз подтолкнул ладонью стерженек, плеснул воду на лицо и посмотрел на дядю Сандро более осмысленно.
– Для этого приехал, – сказал дядя Сандро и, стараясь оставаться независимым (хоть и приехал), шлепнул камчой по сапогу.











