Читать онлайн История метафизики. Том 1, часть 1. Античная и средневековая метафизика
- Автор: Эдуард Гартман
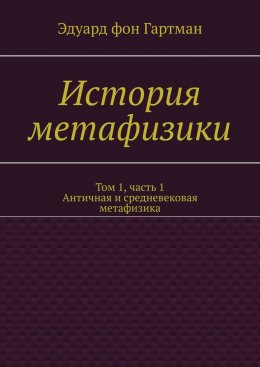
Переводчик Валерий Алексеевич Антонов
© Эдуард фон Гартман, 2024
© Валерий Алексеевич Антонов, перевод, 2024
ISBN 978-5-0064-0869-2 (1-1)
ISBN 978-5-0064-0870-8
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
I. Античная метафизика
1. Доплатоническая метафизика
Научная трактовка метафизики впервые встречается у греков. Здесь впервые возникает стремление освободить метафизику от пут, связанных с образно разработанными религиозными воззрениями, поставить ее на собственные ноги и привести в научную форму посредством интеллектуальных концептуальных размышлений.1
Документальная история греческой метафизики начинается для нас только с Платона; все более ранние попытки известны нам только по бессвязным цитатам и по сомнительным сообщениям третьих лиц. Реконструкция доплатоновской метафизики по столь скудному материалу, несомненно, является задачей, привлекательной для филологов и историков; ведь ничто так не жаждет человек, как решение таких проблем, в которых объединяющее и дополняющее воображение и догадливость находят широчайший простор. Соответственно, литература по доплатонической философии гораздо обширнее, чем можно было бы ожидать по сравнению с ее значением в более поздние периоды.
Однако реконструкция сопряжена не только с внешними, но и с внутренними трудностями. Если отбросить тенденциозно окрашенные рассказы поздних авторов и ограничиться действительно достоверными сообщениями людей, более близких к тому времени, то имеющийся материал сокращается до такой степени, что мы смогли бы извлечь из него очень мало, даже если бы были хорошо знакомы с общим мировоззрением тех веков и образом мышления тех исследователей.
На самом деле, однако, нам чрезвычайно трудно вернуться к тому, как доплатонические философы подходили к миру и жизни, потому что мы должны отбросить все, что относится к нашим самым обычным базовым взглядам, и потому что мы никогда не уверены, не является ли то немногое, что мы тогда сохранили, все еще чем-то совершенно чуждым тому времени. Мы должны были бы снова стать детьми, чтобы полностью понять их, детьми, не тронутыми учениями взрослых; мы должны были бы научиться смотреть на природу глазами древних эллинов и погрузиться в основные мифологические воззрения того времени, которые лишь отчасти знакомы нам как предмет поэзии, но совсем не как содержание веры. Все это представляло бы величайший интерес с культурно-исторической точки зрения, но история метафизики выиграла бы от этого лишь несоизмеримо меньше. С философской точки зрения достаточно лишь беглого введения, в котором рассматриваются заикающийся лепет и борьба доплатонических попыток построения систем, – этого достаточно, чтобы открыть для понимания исходные пункты платоновской мысли.
Фалес Милетский (родился около 640 года) упоминается первым во всех различных списках семи мудрецов, и поэтому можно предположить, что именно с него начались попытки греческого разума извлечь натурфилософское ядро из мифологической оболочки космогонии. Он стремился определить то, что сохраняется в изменении мирового процесса, субстрат космогонических изменений, короче говоря, первоматерию или основную субстанцию мира, и нашел ее в воде, или первозданной влаге, в океане, на котором плавает земной диск. Следует думать о продолжении земного океана в небесном, о тождестве мирового океана с морем облаков или морем воздуха (гомеровским Океаносом и гесиодовским Ураносом). Это та же самая доктрина, которая была выдвинута жречеством египетского Неита, независимо от того, заимствовал ли ее Фалес оттуда или создал сам. С этой точки зрения о различии между первозданной субстанцией и первозданной силой можно говорить так же мало, как между physis и psyche, мировой субстанцией и мировым духом. Все полно богов, все одушевлено, не только растения, но и магнит, который притягивает в своем натертом состоянии. Именно безразличие таких противоположностей является естественной отправной точкой, на которую эллинский ум опирается даже гораздо позже, в стоицизме, хотя дуализм к тому времени уже был установлен и систематически реализован философами первого ранга. Поэтому было бы совершенно ошибочно считать Фалеса материалистом; его даже не следует называть гилозоистом, поскольку божественность его принципа означает нечто большее, чем одушевленность или оживленность.
Анаксимандр (611/10 – вскоре после 547/6) ищет первичную субстанцию мира в гесиодовском Хаосе, как еще абсолютно бесформенном и потому неопределенном или неограниченном (άπειρον, άόριοτον), которое противопоставляется формованному (είδοπεποιημένον). Соответственно, он отказывается от дальнейшего определения элементарной природы первоматерии, именно потому, что она не должна иметь таковой, но определяет ее как неоформленную, нетленную и находящуюся в вечном движении. Из этой лишенной свойств субстанции выделились все противоположные свойства, прежде всего теплое и холодное; из обоих этих свойств возникла влага (с которой Фалес и начинает), и только от влаги отделились земля, воздух и огненный круг (т. е. фон звездного неба). Из кварианского движения неограниченного следует чередование сотворения и распада мира и бесконечный ряд сменяющих друг друга мировых образований.
Анаксимен (род. около 588—524 гг.) ищет вечно движущееся неограниченное Анаксимандра в мировом воздухе, который способен к разрежению и конденсации, или расширению и сжатию, и в первом случае становится огнем через нагревание, а во втором – ветром, облаками, водой, землей и звездами через охлаждение. В дыхании воздух предстает как животворящая душа, в дуновении ветра – как мировой дух (πνεύμα). В третьей четверти V века последователь Анаксимена Диоген Аполлонийский утверждает этот натуралистический монизм в противовес дуализму Анаксагора, с одной стороны, определенно описывая мировой воздух как физическую первоматерию (σώμα), а с другой – утверждая, что воздух не может быть понят без имманентного τους или ума, который для него совпадает с жизненной силой и ощущением. Только здесь наивный индифферентистский монизм превращается в гилозоистический материализм.
Все эти натурфилософы по сути своей остаются физиками, хотя различие между физикой и метафизикой все еще остается вне сферы их зрения, и они пытаются постичь метафизическую сущность мира с помощью физических определений. Фалес и Анаксимен в конечном счете служат лишь строительными блоками для четырех элементов Эмпедокла; Анаксимандр же с его противопоставлением беспредельного и сформированного представляет одну из сторон основ платоновского дуализма и поэтому должен казаться нам более важным, чем его товарищи. Однако то, в чем Анаксимандр искал действительное бытие, у Платона становится небытием; у Анаксимандра основной идеей является устойчивая субстанция, к которой в качестве атрибута прилагается только неопределенность, но у Платона понятие неограниченного становится субстанцией, причем в его работе нет ни одного упоминания о физической субстанции, и только Аристотель снова меняет это отношение, возвращаясь, так сказать, к Анаксимандру через Платона. Только теперь мы приходим к собственно метафизикам, которые надеются получить более глубокое понимание мира не из чувственного восприятия данных природных элементов, а из категориальных понятий.
Переход оформляется Пифагором, который стремится конструировать мир уже не из чувственно-природных, а из понятийных, но еще не из чисто метафизических, а из математических, конкретно арифметических, определений, но для которого математические определения уже превращаются в метафизические.
Пифагор (ок. 580—500) глубоко изучал математику и предстал перед магией чисел и их таинственным влиянием на мир с безмерным изумлением первооткрывателя. То, что музыкальные созвучия и гармонии основаны на соотношениях длин струн, что расположение и орбиты звезд определяются мерой и числом, что для определения (прямой) линии требуется двузначное число точек, для определения (плоской) поверхности – трехзначное число, для определения тела – четырехзначное число, – все это казалось в то время глубоким проникновением в сокровенную суть мира. Музыкальная «гармония», которая в то время еще понималась как шкала октав, предстала как микрокосмический контробраз астрономического устройства макрокосма, то есть относительных расстояний его небесных сфер (гармония сфер). Совершенным числом является число четыре, поскольку это число трехмерной или совершенной пространственности и поскольку соотношения 1: 2: 3: 4 включают интервалы октавы, пятой и четвертой (пятая не встречается в античной тональной системе, поскольку интервал мажорной терции определяется пятыми). Сумма первых четырех чисел равна десяти, которая, таким образом, символизирует вселенную или мир. Сфера неподвижных звезд и семь планетарных сфер (включая Солнце и Луну) дополняются до 10 Землей и контрземлей, вращающимися вокруг центрального огня. Отсюда мы перешли к совершенно непонятному для нас символизму чисел, крайне произвольному, частично колеблющемуся, частично условно фиксированному.
Мы уже не можем определить, насколько сильно согрешил при этом сам Пифагор. Но то, что сам Пифагор путал расположение чисел с существованием чисел и подчинял содержательный смысл их формальному значению, можно считать несомненным, так что он действительно считал идеальные числа (от 1 до 10) основными субстанциями или конститутивными принципами Вселенной. Аналогичным образом Пифагор сам играл в любопытную игру с противопоставлением степеней и не степеней в числах. Делимость или неделимость на два, полная отмена деления или остаток, казалось ему, разделяли первичные принципы на два враждебных лагеря; как вещи состоят из чисел, так и числа теперь, казалось, состоят из степеней и не степеней. Физически
Противопоставление неградуированных степеней ийидов подобно противопоставлению огня и земли, в то время как вода, содержащая и то и другое, представляет собой первую неградуированную степень. Поскольку остаток, остающийся после деления на два, устанавливает предел делимости на два, а степень не имеет такого предела деления на два, то степень без степени описывается как ограничивающая, а степень – как неограниченная, Противопоставление ограниченного и неограниченного заменяется противопоставлением неограниченного и градуированного Противопоставление неограниченного и ограниченного теперь может быть истолковано гораздо шире, чем противопоставление градуированного и неградуированного, ибо оно сразу же переходит в противопоставление пустой неопределенной пространственности или неопределенной, но определяемой газообразной жидкости и того, что определяет ее мерой и формой. Затем пифагорейская школа реализовала эти две основные противоположности в восьми дальнейших вариациях, так что число десять (или основное число идеальных чисел) становится полным.
Ограничивающий элемент приобретает значение самодостаточности или завершенности. Так же как в сфере чисел это должно быть представлено неградусом, так и в сфере пространства – прямой линией, плоскостью и прямой, в сфере фигур – равносторонним или правильным (квадратом), в сфере механики – покоем, в сфере природы – светлым и мужским, в сфере морали – добром. Самое совершенное из всех чисел – единица или единство (ἒν или μόνας); это число par excellence, потому что, будучи первоначалом или принципом, или порождающим отцом всех чисел, оно неявно содержит их все. Если сложить соответствующие противоположности, то получатся следующие десять пар:
1. ограничивающий и неограниченный.
2. неградуированное и градуированное.
3. один и много (или неопределенная двойственность).
4. правое и левое.
5. мужское и женское.
6. покоящееся и движущееся.
7. прямое (плоскость) и кривое.
8. свет и тьма.
9. добро и зло.
10. квадрат и продолговатый прямоугольник.
Это хаотическое нагромождение физических, этических, антропологических, математических, механических и метафизических понятий вряд ли можно назвать таблицей категорий; тем не менее для Платона и Аристотеля она стала новаторской в плане установления категорий. Платон не только записал из этой таблицы противоположности единого и многого, покоя и движения, добра и зла, но и противоположности беспредельного и предельного, которые в его системе вообще не имеют никакого значения, и противоположности неограниченного и предельного, которые под влиянием Анаксимандра, Демокрита и Анаксагора приобрели совершенно иной смысл. Аристотель вряд ли придал бы такое значение числу десять в своей полной таблице категорий, если бы это число не было освящено пифагорейской таблицей.
Кстати, эти противоположности не являются для Пифагора последним и высшим делом; гармония стоит над ними, преодолевая их объединяющим образом. Математическое выражение этого поставления единства перед противоположностями Пифагор ищет в Едином, но не во вторичном Едином, которое как противоположность множества или неопределенной двойственности само является лишь членом противоположности, а в первичном Едином, которое еще не вошло в арифмогонический процесс и потому стоит над противоположностями Единого и Разности, Неделимого и Степени, Это Единое или это Единое как первопринцип, который сначала разворачивает мир чистых чисел, через них – «геометрические числа» или простейшие пространственные образования, а через них – весь остальной мир, продвигаясь от низшего к высшему, занимает место Божества, энергией которого является мир. Это обозначение монистического первопринципа в соответствии с его формальной природой как Единого перешло от Пифагора к элеатам и Платону, а от последнего – к неоплатонизму. Пифагорейское презрение к множественности в виде демократической массы также обусловлено доминирующим положением Единого.
Если число, или гармония, приравненная к определению числа, является сущностью всего, то неудивительно, что она также составляет сущность души или принципа жизни. Душа – это гармония тела, которая, как и гармония мира, есть число десять; благодаря этой аналогии со вселенной она способна познать ее, ибо знание доходит лишь до математической определимости, то есть до числа, недоступного трюге. Полное господство меры над неограниченным (чувственным) в душе есть ее здоровье; равное количество (квадратное число) в душе есть (воздаяние) справедливость. Из орфических мистерий Диониса Пифагор перенял учение о переселении душ и повторении одних и тех же мировых процессов через большие промежутки времени. Мировая душа – это гармония, пронизывающая мир из центрального огня; центральный огонь, однако, находится под землей, между землей и противоположной землей в центре Вселенной, которая относится к нему, как единое относится ко многим. Таким образом, импульс к движению и порядку исходит из центра, а не с периферии, что прямо противоположно Аристотелю. Кстати, сомнительно, что эта доктрина о мире-душе была действительно выдвинута доплатоническими пифагорейцами. Согласно пифагорейцу Филолаю, современнику Сократа, тетраэдр является основной формой огня, куб – земли, октаэдр – воздуха, икосаэдр – воды, додекаэдр – всеохватывающего эфира. Этой гипотезы в основном придерживался Платон.
Элеатская школа восприняла пифагорейский принцип Единого, из которого все разворачивается; Ксенофан подчеркивал понятие Единого и его теологическое значение в монотеистическом смысле, Парменид – понятие бытия и его метафизическое значение в абстрактно-монистическом смысле. Мелисс защищает эту точку зрения против старых натурфилософов, не без того, чтобы не свести ее к натурализму, который был преодолен; Зенон защищает ее диалектически против передовых точек зрения, которые принимают реальность множественности и становления в соответствии со здравым смыслом.
Ксенофан (ок. -484/80) обязан своим важным положением смелой
Своим важным положением он обязан смелой критике эллинского политеизма, его антропоморфных и антропопатических фигур богов и морально предосудительных и даже недостойных бога мифов. В противовес этому он провозглашает, что есть только один Бог, «не сравнимый со смертными ни по форме, ни по мысли», который «все око, все ухо, все мысль» «без усилий» управляет всем своим мышлением, который вневременно вечен и свободен от неопределенности, а также множественности и изменений. Разумеется, о выделении этого божественного Единого или Бога из мира не может быть и речи; по отношению к вселенной он называет это Единое и Целое Богом. Поэтому он учит не теизму и не пантеизму, а теопантизму. Точно так же Единое все еще полностью колеблется между метафизическим и физическим значениями (Бог и шар); даже у его преемников эти два значения еще не резко разделены, хотя метафизическое преобладает у Парменида, а физическое – у Мелиссоса. Согласно Ксенофану, мир нетленен и вечен, поскольку совпадает с нетленным и вечным Богом; тот факт, что в мире происходят изменения (в том числе космогонического характера), но Бог предполагается неизменным, еще не признается.
Парменид, чей расцвет приходится на конец VI века, ставит во главу угла оппозицию бытия и небытия; первое – единое, вечно, неподвижно, несотворенно и неразрушимо, второе придает ложную видимость множественности, времени, движения, становления и прехождения. Таким образом, Парменид определяет бытие через две пифагорейские категории – единое и неподвижное; в пространственном плане, ради совершенства, он представляет его как сферическую форму, ограниченную в себе и имеющую все одинаковые размеры. Только существующее есть и мыслится, несуществующее не мыслится и ни в коем случае не может быть мыслимо. Существующее должно стать несуществующим, потому что оно не может стать ни из себя, ни из несуществующего. Кроме того, существующее неделимо (не делится ни на себя, ни на свою противоположность), равно самому себе, единство физического и духовного, бытия и мышления. Несуществующее – это нереальное и немыслимое, никак не существующее; видимость множественности возникает из-за того, что несуществующее принимается за некое существо, и вещи представляются как композиции существующего и несуществующего. Как может возникнуть такая обманчивая видимость бытия – это, конечно, противоречие, которое Парменид так же не в состоянии объяснить, как и другой абстрактный монист; все попытки объяснить его всегда предполагают то, что должно быть объяснено, а именно второе бытие в едином или рядом с ним, и отступают перед тем, что отрицается, а именно множественностью в едином или вне его. Попытки объяснения Парменида носят не метафизический, а физический характер, предполагая тем самым природу в Боге, возникновение которого из Бога они хотели объяснить. С этой точки зрения берется восьмая пифагорейская антитеза, свет и тьма, и в ней символизируется антитеза бытия и небытия в физической сфере.
Кроме того, той же цели служат противоположности теплого и холодного, тонкого (эфирного, огненного) и плотного или тяжелого (земного), с помощью которых он стремится приблизиться к противопоставлению духовного и материального.
Главный интерес Парменида, как и всех элеатов, сосредоточен на двух категориях – бытия и единого, которые почти сливаются в одну, и на более тесном определении неизменного самоподобия или неподвижного покоя этого единого.
Будучи на двадцать пять лет моложе Парменида, Зенон предпочитает заниматься косвенными доказательствами этого абстрактного монизма, который, как показывает стрелка, покоящаяся в каждом мгновении, он берет из антиномизма дискретного и непрерывного, не достигая, однако, ясности в этой концептуальной оппозиции. Его аргументы против множественности и становления – весьма прозрачные софизмы, как и последний, направленный против движения, который заимствован из относительности движения двух тел относительно друг друга. Софизм в первых двух доказательствах против движения не так легко заметить; он состоит в том, что он делает бесконечно продолжительное деление пути и времени, необходимого для его прохождения, и ожидает, что мы будем считать сумму бесконечно многих периодов времени бесконечно большой только потому, что их бесконечно много. Таким образом, он приходит к утверждению, что для преодоления конечного расстояния потребуется бесконечно большое время; но он забывает, что сумма бесконечного числа бесконечно малых периодов времени дает конечное количество так же, как сумма бесконечного числа бесконечно малых расстояний дает конечное расстояние. Он опирается на тот факт, что мы имеем в виду только конечный размер бесконечной суммы для пути, но не имеем в виду такую же конечность суммы времени или не будем иметь ее в виду. Поскольку нам требуется конечное время даже для того, чтобы продумать каждый отрезок пути, то, конечно, для того, чтобы покрыть конечное расстояние бесконечным числом отрезков, нашему мышлению потребуется бесконечное время; Как только мы забываем, что реальное движение требует лишь бесконечно малых частей времени для преодоления бесконечно малых расстояний, бесконечная сумма бесконечно многих конечных частей времени подменяется конечной суммой бесконечно многих, но в конечном счете также бесконечно малых частей времени реального движения и создает ложную видимость того, что оно не может достичь своей цели.
Но и в этих доказательствах подлинный смысл мышления Зенона остается затуманенным тем, что вместо абсолютно дискретного подставляется псевдодискретное, полученное путем бесконечного деления, бесконечно малое, но само по себе непрерывное. Этот способ мышления проявляется в полной чистоте только в третьем аргументе против движения, согласно которому летящая стрела покоится в каждой точке своего пути, то есть покоится на протяжении всего пути. Здесь обнаруживается ложная предпосылка, что непрерывное состоит из дискретного и поэтому также должно быть реконструировано из дискретного в мышлении, но что непрерывное не может существовать, если мышление не может реконструировать его из дискретного. Непрерывный путь стрелы не может быть составлен из дискретных, нерастяжимых точек пространства, время ее полета не может быть составлено из дискретных, непрерывных точек времени; из этого Зенон делает вывод о невозможности движения, вместо того чтобы спросить себя, не направлены ли его попытки составить непрерывное из дискретного на решение ложной проблемы и не основаны ли они на непонимании противоположности дискретного и непрерывного.
Мелиссос, разгромивший афинский флот в 442 году в качестве науарха саамов, отказался от пространственной ограниченности единого бытия и заменил ее бесконечностью. Он борется с пустым пространством и использует его невозможность для борьбы с разбавлением или сгущением существующей субстанции. Невозможность движения также вытекает из отсутствия пустого пространства, если исключить сгущение и разрежение вещества, заполняющего все пространство. Наконец, из этого вытекает невозможность разделения и смешивания вещества. При таком отрицании любых физических изменений не остается ничего другого, как объяснить видимость изменений субъективным обманом чувств.
Гераклит (около 500 г.) работает рядом с Парменидом, возможно, даже раньше него. В противоположность бытию он возводит становление и инаковость в первичную категорию в том смысле, что это относится к постоянному возникновению и исчезновению всего существующего, в котором ничто не сохраняется, кроме изменений, ничто не остается, кроме потока событий, ничто не неизменно, кроме вечного превращения, изменения и движения всех вещей. Она не знает иного бытия, кроме изменчивого мира чувств, в котором элеаты находят именно небытие. По этой причине множественность, которую элеаты могли вывести только из ложной видимости небытия и его смешения с бытием, возвращается у Гераклита в права реальной метафизической категории, как и движение по отношению к покою, а покоящееся единство сводится к вечному принципу течения и превращения, движущей силе процесса. Эту движущую силу процесса он находит символизированной в неустанно движущемся, всеплавящемся, то образном, то всепожирающем огне, который в то же время оказывается принципом жизни или души. Этот бесплотный первозданный огонь, конечно, не следует путать с земным огнем, но это принцип тепла или свирепости; это иное определение неограниченного Анаксимандра, чем то, которое дал Анаксимен, но, тем не менее, предполагается, что оно по сути идентично бесплотному первозданному воздуху последнего. С точки зрения становления противоположности, постоянно сливающиеся друг с другом, приобретают повышенное значение; каждая вещь есть или существует только как мгновенная точка пересечения противоположных течений природной жизни, и как всегда только становящаяся, никогда не существующая, она представляет собой реальное единство бытия и небытия. Закон противоположности и ее объединения становится господствующим законом мира, и реальность становления состоит в конфликте (πόλεμος), в стремлении друг к другу и поддержке друг друга, во встрече противоположных напряжений. Таким образом, Единый Принцип также порождает все из себя, и вся множественность постоянно возвращается к Единому как к своей гармонии, как у Пифагора. Один – это путь вниз (огонь, вода, земля), другой – путь вверх (земля, вода, огонь), и оба они едины. Поэтому неудивительно, что, подобно Анаксимандру, Анаксимену и Пифагору, он предполагал постоянное чередование возникновения и распада мира, только для него возникновение предстает как образное, распад – как поглощающее действие первородного огня, а в мировых интервалах вся множественность сводится на нет единством первородного огня. Точка зрения Гераклита – монизм, несмотря на признание реальной множественности, поскольку принцип неограниченной изменчивости обладает всеобщей истиной и реальностью, выходящей за пределы эмпирической реальности отдельного человека. Более того, это безразличие метафизического и натуралистического монизма, поскольку метафизический принцип его реальной диалектики предстает, с одной стороны, натуралистически как первородный огонь, то есть как неограниченная материальная жидкость тончайшего рода, а с другой – спиритуалистически как всезнающее и направляющее божество. Таким образом, точка зрения Гераклита представляется философским исследованием жреческих мистерий, которые культивировались в культе Ра или Гефеста, подобно тому, как Фалес относился к культу Неита. Гераклит развивал свою доктрину не в противовес элеатам, а независимо от них, возможно, даже раньше Парменида, так что намерение связать принципы бытия и небытия в гегелевском смысле со становлением не может быть ему приписано.
Эмпедокл (ок. 495—435) вместе с Парменидом утверждает бессмертие, нетленность и неизменность бытия, а вместе с Гераклитом – реальность множественности и процесса.
Против Парменида он утверждает качественную множественность и подвижность бытия, против Гераклита – невозможность становления в собственном смысле слова, невозможность единства противоположностей и качественного изменения. Поэтому основными категориями Эмпедокла являются бытие и движение, что приводит к следующей паре категорий – соединение и разделение (частей материи). Соединение и разделение, однако, снова требуют для своего объяснения двух принципов натурфилософии, которые мы бы обозначили как стремление к объединению и стремление к разделению, или как притяжение и отталкивание, но которые Эмпедокл, следуя элеатам и Гераклиту, символизирует как любовь и ненависть (гармония и конфликт), Отчасти потому, что ему не хватает подходящих выражений, отчасти потому, что он хочет представить силы, действующие в материи, как нечто духовное, что даже указывает на этическое противостояние добра и зла Сочетание и разделение частей материи объясняет, с одной стороны, смешение и разделение Анаксимандра, а с другой – сгущение и разбавление Фалеса и Анаксимена
Теперь то, что существует, части которого подвержены соединению и разделению посредством движения, определяется уже не как простая материя, а как смесь четырех материальных начал или корней, для которых Аристотель ввел название элементов. Вода Фалеса, воздух Анаксимена, огонь Гераклита и земля Парменида, которая является противоположностью огня, теперь становятся согласованными принципами. Эта субстанциализация трех состояний материи и нагревание до углей оставались в неоспоримом почете с тех пор до эпохи Возрождения. Они образуют субстраты бессубстратного процесса Гераклита, в то время как главная движущая сила этого процесса лежит в независимых от них духоподобных потенциях. В этом дуализме субстанций и сил, материальных субстратов и духовных сил движения прежняя философия тождества, или, скорее, философия безразличия, Эмпедокла расходится с дуализмом, смысл которого, еще не осознанный здесь, становится ясен только у Анаксагора.
Первоначальное Единое Существо или Все, в котором смешаны все четыре материальных начала, то есть в котором любовь всесильна, а ненависть бессильна, Эмпедокл обычно называет сферой, поскольку вместе с Фалесом он приписывает ей шарообразную форму. Когда ненависть пробуждается и приводит к разделению единого, начинается развитие мира; оно приводит к состоянию полного рассеяния или разделения материальных частиц, в котором ненависть всесильна, любовь бессильна, а индивиды существуют так же мало, как и в первом состоянии. Однако правило любви оказывается лучше правила ненависти, поэтому в конце концов процесс обращается вспять и возвращается к соединению всех частей, то есть к исходной точке, чтобы повториться ad infinitum. Эмпедокл объединяет учение Ксенофана о едином божестве и доктрину Пифагора о переселении душ с этой дуалистической метафизикой без какой-либо видимой объединяющей связи. Главная трудность эмпедокловской физики заключается в том, что он отрицает пустое пространство и любую изменчивость частиц материи и при этом хочет сохранить возможность движения; как уже отмечал Аристотель, это запутывает его в противоречиях, которые невозможно разрешить с его точки зрения. —
Если их можно избежать, то наряду с (существующими) частицами материи необходимо предположить (несуществующее) пустое пространство, чтобы создать пространство для движения, которое у Эмпедокла заслонено ничем иным, как неизменными частицами материи; атомисты Левкипп и Демокрит добились этого, полностью растворив в механическом движении движущие силы, которые у Эмпедокла еще колебались между механическими силами и духовными силами и стояли вне материи, и полностью перенеся их в частицы материи. Таким образом, дуализм Эмпедокла возвращается к монизму, но теперь уже не к наивной философии тождества или, скорее, философии безразличия, а к одностороннему материализму. Анаксагор пошел по пути, противоположному Лейциппу, возвысив причину движения от слепых импульсов или аффектов до рациональной, целенаправленной духовности, тем самым усилив дуализм. Подобно Пармениду и Гераклиту, Лейципп и Анаксагор – современники и противоположности, но они представляют собой контраст уже на гораздо более высоком уровне философского сознания. В обеих парах противоположностей не имеет значения, какой из двух членов рассматривается раньше другого.
Лейципп (ок. 495—405) либо преподавал только устно, либо его труды были включены в труды Демокрита, который, по-видимому, придал взглядам Лейциппа более точную физическую форму. Вместе с элеатами Лейципп отвергает реальное становление не только в смысле абсолютного возникновения и исчезновения и качественного изменения существующего (как это делал и Эмпедокл), но и в смысле перехода единого во многое или наоборот. Вместе с Парменидом он рассматривает полное, заполняющее пространство (материальное) как существующее, а его противоположность, пустоту, как несуществующее; но вместе с Гераклитом он отменяет примат элеатского существующего над несуществующим и утверждает, что Я (δέν) есть не что иное, как ничто (μηδέν). Уже пифагорейцы отождествляли пустоту с беспредельным и считали тела состоящими из сформированных частиц материи и пустых промежуточных пространств (пор); Левкипп объединяет это учение с учением Эмпедокла и называет сформированные части материального бытия формами или идеями (σχήματα или ίδέαι), которые он описывает как непористые или абсолютно полные и в то же время как неделимые или атомы. По Лейциппу, природа неразумна (φύσις ἂλογος), так что не может быть и речи о целенаправленности ее действий. Если Эмпедокл уже допускал возникновение всевозможных неуместных и неспособных форм посредством движений, следующих из любви и ненависти, до того, как за ними последовали постоянные организмы, то Левкипп превращает эти слепые импульсы любви и ненависти в столь же слепую необходимость, которая витает над атомами и вне их как судьба и поэтому предстает как нечто случайное по отношению к их внутреннему существу.
Демокрит, который, как предполагается, был на добрый век моложе своего учителя, теперь пытается объяснить явления природы из атомов и пустого пространства. Пустое пространство должно быть предположено потому, что полное не может содержать ничего, а отсутствие пустого пространства сделало бы невозможным движение. С другой стороны, при наличии большего или меньшего пустого пространства внутри тел становятся понятными разбавление и конденсация, впитывание (например, воды в порах пепла) и рост. Атомов бесконечно много, они несотворенны, беспричинны и нетленны, различаются по форме, размеру и весу, находятся в разных отношениях друг к другу по порядку (последовательности) и положению (относительному осевому вращению). Тяжесть атомов пропорциональна их размеру и в то же время является причиной движения, присущего атомам. При параллельном вертикальном падении атомов в бесконечность более крупные и тяжелые падают быстрее, чем более мелкие и легкие (согласно предположению древних), и поэтому частично сталкиваются с ними; косое столкновение более быстро падающих с более медленно падающими создает распространяющиеся вихри. Самые маленькие и круглые атомы – это атомы огня; подобными им являются атомы души, которые пронизывают все тела повсюду и постоянно поглощаются заново через дыхание. Качественные различия между атомами исключены, они существуют только для нас. Эманации вещей проникают в органы чувств и сталкиваются с атомами души, которые не отличаются от принципа познания; поэтому познание должно быть объяснено в чисто материалистических терминах. Бесчисленные миры существуют рядом друг с другом и рядом с нашим; бесчисленные живые существа рядом с человеком, которые превосходят его по размеру, форме и жизненной силе, но тем не менее чисто материальны, как и он, и поэтому также воспринимаются при определенных обстоятельствах (духи воздуха, демоны, боги народной веры). Блаженство – это не внешнее, а внутреннее, безмятежное спокойствие, атараксия, которая достигается благодаря умеренности. Мудрый человек уже чувствует себя гражданином мира. Во всем этом можно распознать основные черты того, что впоследствии изложил Эпикур.
Атомизм – это прежде всего дуализм существующего вещества и несуществующего пустого пространства; внутри существующего, однако, это онтологический плюрализм, и его многочисленные атомы имеют точно такие же детерминации, как если бы они были разрозненными фрагментами элеатического Единого. Возможность реального процесса и реальной множественности, таким образом, сохраняется, но натуралистический базовый характер элеатского Единого и гераклитовского процесса односторонне отметается за счет духовности и рациональности и низводится до материализма. Этот материализм произвольно различает неодушевленные атомы тела и одушевленные атомы души, через обитание которых тела одушевляются лишь косвенно; по отношению к первым он является чистым, по отношению ко вторым – гилозоистическим материализмом. Тем не менее, предполагается, что атомы тела и души различаются не качественно, а лишь количественно (размер, форма и т. д.), причем атомы души должны быть меньше и проще по форме, чем сходные с ними атомы тела. Объяснение движением основано исключительно на передаче движения при столкновении соприкасающихся атомов, при котором они, очевидно, должны предполагаться упругими; однако упругость немыслима в случае бесчастичных, равномерно заполненных атомов материи. Именно здесь терпит неудачу вся кинетическая атомистика, полагающая, что она может обойтись без сил. Тот факт, что кинетическая атомистика древних была неспособна объяснить возникновение процесса из-за предположения о параллельных направлениях падения (несмотря на ложное предположение о различных скоростях падения в пустом пространстве), не мог остаться скрытым даже от глаз современников. Поэтому Аристотель выбрал лучшую часть этого атомизма, прибегнув к концепции качественного изменения элементов.
Когда Анаксагор (500—428) писал свой трактат о природе, он был знаком не только с учением Эмпедокла, но и с атомизмом Лейциппа и соглашался с обоими в том, что материальные субстраты вечны и качественно неизменны, то есть что все творение и все изменения основаны исключительно на смешении и разделении основных веществ. Вместе с Лейциппом против Эмпедокла он допускает бесконечное число (а не только четыре) различных материальных составляющих; вместе с Эмпедоклом против Лейциппа он ищет различие конечных первичных субстанций в их качественной природе (а не только в количественной) и придерживается их бесконечной делимости. Вместе с Анаксимандром и Эмпедоклом он предполагает хаотическое первобытное состояние, то есть такое, в котором все первоматерии тесно перемешаны, и ищет мировой процесс в постепенном разделении разнородного и объединении однородного, при этом, с одной стороны, как и у Эмпедокла, остается неразделенный остаток, а с другой – материальная однородность ни в одной вещи не является полной. Напротив, в каждой вещи, несмотря на преобладание одной или нескольких конкретных первичных субстанций, все же присутствуют следы всех бесконечно многих первичных субстанций. Следует признать, что эти сходные элементарные первичные субстанции Анаксагора (названные им χρήματα, σπέρματα или ίδέαι, т. е. вещи, семена или идеи, позднее – другими гомеомериями) ближе к современным химическим элементам, чем к четырем элементам Эмпдокла.
Во всех этих определениях Анаксагор остается чистым физиком, как и в более подробной реализации своей космогонии, который не пытается ничего иного, кроме физических объяснений в соответствии с механическими принципами, даже если он отклоняется от своих предшественников в некоторых пунктах своих физических гипотез. Но не в этом заключается его влияние на дальнейшее развитие философии, а в установлении метафизического принципа наряду с физическим, и оно не уменьшается от того, что он сам еще не знает, как правильно использовать этот принцип, а фактически ограничивает его применение первоначальным импульсом для начала физического процесса разделения. Такой второй принцип в дополнение к субстанции кажется ему необходимым для того, чтобы придать частицам материи движение, которое они не могут получить сами от себя. То, что он определяет движущую причину как разумный дух (νούς), оправдано тем, что движение, порождающее такое прекрасное и целеустремленное целое, как мир, должно быть представлено как упорядоченное.
В противоположность ведению жизни в соответствии со слепыми инстинктивными аффектами симпатии и антипатии, эллинизм в его наиболее развитых племенах в V веке достиг более яркого самоопределения в соответствии с одухотворенными целями, и это также должно было повлиять на эллинское мировоззрение и привести к попытке отвести место духовной целеустремленности и в космогонии, для чего монотеистическая концентрация понятия Бога Ксенофаном уже подготовила путь. Анаксагор отвергает и судьбу, и случай, чтобы подчеркнуть далеко идущую (для которого у него все еще нет соответствующего слова «провидение»). Конечно, на этой примитивной стадии развития концепции не может быть и речи о личности Нуса. В той мере, в какой нус не имеет ничего общего с теизмом, его деятельность в мировом процессе не распознается или, по крайней мере, не обсуждается; она скорее ограничивается деистическим импульсом к разводу, а затем, по-видимому, уходит на покой, поскольку единовременный импульс продолжает оказывать распространяющее воздействие. Конечно, часть нуса также входит в мировой процесс, оживляет растения и животных, действует в человеке как распознающий принцип; но в той мере, в какой он входит в мир таким образом, он предстает как тончайшая и тончайшая субстанция среди более грубых, как несмешанная первосущность среди других первосуществ, которые просто смешаны в вещах, как распознающая субстанция среди распознаваемых субстанций. Короче говоря, само понятие нуса все еще колеблется между метафизическим и физическим принципом; намерение, очевидно, состоит в том, чтобы резко противопоставить его всем физическим субстанциям, но в своей реализации оно незаметно погружается обратно в физическую сферу, поскольку язык имеет в своем распоряжении только физические обозначения и память о традиционном физическом представлении о духе невольно вкрадывается снова и снова. Из-за этого и дуализм буксует; хотя он значительно строже, чем дуализм Эмпедокла, который все еще довольно туманен, он еще не стоит на твердой ноге. Для этого прежде всего необходимо реализовать телеологический подход, на который здесь еще не было сделано ни одной попытки, так что у Анаксагора нус действительно предстает как совершенно лишняя и бессмысленная гипотеза. —
С демократическим устройством суда и государства искусство слова приобрело небывалую ценность, ибо стало средством выгодно вести свои частные дела путем тяжбы и общественные дела путем убеждения. Искусство плебея, рабулизм, умеющий из худшего дела сделать лучшее, эристика, умеющая довести противника до абсурда, риторика, умеющая ослеплять и убеждать словесной пышностью, стали теперь самым мощным оружием корысти и как таковые получили особое развитие. Обучение им становится прибыльным делом, а тех, кто посвящает себя этому, называют учителями мудрости или софистами. Поскольку личная респектабельность также является условием успеха в жизни, они также рекомендуют мораль и добродетель. Понятие цели, которое Анаксагор установил, но еще не мог определить более точно, теперь получает свое самое близкое определение как субъективная индивидуальная цель в смысле пользы; господство над языком и мыслью ищется только как средство для пользы. Для искусства пропаганды важно не то, что истинно, правильно, хорошо и прекрасно, а то, что и как можно сделать так, чтобы это показалось людям в таком свете. Наиболее уверенно этим искусством могут заниматься те, кто не подвержен никакому влиянию веры в объективную и универсально действительную истину, право, добро и красоту; но просвещение освобождает нас от традиционной веры в такие вещи. Вот почему софисты стремятся к просвещению со всеми его преимуществами и недостатками; они скептически противостоят всем односторонним позициям и незыблемым принципам, разоблачают их в их относительности и стремятся диалектически их растворить. Тем самым они приобретают и непредусмотренное значение для прогресса метафизики; во-первых, они составляют отрицательный момент прежнего натурфилософского и метафизического догматизма и его детской самоуверенности, а во-вторых, они вводят греческую мысль в формальную тренировку, благодаря которой она впервые становится способной решать более высокие задачи. Умение принимать в рассуждении все точки зрения и рассматривать вопрос с самых разных сторон, ловкость в отыскании противоречий, заложенных в проблеме, резкое различение синонимичных терминов как подготовка к определению, направление внимания на субъективный фактор во всех наших суждениях и ценностных оценках, указание на относительность того, что считается абсолютно достоверным, – все это великие и непреходящие заслуги софистов, без которых Сократ и Платон не стали бы теми, кем они предстают перед нами. Разумеется, эти достоинства компенсируются и связанными с ними недостатками. Если первые софисты были еще лично уважаемыми и нравственными людьми, то односторонний акцент на субъективности и относительности мнений быстро привел к растворению всякой объективной истины и убежденности и чем дольше, тем больше вырождался в легкомыслие, моральную разнузданность и бесстыдную алчность. Теоретически концом может быть только чистый скептицизм или агностицизм.
К сожалению, мы очень мало знаем о софистах; того немногого, что мы знаем, достаточно, чтобы показать, насколько по-детски софистичны были образованные люди того времени и насколько необходима была формальная подготовка мысли для людей, как бы они ни умели мыслить, чтобы они могли успешно заниматься метафизикой. Протагор (ок. 480—410 гг.) выступал за субъективизм познания и учил, что «мера всех вещей – человек», в том смысле, что для каждого истинно, хорошо и т. д. только то, что кажется ему в данный момент. Другая сторона этого положения, а именно, что вещи не должны быть несоизмеримы с человеком, если он должен быть их мерой, и что поэтому мы можем в любом случае заключить, что вещи соизмеримы с нами, конечно, еще не рассматривалась им, так же как и новейшими субъективистами. Протагор лишь выводил следствия из того, что его предшественники (Гераклит, Зенон, Эмпедокл, Анаксагор) учили о ненадежности, субъективности и относительности чувственного познания, и был настолько наивным сенсуалистом, что считал чувственное познание познанием вообще. Он даже не вдавался в исследование логических рассуждений и понятийного знания в отличие от мнений людей и их морального знания, и именно в этом вопросе он был побежден Сократом. Протагор также скептически относился к вере в богов. Даже его современник Горгий переходит к следствиям принципиального агностицизма, который, однако, странным образом проявляется как негативный догматизм. Вместо того чтобы довольствоваться утверждением, что если что-то есть, то оно непознаваемо и любое знание о нем было бы непознаваемым, он предваряет его утверждением, что ничего на самом деле нет. Аргументация представляет собой образец диалектики, которая все еще находится в младенческом возрасте. Если Протагор подчеркивал субъективность истины, то Горгий подчеркивает отсутствие объективности всего, что считается истинным. Кульминацией первой стороны становится утверждение Эвтидема о том, что все истинно всегда и в то же время, второй – утверждение Ксениада о том, что все человеческие мнения ложны. Гиппиас выступал против веры в естественное право и учил, что все законы – продукт человеческого суждения. Продикос, учитель Сократа, внес особый вклад в синонимику и объявил смерть желательной для того, чтобы избежать пороков жизни. —
Сократ (470/69—399) использует диалектику, которую софисты применяли лишь в случайных целях конкретного человека, в интересах концептуально универсального человека, сохраняя тем самым антропологический и телеологический характер софистики, но возводя ее в сферу универсально человеческого, а значит, объективного. Он тоже чистый эвдемонист и полностью ставит теоретические интересы на службу практическим; однако его главной заботой является не индивидуальная эвдемония отдельного человека, а социальная эвдемония целого, то есть прежде всего его афинского государства. Он также смело ставит мысль и действие на самостоятельное место, независимо от всех традиций, и тем самым учит полной свободе мысли и совести; но, пренебрегая случайной единичностью индивида, которая для софистов является всем, ставя «человека» на место этого произвола или каждого человека, он становится положительным там, где те были отрицательными. Автономия его совести не вступает в противоречие с его родными обычаями и законами, но, опираясь на разум, она осознает себя субъективным разумом в согласии с объективным разумом последнего; ощущая себя представителем концептуально универсального человека, он упускает из виду возможные столкновения, которые могут произойти между индивидуальным благом и универсальным человеческим благом в людях разной природы. Из наивного уравнения этих двух начал вытекает его убеждение, что никто не может стремиться ни к какой другой цели, кроме своего собственного блага, т. е. истинного блага человека, т. е. блага или объективной цели, действительной для всех людей, что все дурное поведение возникает только от недостатка ясности относительно этого истинного блага, что всякое улучшение, образование и продвижение в добродетели можно ожидать только от просвещения и улучшения проницательности, что добродетель, следовательно, поддается обучению, а все добродетели – только одна. Не касаясь юридических форм демократической афинской государственной конституции, он, тем не менее, стремился своим личным влиянием на молодежь воспитать среди себя круг интеллектуальных аристократов, которые, будучи интеллектуально, нравственно и технически более совершенными, должны были наполнить старые политические формы новым содержанием. Истинное знание, к которому он стремится, изначально является лишь средством для достижения этих практических целей. Чтобы прийти к истинному знанию, которое само по себе ведет к благу, путь – «Познай самого себя» дельфийского оракула, ибо для этого имеет ценность только знание о человеке, а не натурфилософия. Обыденное мнение, на субъективной достоверности и объективной никчемности которого останавливаются софисты, является для него отправной точкой, но не целью познания; напротив, он стремится индуктивно восходить от него через диалектическое исследование к концептуально общему знанию, кульминацией которого является определение. Как только достигнуто полное определение понятий, из него можно вывести все истины; ведь тогда человек знает как более общие родовые понятия, так и специфические различия, которые являются решающими для каждого понятия. Человек уже бессознательно носит понятия в себе; обучение – это только припоминание, то есть осознание бессознательного обладания, преподавание – это отвязывание обучающегося от его плодов или извлечение из них с помощью иронической (то есть вопросительной), скептической и эристической диалектики.
Телеология царит и в мире в целом, но и здесь Сократ представляет ее лишь как антропологическую телеологию, поскольку все устроено на благо человека. Такая организация мира может проистекать только из мудрости и благости мирообразующего разума, который он иногда (вместе со своими людьми) олицетворяет в невидимых богах, иногда (вместе с Ксенофаном и Анаксагором) ставит над народными богами как творца и правителя всего сущего, иногда (вместе с Гераклитом) помещает в тело мира как мировую душу.
Сократ впадает в противоречие: он основывает добродетель главным образом на сознательном понимании и знании блага, но утверждает, что на практике не имеет этого понимания для себя, сомнительно ищет его у других и помогает себе бессознательным гением наивного такта или чувства к правильному и доброму (daimonion). Его школа должна была прежде всего стремиться устранить это противоречие, пытаясь четко и определенно сформулировать знания, необходимые для добродетели: различные ветви школы опирались на различные аспекты учения мастера, каждая из которых была убеждена, что она уловила суть этого учения и выделила его из остальных.
Мегарская школа, основанная Эвклидом, подчеркивала единство добродетели и блага в формалистической манере и объединяла сократовскую идею блага с элеатским принципом Единого. Элианская школа, основанная Федоном, по-видимому, была связана с мегарской, но больше мы о ней ничего не знаем. Киническая школа Антисфена и киренейская школа Аристиппа стремились заполнить пробел в определении Сократом истинного блага человека: первые находили его в ненужном воздержании от удовольствий, вторые – в господстве над удовольствиями.
Эвклид и его последователи стремились дополнить и скрыть формалистическую пустоту своего принципа с помощью эристики против всех других точек зрения и поэтому снова взялись за зеноновскую диалектику, которую они расширили и обогатили в манере софистов. Антистен (р. 444) ходил по кругу, используя добродетель, которая, согласно Сократу, есть поведение, соответствующее истинному благу или высшему благу человека, в то же время для определения истинного блага или высшего блага; он призывал вернуться к простоте естественного состояния, признать единого Бога в противовес множеству популярных богов и самодостаточность человека, который изолирован от общества, несмотря на его космополитизм. Именно о его ученике Диогене народное остроумие слагает все анекдоты, обращенные против киников.
2. Классический рационализм
Платон (427—347) – первый греческий философ, чьи связные труды дошли до нас, но их использование затруднено различными обстоятельствами. Во-первых, существуют огромные и, по-видимому, непримиримые разногласия по поводу подлинности и порядка написания сочинений Платона. Во-вторых, от последних двадцати лет его жизни мы имеем только одно произведение сомнительной подлинности («Законы»), которое он сам больше не публиковал, которое по своему содержанию является в основном политическим, лишь изредка затрагивает метафизику и поэтому недостаточно для получения представления о его окончательной философской позиции. Кроме того, хотя Платон пишет уже не стихами, как большинство его предшественников, а прозой, он по-прежнему пишет с формальной точки зрения не только с художественным, но и с научным умыслом, и даже с точки зрения содержания его труды характеризуются определенным балансом поэтического воображения и научной мысли. Кроме того, подлинные труды представляют собой лишь экзотерические, популяризаторские изложения, избегающие проникновения в сокровенную суть его учения, как он доносил ее в устных лекциях. Наконец, ему так и не удалось систематически завершить круг своих мыслей, возможно, он и не собирался этого делать, но то, что он предлагает, – это разрозненные фрагменты системы, лишенные единства и последовательности и потому подверженные самым разным интерпретациям и попыткам реорганизации со стороны его преемников. Таким образом, в отношении эзотерических взглядов Платона на высшие принципы мы все еще в равной степени зависим от реконструкции на основе его собственных намеков и скудных и ненадежных сообщений третьих лиц, как и в отношении разницы между его ранними и поздними точками зрения.
Платон был убежден своим учителем, гераклитовцем Кратилом, в гераклитовской точке зрения, что все чувственное находится в постоянном движении и что никакое знание о нем невозможно, так же как он был знаком с элеатским учением, согласно которому истинно существующее должно быть постоянным и устойчивым, не подверженным изменениям и превращениям. Его учитель Сократ указал ему на определение понятий как на единственный источник истины; поэтому Платон считал, что для поиска истинно существующего ему достаточно перенести понятийные знания, которые Сократ использовал только в этических интересах, в натурфилософию и метафизику. Он не сомневался, что сущее в понимании элеатов должно быть в последней инстанции единым; концептуальное знание должно было вести к этому сущему, если от отдельных вещей к видовым понятиям, то от них – к родовым, и все дальше вверх, к высшему всеобъемлющему родовому понятию. Подобно тому, как он приравнивал видовые понятия к понятию лучшего или относительного, он приравнивал высшее родовое понятие Сущего Единого к понятию конечного блага или абсолютного конца, так что синтез парменидовской и сократовской точек зрения был таким образом завершен в соответствии с процессом Эвклида. Поскольку бытие Единого или абсолютная всеопределяющая цель или благо в свою очередь приравнивается к рациональному целеполагающему мировому духу, высший принцип Анаксагора также сливается с принципом Сократа, а поскольку этот рациональный, целеполагающий и абсолютно благой мировой дух снова равен Богу, оба они сливаются с монотеистической концепцией Бога Ксенофана.
С другой стороны, Платон синтезировал сократовскую теорию понятий с пифагорейской теорией чисел, связав метафизические объекты, лежащие в основе сократовских понятий, с пифагорейскими идеальными числами. В первый период его творчества это еще не проявляется так отчетливо, как в последний, поскольку вначале он приписывал соответствующий метафизический объект всем без исключения понятиям, включая отрицательные понятия, пропорциональные понятия и артефакты, а позднее – только естественным понятиям положительной природы и полагал, что может вывести их пифагорейским способом из символических идеальных чисел.
Платон заимствует у атомистов мнение, что чувственный мир состоит или смешан из бытия и небытия; Платон также принимает от них мнение, что небытие изначально должно рассматриваться как пространство, даже если он не останавливается на пустом пространстве, но считает, что может одновременно получить из него элементы телесности, разложив пространство на плоские фигуры и составив математические твердые тела (треугольники и композиции из треугольников).2 Поэтому мы должны предположить, что Платон либо (подобно Декарту) искал сущность материальной телесности только в математических протяжениях, либо представлял себе несуществующее пространство не как пустое само по себе, а как неопределенно заполненное (на манер Анаксимандра и мифического хаоса). Там, где он придерживается чисто концептуального подхода, преобладает первая точка зрения; там, где, как в «Тимее», он оставляет больше места для мифологической фатазии, преобладает вторая точка зрения. Оба взгляда не кажутся Платону взаимоисключающими, это просто разные понимания одной и той же вещи с разных точек зрения. В обоих случаях пространство как несуществующее приобретает совершенно иной смысл, чем у атомистов.
Это выражается в том, что то, что атомисты противопоставляют несуществующему пространству как бытию, материальные атомы, по мнению Платона, все же принадлежат несуществующему в своем материальном аспекте и проявляют примесь бытия только в аспекте своей концептуально определенной формы. Пустое пространство атомистов Платон соединяет с анаксимандрическим понятием Беспредельного, которое, как нечто неопределенное и изменчивое по величине, он называет также Великим и Малым, благодаря чему одновременно мыслится двуединая бесконечность бесконечно великого и бесконечно малого. Неограниченное как несуществующее естественным образом противопоставляется ограничивающему, нормирующему по мере и числу как существующему, концептуально определенному, рационально упорядочивающему и целенаправленно определяющему принципу; этот контраст Платон нашел уже у Пифагора, хотя у последнего он возник из совершенно иных соображений.
Все учение Платона представляет собой дуализм этих двух первопринципов, которые повторяются под самыми разными именами и в самых разных обличьях. Это неопосредованный дуализм, поскольку ни один из принципов не способен породить другой из самого себя, и не предпринимается никаких попыток объяснить способность столь разнородных элементов сотрудничать или сближаться в познании. Первоначальное намерение, однако, состоит в том, чтобы приписать реальность только существующему и наделить реальностью смешанное лишь в той мере, в какой в нем представлено истинно существующее; но в исполнении дело обстоит принципиально иначе, поскольку несуществующее утверждает свою собственную природу в смеси, выступая не только как сопротивление и препятствие, но и как условие для реализации цели, противопоставляя телеологическую причинность слепой механической причинности, а разум – алогичной необходимости. Более того, несуществующее – это принцип, который не может быть распознан ни через восприятие, ни через понятийное мышление, и чье утверждение, таким образом, не может быть эпистемологически оправдано изнутри системы. Будучи противоположностью добра во всех отношениях, оно в то же время является злом или, по крайней мере, источником зла и, таким образом, становится разрушителем доброго мира. Как принцип зла, сопутствующий существующему добру, он разрушает абсолютность бытия и всемогущество воли в верховном Боге, приравненном к добру, и низводит его до простого творца мира (Демиургоса).
Метафизические объекты понятий должны обладать более истинным бытием, чем объекты чувственного восприятия, если понятийное знание должно давать более истинное знание, чем чувственное восприятие. Отсюда Платон делает вывод, что архетипы чувственных вещей должны иметь независимое от них бытие вне мира чувств (в наднебесном месте), точнее, вне пространства, то есть непространственное трансцендентное бытие. Каждый вид-идея должен существовать только один раз сам по себе, несмотря на множественность образцов, созданных по его образцу, так же как каждый высший род-идея сам по себе один, хотя он существует как один во многих видах-идеях и вселяет их в себя. Как каждое видовое понятие находится в общении со своим родовым понятием и разделяет его, так и множество образцов вида с видовым понятием, которое их населяет. Таким образом, и единство, и множественность принадлежат истинно сущему, которое может быть понято только как единство во множестве; как абстрактное единое оно ничего не может объяснить, поскольку не может быть и речи о том, чтобы вещи участвовали в нем, а как абстрактное множество оно не имеет единой связи. Таким образом, Платон преодолевает жесткость элеатского абстрактного Единого и представляет бытие как органически единую концептуальную систему с единой вершиной, из которой рационально целенаправленно определяется концептуальная организация.
Точно так же он преодолевает неподвижную жесткость элеатского бытия, представляя систему понятий как органически живую, а общность или участие понятий друг в друге через их тождественные компоненты – как диалектическое движение мысли. Однако остается неясным, как это живое движение, включающее в себя и отрицательную исключительность понятийно несовместимого по отношению друг к другу, соединить с неизменным самоподобием и субстанциальной сущностью понятийного содержания. Ибо диалектическое движение мысли есть только вхождение и выход понятий в сознание мыслителя и из него, т. е. только изменение соответствующего содержания сознания при неизменности понятий; но Платон не упоминает о таком сознании, по отношению к которому понятия могли бы двигаться. Сами понятия должны оставаться неизменными, поскольку именно в этом состоит различие между истинно существующим и изменчивым потоком вещей. Метафизические объекты понятий, чтобы быть архетипами или модельными образами естественных индивидов, должны мыслиться как формы или очертания, что, конечно, трудно совместить с их непространственностью. Поэтому форма или вид в смысле видового типа (είδος [э́йдос]) является также обычным термином, которым Платон обозначает их, и Аристотель также сохранил этот термин для своей реинтерпретации этого понятия. «Лик» (в объективном смысле слова) или идея – редко встречающееся у Платона выражение, которое уже атомисты использовали для описания атомов в соответствии с их схематической формой, а Анаксагор – для описания элементарных веществ, качественно сходных между собой; но именно это выражение «идея» впоследствии было излюблено платониками для характеристики платоновского учения в противовес аристотелевскому преобразованию понятия формы. Этот процесс прямо противоположен процессу не-бытия или неограниченности, для которого Аристотель впервые ввел название субстанции (ΰλή); поскольку Аристотель не возражал против учения Платона в этом вопросе, термин, введенный Аристотелем для платоновского понятия, становился все более распространенным среди платоников.
Как нормативные, формирующие цели, Идеи являются телеологически действенными активными силами в природном процессе, тогда как неограниченное первоначально противостоит им лишь как пассивное, восприимчивое. В понимании Платона истинная причинность – это только телеология, а механической причинности он приписывает лишь вспомогательную роль условия и еще не в состоянии признать в ее слепой необходимости ничего рационального. Но эти отношения меняются таким образом, что и алогичное сопротивление, и позитивное сотрудничество возводят слепую необходимость несуществующего в активно действующую причинность реальной динамики, в то время как телеологическая причинность испаряется в просто идеальное направление реального динамического процесса природы. Поэтому мы можем называть Идеи, в платоновском смысле, нормативными идеальными силами, но не реальными силами; это соотношение смещается для нашего понимания только тем, что Платон видит действительные причины в Идеях, потому что он находит истинную причинность в идеальной телеологии, но что мы невольно думаем о реальных действенных силах, когда мы думаем об истинных причинах. Только неоплатонизм возводит Идеи из сферы чистой идеальности в сферу динамической реальности, добавляя к ним в качестве дополнения волю к осуществлению.
В соответствии со всем своим происхождением, платоновские идеи – это не что иное, как гипостазированные понятия, спроецированные из мира в трансцендентное, непространственное бытие, в частности, видовые понятия. Своеобразное сочетание воображения и абстракции у Платона означает, что гипостазированные понятия предстают перед ним в виде фигур или ярких типов, которые визуализируются как идеи или «лица» специально для чувства зрения. Имагинативный аспект платоновского учения об идеях придал ему огромное значение для эстетики, без которого она вряд ли сохранила бы свое метафизическое значение через столько исторических перипетий; но родовой характер этих типов, лишенных всякой индивидуальности, накладывает на всю эстетику, основанную на платоновских идеях, печать абстрактного идеализма, от которой она страдает и по сей день. В еще большей степени платоновское учение об идеях превращается в абстрактный идеализм благодаря своему происхождению из понятийной абстракции, и Плотин тщетно пытался, поскольку был недостаточно радикален, преодолеть эту абстрактность. Все борцы с платоновским идеализмом в ходе истории черпали свои силы в этой родовой и понятийной абстрактности Идей, которая, с одной стороны, делает их неспособными к справедливости по отношению к конкретной реальности и красоте и к тому, чтобы служить принципом объяснения, С другой стороны, трансцендентная гипостазация идей представляется неоправданной и произвольной проекцией чисто субъективного понятия. Тот факт, что чувственное восприятие эстетической формы и абстрактное понятие вида являются только субъективными, слишком очевиден для критической интроспекции; Но если они только субъективны, то, должно быть, также неверно снова представлять их как независимые сущности вне сознательной субъективности. Вопрос о том, не является ли возможной и полезной в качестве принципа объяснения совершенно иная, абсолютно конкретная и индивидуальная идея, которая вообще не возникает в субъективности сознания и к которой эстетическое восприятие и понятие лишь пытаются субъективно подойти с разных сторон, лежал вне сферы мысли предшествующего философствования; Напротив, она всегда колебалась лишь между более или менее абстрактным идеализмом и антиидеалистическим сенсуализмом, и либо принимала неоправданную платоновскую гипостазацию чисто субъективного, либо, вместе с этой неоправданной гипостазацией, отвергала и ценное ядро, завуалированную интуицию истины. Таким образом, можно сказать, что никто не нанес большего вреда истинному, то есть конкретному идеализму, чем сам отец идеализма, с самого начала поставив идеализм в ложное положение посредством его абстрактной и обобщенной версии.
Вторым принципом наряду с существующим является несуществующее. Совершенно нетронутым им является только Единое, или Благо, или абсолютная цель как всеобъемлющая вершина системы идей или умопостигаемого мира; только она абсолютно положительна и лишена всякого добавления отрицания или умаления (στέρησις). Но относительное отрицание уже присуще абсолютной цели, распавшейся на множество относительных целей, ибо относительные единицы, или гнады, возникшие в результате разворачивания конечного Единого (ἒν) во множество, ведут себя частично исключающим образом.
Генады частично исключают друг друга, поскольку одна из них не является тем, чем является другая, а есть нечто иное. Каждая из них обладает полной и абсолютной идентичностью только с самой собой; по отношению ко всем остальным она обладает лишь частичной идентичностью, частичным различием или инаковостью. Даже как множественность они вместе образуют оппозицию Единому, которая ведет обратно к оппозиции иного и бытия-в-себе, или неограниченного и ограниченного, или неопределенной двойственности и единства, или движения (разворачивания Единого во множественность) и покоя (сохранения Единого в себе). Но это относительное небытие относится только к отдельной идее как таковой или к совокупности производных идей по отношению к Единому и Благу; но оно не относится к царству идей во всей его полноте, не относится к умопостигаемому миру, включающему высшую идею, ибо понимаемый таким образом умопостигаемый мир охватывает все бытие и всю реальность. Небытие как противоположность бытию умопостигаемого мира должно, следовательно, иметь совершенно иной смысл, чем относительное небытие, которое идеи имеют по отношению друг к другу. Но чем это небытие отличается от бытия или как понятие небытия делится на два подвида, Платон не уточняет; об этом можно строить более или менее правдоподобные догадки (как это сделал, например, Уэбервег), но их нельзя ни доказать документально, ни разрешить с их помощью трудности и внутренние противоречия платоновского построения мысли. В платонической школе на этот счет циркулируют совершенно разные мнения, которые свидетельствуют лишь об одном: что сам Платон не прояснил этот момент в своих школьных лекциях, а значит, вероятно, и не договорился с самим собой по этому поводу.
Аристотель утверждает, что разница между платоновским понятием субстанции и его собственным заключается в том, что последний превращает субстанцию в небытие само по себе и в себе и видит сущность субстанции в ее лишенности, тогда как сам он рассматривает небытие и лишенность лишь как случайные свойства субстанции. Несуществующее есть непознаваемое, а непознаваемое есть неразумное (άλογον), тот иррациональный остаток, который остается от вещей после того, как разум вычтет из них все, что является образом идеи, доступным и познаваемым разумом, т. е. разумным. Как Идея является рациональным или логическим принципом, так и несуществующее, стоящее напротив Идеи, является нелогическим принципом, причем абсолютно нелогичным, а не просто относительно нелогичным, которому все же находится место в логическом. Пока что Платон на верном пути, что мир не является ни чисто логическим, ни чисто нелогическим. Но для того, чтобы использовать это понимание для объяснения мира, ему не хватает двух вещей. Во-первых, он не понимает, что нелогичное также нуждается в положительном определении для своего отрицательного определения, что логическое как таковое не обладает способностью к реализации и что способность к реализации можно искать только в силе или воле нелогичного. Во-вторых, ему не хватает понимания того, что логическое и нелогическое не могли бы вступить в связь, отношения и сотрудничество друг с другом, если бы они были отдельными принципами как таковыми, а не просто согласованными моментами единого бытия, в котором они должны быть соединены, чтобы образовать нерасторжимое единство. Первый недостаток выражается в том, что несуществующее должно играть совершенно пассивную роль, не будучи в состоянии удержаться в этой необъяснимой пассивности; второй недостаток – в неизлечимом дуализме, разрушающем единство мира. Через ложную и, для самого Платона, несостоятельную пассивность, к которой приговаривается нелогическое, происходит полное изменение истинного отношения между логическим и нелогическим. Если нелогическое мыслится как принцип реализации, как слепая сила, как воля без разума, то это активный принцип, благодаря которому идея, сама по себе дремлющая и неподвижная, впервые приходит в движение, то есть разворачивается; это мужской принцип, благодаря которому логический принцип, как женский, оплодотворяется и вынужден рождать множество. У Платона, напротив, нелогическое, которое предполагается пассивным, выступает одновременно как поглощающий, принимающий, женский принцип, в то время как логическое или идея берет на себя роль активного движителя и мужского принципа. Кстати, это приравнивание неограниченного к женскому и предельного к мужскому началу Платон обнаружил уже у пифагорейцев.
С другой стороны, Платон правильно понимает соотношение между нелогичным и логичным, когда видит в первом конечный источник зла и нечисти, а во втором – источник добра. Неверно лишь то, что он без лишних слов отождествляет абсолютный конец с абсолютным благом в этическом смысле слова, вместо того чтобы понимать моральное благо лишь как феноменальный отток телеологической детерминации мира, что он вполне признает в случае зла по отношению к нелогическому. Это смешение этической категории блага с онтологической категорией единого бытия и метафизической категорией логической или абсолютной идеи, за которое ответственен Платон, проходит не только через всю греческую философию, но и через значительную часть христианской философии.
Несуществующее или неограниченное призвано объяснить, почему в мире чувств не все так совершенно, как следовало бы ожидать от мира, определяемого идеей, которая является образом умопостигаемого мира. Поскольку мир чувств существует, он имеет свое бытие или свою реальность через имманентность (πα (κ> υϋία.) идеи в нем или через участие в ней; поэтому он должен быть несовершенным только в той мере, в какой он не существует или противостоит идее. Размножение идеи на множество копий еще не могло бы считаться несовершенством, если бы каждая копия полностью соответствовала архетипу. То, что она этого не делает, считается виной небытия, принимающего образ Идеи; но если бы оно было полностью пассивным, искажение образа оставалось бы непонятным. В более поздний период Платон прямо признал неадекватность приписывания зла и нечисти несуществующему и предположил в качестве его причины злую мир-душу наряду с доброй, поскольку всякое движение, как неправильное и ошибочное, так и правильное и идеальное, может исходить только от души. Можно признать последовательность этого изменения, но не признать, что гипотеза злой души-мира стоит как чудовище в платоновском мире мысли. Мир чувств есть продукт смешения бытия и небытия, или идеи и нелогичности, подобно тому как восприятие чувств есть средний продукт рационального познания истинно существующего и непознаваемости несуществующего. Но душа вселенной – это продукт смешения истинно существующего и смешанного существующего, или неделимой и делимой сущности, так же как математическое познание – это смешение рационального познания идей и восприятия чувственных явлений. Согласно Платону, душа вселенной должна быть предположена потому, что, во-первых, всему, что движется, должно предшествовать нечто, что движется само, а сила самодвижения может быть приписана только душе, и, во-вторых, потому, что разум не может вселиться в физическое иначе, чем через душу. Она ближе всего к идее, но не совпадает с ней; идея трансцендентна миру, существует для себя, тогда как душа имманентна миру, распространяется в пространстве, связана с телесным. Как постоянная причина движения, она вплетена в изменение чувственных вещей, сама не подвергаясь ему. Арифметически мировая душа выражает основные числа астрономической системы греков, совпадающие с соотношениями длины струн их шкалы в 4% октав; стереометрически она выражает порядок греческого небесного здания, постоянные неподвижные звездные круги и изменяющиеся планетные орбиты, так что первые представляют в мировой душе одно, вторые – другое. В платоновской школе одна часть подчеркивала арифметическую сторону, определяя мировую душу как самодвижущееся число, другая – как пространственное количество, порядок или конструкцию; но все рассматривают ее как нечто математическое, чья деятельность имеет как движущуюся, так и познавательную природу. Мировая душа мыслится не как нечто вечное, а как нечто сформированное и смешанное демиургом из двух различных субстанций. То, что есть бытие, и то, что в нем реально, в конечном счете должно быть отнесено к идее, поскольку ни то, ни другое не может возникнуть из другого компонента небытия.
Очевидно, что все это предположение о математическом мире-душе, столь странное для нас, возникло из распространенного среди греков представления о том, что душа – это гармония тела как в математическом, так и в музыкальном смысле; Платон не смог преодолеть это представление, но лишь сделал его вдвойне чудовищным для нас, субстанциализировав гармонию. Предположение, что небесные сферы также организованы в соответствии с гармоническими отношениями, которые соответствуют музыкальным числовым отношениям, предполагало, что гармония небесных сфер или вселенной должна рассматриваться как ее душа в том же смысле, в каком гармония тела рассматривается как душа индивида. Конечно, Платон не может говорить о личности мировой души, несмотря на аналогию с индивидуальной душой и несмотря на уравнение мировой души с правящим царем богов и богом неба Зевсом; ведь, согласно народным представлениям, небесные тела также признаются богами, ставшими богами, без приписывания им личности в современном смысле этого слова. Мировая душа Платона показывает нам стремление философа вернуть идею из ее трансцендентности и сделать ее имманентной, но в то же время и необходимость мыслить ее связанной с силой движения физического, которой она не является как чисто трансцендентная, самодостаточная сущность. В обоих отношениях она указывает на правильно воспринятые недостатки метафизических принципов; но способ, которым она стремится устранить эти недостатки, вряд ли вызвал бы наш интерес, если бы стоицизм и неоплатонизм не извлекли из этого зародыша нечто принципиально иное. Если Ксенофан уже возвысил Единого Бога над богами народной религии, если Анаксагор более точно определил этого Единого Бога как Нус или разумный дух и приписал ему простоту сущности, силу и знание, то Платон пошел еще дальше и, как показано, отождествил существующего Единого с Нусом и конечным благом, объединив таким образом монотеистическое теологическое определение Ксенофана, онтологическое – Парменида, метафизическое – Анаксагора и этическое – Сократа. Простой, всемогущий и всеведущий верховный Бог, который по своей мудрости организует все наиболее целесообразным образом, стал, таким образом, с одной стороны, олицетворением всего бытия и всей реальности, которая только не охватывает несуществующее, а с другой – всеправедным и всеблагим. Однако это был огромный шаг вперед, а именно – провозглашение этического монотеизма над изначально нетронутым политеизмом народных верований. То, что невидимый, бестелесный Бог, как архетип совершенства, должен быть свободен от всех пороков, слабостей и недостатков, от всех антропоморфизмов и антропатизмов, что он мыслится как чистая идея, стоящая выше всех эмоциональных привязанностей, не только неудовольствия, но и удовольствия, является лишь естественным следствием его принципа. Но так же мало, как и блаженство, этот Бог обладает абсолютностью или индивидуальностью. Он не абсолютен, потому что имеет вне и рядом с собой несуществующее, нелогичное, неограниченное как столь же вечный принцип, и не может создать или породить мир из себя, а может лишь сформировать его из этого найденного другого принципа. Он не является личным, поскольку представляет собой чистую, лишенную аффектов, вечно самосущую идею. Поэтому монотеизм Платона – это не монизм и не теизм, а дуализм безличного мирообразователя и субстанции; менее всего его можно назвать пантеизмом, поскольку дуализм противоречит пантеистическому монизму
Высшая нетленная часть индивидуальных душ имеет ту же природу, что и мировая душа, к которой затем добавляется низшая тленная часть (либо в предэкзистенциальном состоянии, либо только при рождении). Если склонность души к чувственному и привязанность к нему трактуются как отступничество от своего истинного предназначения, то предсуществование приписывается и низшей части души (инстинктивной способности желания), которая ответственна за это отступничество. Из платоновского предположения о том, что душа является движущей силой тела, следует только то, что пока существуют живые тела, должны существовать и души, или что мировая душа должна индивидуализироваться на время мирового процесса, но не то, что одна и та же индивидуальная душа должна неоднократно управлять различными телами. Из его предположения, что всякое познание есть повторное восприятие, также следует, что индивидуальная душа визуализирует только то знание, которое она принесла с собой из мировой души в телесную жизнь, но не то, что она принесла с собой из мировой души в телесную жизнь.
но не то, что она уже существовала как индивидуальная душа до рождения. Другие доказательства бессмертия у Платона – просто софизмы, а главное доказательство – обманчивая игра на двойном значении греческого слова άθάνατος (не мертвый и не смертный). Сам он не придает никакого значения орфическо-пифагорейским мифам о переселении,3 которые он представляет в своих различных трудах со свободными отклонениями, не заботясь о противоречиях, и, по-видимому, не без иронии, за исключением усиления этических требований в своих собственных (эгоистических) интересах, которые можно извлечь из них. Только тем душам, которые провели несколько жизней подряд в чистом стремлении к мудрости, разрешается вернуться в сверхчувственную обитель (трансцендентный разумный мир); такие души затем достигают полного отречения от чувственного и полной отрешенности от телесности, т. е. бестелесного пребывания. Даже если при телесной жизни гармоничное внедрение идеи в чувственное существование все равно должно быть причислено к высшему благу, то на самом деле высшее благо заключается в полном отходе от чувственной жизни и уходе в чистое созерцание, но достичь этой негативной чистоты можно только после освобождения от барьеров телесности.
Если мы еще раз рассмотрим наиболее общие категории, с помощью которых Платон стремится охватить мир и абсолют, то, прежде всего, оставим в стороне эпистемологическую отправную точку, сократовскую оппозицию понятийного и чувственного знания, а также этическую оппозицию добра и зла или заимствованную из органической натурфилософии пифагорейскую оппозицию мужского и женского.
Остается онтологическая фундаментальная оппозиция бытия и небытия, которые соотносятся друг с другом как одно и другое (т. е. тождество с собой и инаковость через выход из себя в изменение), как единство и множественность (Спевсипп) или неопределенная двойственность (Ксенократ), как покой и движение (т. е. постоянство и движение). (т.е. постоянство в себе и возникающее из себя изменение), как предел и неограниченность (т.е. определенность, дающая меру, число, норму и форму, и безразличная неопределенность), или как разумный дух и противостоящее ему неразумное, в котором он оказывает определяющее, формирующее и целеполагающее воздействие (позднее названное субстанцией). Поскольку противопоставление рационального и иррационального преподается Платоном, но лишь вскользь, без более резкого акцента, и поскольку в анаксагоровском противопоставлении духа и субстанции ему все еще не хватает адекватного обозначения для второго члена, его категории сводятся к следующим:
Бытие и небытие.
То, что есть, и то, чего нет.
Одно и много.
Покой и движение.
Предел и беспредельность.
Аристотель отделил существующее и единое от категорий и поставил их перед последними, которые таким образом автоматически распространялись на их противоположности (несуществующее и многое). Поэтому в более поздние времена то же самое и другое, а также покоящееся и движущееся предпочтительно рассматривались как собственно платоновские категории, в которые уже, казалось бы, была включена оппозиция дающего границы и безграничного. Эти четыре платоновские категории неоплатонизм противопоставляет десяти аристотелевским категориям в том смысле, что они представляют собой категории умопостигаемого мира, тогда как аристотелевские категории относятся только к миру чувств. Этому нет недостатка в историческом обосновании, поскольку вышеупомянутые пять пар противоположностей не только характеризуют отношение существующего к несуществующему, как оно предстает в каждом смешанном чувственном существовании, но и сохраняют свою силу в пределах истинно существующего (т. е. царства идей или умопостигаемого мира). Однако они приобретают измененный смысл, поскольку вытекают из различия между отношением логического к абсолютно нелогичному и отношением логического к относительно нелогичному. Ибо небытие, инаковость, многоединство, неограниченность и подвижность, имманентные истинно существующему или идее, не совпадают полностью с небытием, инаковостью, многоединством, неограниченностью и подвижностью, противоположными идее, поскольку в первом существующее тождество, единство, самоопределение и постоянство остается всеохватывающим правителем своей лишь относительно развернутой внутренней оппозиции, а в абсолютной противоположности себе оно может утверждать свою власть только внешне, не отменяя и не преодолевая ее также и внутренне.
Помимо этих высших категорий, Платон неоднократно выделял и другие, например, сходство и несходство, чет и нечет, качество, количество, отношение, действие и страдание. Из них только противопоставление четного и нечетного восходит к Пифагору, а остальные представляются оригинальными дополнениями к теории категорий, для некоторых из которых Платону даже пришлось заново придумывать выражения (например, ποιότης, качество, буквально – своенравие). Конечно, нигде в его сочинениях нет систематического и окончательного свода этих понятий; но тем не менее он первым ясно осознает, что эти и подобные им понятия не привносятся извне, а порождаются самой мыслью, что он и стремится выразить здесь с помощью своего известного сравнения с памятью (из прошлой жизни до рождения). С другой стороны, несмотря на отсутствие отличительного обозначения для этого типа понятий, он также безошибочно понимает, что они отличаются от родовых понятий или идей в более узком смысле, что видно из часто повторяющегося сочетания этих и подобных понятий. Чем больше Платон ограничивал объем Идей в последние двадцать лет своей жизни, тем более очевидным становилось значение категориальных понятий и их отличие от Идей. Как только Идеи были сведены к природным видам и родовым понятиям, всякая возможность включения категориальных понятий в их число отпала; чем больше Платон окончательно переходил на пифагорейскую точку зрения и отождествлял Идеи с идеальными числами, тем более важным должно было казаться осмысление категорий, которые, тем не менее, явно отличались от идеальных чисел. Мы не можем знать, насколько далеко продвинулся в этом отношении сам Платон и что было сделано его учениками в Академии, активным членом которой некоторое время был и Аристотель. Возражения Аристотеля против трансцендентного существования идей, возможно, также способствовали повышению внимания к категориям до такой степени, что они поколебали доверие к учению об идеях. Академия также могла уделять особое внимание построению пропозиций, противопоставлению ονομα и (ημα (вещь-слово и действие-слово), после того как Платон впервые выдвинул на первый план различие между этими компонентами пропозиции и указал на необходимость обоих для реализации пропозиции. Поскольку Аристотель нигде не представляет свои десять категорий как собственное открытие, но вводит их как нечто уже известное, мы вполне можем предположить, что он не мог взять их ниоткуда, кроме Академии Платона. Сам он питал самые серьезные сомнения относительно равноценности десяти категорий, какие редко проявляет первооткрыватель по отношению к собственному открытию, и, вероятно, добавил только само название «Категории», которое, кстати, встречается в его работе вперемешку со многими другими и попеременно.4
Прямое влияние Платона на последующее развитие философии гораздо меньше, чем обычно предполагается; ведь когда платонизм упоминается позже, речь обычно идет о неоплатонизме. С другой стороны, косвенное влияние Платона на дальнейший ход истории больше, чем влияние любого другого философа; ведь два полюса, вокруг которых вращалась философия на протяжении почти двух тысячелетий, – это аристотелизм и неоплатонизм, и оба они являются прямыми отростками Платона.
Два величайших греческих философа полностью определяются Платоном: один, его младший современник, защищается от духа Платона, которому он, тем не менее, поклоняется против своей воли, другой, спустя много веков, поклоняется легендарному мастеру как пророку и полубогу, один стремится поставить то, что он заимствовал у Платона, в оппозицию его взглядам, другой представляет то новое и оригинальное только как интерпретацию платоновской мудрости. Из этих двух последователей Платона Аристотель – более проницательный и всесторонний, а Плотин – более глубокий мыслитель, так что оба прекрасно дополняют друг друга, поскольку базируются на одном и том же фундаменте.
Именно с Аристотеля (384—322) греческая философия начала становиться научной, ибо именно при нем произошло отделение философской мысли от поэтической фантазии, концептуальной теории от образного мифа и интеллектуальной формы представления от стремления к эстетическому эффекту. В случае с Аристотелем мы впервые можем считать, что в нашем распоряжении находятся важнейшие произведения, в которых безоговорочно выражено глубочайшее содержание его умозрения. Споры о подлинности отдельных сочинений и отрывков касаются уже не столько решающих основ, сколько второстепенных вопросов и потому не оказывают такого сбивающего с толку влияния на общую картину мыслителя, как это было с Платоном. Впервые Аристотель представляет целостную систему философии, в которой все отдельные дисциплины получают свои неограниченные права. В этой разносторонности интересов, в этой универсальности своего ума, одинаково охватывающего все области, он стоит особняком в античности, являясь достойным примером для всех времен, поскольку создавал свою систему почти на девственной почве. Метафизика была лишь одной из многих областей, на которые делились его интересы; поэтому неудивительно, что его достижения как метафизика, как бы высоко их ни оценивать, сильно уступают его общим философским достижениям. Именно в метафизике он нашел наибольший фундамент, на котором мог строить, в то время как многие другие дисциплины он создавал практически с нуля. Неудивительно, что в истории метафизики Аристотель должен играть менее важную роль, чем в истории философии, не считая того, что спекулятивная глубина, необходимая для метафизики, не является выдающейся характеристикой его ума.
Аристотель стремится к синтезу между реализмом натурфилософских материалистов и метафизическим идеализмом Платона. С первой стороны, он утверждает, что чувственно данные индивидуальные вещи и индивиды являются реальным и независимым бытием, и обвиняет Платона в том, что он ошибочно приписывает идеям трансцендентную независимость и превращает реальность в видимость. С другой стороны, он вместе с Платоном утверждает, что наука, хотя и опирается на опыт, имеет дело только с общим и понятийным, и что понятия вида и рода действительно обладают определенной самостоятельностью бытия, хотя она и не выходит за пределы отдельных вещей, но вторична по отношению к ним. Форма становящейся вещи рассматривается им, как и атомистами, не как механический результат материального движения, а как неразвитая, вечная во времени сущность, в том же смысле, в каком Платон рассматривает идею; и Аристотель так же мало способен объяснить соединение неразвитой формы с неразвитой субстанцией в процессе становления, как Платон не может объяснить участие вещи в идее, против которой Аристотель полемизирует. Поэтому принципиальное различие между Аристотелем и Платоном меньше, чем можно было бы подумать, исходя из полемики первого со вторым; платоновские идеи и аристотелевские формы, носящие одно и то же имя (тидос), в ходе философского развития полностью слились друг с другом. Существенное различие между Платоном и Аристотелем заключается в том, что первый еще не вполне осознает источники, из которых он черпает свои мысли, тогда как второй берет факты опыта в качестве исходного пункта мысли в физике и практической философии и использование языка в качестве исходного пункта мысли в логике и метафизике, правда, лишь в уверенности, что это позволит ему действительно извлечь логическое ядро языковой формы. Философия – это наука о бытии, и ее задача – исследовать роды бытия. Бытие охватывает все, что выражается в речи субъектом, предикатом и копулой, а значит, и то, что существует, и то, что не существует (Metaph. Γ. 2, 1063 b 5). Тем самым предполагается, что мышление в языковой форме содержит истину, а не является лишь обманом, так что различие между реальным и воображаемым бытием может оставаться внешним соображением. Об обнаженном субъекте как просто о чем-то (τόδε τι) можно, конечно, сказать, что он есть, но не более того; так как, желая сказать, что он есть, необходимо уже иметь категории. Голый субъект с его еще неопределенным бытием лежит в основе и поддерживает детерминированное бытие всех категорий; оба вида бытия необходимы для формирования пропозиции или суждения; но третий вид бытия – это копула между ними, которая образуется от самого глагола sein и, таким образом, предстает как вид бытия. Копула может употребляться как в положительном, так и в отрицательном значении, так что в отрицательном суждении категории имеют такую же силу, как и в утвердительном, или являются категориями небытия, равно как и бытия. Однако неверно считать только бытие копулы тем, что имеет в виду Аристотель, когда говорит о категориях бытия, поскольку категории фактически также определяют бытие голого субъекта и точно так же обладают собственным бытием или бытием-в-себе. Поэтому само бытие не является родом, поскольку оно есть всеобъемлющий высший род, и не входит в определения (77 6, 1045 b). То же самое верно и в отношении Единого и Сущего, которое должно быть одинаково утверждено обо всем существующем (7 2, 1053 b 15 – 20). Поэтому философия сможет исследовать роды бытия, только исследуя роды предложений; ведь каждое предложение должно иметь объект, и только через него или через примыкание к нему оно может претендовать на определение бытия. Жанры или способы высказывания (γένη ή σχήματα τής κατηγορίας) будут, таким образом, следующей областью исследования в философии, поскольку они являются в то же время жанрами бытия (γένη του ὂντος). Они должны возникать, когда каждое понятие приводится к своему более высокому родовому понятию и т. д., пока не приходят к родовым понятиям, у которых уже нет общего родового понятия, кроме понятия сущего. Таким образом, с одной стороны, учитывается только содержание пропозиций, а не форма в комбинации суждений, а с другой стороны, сохраняется предпосылка, что только такие понятия являются категориями бытия, которые уже не имеют о себе высшего родового понятия (внешнего по отношению к бытию) или не имеют общего признака с другими понятиями. Они называются категориями (praedicamenta) только в сокращенной, но неточной форме выражения, и сохраняют это название со времен Аристотеля. В то же время отсюда понятно, почему Аристотель не включает в число категорий сущее, единое и usia (в собственном, более узком смысле), хотя и придает этим понятиям значение, еще большее, чем категориям, и почему он стремится вывести классы сущего по существу из классов пропозиционального высказывания, то есть из использования языка.
После того как этот способ происхождения понятия категорий был забыт, в них стали включать те понятия, значение которых, по Аристотелю, все еще превосходило значение категорий, как это уже сделал сам Аристотель с usia, используя это слово в более широком смысле, включающем вторичное значение. Поэтому, если мы хотим узнать историю учения о категориях в его аристотелевском основании, мы не должны ограничиваться теми понятиями, которые сам Аристотель называет этим именем, но должны также рассмотреть высшие принципы, которые он ставит выше категорий, и, наконец, должны также обратить внимание на те понятия, которые Аристотель по-прежнему считает вне и ниже категорий, но которые впоследствии были включены в учение о категориях. К ним относятся так называемые постпредикаменты, которые, вероятно, были добавлены одним из аристотелианцев в последних шести главах трактата Аристотеля о категориях, а также различные родственные понятия, которые Аристотель обсуждает в красочном ряду с категориями и постпредикаментами в своей «Метафизике». Это расширение тем более необходимо, что Аристотель варьирует перечисление своих категорий между числом семь (как образовано, как велико, в отношении чего, действует, страдает, где, когда) и числом восемь и десять; в случае числа восемь усия ставится перед и включается в счет, а в случае числа десять к перечисленным добавляются положение и состояние (κείσθα и ἒχειν, situs и habitus). В постпредикаментах рассматриваются три понятия оппозиции приоритета и движения вслед за метафизикой, а в последней, наконец, противоположности единого и многого, тождества и различия, целого и частей, конечного и бесконечного, необходимого и случайного, а также понятия предела, совершенства и некоторые другие, менее важные, рассматриваются в пестром ряду.
В выборе порядка, предпочтительного числа десять или включенных в него понятий нет никаких узнаваемых принципов. Похоже, что тайное почитание мистического значения числа десять оказало влияние не только на Пифагора, но и на Аристотеля, и что выбор, по сути, определялся видами и формами слов, которые можно было использовать в качестве предикатов, всегда в уверенности, что это наиболее точный способ определения родов бытия. Как аристотелевская диалектика исходит из значения слов в языковом обиходе, так и его теория категорий следует за видами и формами слов, которые характеризуются их окончаниями (πτώσεις). Предикат может быть 1. существительным как видовым или родовым термином, 2. собственным существительным, 3. словом числа или производным от него, 4. сравнительным отношением субъекта к чему-то третьему или отношением, выраженным предлогом или родительным или дательным падежом, 5. переходным словом активного действия, 6. слово пассивного действия, 7. слово среднего действия, обозначающее состояние, вызванное действием, направленным на себя, например ύποδέδεσται, ωπλισται5, 8. слово переходного действия, обозначающее положение или отношение, 9. наречное определение места, 10. наречное определение времени.
То, что рассмотрение фактических различий сыграло в этом существенную роль, легко признать. В целом связь между категориями Аристотеля и частями речи, впервые заявленная Вильгельмом фон Оккамом, затем Тренделенбургом и поддержанная Максом Мюллером, вероятно, верна, несмотря на те оговорки, которые выдвигали против нее Риттер, Целлер, Бониц и другие.
Что касается принципов, лежащих выше категорий, то Аристотель соглашается с Платоном в том, что существующее в широком смысле охватывает существующее в узком смысле и относительно несуществующее, что истинно существующее относится к относительно несуществующему, как определяемое к определяемому, как разумное к неразумному, как форма (είδος) и цель к сущности, как благо к тому, что само по себе не есть благо, но способно к благу, что форма или разумная сущность в вещах есть нечто понятийное и что разумное это возникает только из соединения общей формы с субстанцией, что источник множественности следует искать в субстанции в противоположность изначальному единству и неделимости бессубстанциального разума (Г 2, 1069 b 30) и что все другие противоположности следует прослеживать до противоположности единого и многого (Γ 2, 1004 b 30—1005 a 5).
Единственное отклонение в «Принципах» состоит во введении нового обозначения для понятий, придуманных Платоном, которое он вполне мог принять, а именно в обозначении ὄντως ὄν как ἐνεργείᾳ ὄν и μὴ ὄν как δυνάμει ὄν (т. е. существующего бытия как ὄν). т. е. того, что существует, как существующее согласно энергии, и того, что не существует относительно, как существующее согласно динамису). Однако слова energy и dynamis содержат двойной смысл, для которого греческий язык еще не выработал отдельных выражений, а именно: действие и действительность (actus и realitas), способность и возможность (potentia и possibilitas). Только одно из этих выражений отделено от прилагательного, которое преимущественно имеет значение возможности (а именно δυνατόν, которое используется попеременно с ἐνδεχόμενον); но, с одной стороны, активное значение мощного, способного, умелого остается наряду с пассивным значением возможного, а с другой стороны, отсутствует соответствующее прилагательное ἐνέργεια, которое имело бы значение «реальный». Только одно из этих значений, а именно актуальность, проистекающая из действия, и пока еще неактуальная возможность в определенном смысле, может быть применено к оппозиции существующего и несуществующего, но не другая сторона, действие и способность. Ибо факультет есть бытие в том же самом смысле и в той же самой степени, работает он или не работает, является ли он мгновенно активным или неактивным факультетом. Способность – это внутренне существующая вещь, которая как таковая есть prius действия и его результатов (действительности); возможность же – это мысленное отношение существующих условий к несуществующим (лишь воображаемым) последствиям, которые возникают только при наступлении других условий.6 Способность – это нечто активное, возможность – нечто пассивное; поэтому к пассивной субстанции можно применить только возможность, но не способность. Аристотель прав в том, что актуальность есть prius этой возможности, но не прав в том, что он также устанавливает эффект как prius способности (т. е. эффект как prius его причины). Вся путаница аристотелевской метафизики проистекает из этого двойного значения энергии и динамиса. С одной стороны, он признает двойное значение и поэтому разделяет два принципа энергии и динамики на четыре; с другой стороны, из-за недостатка языка он не в состоянии различить двойное значение там, где это действительно важно.
Аристотель приравнивает актуальность и возможность к форме и субстанции, действие и способность к цели и происхождению движения; таким образом, он приходит к своим четырем принципам из противопоставления энергии и динамиса. Но при этом он запутывает себя в значительных трудностях.
Субстанция предполагается как реальный принцип, но при этом как возможность, т. е. мысленное отношение к возможно имеющей место реальности, которое как таковое лишь влияет на способ применения копулы в предложении. Форма, в отличие от субстанции, предполагается актуальной, но чем более абстрактно общей она является и чем дальше она удалена от чувственного, тем более нереальной она предполагается. Приближаясь к отдельным вещам, вид, как предполагается, получает большую реальность, чем род; согласно этому, не форма в отдельной вещи должна давать ей высшую реальность, а субстанция, а она, в свою очередь, должна быть нереальной по отношению к реальности формы. То, что цель понимается как активная действенность, вполне хорошо, если бы только четвертый принцип, происхождение движения, считался бы по отношению к нему способностью. Но поскольку Аристотель уничтожил главную ценность способности действия, выведя ее из энергии, происхождение движения всегда отступает перед принципом деятельности, т. е. перед целью, которая, в свою очередь, как имманентная самореализация разума, течет вместе с рациональной сущностью, λόγος τοῦ τί ἦν εἶναι, или формой. Вместо того чтобы представлять цель как имманентную самореализацию формы, правильнее было бы понимать форму как результат рациональной реализации цели, т. е. форма должна определяться целью, но цель не должна мыслиться как приложение формы. Выражение τό τί ήν είναι Аристотель перенял у Антисфена, согласно которому λόγος в смысле определения говорит о том, чем является или было бытие само по себе (т. е. до своей реальности).
Поскольку энергия, таким образом, поглощает форму, а также цель и причину движения, для dynamis остается только субстанция; т. е. четыре принципа практически упрощаются до двух – формы и субстанции. Если бы форма и субстанция совпадали с актуальностью и возможностью, они не могли бы быть реальными принципами. То, что аристотелевская форма является неоправданной гипостазацией в том же смысле, что и платоновская идея, уже отмечалось выше; но аристотелевская субстанция – это остаток наивно-реалистического предрассудка, как будто видимость непрерывной материальной массы действительно соответствует такому реальному корреляту, как будто реальность предполагает нечто иное, чем сумму целенаправленных пространственных силовых воздействий. Если все содержание реальности переносится на форму и цель, т. е. на рациональное определение сущности, то для характера реальности остается лишь реальный принцип реализации содержания; но этот реальный принцип никогда больше не может быть выхолощенной абстракцией нереальной возможности, абсолютно неопределенной и пассивной субстанции, а лишь причиной движения или той способностью, которую сегодня называют силой или волей.
Эти критические замечания должны помочь понять ход последующего развития. Аристотелевские концепции энергии и динамики доминировали в Средние века исключительно в виде четырех принципов, сведенных к двум, то есть в виде оппозиции формы и субстанции. Форма как forma substantialis или гипостазированное понятие вида и рода должна была включать в себя имманентную телеологическую актуализацию и силу самореализации и противопоставляться выхолощенной абстракции абсолютно неопределенной и пассивной субстанции без сил и свойств как реальному принципу. Вся средневековая философия бесплодными кругами ходила по этому ошибочному пути, в чем был виноват Аристотель. Только номинализм поколебал уверенность в реальности формы, не сумев поставить на ее место что-то лучшее, потому что оставил на месте злополучное понятие субстанции. Декарт и Спиноза должны были показать, что выхолощенное таким образом понятие субстанции больше не обладает никакими узнаваемыми характеристиками, кроме протяженности, и тем самым они, по общему признанию, свели физическую реальность к форме, лишенной содержания. Только Лейбниц вновь придал протяжению реальное содержание через понятие силы, которая с этого момента стала принципом материи, в то время как субстанция все больше признавалась нереальной видимостью, а форма была заменена законом.
Однако вместе с этим приоритетом понятия силы на первый план в dynamis должно было выйти и значение активной способности, и это произошло в такой степени, что теперь мы вряд ли можем ассоциировать термины dynamic и dynamis со значением просто пассивной возможности. Рука об руку с этим шло «растворение понятия возможности в субъективном отношении мысли, что оставляло только выбор: либо полностью отрицать значение dynamis как метафизического принципа, либо просто подчеркивать в нем значение активного факультета». Это развитие, однако, шло без всякого обращения к Аристотелю, который тем временем был совершенно забыт, пока, наконец, Шеллинг в своей последней системе снова не обратился к Аристотелю и не поставил принципы потенции и акта, факультета и деятельности, во главе метафизики. Но и Шеллинг не остается полностью свободным от рецидивов \rming потенциального и материального, особенно в своем изложении чистой рациональной философии, где он ищет более тесной связи с Аристотелем (ср. Сочинения II, 3, стр. 289, 291, 313, 378, 384—385, 418). Однако при незнании значения поздней философии Шеллинга значение этого воссоединения с Аристотелем в смысле, прямо противоположном средневековой философии, еще не было оценено, так что, например, такой современный мыслитель, как Лотце, даже не подозревает, что в аристотелевском όυνάμα ον можно найти и нечто совершенно отличное от не-понятия субстанции. Поэтому представляется необходимым очень кратко указать на эту связь и раскрыть двойной смысл греческих слов, который Аристотель лишь наполовину почувствовал, а наполовину не распознал, как конечную причину этой двухтысячелетней аберрации. Следует отметить, что сам Аристотель повсюду находит противоположности энергии и динамики, формы и субстанции взаимозаменяемыми и что эта оппозиция доминирует во всей его мысли. Поскольку эта оппозиция предшествует всему конкретному и реальному бытию и проходит через все категории, Аристотель включает ее в категории не больше, чем понятия бытия и единого; возможно, этому способствует и то, что он все же в какой-то мере ощущал субъективную реляционную природу возможности и не знал, как прояснить для себя разницу между реальным фатумом и этим. Всякое бытие есть продукт неоформленных факторов формы и субстанции; оно становится, переходя из состояния возможного в состояние действительного бытия, или превращаясь из неоформленной субстанции в оформленную субстанцию. Это становление – не движение, а превращение (μεταβολή)»; оно проходит через все категории и поэтому также не является категорией. Его результатом является конкретное бытие, Это (для обозначения которого Гегель использует термин Dasein). Это конкретное бытие лежит в основе всех свойств, определений величины, отношений, деятельности и т. д. и, следовательно, является их глубинным или реальным субстратом (υποκείμενον), так же как и субъектом пропозиции. Аристотелевский термин для обозначения реального субстрата и логического субъекта в одном лице – это слово usia, которое кажется мне непереводимым.
Согласно нашей точке зрения, реальным субстратом в смысле конкретного, единичного и независимого существа могут называться только единичные вещи и индивиды; Аристотель, однако, находит, что субстанциальные понятия вида и рода также могут стать логическими субъектами в предложении, и через гипостазирование формы в реальную вещь склоняется к тому, чтобы включить их в понятие usia, несмотря на их абстрактный и зависимый характер. Поскольку usia должна состоять из субстанции и формы, он принимает родовое понятие за субстанцию, а видообразующее отличие – за форму. Однако, поскольку он считает, что только отдельные вещи и индивиды должны действительно называться usia, он называет их первыми или первичными usia, тогда как видовые и родовые понятия – вторыми или вторичными usia. Первая usia может быть только субъектом в предложении, но никак не предикатом, и поэтому не может быть причислена к родам или формам высказывания (категориям); только вторая usia может быть также предикатом, то есть считаться категорией. Однако, поскольку вторая усия причисляется к категориям, Аристотель обычно включает усию в ряд категорий, но часто помещает ее отдельно, как первую категорию, в отличие от «других» или «остальных» категорий.
Усия – это реальный субстрат, в котором или к которому находятся или примыкают свойства, состояния и т. д.; из двух составляющих ее элементов субстанция же является субстратом, в котором и к которому находится и примыкает форма. Поэтому в последнем смысле только субстанция является субстратом, а продукт формы и субстанции – лишь вторичным субстратом ради первичного, который находится в нем как компонент. По отношению к изменяющимся свойствам usia – это то, что остается неизменным или сохраняется, и это относится к двум ее факторам – форме и субстанции. Конечно, форма одной и той же субстанции меняется достаточно часто, и на ее место приходит другая, и даже если старая и новая формы сами по себе устойчивы и неизменны, старая исчезает неизвестно куда, а новая появляется неизвестно откуда. Таким образом, для чувственного восприятия конкретной вещи одна лишь субстанция представляется тем, что сохраняется на своем месте в смене форм, тогда как сохранение форм, которые уходят и приходят, является лишь неконтролируемым метафизическим допущением. Если мы называем сохраняющееся субстанцией, то субстанция в усии, безусловно, является субстанцией, в то время как о форме лишь утверждалось; усия как продукт в любом случае является субстанцией в силу своей субстанции, предположительно также в силу своей формы, пока она сохраняет то же самое. Однако Аристотель упоминает о постоянстве лишь изредка и, похоже, не придает ему особого значения. Таким образом, субстанция является лишь второстепенным понятием в «Усии» Аристотеля и не подходит для перевода греческого слова. Более того, субстанция – это понятие, которое приложимо только к первой усии, а ко второй усии – только очень неаутентичным образом, с неприемлемым для нас переводом; но поскольку только вторая, а не первая усия является категорией в собственном смысле аристотелевского словоупотребления, ясно, что усия как субстанция вообще не имеет места среди аристотелевских категорий, а только усия как сущность.
Субстанция – это то, что в конечном счете не определено, но в то же время доступно любому определению и не сопротивляется никакому. Усия как детерминированное материальное бытие, как конкретное это, должна, следовательно, включать в себя и детерминацию бытия. Во второй усии эта детерминация бытия исчерпывается родовым понятием с видообразующим отличием или без него, т. е. содержанием бытия (τό τΐ ίοτι), которое ограничено определением. В первой усии к этому общему и конкретному определению бытия присоединяется особенное или индивидуальное (ro ϊόιον), которое уже не может быть определено. У Аристотеля это называется τό τί ἦν εἶναι, constitutivum proprium; но употребление несколько варьируется. Иногда τό τί ην είναι, кажется, охватывает τί ίοτι и ίδιον, иногда обозначает последнее в противоположность первому. В видовом термине видообразующее отличие уже занимает место Ίδιον, так что τί ἐστι как бы отступает перед родовым термином. Ведь τό τί ην είναι должно исчерпывать если не все, то, по крайней мере, существенное бытие-определение usia; оно, таким образом, совпадает с сущностью или essentia, которая совпадает с формой (είδος). Слово usia теперь достаточно часто используется для обозначения сущности вещи или индивида, не принимая во внимание неопределенный материальный компонент, и отсюда вытекает его перевод с essentia; но это справедливо только для второй usia, субстанция которой (родовое понятие) сама имеет рациональную и понятийную природу, а не для первой usia, субстанция которой стоит вне формы. Первая и вторая усии, таким образом, могут быть без ограничений объединены только под понятием логико-грамматического субъекта, но не под понятием субстрата или субстанции, и тем более не под понятием сущности. Субстрат в первичном смысле есть только субстанция, субстанция также только она, по крайней мере, субстанциальность формы есть неконтролируемое предположение, лишенное обоснования. Сущность же есть только вторая усия полностью, поскольку она полностью форма, а в первой усии только форма с исключением субстанции. Таким образом, в реальном наблюдении понятие usia распадается на два своих склеенных между собой значения, на субстанциальный субстрат, с одной стороны, и формальную сущность – с другой. То, что эти два противоположных значения могут быть соединены в одном слове, можно объяснить только психологически, если предположить, что Аристотель исходил из понятия логико-грамматического субъекта, который включает в себя обе стороны в форме существительного. Смешение Аристотелем субстрата и субъекта, субстанции и сущности под одним именем usia во многом ввело в заблуждение философию Средневековья и усугубило катастрофические последствия вышеупомянутой путаницы двойного значения energy и dynamis.
Усия ни в коем случае не является неопределенной субстанцией, вещью без свойств, которая ожидает своего определения только от предикатов; это была бы только субстанция, но понятие субстанции не обсуждается по отношению к ней, поскольку предполагается, что она не является реальной вещью, а всего лишь возможностью. Усия как таковая уже имеет в себе всю определенность родового понятия, видового понятия и индивидуального своеобразия, одним словом, сущность. В этом, однако, она обладает качеством, qualitas или ποιότης, которое совпадает с usia в смысле сущности, т. е. qualitas essentialis или ποιότης σῦσιῶδης (как называет его уже Симплиций). Здесь, однако, usia уже переходит в категорию качества и не в меньшей степени в категорию количества и отношения, поскольку общая конкретная и индивидуальная детерминация немыслима без детерминации величины, числовых соотношений и отношений. Точнее говоря, это форма усии, посредством которой она переходит в другие категории, а не содержание; аристотелевская форма на самом деле является лишь результатом взаимопроникновения всех других категорий, так что ее не следует помещать во вторую усию снова как особую категорию, противоположную другим категориям и находящуюся перед ними, если мы хотим сохранить аристотелевский принцип резкого разграничения категорий.
Если теперь перейти к жанрам и формам высказывания, то можно оставить вторую усию только как понятие вида и рода. Остальные категории тогда четко делятся на четыре группы: 1. количество и качество, 2. отношение, 3. место, время и ситуация, 4. делать, страдать и иметь. Количество и качество ближе всего к усии; поскольку Аристотель ставит сначала одно, а затем другое, мы можем предположить, что он рассматривал их как согласованные. Категория количества в усии соответствует составляющей вещества, категория качества, которая, по Аристотелю, включает форму, – составляющей формы. Далее следует отношение, в рамках которого сходное и несходное, большее или меньшее, соответствует количеству, а сходное и несходное, различие и контраст, – качеству. Третья группа включает в себя пространственные и временные определения, место вещи и время процесса, пространственный порядок частей по отношению друг к другу (или также временной порядок различных элементов события). Аристотель рассматривает место или пространственный порядок и временной порядок одновременно как моменты количества, но не отношение места к наблюдателю или времени к настоящему. Место или конечное пространство каждого отдельного тела образуется внутренней границей заключающего его тела, пространство в целом – внешней границей мира; где нет заключенного тела, там нет и пространства, так что пустого пространства быть не может. Время возникает через движение сейчас и само по себе дано в движении и вместе с ним; но поскольку Аристотель определяет его как меру или количество движения, а счет есть нечто субъективное, то и время приобретает субъективный привкус, не вполне вписывающийся в аристотелевскую систему Четвертую группу составляют активность, пассивность и медиальность; они подчинены качеству так же, как пространственно-временные определения количества. Активность, рассматриваемая как качество, предстает как природная способность, пассивность – как страдательное состояние, медиальность – как ἒξις (habitus) или διάθεσις (dispositio).
Пятую группу образуют постпредикативы, контраст, приоритет и движение. Контраст – это либо взаимность, то есть взаимосвязь двух понятий друг с другом, либо оппозиция в смысле крайних видов одного и того же рода, либо привилегия или отрицание; взаимность, очевидно, относится к категории отношения, а три других, как интенсификации понятия несходства, уже рассматриваются в категории качества. Приоритет времени, понятия, генетического порядка и ценности – это, очевидно, коалиция между Prius и Posterius; временной и генетический приоритет – это порядок (τάξις), который Аристотель рассматривает как подкатегорию количества; логический приоритет понятия и приоритет ценности предстают как чистые отношения, последнее из которых является психологической, этической или эстетической категорией. Движение – это либо простое превращение из бытия в небытие или из небытия в бытие, в этом случае его не следует называть движением, как утверждает Аристотель в «Метафизике»; либо это количественное, качественное или пространственное изменение. Если превращение или возникновение и исчезновение относятся к usia, то увеличение и уменьшение – к количеству, изменение – к качеству, а пространственное перемещение – к месту. В то же время, однако, движение и перемещение – это делание и страдание, а движение – это отношение между prius и posterius процесса. Что касается других категориальных понятий, рассматриваемых в метафизике, то из них можно выделить три группы: t. Целое и части, предел, единое и многое, конечное и бесконечное; 2. тождество и различие, совершенство; 3. необходимость и случайность. Первая группа относится к количеству, вторая – к качеству, третья – к отношению. Целое и части, а также понятие предела относятся к понятию непрерывного кванта, единое и многое – к понятию дискретного кванта, конечное и бесконечное – к обоим. 7Тождество и различие – это интенсификация качественного равенства и неравенства путем их распространения на усию. В понятии необходимости Аристотель подчеркивает возможность неразличения и различает необходимость внешнего принуждения, телеологическую необходимость средства, каузальную необходимость причины, логическую необходимость заключения и внутреннюю существенную необходимость простого, вечного и неизменного. Случайное – это то, что есть и правдиво изложено, но не необходимо или не существенно для предмета; это то, что не необходимо или неопределенно, отчасти как телеологически случайное с каузальной детерминацией, отчасти также как каузально неопределенное.
Аристотель исходит не из того, что все происходит причинно обязательно, а только из того, что все происходит условно обязательно, но что всякое условие ведет причинно назад к безусловному, неопределенному началу или исходному пункту, который как раз и является случайным Поэтому нет науки о случайном, а только о необходимом; необходимость и случайность рассматриваются Аристотелем не просто как субъективные формы суждения, но в то же время и как определения содержания действительности, т. е. как категории. Необходимость и случайность Аристотель рассматривает не только как субъективные формы суждения, но и как содержательные определения реальности, т.е. как категории, хотя и не причисляет их к категориям, так же как и причинность и ее субкатегории. Совершенство для Аристотеля (как и истина для Гегеля) означает соответствие вещи ее понятию; оно состоит в том, что вещь не имеет ничего, что требуется ее понятием, ни в размере, ни в частях, ни в мере, ни в эффективности, ни в достижении поставленной перед ней цели или задачи. Совершенство – это, очевидно, эстетическая категория, которая заблудилась среди общих категорий. – Как уже было показано, категории количества и качества, по мнению самого Аристотеля, пронизывают большинство других категорий; не хватает только понимания того, что форма также определяется количественно и что количество немыслимо без определенной интенсивности. Больше или меньше – это количественное определение, а противоположное ему, как увеличение несходства, – качественное; анализируя, в какой степени и то, и другое действует в других категориях, Аристотель сам устанавливает проникновение количества и качества. Пространственность выступает в категории количества как положение или порядок, в категории качества – как форма и элемент формы, кроме того, как место и положение, а в категории движения – как изменение места. Временность проявляется под количеством как порядок, под приоритетом как более раннее время, под движением как временное изменение и, наконец, как конкретная точка во времени. Категория движения, в свою очередь, пронизывает отношения между бытием и небытием (энергией и динамикой), количеством, качеством и пространственностью и является посредником в делании и страдании. Наконец, отношение охватывает их все, ибо большее или меньшее, различие и контраст, одинаковость и сходство, габитус и предрасположенность, положение и последовательность – это, как неоднократно признает сам Аристотель, отношения. Усия является тем, что она есть, только благодаря своему отношению к категориям, которые она выражает, и конкретна только благодаря присущей ей взаимосвязи формы и содержания, т.е. качественного и количественного фактора. Таким образом, совокупность категорий оказывается крестообразной сетью искусно переплетенных связей. Однако Аристотель решительно не желает закрывать глаза на результаты собственных исследований. Хотя он сам прослеживает ячейки сети в их многообразном переплетении, он все же придерживается принципа, что категории не имеют ничего однородного или общего, что они не могут быть растворены друг в друге или в общности, и что каждое понятие само по себе подпадает только под одну категорию и лишь случайно и возможно также под другую. Он допускает только аналогии, например, равенство и неравенство в кванте со сходством и несходством в квалии. Фактически, Аристотель не может признать, что категории вообще пересекаются, пока он ищет в них конечные роды самого бытия, а не сеть отношений, которая пронизывает и проникает во все бытие.
Какими бы ни были недостатки теории категорий Аристотеля, его прогресс по сравнению с предшественниками огромен, а его достижения настолько значительны, что прошло почти два тысячелетия, прежде чем ее основы претерпели существенную реорганизацию и расширение. Оставив в стороне несколько случайных побочных вопросов (таких, как приоритет ценности и совершенства), он сумел сохранить общие категории чистыми от вмешательства категорий конкретных наук, и общие категории перечислены и обсуждены им с такой полнотой, к которой раньше даже не приближались. Больше всего нас сейчас поражает отсутствие категории причинности, которую должны заменить четыре принципа или начала, затем погребение субстанциальности под понятиями логического субъекта, субстрата и сущности, далее, малая реализованность понятия цели по сравнению с той важной ролью, которую оно играет в системе, наконец, расхождение понятий возможности, необходимости и случайности в трех совершенно разных местах в системе. С другой стороны, префиксация количества и качества среди категорий выделяется как важное отличие от своих предшественников.
Если после всего сказанного подвести итог теории категорий Аристотеля в самом широком смысле в виде табличного обзора, то он должен быть примерно следующим.
A. Принципы, предшествующие и вышестоящие над категориями.
A. Роды или способы высказывания и бытия.
бытия.
I. Категории в более узком смысле.
1. усия (как вторая усия, понятие вида или рода).
2. количество и качество.
a. Количество.
a. Дискретное и непрерывное.
ß. Порядок и последовательность.
γ. Количественно равные и неравные (больше или меньше).
a. Качество.
a. Постоянные и изменяющиеся свойства (dispositio и habitus).
ß. Активные и пассивные свойства (способности и страдательные состояния).
γ. Форма и элемент формы (форма поверхности, форма линии, прямая и кривая).
d. Сходные и несходные (качественно одинаковые и несходные).
3. отношение.
a. Сравнительное отношение.
ß. Препозитивное (или казуальное) отношение.
γ. Взаимосвязь (взаимное противопоставление).
4. пространственные и временные определения.
a. Место
b. Время.
c. По месту.
5. вербальные категории.
a. Thun (активный).
b. Страдать (пассивный залог).
c. Habitus (средний).
II. постпредикаты.
6. контраст.
a. Взаимосвязь.
ß. Противоположности (крайние виды одного рода).
y. Привация (допускает промежуточность).
0. отрицание (противоречие).
1. приоритет
α. Временной приоритет
ß. Приоритет по понятиям.
y. Приоритет в соответствии с генетическим порядком.
рф. Приоритет по ценности.
8. движение.
a. Трансформация (становление и распад, неаутентичное движение).
ß. Количественное изменение.
y. Качественное изменение.
ύ. Изменение местоположения (пространственное перемещение).
III Другие категориальные термины.
9. количественные термины.
a. Целое и части.
b. Граница.
c. Один и много.
d. Конечное и бесконечное.
10. Качественные понятия.
a. Тождество и различие.
b. Совершенство.
11. необходимость и случайность.
В аристотелевской школе ясно ощущается неадекватность десяти категорий и стремление упростить таблицу категорий магистра и свести ее к эквивалентным исходным категориям или первым родам, от которых производные категории рассматривались бы просто как виды или подвиды. Указания самого Аристотеля служат путеводными звездами в этом стремлении, поскольку он иногда опускает некоторые категории в различных эпизодических перечислениях, а иногда обобщает несколько из них под другим обозначением. Мы уже видели выше, что число десять довольно часто сокращается до восьми за счет опущения положения и состояния (κεισθαι и εχειν) (например, Anal, post I, 22. 83, a. 21 и b 15; Phys. V, 1 Schl.; Metaph. V, 8. 1017, a. 24). Если усия не перечисляется отдельно и учитываются только предикативные категории, то число восемь сокращается до семи. В других местах Тун и Лейден также опускают восемь категорий, так что число сокращается до шести: усия (здесь она называется π), качество, количество, отношение, время и пространство (Eth. AI, 4. 1096, a. 24). Упрощение идет дальше всего в отрывке Metaph. XIV, 2. 1089, b. 23, где усии противопоставлены отношениям, а между ними вставлены привязанности (πάΐϊη), под которыми впоследствии предпочтительнее было бы подвести качество и количество. Самым важным из постпредикатов, очевидно, является движение, важность которого подчеркивал уже Теофраст и понятие которого было расширено до умственной деятельности. Неудивительно, что в «Евдемосе» категории «делать» и «страдать» слились с «двигаться» и «быть движимым» и все чаще заменялись понятием «движение». Однако эти попытки упрощения оставались неустойчивыми среди учеников Аристотеля и приобрели более прочную форму только у стоиков.
Рассмотрим еще раз, как категории Аристотеля применялись в натурфилософии и психологии. Субстратом природного бытия является безразличная субстанция, которая становится узией, лишь принимая ту или иную форму, но которая может менять свои формы через изменение, поскольку все меняется на противоположное. Движение предстает в природе как авторитетная первоначальная форма; в зависимости от того, находится ли субстанция в круговом или линейном движении, кружится ли она вечно в бесконечном движении или исчерпывает себя в конечном движении от начальной точки к конечной, она называется небесной или земной субстанцией, эфиром или элементарной субстанцией. Земное вещество имеет либо центростремительное, либо центробежное движение по отношению к центру мира или центру земли; между двумя крайностями абсолютной легкости и тяжести (вещество огня и вещество земли) есть посредники относительной легкости или тяжести (вещество воздуха и водорода). Эти четыре элементарные субстанции встречаются в эмпирически данных элементах только в смешанном виде, так что в каждом элементе преобладает одна из них. Различие между абсолютной и относительной тенденцией двигаться от центра мира или к нему, должно быть, не казалось Аристотелю достаточно строгим для различения огня и воздуха, земли и воды, поэтому он счел необходимым дополнить его вторым различием, а именно влажным и сухим. Контраст легкого и тяжелого теперь приравнивается к контрасту теплого и холодного, и в его рамках тепло-сухое (огонь) отличается от тепло-влажного (воздух), а холодно-влажное (вода) – от холодно-сухого (земля). Тепло и холод, влага и сухость, таким образом, считаются формами, которые соединяются друг с другом и с безразличной субстанцией, превращая ее в определенную субстанцию. Поскольку они могут изменяться и уступать место своей противоположности, они ведут себя как гипостазированные качества, которые, подобно современным химическим элементам, вступают в соединения друг с другом и с индифферентной субстанцией и растворяются в них. Их соединения первого порядка (гипотетические элементарные субстанции), второго порядка (эмпирически данные четыре элемента) и третьего порядка (смеси четырех элементов или конкретные субстанции, такие как дерево, слоновая кость, железо) ведут себя как химические соединения различных порядков согласно современному взгляду, то есть они гомойомерны или однородны в каждой мельчайшей частице. Все органические тела, напротив, неодинаковы в своих частях.
Физика Аристотеля основана на предпосылке, что материя непрерывно заполняет пространство и что пустое пространство невозможно; все его возражения против атомизма его времени в конечном итоге возвращаются к этим предпосылкам и теряют свою обоснованность вместе с ними. Аристотелевский взгляд на природу стремится сохранить возможность взаимодействия между материальными частями и поэтому выше античного атомизма, который не признает ни сил, действующих на материю, ни упругой реакции атомов и поэтому совершенно неспособен сделать понятным ни один физический процесс. Когда в современной философии атомы сначала наделили силами, а затем лишили их материальности, когда непрерывность динамического заполнения пространства заняла место материального, аристотелевские возражения против атомизма потеряли силу, и атомистическая физика должна была восторжествовать над аристотелевской.
Неорганическая субстанция, которая сама уже состоит из субстанции и формы, теперь снова соотносится как субстанция с душой, которая входит в нее как форма, или целевая функция, или энтелехия, но которая не имеет реальности без нее и вне ее. Затем порабощенное тело снова соотносится как субстанция с входящей в него высшей формой, τούς, которая распадается на деятельную и страдательную. У Аристотеля отношение души к страдающему νούς остается неясным, отношение страдающего к действующему νούς – неясным, отношение действующего человеческого τοΰς к божественному – неясным, поскольку отношения субстанции и формы здесь не выдерживаются, границы становятся размытыми, а противоположные интересы толкают к решениям в разных направлениях. Кроме того, остается неясным отношение природы, которая действует целенаправленно, но не обдуманно, к индивидуальной душе как энтелехии организма, с одной стороны, и к божественной душе – с другой, тем более что платоновская концепция мировой души отвергается Аристотелем. Наконец, остается неясным, сохраняется ли деятельный Нус как индивидуальное существо после гибели страдательного Нуса и души в смерти, или же после упразднения тела, души, индивидуализированной в теле, и страдательного Нуса, индивидуализированного в душе, он снова погружается во всеобщность божественного Нуса. С индивидуалистической точки зрения следовало бы думать, что активный нус может иметь реальное существование только как индивидуум, поскольку только в единстве формы и субстанции Усия должна существовать как реальность; но этому противоречит тот факт, что божественный нус также является формой без субстанции и должен иметь реальное существование, несмотря на всеобщность своего содержания. Остается сомнительным, относится ли исключение, согласно которому нечто может существовать и без субстанции, только к форме как божественному абсолютному духу или также и к форме как индивидуализированному активному нусу. Несомненно, что активный нус в человеке активен в личной форме; но столь же несомненно, что только божественный дух полностью свободен от страдания, но что личный человеческий дух всегда уже представляет собой композицию страдающего и активного нуса, и что последний никогда не становится активным в нем совершенно чистым и несмешанным. Аристотель никогда не обсуждал, основывается ли человеческая личность только на тленных составляющих, или только на нетленной, по сути, трансцендентной составляющей, которая входит в человека извне, или на взаимодействии этих двух составляющих; Если бы он занимался этим вопросом, то из своих предпосылок должен был бы прийти к логическому выводу, что индивидуальность зависит от стороны субстанции, что тело индивидуально через субстанцию, душа – через тело и страдательный нус – через душу, но что личность есть продукт взаимного влияния между индивидуальным страдательным нусом и неиндивидуальным активным нусом. Ибо содержание активного Нуса, с одной стороны, чисто теоретическое, а с другой – абсолютно общее даже в своей личной деятельности, так что можно только предположить, что активный Нус есть и остается общим также и по принципу своего существования, то есть как форма, несмотря на свое сотрудничество с индивидуальным страдательным Нусом и несмотря на результат личности, возникающей из этого сотрудничества.
Решительность, с которой Платон утверждает бессмертие индивидуальной души, относится только к длительности переселения душ, которое Аристотель отвергает как философски неприемлемую мифологему; согласно Аристотелю, деятельный нус всегда находится в том же положении после смерти человека, в каком, по мнению Платона, находится душа после смерти человека, преодолевшего переселение душ. Однако и у Платона непрерывность приобретает совершенно иной вид, поскольку на смену смешанной усии приходит несмешанное неделимое бытие, или, другими словами, на смену субстанциально-духовному продолженному существованию приходит чисто логико-идеальное, как диалектический момент в царстве идей. У Платона, конечно, все учение об идеях основано на том, что логико-идеальное бытие рассматривается как истинно реальное бытие в противоположность лишь внешне реальному бытию усии, представляющему собой смесь идеи и субстанции; но у Аристотеля эта предпосылка в основном отменяется и лишь непоследовательно сохраняется в виде исключения для божественного духа. У Платона индивидуальные идеи, если не как индивидуальные, то, по крайней мере, как родовые, обладают определенной идеальной независимостью в абсолютной идее, так что индивидуальная душа, избавленная от переселения душ, по крайней мере, имеет продолжение, если уже не индивидуальное, то, по крайней мере, общее, в соответствующей родовой идее; Аристотель же прямо превращает все содержание божественной природы в божественное самомышление, так что родовые формы уже не могут продолжать существовать как идеально независимые члены царства идей, но только как мысли Бога, постольку, поскольку он в своем самомышлении также должен мыслить эти родовые формы. Аристотель исходил из вечности и непрерывности движения крайнего неба (неподвижной звезды) и из предположения, что движение может быть вызвано только непосредственным контактом, и заключил из этого, что мир или небо заключены в едином, вечно самосущем и потому неподвижном, неделимом и потому бесплотном движителе. Бесплотная Усия, однако, – это чистая форма мысли, которая, как предполагается, также поглощает мысль в себя посредством контакта. Неподвижный движитель должен быть не dynamis, а чистой энергией; чистая энергия – это опять же только мысль. Более того, божество должно быть самым совершенным, самым чистым и самым блаженным; для интеллектуалиста Аристотеля, однако, это, в свою очередь, мысль. Самое совершенное и неизменное мышление должно мыслить только самое совершенное и неизменное; но оно есть только само себя, следовательно, энергия божества должна быть мышлением мышления. Конечно, Аристотель упустил из виду, что изначально пустая форма мысли в то же время превращается в содержание мысли, а заполнение пустоты собой может быть только кажущимся. – Аристотелевское определение Бога как мышления мышления вызывает большое восхищение, как будто оно представляет собой абсолютное самосознание или абсолютное Я; однако в провозглашаемом здесь тождестве формы и содержания мышления, или субъекта и объекта, мыслительной деятельности и мышления, как мне кажется, кроется скорее противоположность всякого сознания и самосознания, которые основаны именно на различении и противопоставлении того, что здесь обозначено. Но даже если бы Аристотель подразумевал под мышлением мысли рефлектирующее мышление, или сознательное знание, или самосознание, если бы он не просто хотел выразить безусловность и эгоцентричность божественного мышления, все равно было бы далеко от его намерения выводить из этого мышления мысли конкретное личное самосознание или даже личность Бога в целом. Ибо пустая форма мышления, размышляющего о самом себе, или бессодержательная деятельность мышления, которое думает о себе как о бессодержательной деятельности, чтобы найти в себе содержание, которого ему не хватает, – это самое абстрактно-всеобщее, что может быть в мышлении, и оно настолько далеко от конкретной личности, насколько это возможно. Определение вечной самосущности делает невозможным для божественного мышления достичь более конкретной реализации из этого самого абстрактного начала. Даже если бы такое осуществление было допущено в виде родовых форм, осталась бы родовая абстрактность этих форм, которая не допускает ни конкретности содержания, ни личности мыслящего духа.
Аристотель также не пытался преодолеть дуализм божественной природы и относительно несуществующей субстанции; он лишь еще резче проявляется у него через обозначение ΰλη и через объяснение того, что небытие и бесконечность уже не составляют сущность, а лишь дополнительные определения этой субстанции. В результате этого дуализма вся система Аристотеля может быть названа теизмом или пантеизмом не больше, чем система Платона. Однако в рамках дуализма его концепция Бога существенно отличается от платоновской. У Платона можно найти пантеистические черты в том, что все бытие в мире проистекает только из имманентности идей в разумном, то есть в конечном счете из имманентности Единого во Многом или Бога в Безграничном, но теистические черты в том, что этические качества стоят на первом плане в его концепции Бога и вся телеология мира связана с ним как с абсолютной целью. У Аристотеля же пантеистическая имманентность Бога ограничивается сомнительным отношением человеческой деятельной природы к божественной, этические качества исчезают из чисто интеллектуальной концепции Бога, формы и цели становятся независимыми от имманентных форм и целей самих индивидов и вещей, а Бог уходит в свою трансцендентную неподвижность. Мир становится субстанционально, каузально и телеологически независимым от Бога, а Бог превращается в неподвижного перводвигателя, который в деистической манере приводит машину в движение, но в остальном предоставляет ее самой себе. Таким образом, можно сказать, что платоновская концепция Бога более теистична и пантеистична, а аристотелевская – более деистична, при этом сами системы не могут быть названы теистическими, пантеистическими или деистическими.











