Читать онлайн То, что сильнее (сборник)
- Автор: Мария Метлицкая
- Жанр: Легкая проза
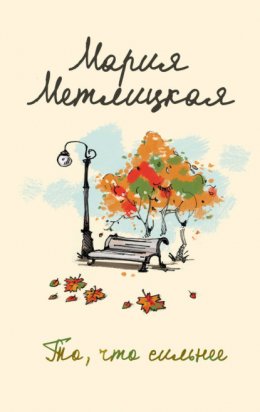
То, что сильнее
Ночью, она, конечно же, не спала. Впрочем, что за новость! В обычные-то дни порой с фенозепамом, а тут такие события! Просто мирового значения! К семи утра она стала чуть подремывать, а в восемь уже зазвонил будильник. Милочка еще спала.
Встала она легко, без покрякивания и медленного шарканья по комнате и до туалета, как было всегда. Почти подскочила и бодро устремилась в ванную.
Она долго умывалась, критически разглядывая себя в зеркало и, как всегда, оставаясь недовольной этим, увы, не самым веселым зрелищем, потом что-то вспомнила, суетливо бросилась на кухню, открыла морозильник, вытряхнула из пластмассовой ячейки кубик льда и стала протирать им лицо. Лед быстро таял и капал на ночнушку. Потом она снова посмотрела на себя в зеркало, и ей показалось, что кожа порозовела и стала упругой.
«Умная Зинка! – мелькнуло у нее в голове. – Надо почаще ее слушать. Что там еще она говорила? Лед, потом тертую картошку под глаза, а уж потом крем».
Тереть картошку было неохота, да и некогда. Она выдавила из тюбика крем «Женьшеневый» и осторожно стала наносить на лицо. Зинка учила: наши кремы – лучшие. Впрочем, французские она все равно не тянула. Привычным ловким движением закрутила узел на затылке и снова, как всегда, осталась недовольна своими волосами. Это с юности – да, густые, да, седина поздняя и редкая, а вот структура волоса (фу, никогда не нравилась) – мелким, непослушным «бесом». Зинка ворчала: к твоим годам у всех уже половина от волос остается, а у тебя – полно. Подумаешь, кудряшки ей не нравятся! Ну, что поделаешь, не нравятся – всю жизнь хотелось иметь гладкие и прямые. Как у Лары. А так – ни стрижку, ни челку. Всю жизнь гладкий пучок на затылке. Сейчас уже, правда, по возрасту.
Потом она прошла на кухню, тихо прикрыла дверь – не дай бог, разбудить Милочку – и включила электрический чайник.
– Господи! Какое удобство, – в который раз удивилась она. – Три минуты всего!
Ее, человека гуманитарного, с трудом меняющего перегоревшую лампочку и с большим трудом освоившую стиральную машину-автомат, восхищали и потрясали все новости технического прогресса: телефон без шнура, который вечно перетирался; печь СВЧ – и разморозить, и разогреть; тостер, электромясорубка – ни усилий, ни трудов. А уж мобильник она считала просто вершиной гениальности человеческой мысли. И даже при их весьма скромных доходах копилось и откладывалось на новые чудеса техники.
Сначала купили мобильник Милочке – самый дешевый, естественно, корейский, а спустя месяц – и ей, Анне Брониславовне. Теперь, даже когда она выходила ненадолго, в сберкассу или в магазин, они с Милочкой обязательно созванивались, буквально два слова:
– Ты как? Все нормально?
И услышав в ответ дочкино: «Все о’кей!», Анна Брониславовна улыбалась, вздыхала, отключала кнопочку и убирала телефон в сумку.
Она выпила кофе с кусочком сыра – очень вкусно, несмотря на нервное состояние. Посмотрела на часы и пошла в комнату – одеваться.
Наряд свой, скромный, но из выходных, она приготовила еще с вечера: темно-синяя юбка-джерси и голубая из искусственного шелка турецкая блузка – нарядная с большим воротником, пробитым дырочками узором, и украшенная крупными, под перламутр, пуговицами.
В уши вдела свои единственные сережки – маленькие, в лапках, бриллиантовые «розочки», память о маме. Подушилась духами с нежным названием «Анаис-Анаис» – подарок Милочкин ко дню рождения. И нанесла последний штрих: бледно-розовую перламутровую помаду – цвет, которому она не изменяла всю жизнь.
– Что ж, – оглядела она себя. – Вполне приличная дама глубоко за шестьдесят. Даже сохранилось подобие талии – блузку, по крайней мере, можно еще заправить в юбку.
Потом, что-то вспомнив, она всполошенно влетела на кухню. Проверила бульон на окне – все в порядке, яркий, янтарный, пена снята вовремя, много моркови – отсюда и цвет. Подняла полотенце – на доске лежала длинная, как полено, немного кособокая кулебяка с капустой. Приподняла крышку старой, чугунной, еще бабушкиной утятницы. Там, ожидая своего часа, лежала говядина с черносливом. Все нормально.
Она устало плюхнулась на табуретку.
– Господи, дура какая! А что могло с этим за ночь случиться? Мышей в доме, слава богу, нет. Все нервы, нервы.
На кухню, зевая, вышла Милочка.
– Ты уже, мамуль? – удивилась она. – Рано же еще!
– Нормально, в самый раз. Подожду во дворе. Там спокойнее.
Милочка опять широко зевнула и кивнула. Анна Брониславовна поднялась с табуретки и строго сказала дочери:
– Мила! За тобой – пылесос и пыль! Ты помнишь, надеюсь.
Милочка кивнула и махнула рукой.
– К двенадцати часам, Мила, к двенадцати должен быть полный, просто наиполнейший порядок!
Милой она называла дочь редко, подчеркивая тем самым торжественность и важность момента.
Милочка бросила свое вечное «ага» и исчезла в ванной.
– И себя в порядок! Слышишь? – крикнула Анна Брониславовна дочери.
В прихожей она надела дутое корейское пальто – вполне приличное, хоть и с рынка. И снова порадовалась ранней весне. А если бы стояли морозы? Тогда бы пришлось пойти в старой, выношенной донельзя, ненавистной и тяжеленной мутоновой шубе. И в «гнезде» на голове – песцовой, пожелтевшей от времени шапке.
«Сапожки не надену, ну их, хотя есть вероятность, что промочу ноги. Но разве об этом сейчас речь?»
Она села на маленький пуфик в прихожей и, кряхтя, засунула ноги в туфли – еще вполне приличные, правда, не по погоде.
«Точно промокну!» – вздохнула она.
Шарф на голову тоже надевать не стала.
«Что я, старуха, в конце концов? – бодрилась Анна Брониславовна. – Дай бог, пронесет, а нет – так пошмыгаю носом пару дней».
– Я ушла! – крикнула она Милочке.
Дочь вышла в коридор.
– Ни пуха, ни пуха! И не волнуйся ты там! Все будет хорошо. В конце концов, он же прожил здесь основную часть своей жизни, – утешила она мать.
Анна Брониславовна кивнула и тяжело вздохнула.
В дверь раздался длинный звонок. На пороге стоял Генка, сын соседки Зины.
– Ну че, тетя Ань? Помчались?
Анна Брониславовна кивнула.
– Аккуратнее там! – бросила вдогонку Милочка. – Телефон взяла?
– Да-да, – ответила мать.
Пока они ждали лифт, из соседней квартиры выглянула соседка Зина, Генина мать.
– Двинулись? – спросила она. – С богом!
Анна Брониславовна ей сухо кивнула. Вообще говоря, на Зину она была обижена. В первый раз обратилась с просьбой, да и просьба невелика – отвезти в Шереметьево, встретить дорогого гостя, а у Зинки аж лицо набок свернулось.
– Ой, Ань, такие пробки, ездить невозможно, да и потом, сама знаешь, как с этими уродами связываться? – Это она про своих сыновей.
Анна Брониславовна от негодования вспыхнула и пошла пятнами. Боже мой, сколько она этой Зинке помогала! У той пять лет свекровь парализованная лежала. Зина работала сутками, а она, Анна Брониславовна, бабку три раза в день кормила, судно выносила – у нее были ключи от квартиры, забегала по пятнадцать раз в день. И поминки все сделала – и блины, и салаты. Зина ей тогда руки целовала: «Аня, да я без тебя бы!..» А тут раз в жизни обратилась – и козья морда. Вот она, простота. Та, что хуже воровства. Анна Брониславовна поджала губы, развернулась и ушла к себе.
Вечером Зинка, конечно же, прибежала. Принесла кусок яблочной шарлотки и банку протертой малины – в знак примирения. Чувствовала свою вину. Не извинилась, где ей, а все приговаривала:
– Ань, ну ты чего, ты меня не так поняла! Чего обижаться-то, потом мои балбесы не твоя Милочка, сама знаешь. Отвезет Генка, куда денется, отвезет, ясное дело.
Что дуться, когда и вправду деваться некуда? Такси в аэропорт стоит бешеных денег, а обратно и говорить нечего – видела по телевизору их, таксистскую мафию, там, на месте. Пенсии не хватит.
В машине Генка громко включил радио «Шансон». Анна Брониславовна покачала головой и скривила губы:
– Ну и пошлость!
А Генка радостно подпевал. Потом решил пообщаться:
– Ну, чего там, теть Ань, полюбовника своего едете встречать? Друга, так сказать, детства?
Анна Брониславовна покраснела.
– Балбес ты, Генка, это муж моей подружки покойной, соседки по старой квартире. Десять лет вместе прожили. А ты глупости свои несешь.
Генка не обиделся, а понятливо покачал круглой стриженой башкой.
– А откуда он летит, из Америки, что ли? Еврейчик, стало быть?
Анна Брониславовна наморщилась от этого вроде бы безобидного, но почему-то неприятного и унизительного «еврейчик» и спокойно и строго сказала:
– Да, Гена, он еврей, как ты изволил выразиться. И уехал он в Америку от таких, как ты. Имеет право. От всего этого ужаса подальше. – Она кивнула головой на город, мелькавший в окне машины. – А жена у него была русская. Так что дети, считай, тоже получаются русские. И осуждать никого мы не имеем права. Во-первых, прошли те времена, а во-вторых, если бы у всех была возможность уехать, то думаю, что осталось бы здесь народу процентов десять или от силы двадцать.
После такой пламенной речи Анна Брониславовна покраснела, замолчала и отвернулась к окну.
– Да ладно, теть Ань, – миролюбиво сказал Генка. – Это вы верно сказали: я бы тоже свалил за бугор. Только кому я там нужен, простой водила, там таких, как я, тучи. А насчет еврейчика вы зря обиделись: говорят же «хохлушка», «армяшка»… Это я так, без злобы. Умный народ, между прочим. Этого не отнять. – И, помолчав, добавил жестко: – Все под себя подмяли, умники: и телевидение, и заводы, и недра наши.
Генка замолчал и прикурил сигарету.
– А пить надо меньше. И завидовать, – откликнулась Анна Брониславовна. И испуганно замолчала. «Господи, куда меня несет, с кем в дебаты вступила, дура старая! Выкинет меня сейчас в городе Химки, и буду стоять в туфлях по колено в луже тут до вечера».
Оставшуюся дорогу ехали молча. Анна Брониславовна пыталась завязать разговор про личную жизнь и про работу, но Генка был уже не в настроении и отвечал односложно. «Ну и черт с тобой!» – подумала она и переключилась на собственные мысли и воспоминания, а их было предостаточно – просто море разливанное.
Мимо проплывала заброшенная окраина Москвы – по-мартовски неопрятная, с мрачными серыми пятиэтажками и нелепыми вкраплениями огромных нарядных и ярких новостроек, оказавшихся здесь как бы случайно и не к месту. Зарядил косой и мелкий дождик, а Анна Брониславовна вспомнила свою жизнь. Жизнь, которую она никогда, ни разу не посчитала несложившейся или несчастливой. Потому что в ее жизни была любовь, та единственная, которую она, Анна Брониславовна, осторожно и трепетно пронесла через всю жизнь, не желая размениваться ни на что другое – ни-ни. Даже на легкую интрижку или флирт. В общем, она была из тех, кто носится с любовью глупо и нелепо, как с писаной торбой, и к тому же считают ее благом и подарком судьбы. Вдобавок ко всему у нее был ребенок от любимого. Не это ли счастье?
В конце пятидесятых мать ее, Елизавета Осиповна, получила большую и светлую комнату в центре, на Петровских линиях, взамен маленькой семиметровой в бараке без удобств на Преображенке. Комнату эту выделили ей как вдове, после ужасной и нелепой смерти мужа на производстве. В пятьдесят третьем ему, прошедшему всю войну до Праги с одним пустяковым ранением, в цехе затянуло руку в какой-то станок, намотало до локтя, и скончался он от потери крови.
Старшего сына Елизаветы Осиповны, Анютиного брата Германа, направили в командировку в Иран врачом в военный госпиталь сразу же после института, так как на пятом курсе он успел жениться и даже родить дочку. Жену его, красавицу Алевтину, Анюта побаивалась – та очень была холодна и сурова. Да что там Анюта, перед Алевтиной сильно робела и тихая свекровь.
Из Тегерана (а жизнь там при Пехлеви была вполне неплохая) Герман с оказией передавал матери разноцветные нейлоновые кофточки и легкие отрезы – разбиралось это все мгновенно по знакомым. На это в основном и жили и даже изредка шиковали, баловали себя и черной икрой, и балыком, и ананасами из «сорокового» гастронома. Елизавета Осиповна тогда еще работала в бухгалтерии при роно, но зарплата у нее была крошечная. Позже, правда, она выхлопотала пенсию за отца – называлось это «потеря кормильца», но платили ее только до совершеннолетия Анюты.
В пятьдесят девятом Герман с семьей вернулись из Тегерана. Полгода жили все вместе в комнате на Петровке, и это был, конечно, сумасшедший дом. Елизавета Осиповна сбивалась с ног, чтобы угодить капризной невестке, сын приходил с работы раздраженный, их дочка Светочка была ребенком капризным и не в меру плаксивым. А Алевтина вспоминала свою заграничную жизнь – и платья с декольте, и приемы в посольстве, и дворцы, и магазины. Анюта рассматривала фотографии, где Алевтина и вправду была сказочно хороша – тонкая талия, голые плечи, узкий лиф платья и широкая пышная юбка из переливчатой ткани.
В подарок Анюта получила розовую шерстяную «двойку» с золотыми пуговицами и тоненькое колечко с ярко-синей бирюзой. В комнате стояли до потолка плотно перевязанные коробки с привезенным добром. Алевтина их не открывала. На коммунальную кухню выходила в шелковом, до пят, халате, расшитом райскими птицами. Варила кофе и всех учила хорошим манерам. Родом она была из Нижнего Тагила, из семьи уборщицы и экскаваторщика. Соседи ее не любили и называли «мадам».
Через полгода ад для Елизаветы Осиповны и Анюты закончился – Герман купил кооператив. Коробки с таинственным заморским добром были увезены на маленьком грузовичке с открытым верхом. Уезжая, Алевтина бросила свекрови фразу: «Перетерпели друг друга, слава богу, хоть не подрались». Видимо, этот несостоявшийся финал был для нее откровением. А Елизавета Осиповна и Анюта вздохнули наконец свободно.
Герман заезжал раз в месяц, привозил матери какие-то деньги, которые она брать не хотела, плакала, и каждый раз все это заканчивалось скандалом.
– Жалко мне его очень, – говорила мать, вздыхая и вытирая слезы ладонью.
– Жалко? – не понимала Анюта. – За что Геру жалеть? Молод, хорош собой, пишет кандидатскую, отдельная квартира.
Мать смотрела нее укоризненно и качала головой.
– А Алевтина? – говорила она непонятливой дочке.
И дочка вслед ей тоже тяжело вздыхала.
Училась Анюта в школе почти на «отлично» – только с трудом давалась ненавистная химия. Была девочкой тихой, спокойной, могла часами читать, забравшись с ногами на вытертый черный кожаный диван с высоким и неудобным изголовьем. Внешне была довольно хорошенькая – живые темные, почти черные, глаза, забавный вздернутый нос, бровки домиком, кудрявые волосы заплетены в толстую, весомую косу. Была полновата, в школе имела прозвище Калорийка – по названию румяной булочки с изюмом. Из-за этого здорово переживала, но отказать себе в сладком не могла.
В их коммунальной квартире жило несколько семей. Люди были разные – и плохие, и хорошие, и жадные, и хлебосольные, и злые, и доброжелатели. Но грубых ссор и громких скандалов все же не было – так, по мелочи: кто-то на кого-то обидится, кто-то кому-то позавидует, кто-то кого-то осудит. Обычная человеческая жизнь. Но все равно, на дни рождения, Первомай и ноябрьские накрывались столы и ходили друг к другу в гости. На дни рождения пекли пироги и торты виновнику торжества, обносили ими соседей, а виновник выставлял бутылку и немудреную закуску на кухонном столе.
Подростков было трое. Прежде всего, собственно, Аннушка Ковальчук четырнадцати лет. Она и ее мать Елизавета Осиповна жили в квадратной восемнадцатиметровой комнате с большим окном-фонарем и гранитным метровым подоконником, служившим им обеденным столом, и тяжелой, бронзовой старинной люстрой, которая осталась от прежних хозяев и казалась в их царстве скромности и почти бедности слегка неуместной.
В соседней комнате жила семья Горловых – Галина Борисовна, женщина неприятная, сухая, вредная и склочная; ее муж, майор-отставник Георгий Романович, так и не дослужившийся до более высокого звания, что явно мешало его супруге жить на белом свете, и их сын Вадим шестнадцати лет – высокий, ладный и статный красавец, уже в те годы обещавший разбить не одно женское сердце.
И еще была Лара. Лара прекрасная. Лара великолепная. Лара дивная и чудесная. Лара бесподобная и восхитительная. В общем, божественная Лара. И в этом была абсолютно уверена ее соседка, Аннушка Ковальчук. Ларе Стрекалиной было шестнадцать лет, казалось бы, самое начало расцвета после унылого и тоскливого прозябания – словом, возраст, когда гадкий утенок в мановение ока, в один день, превращается в прекрасного белого лебедя. Метаморфозы и игра природы – сколько серых и неприметных девиц переживали подобное! Но здесь был другой случай. Сказочные и внезапные превращения Лару не коснулись, так как прекрасной она была всегда. Ее богатая природа не испросила для себя передышки в три-четыре года, когда даже самый хорошенький ребенок непременно дурнеет.
Итак, Лара Стрекалина. Слишком высокая для девицы тех лет, но опять природа была щедра и милостива – никакой голенастости, угловатости, неловкости и сутулости. Сплошное изящество. Фигура не подростка, а зрелой женщины – бедра, грудь, талия. Стройные, плотные ноги. Дивные волосы – редкий натуральный цвет. То, что называется «пепельная блондинка». Самому злому, самому коварному языку зацепиться не за что: прямой нос, чудесный, яркий рот, громадные серые глаза, широкие, длинные, к вискам, темные брови. И ко всему этому великолепию – легкий, безудержный и веселый нрав. Лара не шла – она летала. Лара не говорила – она пела. А как она смеялась! Хрустальный перезвон. Была мила со всеми без исключения, ни про кого и никогда не говорила плохо.
Жила она в комнате, выходившей на черную лестницу. С одной стороны, бывшая комната прислуги, темная, сырая лестница, туалет в общей квартире, но с другой – сплошные преимущества: у Стрекалиных был свой, отдельный, пусть черный, но вход. И собственный крохотный, двухметровый коридорчик, из которого они соорудили малюсенькую проходную кухню-буфет с плиткой и раковиной, так что общей кухни, основного рассадника сплетен и дрязг, они как бы и не касались.
Жила Лара с отцом, ведущим инженером крупного авиационного КБ, человеком суровым и молчаливым, прощавшим любимице дочери и капризы, и баловство. На хозяйстве была старая няня Глафира, маленькая, горбатенькая, с мелко трясущимися руками и головой, всегда в застиранной темной косынке. Глафира и стирала, и готовила, и прибирала, и ходила в магазин – осторожно, мелкими шажками, постоянно озираясь – очень боялась машин. А вот матери у красавицы Лары не было. Вернее, конечно, в природе она была – живая и невредимая. Только жила мать с молодым мужем, морским офицером в городе Одессе. И к дочери, оставленной ею в двухлетнем возрасте, не желала иметь ни малейшего отношения. С двух лет Лару растила старая няня Глафира.
Отец, по природе немногословный и жесткий, после предательства любимой красавицы жены еще больше посуровел и замкнулся. Из дома навсегда исчезли веселые гости и даже ближайшие родственники. Дочь свою он, конечно же, обожал. Только иногда, когда смотрел на нее, уже подросшую, такую прелестную и так похожую на свою коварную красавицу мать, у него начинало ныть сердце, а из груди готов был вырваться тяжелый громкий стон, который он с трудом сдерживал. О дальнейшем устройстве своей судьбы он не подумал ни разу. Привести в дом мачеху? Упаси бог! Даже родная мать оказалась кукушкой. Рисковать душевным спокойствием Лары? Подвергать ее новым, неизвестным испытаниям? Никогда! Дома, слава богу, благодаря верной Глаше все было в полном порядке, а женщин он будет бояться уже всегда – слишком сильным было едва пережитое им предательство.
Старые соседи, еще видевшие Ларину мать, говорили, что она, Лара, точная ее копия – та же красота, легкая походка, звонкий смех, легкий нрав. Та тоже была веселая и разлюбезная, а вон что змея, прости господи, выкинула – дите малолетнее бросила. Жалели, конечно, и отца, мгновенно постаревшего и потускневшего, и старую горбатую Глафиру, тянувшую на себе весь дом, и ребенка. Ну при чем тут дите? Ведь ни разу за все годы не приехала, стерва этакая! Правда терли все это в первые годы, а потом, как водится, забыли. И разговоры со временем поутихли, всплывали изредка, и то по случаю.
Лучезарную Лару-подростка, казалось бы, вся эта семейная трагедия и вовсе не коснулась, а так, прошла по касательной, мимоходом. Иногда, впрочем, накатывала на девочку мимолетная грусть от мысли, что у нее все не так, как у других. Но жизнь это явно не омрачало.
В школе Лара училась неровно – то пятерки сплошняком, по всем предметам без исключения, то вдруг двойки – и опять по всем предметам, даже самым любимым, например литературе и истории. Что говорит все же о том, что не все было гладко и слаженно в неустойчивой детской душе. Отец за это не ругал – так, мягко журил: «Тебе жить. С чего начнешь свою жизнь, так она и потечет». А в душе, конечно, тревога, такая тревога – все совпало: и Ларины красота, и прелесть, и легковесность. А гены? Уж очень много общего у нее с матерью. Как бы чего не вышло?
С Аннушкой Лера не дружила, а так, общалась по-соседски, два года разницы в этом возрасте – пропасть. Да и Аннушка хоть и славная девчушка, но такой еще ребенок – бантики, гольфы, на уме одна учеба. А она, Лара, естественно, уже в полной мере осознала свою женскую привлекательность. Еще бы! Чего стоили взгляды мужчин-прохожих – самого разного возраста.
Лара уже красила густой, как вакса, тушью «Ленинградская» свои и без того длинные и тяжелые ресницы, предварительно изрядно поплевав в картонную узкую коробочку. Носила капроновые чулки-сетку производства ГДР. Эти чулки не «ехали», а останавливались крохотной дырочкой, которую можно было зашить такой же жесткой, блестящей капроновой ниткой. В десятом классе проколола уши – правда, перед школой серьги снимала.
Аннушка смотрела на нее глазами, полными любви и восхищения, и все норовила пройти мимо низкой, обитой жестью двери, которая вела из квартиры на черную лестницу. Вдруг появится Лара. Иногда (впрочем, редко, под настроение) Лара спрашивала соседку:
– Анюта, ты свободна, можешь зайти?
Бог мой, она еще спрашивает! Аннушка вскакивала из-за стола с учебниками и тетрадками, обязательно роняла что-то на пол, по дороге к двери непременно сносила стул или табуретку и с пылающими от волнения щеками представала перед своим кумиром. Лара смеялась, трепала ее по щеке и заговорщицки подначивала, кивая на дверь. Это означало, что Лара собралась тайно покурить на черной лестнице и ей нужна была компания. На десять-пятнадцать минут, на одну сигарету – дальше соседка ей была ни к чему.
С захолонутым сердцем Аннушка накидывала плащик – на лестнице было сыро – и бросалась вслед за Ларой. Они спускались на два лестничных пролета (не дай бог, увидит вездесущая Глаша), и там, на холодном цементном, заплеванном полу, кутаясь в старый плащик, Аннушка с жадностью ловила каждое Ларино слово. В основном это был обыкновенный короткий треп обо всем. Вскользь о школе (боже, как надоело), о тряпках, о помаде (польская – самая лучшая на свете, а как пахнет!), что-то про соседей – в общем, ничего значительного.
Но однажды десятиклассница Лара поделилась с восьмиклассницей Аннушкой двумя сокровенными тайнами. Первая из них была про то, что поступать Лара хочет только в театральный. Эта тайна Аннушку совсем не удивила. А куда еще, господи, с такой-то красотой, как не в актрисы? А вот вторая тайна была действительно тайной. Тайной с большой буквы. Лара призналась соседке, что уже два года влюблена по уши в соседа Вадима Горлова. И что тот, ну, вроде бы, тьфу-тьфу, не сглазить, отвечает ей взаимностью.
– Но ты же знаешь его мамашу! – прошептала Лара и сделала страшные глаза.
Никогда и ни за что его мать не смирится с их отношениями. Потому что, во-первых, Вадиму нужно поступить в МГИМО, а это будь здоров как непросто, но ее блестящий сын достоин только карьеры дипломата. А во-вторых, в семье Лары плохой анамнез. Это про Ларину кукушку-мать. В общем, Ларина генетика Галину Борисовну никак не устраивала. А когда она узнает про театральный, то вообще от злобы подавится. Разве у дипломата может быть жена-актрисулька? В общем, поведала Лара, все это – страшная тайна, не дай бог, узнает кто-нибудь из соседей и дойдет до Горлихи.
– Ты меня поняла? – с напором спросила Аннушку Лара.
Ошарашенная и событиями, и доверенной ей взрослой тайной, Аннушка, еще совсем ребенок, растерялась, испугалась и тихо заметила:
– Что ты, что ты, Лара, на куски будут резать – ничего не расскажу.
Лара бросила бычок в старую консервную банку и рассмеялась:
– Ну, резать тебя никто не будет, ты мне поверь. А помочь поможешь? – Она опять перешла на шепот.
Аннушка, конечно, кивнула.
Помощь заключалась вот в чем. Общей кухней, где собирались все жильцы, Лара, как известно, не пользовалась, сталкиваться у коммунального туалета влюбленным было неловко. И Аннушка стала почтовым голубем. Лара писала любимому записки, сворачивала их в узкие полоски, Аннушка караулила Вадима либо в коридоре, либо на кухне – и, страшно поначалу смущаясь, быстро засовывала их в вяловатую Вадимову руку. Потом они отработали систему до автоматизма. К семи вечера Аннушка стояла под дверью на «черную» лестницу, дверь приоткрывалась, и Лара передавала уже не записки, а довольно внушительные письма. Вадим выходил в коридор, где в полутьме (вечно горела одна-две лампочки вместо положенных пяти) Аннушка ему быстро отдавала письмо. Вадим шел в уборную, где спокойно читал послание и коротко отвечал, а она томилась в коридоре, ожидая ответа. Он молча выходил из уборной, шел мимо Аннушки и, не глядя, опускал записку в карман ее халата.
Через щелку Аннушка передавала короткое послание подруге. Иногда на кухню или в ванную выходила вредная Горлиха, недовольно оглядывала Аннушку и шипела:
– Что ты все у туалета ошиваешься? Понос тебя пробрал, что ли? Шла бы лучше уроки учить.
Аннушка бледнела, краснела и ничего не отвечала. Все знали, какой у Горлихи язык. Взрослый человек не сладит. Девочка убегала к себе в комнату и думала: «Права Лара, тысячу раз права: никогда это ведьма не позволит им быть вместе. Как она вещала на днях на кухне: «В МГИМО такие невесты, с такой родословной!» Где уж бедной Ларе тягаться с ее семейной историей».
Меж тем наступил июль, и начались школьные экзамены. У Аннушки – переходные в девятый класс, а у Вадима и Лары – выпускные. После экзаменов Елизавета Осиповна отвезла дочь на дачу к подруге в Зеленоградскую – надо побыть на воздухе, отдохнуть, прийти в себя. Аннушка сопротивлялась, но мать была непреклонна.
Себя Аннушка ощущала почти предательницей – как они там без меня, кто поможет бедным влюбленным? Горлиха совсем озверела, провожает сына до уборной, как чует, пасет беспрестанно – как же, впереди экзамены в такой престижный вуз! Выводит его перед сном, как собачку, полчаса воздухом подышать. И все приговаривает: «Ты мне потом спасибо скажешь, когда будешь жить как человек».
Вадим ходил бледный, осунувшийся, чувствовал свою ответственность перед матерью.
А Лара в июле легко прошла все три тура в театральный и поступила с первого раза. Небывалая история! В театральный, да сразу! Правда, председатель приемной комиссии, патриарх и мэтр театрального мира, сказал ей тогда:
– Гордиться талантом тебе особенно не приходится, скажи спасибо родителям за такую роскошную фактуру. В этом году недобор героинь.
Да какая, впрочем, разница, кто и что там сказал! Главное, сбылась мечта, казалось бы, неправдоподобная и неосуществимая. Будет она еще заморачиваться над чьими-то словами!
После экзаменов отец отправил Лару на море в Ригу к двоюродной тетке.
Быстро прошло сумбурное, полное впечатлений лето. И к концу августа все съехались. Вадим тоже поступил – правда, переживали Горловы страшно: конкурс огромный, средний бал высок. У Вадика все на грани, только-только чтобы пройти – а вдруг какого-то блатного пропихнут? Горлиха извелась, похудела и даже пару раз «стреляла» у Лариного отца сигарету, так, в себя прийти.
В сентябре начались занятия. Горловы купили сыну костюм – доставали через десятые руки – чешский, темно-серый. К нему светлых сорочек пять штук плюс три галстука. И за бешеные деньги купили у спекулянтов портфель-«дипломат». Самый писк тех лет. Отдохнувшая и посвежевшая Аннушка опять стала нарочным – и все понеслось, как прежде. Только Вадим стал еще строже, серьезней, а Лара еще больше расцвела. Хотя, казалось бы, куда же больше? И так глазам больно глядеть на такую красоту. А как ей шел легкий прибалтийский загар и выгоревшие слегка на неярком балтийском солнце волосы!
Елизавета Осиповна теперь часто отсутствовала – помогала сыну по хозяйству и сидела с внучкой. Алевтина работать не пошла – к чему ломаться?
Аннушка решила, что уже пора серьезно готовиться в институт, все-таки девятый, предпоследний, класс. Мать оставляла ей обед – суп, второе – на несколько дней. Анюта корпела над учебниками. Поступать решила в педагогический, свято веря, что нет на свете профессии гуманнее и нужнее.
Как-то вечером в дверь ее комнаты постучала Лара.
– Ох, Анька, счастливая ты – полная свобода. А за мной Глаша шпионит, не дай бог. Даже месячные мои отслеживает – числа знает лучше, чем я.
Лара рассмеялась, а у Аннушки запылали щеки.
– Слушай, Анюта, у меня к тебе дело на сто миллионов. Может, выйдем, курнем?
– Кури здесь, – милостиво, по-хозяйски разрешила Аннушка и поставила перед Ларой тяжелую серую мраморную пепельницу. Мама приедет послезавтра, все успею проветрить.
Лара залезла с ногами на диван, заправила за уши волосы, глубоко вздохнула и затянулась сигаретой.
– Анька, мне неловко, конечно, но ты, и только ты, мне можешь помочь в этом важном деле.
Лара замолчала и опять сделала глубокую затяжку.
– Ну, в общем, что я все вокруг да около? Ты же свой человек, подруга!
При слове «подруга» у Аннушки забилось сердце.
– В общем, уступи нам с Вадькой комнату на пару часов.
Выдавив эти слова, Лара побледнела и испуганно посмотрела на Аннушку. Аннушка молчала, пытаясь переварить сказанное.
– Ну, что молчишь? Ты же знаешь нашу ситуацию – не приведи господи. У меня – Глаша, у него – мамаша его безумная, глаз с него не спускает, расписание лекций переписала. Просто Кабаниха какая-то. А здесь мы что-нибудь придумаем. Ну ездит же она к сестре и портнихе, эта чертова Горлиха! А тебе мы билеты в кино возьмем. А, Ань? Ну войди в положение! – почти просила Лара.
Ошарашенная Аннушка молчала. Конечно, предложение казалось ей неприличным и, несомненно, пошлым. Но на кону стояла дружба с ее кумиром, почти идолом. Да и потом, взрослые люди доверяли ей, ей одной, свою самую сокровенную тайну. Мало этого, еще просили о помощи. И от нее теперь зависело их счастье и удача. Господи! Какая ответственность! В голове, правда, промелькнула мысль о маме – боже, если бы только она узнала, на что готова пойти ее благоразумная дочь! Но мама же не узнает. А значит, не осудит.
Лара молчала и тревожно смотрела на соседку.
– Ну! – нетерпеливо спросила она.
Аннушка кивнула:
– Ну, конечно, раз так надо. Конечно. Я согласна. – И повторила Ларину фразу: – Мы же подруги!
– Вот именно! Подруги! – радостно подхватила Лара и вскочила с дивана, опрокинув мраморную пепельницу.
– Ты умница, Анька! Ты теперь моя самая близкая подруга, самый главный человек! С тобой можно иметь дело! Я тебе доверяю, – важно добавила Лара. Будто не было для Аннушки ничего важнее этого доверия.
Договорились на следующий день – чего тянуть? Вадик уйдет с последней лекции, а у Лары вообще две первые пары. А Горлиха с утра собиралась к сестре в Лосинку. Там она просидит часов до трех – это к гадалке не ходи. Ключ Аннушка оставит под ковриком у двери, а сама пойдет в кино или просто прогуляется по улицам – на улице стояли последние яркие дни теплого бабьего лета. Так и повелось: как только совпадали отъезды Елизаветы Осиповны и мамаши Горловой, Аннушка оставляла ключи под ковриком. Поначалу ее терзало то, что она обманывает мать, но со временем Аннушка поняла, что все сходит гладко и Елизавета Осиповна ни о чем не догадывается, и совесть ее успокоилась. Более того, девочка была горда собой – и своей смелостью, и решительностью, и отзывчивостью, и умением дружить.
Меж тем летели, мелькали дни, недели и месяцы. Как ни странно, но роман Лары и Вадима никто не замечал, а ведь события происходили на глазах практически у всей квартиры, и даже бдительные Глаша и Горлиха оставались в счастливом неведении.
Конечно, у Лары появилась бесконечная череда поклонников – телефон обрывали. Соседи злились, а Лара миролюбиво говорила:
– Ну, не зовите вы меня к телефону, мне на все это начхать.
Смеясь, рассказывала Аннушке, как на улице останавливаются машины, если она, Лара, идет по кромке тротуара, как из вагона метро вслед за ней выскакивают обалдевшие особи мужского пола, как преподаватель по искусству речи посылает ей томные взгляды и недвусмысленные записки, кавказские мужчины на рынке бегут за ней следом, пытаясь всунуть ей то гранаты, то букет гвоздик.
– А мне, Анюта, – горячо шептала Лара, – никто не нужен, ну никто, веришь? Только он. – Лара кивала на дверь и делала огромные глаза.
– Знаешь, как у нас с ним?
Аннушка мотала головой.
– Ах, если бы ты знала! – глубоко вздыхала Лара.
Конечно, она видела, что Аннушка страдает, и, как могла, пыталась загладить неловкость: то принесет пачку дефицитных колготок, то маленький флакончик духов «Белая сирень», то купит в кулинарии обожаемые ею безе и при этом ободрит подругу словом:
– Без тебя мы бы пропали, засохла бы наша любовь, ты наш ангел-хранитель.
И тут Аннушку немного отпускало. Конечно, нести бремя обожания и тайны непросто, но ведь за правое дело же, за святое – за любовь. И бедная наперсница, повздыхав, засыпала тревожным и беспокойным сном.
Тем временем у Лары появился постоянный и неустанный поклонник. Вот уж у кого было терпение! Жил он в доме по соседству, и звали его Левушка. Был он мал ростом, тщедушен и красив томной и хрупкой немужской красотой – темные, мягкой волной, с ранними залысинами на лбу волосы, тонкий нос, печальный рот и огромные, невыразимо грустные глаза. Был он вечно в меланхолии, понурый, сумрачный, сокрушенный, но и упорный и настойчивый одновременно. Боялся до дрожи суровой Глаши и звонил в дверь три раза – Аннушке. Та впускала его – и Левушка пристраивался либо на большом, обитом медью сундуке соседки Капустиной, стоявшем в коридоре, либо проходил на кухню и, сидя на Анютиной табуретке, часами ждал Лару, печально глядя в одну точку и тяжело вздыхая.
Появлялась Лара, стремительная, как стрела, веселая, оживленная – как всегда. При виде Левушки она вздыхала, принимала из его рук дежурный букет и на его «минор» говорила строго и укоризненно:
– Лев! Ты – Лев. И это надо помнить всегда.
А потом разражалась легким и веселым хохотом.
– Ну, давно сидим? – интересовалась Лара, небрежно засовывая в молочную бутылку Левушкины гвоздики. Иногда со вздохом выпроваживала его бесцеремонно, а если была в хорошем расположении духа, то стучалась в Анютину дверь:
– Аннушка! Мы к тебе пить чай!
Аннушка влюбилась в Левушку с первого взгляда, отчаянно и безнадежно, с той силой, какая бывает только в первый раз у девицы шестнадцати лет.
Конечно же, она проворно бежала на кухню и ставила на плиту желтый эмалированный чайник, стелила на стол шелковую, с вышивкой нарядную скатерть – ох, если бы видела мама! Доставала лучшие, «гостевые», как говорила мама, кобальтовые чашки с позолотой (бабушкино наследство), вынимала ложечки. Раскладывала по «кружевным» тонким розеткам вишневое варенье. И… сидела молча, пунцовая, взволнованная, и ловила каждое Левушкино слово. За столом он слегка оживлялся, пытался увлечь Лару беседой, рассказывая ей то про новую, увлекательную книжку, то про театральную премьеру, то свежий анекдот. Лару хватало примерно на сорок минут. Потом она поднималась из-за стола и говорила низким поставленным голосом:
– Покидаю вас, дети мои! Будьте послушны и смиренны!
А потом громко смеялась и, обернувшись у двери, бросала:
– Ну-ну! Только без глупостей! – и исчезала.
Аннушка опять мучительно краснела, а Левушка, страдая, кривил рот, нервно ломал тонкие пальцы и закручивал худые ноги в узел. С уходом Лары наступало тягостное молчание. Анюта робела, тихо спрашивала, не хочет ли он еще чаю. Он отрицательно качал головой, сидел в задумчивости еще минут двадцать и, так же молча кивая гостеприимной хозяйке, удалялся восвояси.
– Байрон, мой Байрон, – шептала Анюта. – Как он красив! А умен! Интеллигентен! Глупая Лара! Разве можно сравнить его с жестким, жлобоватым Вадимом! Ведь даже на день рождения Лары и на Восьмое марта он ей не подарил ни единого цветочка. И это все отговорки, что это оттого, чтобы, не дай бог, никто не догадался. Можно было придумать уже что-нибудь – и корзину под дверью, и букет на столе – и, в конце концов, передать его через Аннушку – было бы желание и чуть-чуть фантазии! А бедный Левушка, нищий студент, живущий со старенькой бабушкой, никогда, ну, ни разу не пришел без цветов и коробочки конфет – фундука в шоколаде (любимые Ларины сладости). Как она, слепая, не видит разницы между ними? Ведь Вадима не интересует ничего, кроме карьеры, – ни книги, ни театры, ни выставки. Бедная Лара! Совсем потеряла свою распрекрасную и бедовую голову.
К весне стала чаще бывать дома Елизавета Осиповна – все же дочка готовится к поступлению, такое ответственное время, хотя, положа руку на сердце, за Аннушку она была вполне спокойна. А вот за сына болело сердце: видела она, как несладко живется ему с этой хабалкой Алевтиной, как той вечно мало денег, как устраивает она ему скандалы, что вытерлась котиковая шуба (господи, сама Елизавета Осиповна шестнадцатый год носила старую цигейку!). Да и внучка Светланочка пошла в мать – и капризная, и ленивая, и вечно губы поджатые – всем недовольна. Ох, несладко живется ее мальчику, ох, несладко!
В связи с приездом Елизаветы Осиповны свидания Лары и Вадима стали редки. Кроме того, Аннушка часто видела, что у Лары глаза на мокром месте и не так уже она стала весела и беспечна, как прежде. Иногда вечерами, когда она звала Аннушку на темную лестницу покурить, а вернее, постоять рядом, грустно говорила, что насчет дальнейших планов на совместную жизнь Вадим разговоров не ведет, а если она («А это представить, при моей-то гордости!» – всхлипывала Лара), если она заводила разговор про семью и детей, Вадим злился, замыкался и отмахивался от нее как от мухи – ни о какой женитьбе речи быть не может, пока я не закончу институт.
Лара горевала, а вместе с ней горевала и Аннушка – и о своей безответной любви, и о бедной подруге, с которой, похоже, Вадим только весело проводил время, но ни о чем серьезном не хотел думать. А Левушка все ходил, не изменяя себе, и все страдал, и часами ждал Лару – только бы увидеть, посмотреть на нее, только бы перекинуться парой слов.
Молодость, любовь – страдания, и терзания, и полный душевный раздрай.
Вадима Аннушка теперь почти ненавидела – холодный, надменный, в ее сторону не смотрит, хорошо, если молча кивнет свысока, а то и вовсе забудет, не заметит, мимо пройдет.
А тут в квартире случилось еще событие, взбудоражившее стоячее болото на пару месяцев вперед наверняка.
Как-то в мае, среди бела дня, в воскресенье раздался звонок в дверь – настойчивый, наглый, требовательный. Открыла старуха Капустина, ее комната была ближе всех к входной двери. Высыпали соседи, думая, что что-то случилось – может, почтальон, а может, и милиция пожаловала. Ничего подобного. За дверью стояла высокая, крупная дама в светлом габардиновом плаще, бархатной зеленой шляпке с искусственной розой и туфлях на высоких каблуках на полноватых, но стройных и крепких ногах. Дама была сильно и вульгарно накрашена, но даже самый злоязычный человек не смог бы не отличить ее яркую, броскую, притягивающую взгляды красоту. Дама решительно отодвинула старуху Капустину и прошла в тускло освещенный коридор. Спустя пару минут ее узнала прозорливая Горлиха.
– Явилась не запылилась? – поинтересовалась она, подбочениваясь и одергивая короткий засаленный халат.
Дама усмехнулась и громко ответила:
– Я-то не запылилась, чего не скажешь про тебя, милая.
Соседи остолбенели – так с Горлихой не осмеливался говорить никто. Горлиха от злости побагровела, задохнулась и стала глотать воздух открытым, как у рыбы, ртом. Пробираясь сквозь соседей, как сквозь строй, дама в шляпке быстро прошла на кухню – было видно, что квартира была ей хорошо знакома. На кухне она села на табуретку, сняла тонкие замшевые перчатки, открыла сумочку и достала изящный янтарный мундштук. Закинула ногу на ногу, щелкнула блестящей зажигалкой и красиво закурила длинную, с золотым ободком сигарету.
Растерянные соседи молча стояли в широком проеме кухни. Горлиха, наконец, очнулась и двинулась к своей комнате. На секунду она притормозила у своей двери, раздумывая, что ей делать. Конечно, хотелось, ох, как хотелось на кухню, где сейчас наверняка разгорается настоящая баталия, но в то же время ее сдерживало, что дома, в комнате, был муж, человек строгий и суровый, не терпящий склок и скандалов, и потерять лицо перед ним ей совершенно не хотелось. Но любопытство и женская сущность взяли верх. Горлиха все же подошла к кухонному проему и тихо встала у кого-то за широкой спиной.
Дама вскинула подбородок и тоном, не терпящим возражения, обратилась к старухе Капустиной:
– Моих позови!
Желчная Капустина смотрела на даму, как удав на кролика. А потом, вдруг мелко и покорно закивав головой, двинулась к черному ходу, к обитой жестью двери, в которую забарабанила кулаками и громко закричала:
– Глашка, Глашка, открой дверь, до тебя гости!
Дама громко вздохнула, скривила губы и недовольно произнесла:
– Господи, при чем тут эта старая дура Глафира? Тупые старухи.
А Глаша вместе с Капустиной уже входила в кухню. Увидев непрошеную гостью, Глаша заголосила в голос, по-деревенски:
– Какие черти тебя принесли, господи, явилась окаянная, ни стыда ни совести! Что, людей мучить пришла?
Глаша голосила бы еще и еще, но гостья резко и грубо ее прервала:
– Пошла прочь, дочь позови, Лариску.
От этой наглости Глаша замолчала на полуслове, негодующе всплеснув руками. Но звать Лару не пришлось – та уже стояла в кухонном проеме. Аннушка увидела, как бледная Лара отчаянно кусает губы.
Соседи обернулись. Дама встала с табуретки и, протянув руки, пошла навстречу дочери. Лара отшатнулась и страшным шепотом закричала:
– Явилась? Кто тебя звал?! Уходи отсюда немедленно, пока отец тебя не увидел! Уходи, ни видеть, ни слышать тебя не хочу!
Лара отступила еще на шаг и прижалась спиной к стенке. Женщина остановилась на полпути и тихо и растерянно произнесла:
– Что ты, Ларочка, что ты. Не надо так волноваться. Я же с добром к тебе пришла, я же твоя мать.
Тут Лара закричала во весь голос:
– С добром? А какое может быть от тебя добро? Мало ты зла нам всем принесла? Убирайся прочь, ненавижу! – кричала Лара, бледная, встревоженная, с безумными глазами и побелевшими губами.
Аннушка не на шутку испугалась и прижалась к дверному косяку. Тут вставила свои пять копеек с трудом молчавшая доселе Горлиха:
– Явилась, матерью еще себя называет, совести хватает! Хотя где ее совесть, кто-нибудь видел? – обратилась она к соседям. Тут все очнулись, пошла волна шума.
Ларисина мать подошла к Горлихе и, глядя ей прямо в глаза, зашипела:
– Не лезь в мои дела, курва старая, за майором своим следи, а то я ему напомню кое о чем, если у него память короткая.
И, не глядя на Лару, расталкивая соседей в узком коридоре, она быстрым шагом направилась к входной двери, позабыв сказать дочери покаянные или просто прощальные слова. Громко хлопнула входная дверь. Все постепенно приходили в себя и стали громко и возбужденно обсуждать произошедшее.
Про Лару никто не вспомнил. Кроме Аннушки. Она обняла подругу за плечи и повела к себе в комнату. Лару трясло как в лихорадке. Аннушка уложила ее на диван, укрыла маминым пуховым платком и села рядом, с краешку.
Лара лежала молча, с сухими глазами и смотрела в потолок.
Аннушка держала ее ледяные руки.
– Может, чаю сделать? – спросила она Лару.
Лара резко села на диване.
– А водка у тебя есть?
Аннушка вскочила и открыла дверцу буфета. Там стояла бутылка кагора, который изредка по рюмочке пила Елизавета Осиповна, и в узком стеклянном графинчике на дне плескалось немного коньяка – брат пил понемногу к обеду, приходя к ним в гости.
– Коньяк! – коротко бросила Лара.
Аннушка плеснула коньяк в чашку и протянула подруге. Лара одним глотком выпила полчашки коньяку и даже не поморщилась. Вытащила из кармана халата пачку сигарет и спички и, не спрашивая разрешения хозяйки, закурила и заговорила быстро-быстро:
– Ты поняла, что она сделала?
Аннушка замотала головой.
– Как, ты что же, ничего не поняла?
Аннушка растерянно посмотрела на нее.
– Господи, ну как ты не поняла! – упрекнула ее Лара. – Теперь всё, понимаешь, всё, конец всему, ну, как же ты не понимаешь? Если до этого всего еще была слабая надежда, что Горлиха со мной смирится, меня примет, то теперь этого не будет никогда. Ты это понимаешь?
Анюта кивнула.
– Такую невестку она не допустит ни за что. Скажет, яблоко от яблони. И будет по-своему права. А Вадим ее никогда не ослушается. Понимаешь, никогда! Он же послушный сын. Против мамаши не пойдет. Господи! Какая же она гадина! Какая гадина! Отцу жизнь сломала, у меня детство было… что говорить. И сейчас, сейчас, когда у нас с Вадимом так! Она все испортила, все перечеркнула. Теперь он не женится на мне никогда. Понимаешь, никогда! Опять эта тварь мне всю жизнь поломала.
Лара горько заплакала.
Аннушка обнимала ее, гладила, искала неловкие слова утешения и, наконец, осознала, прочувствовала весь кошмар и ужас произошедшего. От жалости к Ларе сжималось сердце.
В дверь заглянула Глаша и суровым голосом бросила Ларе:
– Ступай домой, хватит дымить.
Лара отмахнулась:
– Отстань.
Квартира кипела и обсуждала эту историю еще пару дней. Особенно старалась Горлиха. Стоя, подбоченясь, в центре кухни, она поносила нежданную гостью последними словами, а когда однажды туда зашла бледная Лара и вежливо, но твердо попросила эти разговоры прекратить, Горлиха бросила ей вслед те самые слова, которые помянула Лара: яблоко от яблони, что от этой-то ждать, когда от такой матери… Кто-то попытался вяло поспорить, но желающих связываться со вздорной бабой особенно не нашлось.
Аннушка все в подробностях рассказала матери. Та поохала, повздыхала, пожалела Лару – но у нее и от своих забот и переживаний болело сердце. Скандалы в семье сына росли в геометрической прогрессии. Алевтина все больше наглела: ей опять было мало денег, хотелось машины, новой мебели – словом, как всегда, всего было мало и все было не так. Герман днями пропадает в больнице, бьется, как рыба об лед, а этой бабе все мало. Елизавета Осиповна начала прихварывать, да и за дочку сильно переживала (как там одна), но сына было жалко больше. У Аннушки все слава богу, она умница, и суп сварит, и приберется, и от учебников головы не отрывает, а если она, Елизавета Осиповна, обед не сготовит, то сын вечером голодный останется, без горячего, без свежей рубашки на утро и без крахмального белого халата.
Летом Аннушка почти на все пятерки сдала выпускные в школе и легко поступила в педагогический. Долго выбирала факультет – колебалась между историческим и филфаком и остановилась на русском языке и литературе.
После поступления Елизавета Осиповна отправила ее на две недели к дальней родне на Азовское море. Городок был маленький, уютный, зеленый. Аннушка много плавала, загорала и даже похудела, решительно отказываясь от ватрушек и булочек, испеченных доброй троюродной тетушкой, и не забывала о Левушке – своей тайной любви.
Вернулась она в Москву в последних числах августа. На вокзале ее встречал Герман, какой-то сильно осунувшийся и похудевший.
– Что мама? – спросила взволнованная Аннушка.
– Хворает, – коротко бросил Гена.
– Что-то серьезное? – испугалась она.
– Был сердечный приступ, но сейчас уже лучше, – коротко ответил брат. А потом добавил тихо: – Я сейчас у вас живу, временно, не волнуйся. От Алевтины я ушел.
Аннушка почему-то очень смутилась и не задала брату не единого вопроса.
Дома в их комнате сильно пахло сердечными каплями, и мамина постель была разобрана. Но Елизавета Осиповна встретила дочь во всеоружии: на столе дымился Анечкин любимый борщ, в сковородке шкворчали котлеты с жареной картошкой, и на блюде, под полотенцем, лежал ее любимый сметанный торт.
– Мамочка, ну чего ты так хлопотала? – засуетилась расстроенная Аннушка.
В углу комнаты стояла раскладушка. Герман уехал на дежурство, а Елизавета Осиповна рассказывала дочери, что у Геры появилась женщина – медсестра из его отделения. Женщина славная и порядочная, она с ней уже знакома. Но Алевтина рвет его на части – хотя и квартиру, и все, что в квартире, он, конечно же, оставил ей и дочери. К тому же еще отдает ползарплаты и набрал больше ночных дежурств. А Алевтине все неймется: и в партком больничный ходила, и в райком заявление накатала. В общем, жить спокойно им не дает и вряд ли скоро успокоится. Да, кстати, с дочерью ему общаться не позволяет, да и ей, бабушке, которая Светочку вырастила, тоже. Ну, ничего, дай бог, переживем. Все равно это счастье, что Гера влюбился и наконец у него открылись глаза и он ушел от этой вздорной бабы. Правда, с жильем проблемы – у его новой возлюбленной только комната в общежитии, так как Нина (так звали эту женщину) не москвичка, а родом из Брянска. Но это все ничего, молодые, все образуется. Главное, чтобы в семье был лад и покой. В общем, поживем пока втроем. Куда деваться?
Тут Аннушка поняла, что Ларе с ее свиданиями можно теперь распрощаться, и почему-то ей стало за это неловко. Словно подвела она ее по своей вине.
С Ларой она увиделась в тот же вечер – та, как всегда, вызвала ее на черную лестницу на перекур. Лара жарко шептала, что еле пережила двухмесячную разлуку с Вадимом – того отправили на практику в Берлин, но сейчас все, слава богу, встретились и она чувствует, как сильно он по ней соскучился.
– Понимаешь? – шептала она, заглядывая подруге в глаза.
Аннушка кивала.
– Ну а ты как отдохнула-то? – наконец соизволила спросить Лара. – Романчик-то хоть какой-нибудь закрутился на югах?
– Нет, – тихо ответила смущенная Аннушка.
– Ну ты даешь, – удивилась Лара, – ты ведь хорошенькая стала, прелесть. – Она потрепала Анюту по щеке. – И там ни разу не влюбилась?
Аннушка молчала, как партизан. Ну не рассказывать же Ларе, что она по самые уши влюблена в ее незадачливого поклонника? Спустя какое-то время она решилась спросить у Лары про Левушку. Та отмахнулась:
– Ходит, а куда денется?
А потом спохватилась:
– Господи, а что же теперь будет? У тебя же сейчас и мать, и брат? Где же мы теперь будем встречаться? – огорчилась Лара.
Первого сентября Аннушка пошла в институт – новая блузка, новая юбка, и еще Гера купил ей в подарок туфельки – не туфли, а сказка, загляденье – черный лак, широкий каблук, блестящая пряжка сбоку. В группе, как водится, были одни девицы и только два молодых человека, похожие между собой, как родные братья, – смешные и тощие очкарики. Девчонки не обращали на них внимания.
В середине сентября в квартире опять появился Левушка – Анюта увидела его на кухне, и у нее захолонуло сердце. Был он по-прежнему молчалив и грустен и, как всегда, поджидал загулявшую где-то Лару. Анюте он обрадовался – всё знакомая душа, есть с кем словом перемолвиться – и даже оживился и стал словоохотлив.
Бедная Аннушка была счастлива. А потом появилась Лара, и Левушка как-то сразу сник и погрустнел. Лара отмахнулась от него, словно от назойливой мухи, и, быстро распрощавшись, ушла к себе. Левушка совсем потух, Анюте почему-то опять стало неудобно.
Вскоре Аннушка познакомилась с медсестрой Ниной – та пришла к ним вечером на чай. За чаем стали оживленно обсуждать будущее и планы на жизнь.
Нина предложила свой вариант устройства их с Герой дальнейшей жизни. В общежитие, конечно, Герман не пойдет, условия там – хуже некуда. Квартиру снять не по карману. Короче говоря, предложила она ехать им вместе с Германом на ее родину, в Брянск. Там только что отстроили новую областную больницу и с удовольствием примут хорошего специалиста, даже помогут с жильем. На семейном совете на том и порешили – вариант неплохой, к тому же возможен хороший карьерный рост.
Елизавета Осиповна была не в восторге: бросать Москву, больницу, где сын был на хорошем счету, ехать в такую провинцию! Но скоро ситуацию разрешили два факта. Во-первых, оказалось, что Ниночка ждет ребенка, а во-вторых, в Брянске пообещали двухкомнатную квартиру в новостройке. К Новому году Герман с беременной женой отбыли в Брянск.
Учеба Аннушке давалась легко, и сессию она сдала на «отлично» и на повышенную стипендию. Ниночка писала из Брянска, что у них все тьфу-тьфу. Германа назначили завотделением. Квартиру дали чудесную, описание ее заняло целых семь страниц. Рядом – цветущий парк. И еще она просила, чтобы Елизавета Осиповна приехала хотя бы на месяц – после родов, которых Ниночка почему-то очень боялась.
Мама засобиралась в Брянск и уехала туда в конце апреля. Как только Аннушка, проводив ее, вернулась с вокзала, в дверь тут же постучала Лара.
– Господи, слава богу! – радовалась она. – Сколько мы мыкались по чужим углам!
От этих слов Аннушка опять густо покраснела.
– Ну, надеюсь, не подведешь, – задорно верещала Лара.
Аннушка вздохнула и покорно кивнула:
– Завтра, ладно?
– Завтра, – торопила ее нетерпеливая Лара. – Понимаешь, в июле Вадька уезжает на месяц на практику. В общем, опять разлука, – вздохнула она. Договорились на завтра.
И опять все вернулось на круги своя. Два раза в неделю, когда Горлиха уезжала к сестре или отправлялась на рынок и по магазинам, Аннушка оставляла ключ под ковриком у двери. Если не было лекций или семинаров, просто шаталась по улицам, забегала в киношку или на лавочке ела свое любимое эскимо.
Сдав летнюю сессию (как всегда, на «отлично»), Аннушка поехала в Брянск навестить родных и познакомиться с новорожденным племянником по имени Максим. Вернулась она в начале августа, и тем же вечером к ней ворвалась перепуганная Лара и поведала свою страшную тайну – она беременна. Вадим об этом ничего не знает. Она ждала его возвращения к концу августа – нервничала и страшно переживала.
– Господи! – шептала Лара. – Как все будет! Что он скажет на это? А его мамаша? А отец с Глашей?
Понятно, причин беспокоиться и переживаний без нее было предостаточно. Аннушка утешала подругу.
– Разве Вадим посмеет отказаться? Вы столько лет вместе, у вас такая любовь!
– При чем тут любовь? – взорвалась Лара. – У него, кроме любви, есть еще карьера и мамаша. И что перетянет, я не знаю. Ты же знаешь Вадима, человек он жесткий и несентиментальный.
А верный паж Левушка продолжал ходить – как «Отче наш», с цветами и шоколадками. В день приезда Вадима Лара побежала в парикмахерскую – уложить волосы, сделать маникюр – встретить любимого во всеоружии.
Аннушка варила на кухне обед. Тут появилась Горлиха – в новом кримпленовом платье, с прической и ярким маникюром – и поставила в духовку пирог.
– Праздник у нас! – довольно сказала она. – Большой праздник. Вадим едет с невестой – знакомить. В сентябре будем свадьбу гулять.
Аннушка замерла – как заморозили. А довольная Горлиха радостно продолжала:
– Девочку не видела, но семья приличная, а это самое главное. На-след-ствен-ность! – по слогам произнесла она и подняла кверху указательный палец. – Мать – врачиха, отец – из дипломатов. Всю жизнь прожили «за пределами», – хвасталась новыми родственниками Горлиха.
«Боже мой! Сейчас ведь придет Лара, с минуты на минуту, – лихорадочно думала Аннушка. – Что делать, господи, как ей это сказать? Бедная, бедная Лара, она не знает, какой сюрприз подготовила ей судьба». От ужаса у Аннушки похолодели руки и ослабели ноги, и она, как старуха, тяжело опустилась на стул.
Лара и Вадим с невестой встретились у порога квартиры. Лара поняла все моментально, избавив бедную Аннушку от тяжелых объяснений. Не видя ничего вокруг, та прошла молча к себе, легла одетая на диван и пролежала так три дня. Ни разговоры отца, ни уговоры Глаши – ничто не помогло. Лара лежала и молчала. А потом поднялась, умылась, переоделась и ушла из дома. Не было ее несколько дней. Потом она расскажет Аннушке, что взяла на вокзале билет и уехала в Питер, где жила ее тетка по отцу. Тетке Лара ничего не сказала, а просто целыми днями до изнеможения болталась по Питеру, зализывая раны, как кошка, – спаслась.
В Москву вернулась бледная, исхудавшая, с черными кругами под глазами, но все же живая – уже хорошо. Коротко отвечала на вопросы и с трудом и отвращением проглатывала чай и бутерброды, приготовленные Глашиной заботливой рукой. А в Москве меж тем в жизни Аннушки тоже произошло событие, перевернувшее ее жизнь, – как оказалось, раз и навсегда.
В один из дней, когда Лара была в Питере, в очередной раз появился горе-кавалер Левушка. В первый раз – сильно подшофе. Таким своего тайного возлюбленного Аннушка видела впервые. Вредная Горлиха и старуха Капустина стали Левушку выгонять.
– Нечего здесь сидеть выпимши, да еще смолить на чужой кухне.
В общем, с горем пополам выставили бедолагу за дверь. А спустя два часа, ближе к ночи, он опять вернулся в надежде увидеть Лару – уже окончательно и вдрызг пьяный. Слава богу, отпирала ему дверь Аннушка, иначе, увидев такую неприглядную картину, соседи непременно вызвали бы милицию.
Аннушка быстро втащила его в свою комнату, положила на мамин диван и пошла на кухню варить кофе. Когда она зашла в комнату, Левуша крепко спал, раскинув руки, и похрапывал во сне. Она сняла с него ботинки, укрыла одеялом, а сама прилегла, не раздеваясь, на свой диванчик.
Ночью ее разбудили горячие Левушкины губы и нетерпеливые руки. Отказаться от него не было ни сил, ни желания. Любовником он оказался неутомимым – мучил бедную Аннушку до самого утра. А утром, окончательно прозрев и протрезвев, бросил ей коротко: «Извини», оделся и – был таков.
Она долго не вставала с кровати – не было сил – и совсем не могла понять, оценить то, что с ней произошло. Что это было? Счастье или несчастье? Ведь она взяла чужое, ей не принадлежавшее и не предназначавшееся. Просто случай, глупый, банальный случай. Вовсе не повод, чтобы чувствовать себя счастливой или победительницей. Но рядом с ней был любимый человек, тот единственный, о котором она грезила несколько лет и которому не изменяла даже в мыслях. Как она могла отказаться от него? Да и потом, перед Ларой она была и вовсе не виновата – Лара не имела на Левушку ни малейших видов. И все-таки мучила, мучила совесть, болела душа и кружилась голова от бессонной ночи, тревог, сомнений, вороха растрепанных мыслей – от всего, что разом навалилось на нее, неожиданно и оглушительно. И она так и не решила, чем все это считать для себя – счастьем или большой бедой.
Когда вернулась из Питера Лара, Аннушка почему-то боялась смотреть ей в глаза. Та позвала ее на лестницу, закурила, морщась от дыма, и объявила:
– Я все решила. Собралась. Дохнуть из-за этого скота я не собираюсь. А может, бог меня отвел от этой семейки. А? По-моему, застрелиться легче.
– Сделаешь аборт? – испуганно спросила Аннушка.
– Что ты? – испугалась Лара. – Вспомни Инночку.
Аннушка кивнула.
Помолчав и затянувшись, глядя в стену, Лара спокойно сказала:
– Просто я выйду замуж за Левушку!
Бедную Инночку Аннушка не помнила, вернее, не знала. Они с матерью въехали в квартиру уже после ее трагической смерти. Но про эту страшную историю еще говорили много лет на кухне шепотом. Потому что была жива Инночкина молчаливая мама – тихая Бася. А дело было вот в чем. Инночка вдруг внезапно и тяжело заболела. Диагноз был поставлен редкий и неутешительный – болезнь Верельгофа. Проявлялось это так: на теле бедной девушки появились синяки, поднялась температура, она отказывалась от еды и совсем перестала вставать. Попала в больницу она слишком поздно – спасти ее не удалось. А дело было и вовсе не такое сложное – ах, если бы Инночка не побоялась и сказала врачу всю правду! Правда заключалась в том, что она сделала неудачный подпольный аборт, «вычистили» ее плохо, что-то осталось – и вышла такая вот история. Мать ее о тайной связи дочери с женатым человеком ничего не знала, а признаться Инночка не решилась, за что и поплатилась своей молодой жизнью. После вскрытия, когда открылась вся горькая правда, врачи сказали бедной матери, что спасти ее дочь не составляло труда, если бы та им все рассказала. А какие в те годы были вспомогательные исследования? В общем, поверили на слово, что интимной жизни у нее не было, может быть, не повезло с врачом (более опытный и внимательный наверняка бы докопался до истины), но случилось именно так, а не иначе. И бедная Бася похоронила свою двадцатипятилетнюю дочь. Умницу и красавицу. Гордость и надежду.
Спустя пару лет она обменяла свою темную восьмиметровую комнату в Москве, в центре, на большую и светлую в Киеве, где жила ее двоюродная сестра. Бася уехала, но историю не забыли. Все слышали ее не раз и даже видели фотографии красавицы Инночки. Конечно же, она произвела на девушек неизгладимое впечатление – и не было страшнее слова «аборт»!
Семейство Горловых активно готовилось к свадьбе. Почти каждый день Вадим появлялся с невестой. Бедная Лара! Один раз она столкнулась с ними в коридоре. Побледнела и прислонилась к стене. Вадим ей кивнул, и они прошли в свою комнату. А Лара осталась стоять в коридоре.
Невеста Вадима была никакая – ни уродина, ни красавица, в общем, из тех, кого увидишь, а на завтра пройдешь мимо на улице, не узнаешь. «Таких сотни, но зато хорошая родословная», – твердила на кухне счастливая Горлиха.
Свадьбу сыграли в ресторане «Будапешт» – две минуты от дома, аккурат напротив их парадной. Лара стояла у окна и смотрела на Вадима в строгом темном костюме и на его невесту, уже жену – в узком белом платье с кружевами и короткой, по моде, фате. После свадьбы молодые уехали к родителям жены – у тех была отдельная квартира. Ну не в коммуналке же им жить? Возбужденная и счастливая Горлиха рассказывала на кухне соседям, в какое богатство попал ее сын – и мебель полированная, и люстры хрустальные, и домработница имеется, и машина, и дача. Да и сам сынок не промах, собираются за рубеж. Конечно, тесть влиятельный помог, а что тут такого? Дело обычное, поедут они в хорошую страну, посмотрят Европу.
Лара на кухню не выходила – во-первых, ее тошнило от кухонных запахов, а во-вторых, чтобы, не дай бог, ни встретиться с Горлихой и не слышать ее сладких песен о счастливой Вадюшиной жизни.
Елизавета Осиповна уехала в Брянск к сыну, а Лара, зажав в коридоре Аннушку, попросила дать ей ключи от ее комнаты.
– Срочно, понимаешь, это надо делать срочно, – нетерпеливо шептала Лара, – сроки, понимаешь, поджимают. Еще немного – и я не смогу ничего придумать, не смогу скрыть обман. Мне надо это провернуть быстро – иначе ничего не выйдет.
– Что «это»? – одними губами спросила Аннушка.
– Господи! – раздраженно ответила Лара. – Да как ты не понимаешь? Уложить Левушку в постель. Что тут непонятного? И женю его на себе. Срочно причем. Пока все это не открылось. Глаша, старая чекистка, и так уже носом водит, – нетерпеливо объясняла Лара бестолковой подруге.
Аннушка молчала.
– Ну что, спасешь меня? – тихо спросила Лара.
Аннушка молча кивнула.
Через три дня обалдевший от счастья Левушка просил Лариной руки у отца и Глаши.
От свадьбы Лара отказалась – просто расписались и посидели втроем: Лара, Левушка и Аннушка в кафе на улице Горького.
– К чему эти лишние траты, кому это надо? – говорила Лара, а счастливый и ошарашенный всем случившимся и до сих пор не верящий в свое счастье Левушка со всем соглашался. Ему ли было спорить?
Жилищная проблема тоже была решена. Жить молодые стали у Левушки в соседнем подъезде, разделив его довольно большую комнату старой ширмой пополам – половина их, половина Левушкиной глуховатой старой бабушки.
Слава богу, Аннушка теперь их встречала совсем редко, только случайно, всего пару раз. Один раз столкнулась с Ларой у подъезда и удивилась, как сильно она подурнела всего за какой-то месяц: распух нос, появились коричневые крупные пятна на лбу и щеках, она как-то потяжелела и упростилась, что ли, – словом, это была уже вовсе не та тонкая, притягательная и гибкая красавица Лара. Поговорили минут пять ни о чем. Аннушка сказала, что сильно торопится, – видеть Лару ей было невыносимо. А с Левушкой она столкнулась в булочной на Сретенке.
– Привет.
– Привет.
И выскочила как ошпаренная прочь, забыв купить хлеба. Спустя месяц, даже при всей ее неопытности и слабой осведомленности, в один миг, проснувшись утром, она поняла, что дело плохо. Вырвало ее прямо у кровати на пол. Перепуганная и обалдевшая, она не сразу поднялась, чтобы умыться и прибрать за собой. Потом встала, на подгибающихся ногах дошла до ванной, взяла тряпку и принялась вытирать пол. От запаха мокрой мешковины ее опять замутило. Аннушка села на пол и горько заплакала.
– Господи, что же теперь будет?
Лучше участь бедной Инночки, чем весь этот страшный позор и ужас. А мама, а Герман, а правда, которую она не посмеет открыть никому и никогда? Слава богу, мама теперь безвылазно жила в Брянске – жена брата ждала второго ребенка и чувствовала себя неважно, да Максимка, племянник, был отъявленный сорванец – трое взрослых справлялись с ним с трудом. А на носу были госэкзамены, распределение. В общем, надо было что-то срочно решать. Кому рассказать всю эту ужасную, давящую огромной каменной глыбой на сердце правду? Ларе? Конечно, исключается – просто потому, что видеть ее невыносимо и поделиться невозможно. В институте близких подруг Аннушка не нажила – так, приятели. Чтобы помочь ей в этой беде, нужен взрослый и опытный человек.
Отчаячшись, она поехала к первой жене брата в Алевтине.
Алевтина открыла дверь хмурая, неприбранная, недовольная и с удивлением спросила:
– Господи, какие черти тебя принесли?
Аннушка прошла на кухню и удивилась грязи и горе немытой посуды. Раньше Алевтина такой распустехой и грязнулей не была.
– Чаю хочешь? – нелюбезно бросила бывшая золовка.
Аннушка отказалась.
Алевтина плеснула себе в стакан коньяка и закурила.
Аннушку затошнило, и она бросилась в туалет.
Алевтина открыла дверь в туалет и, усмехаясь, произнесла:
– Ясно все с тобой. Влипла. Тоже мне, девочка-ромашка. Ну, что делать думаешь?
– Помоги мне, Аля! – умоляла Аннушка. – Ну должны же быть у тебя знакомые врачи? Мне просто не к кому больше идти. Ни маме, ни Герману я сказать ничего не могу. Помоги мне, Аля, пожалуйста!
Алевтина выпила залпом еще полстакана коньяка и сказала:
– Помогу, не дрейфь, дело бабье, житейское. С кем не бывало. Что я, не человек, колода бесчувственная? Это только братец твой, сволочь, так считал, да и мамаша твоя с ним соглашалась. А кто мне в душу смотрел, кто туда заглянул хоть раз? Ладно, с тебя взятки гладки, ты еще соплячка была. А семейка твоя паскудная, так и знай. Но тебе я помогу. Ты человек, Анька, безобидный. Только дура, видимо, непролазная. Ну, ладно, это твои дела. Свяжусь с нужным человеком и дам тебе адрес. Это в Медведках где-то, точно не помню. Хотя была один раз. Делает она хорошо, грамотно, только без укола – потерпеть придется. Боль, конечно, ужасная, но короткая, переживешь. Да, и еще: сдери с умельца, кто тебе это замастырил, пятьдесят рублей. Пусть хоть деньгами ответит, козел.
Аннушка сидела молча и только кивала. Проглотила все – и наветы на мать и брата, – даже якобы соглашалась с советами по поводу денег на аборт. Да-да, Аля, ты во всем права. Только бы помогла, только бы не отказала!
В дверях она горячо поблагодарила Алевтину. А выйдя на улицу, расплакалась. Как все гнусно и противно, ей-богу! И общаться с этим чужим человеком, и поддакивать ей, и слушать гадости про любимых людей. Но понимала, что все это надо пережить, больше идти не к кому. На Левушку зла не было – сама виновата. А вот Лару Аннушка почти ненавидела: устроилась, прикрыла грех – так говорила про кого-то Капустина. Этот дурень Левушка так ничего и не узнает – и со сроками она его вокруг пальцев обведет. И свадьба у нее была, и ребенок будет законный. И будет у этого ребенка отец, который будет любить его больше жизни. А у нее? И еще из головы не выходила бедная Инночка. А если? Господи, не дай боже. От этих мыслей умереть хотелось тут же и сразу. Вот бы лечь и не проснуться! Господи, какие страшные мысли лезут в голову!
Вдруг Аннушка почувствовала, что ей безумно хочется жареной рыбы! Ну просто если не съесть сейчас, то… В общем, рыбу надо съесть немедленно. Она припустила к метро и по дороге зашла в кулинарию – занюханную, крошечную, при какой-то грязноватой столовке. На белых эмалированных подносах лежала нехитрая снедь: страшного вида серый студень, крупно порубленный винегрет и горкой – мелкая жареная мойва.
Аннушка взяла немного рыбы, выскочила на улицу, зашла в соседний двор, села на лавочку и дрожащими руками развернула жесткую серую бумагу. Рыбу она ела жадно, с внутренностями и хвостами, беспощадно отрывая лишь голову. За десять минут умяла все. Вытерла жирные руки и в блаженстве откинулась на спину скамейки. Жизнь показалась не такой трагичной и ужасной. «С кем не бывает?» – правильно сказала Алевтина. Ничего, всё образуется. Из всех ситуаций, как говорила мама, находится выход. И почти успокоившись, она побрела домой.
Алевтина объявилась на следующий день – не обманула. Сухо продиктовала по телефону адрес, пожелала ни пуха ни пера, сказала, что надо взять с собой тапочки и простынку, и напомнила про пятьдесят рублей.
– Не опаздывай, – предупредила она, – там все по времени, строго.
Аннушка твердила ей одно:
– Спасибо, спасибо.
Ночью Аннушка, конечно же, не спала – думала о том, что, слава богу, нет дома мамы, опять со страхом вспомнила бедную Инночку, перед глазами стояла Лара с округлившимся животом и опухшими губами – в общем, ночка была еще та.
В семь утра она собралась и поехала в Медведково. В метро опять тошнило и кружилась голова. «Ничего, – уговаривала она себя, – скоро все это кончится, уже завтра ничего не будет. Забуду, как страшный сон. Всего-то потерпеть десять минут!» Потом долго ехала в автобусе – почти на конечную остановку, с трудом нашла нужный дом – серую, мрачную пятиэтажку. С захолонутым сердцем поднялась на пятый этаж и нажала кнопку звонка.
Дверь ей открыла низкая, полная, с невыразительным лицом женщина лет пятидесяти, в ситцевом несвежем халате. Молча кивнула:
– Проходи.
В квартире пахло вареной капустой. Аннушку опять замутило. На кухне сидел небритый мужчина в серой майке и трениках – ел яичницу со сковородки. С Аннушкой он не поздоровался. Женщина провела ее в комнату и вышла, бросив короткое: «Обожди».
Аннушка увидела кухонный стол, покрытый старым ватным малиновым одеялом, детскую кушетку у стены, пыльные, серые тюлевые шторы и старый полированный шкаф с полуоткрытой дверцей, висящей на одной петле. Она присела на кушетку и почувствовала, как ее бьет внутренняя дрожь невыносимой силы. Внезапно резко разболелась голова, и она стала тереть виски совершенно ледяными пальцами.
Женщина зашла минут через десять. Поверх все того же халата на ней был надет клеенчатый фартук, в руках она несла большую кастрюлю, в которой что-то позвякивало.
– Стели свою простыню, – кивнула она, – не ори, терпи молча, стены здесь как газета, хлипкие. Не бойся, я тридцать лет акушеркой в роддоме проработала, у меня таких, как ты, табуны прошли, – деловито рассказывала она. – Ну, ложись, чего телишься? Через час про все забудешь. В первый раз, что ли? – удивилась она Аннушкиной медлительности.
Та обреченно кивнула.
– В первый, да не в последний, – хохотнула хозяйка и прикрикнула: – Ну, пошевеливайся! Мне еще обед доваривать, и внук скоро из школы придет. Некогда мне тут с тобой канителиться.
Дрожащими и холодными руками Аннушка пыталась расстегнуть пуговицы на юбке. Пуговицы не поддавались.
– Ну! – грозно произнесла хозяйка. – Намудохаешься с вами.
Аннушка раскладывала на табуретке чулки, юбку и блузочку – аккуратно и медленно. Тянула время. Потом неловко забралась на шаткий стол и закрыла глаза. Звякнули инструменты, и женщина резко и больно развела ей ноги. «Инночка! Инночка! – пронеслось в Аннушкиной голове. – Боже мой, что я делаю!»
– Нет! – закричала она громко.
Женщина в испуге отпрыгнула. Аннушка соскочила со стола и стала лихорадочно натягивать юбку и чулки. Женщина с силой швырнула что-то металлическое обратно в кастрюлю и зло прошипела:
– Вали отсюда, истеричка чертова! Будешь еще в дверь колотиться – на порог не пущу.
Кое-как криво нацепив юбку и перекрученные чулки, Аннушка натянула кофту и бросилась к двери. Она никак не могла открыть замок – ей показалась, вечность. В коридор вышел хозяин. Грубо отпихнув Аннушку, он резко открыл дверь и толкнул ее в проем.
– Вали отсюда, сучка! – крикнул он и захлопнул дверь.
Аннушка опрометью сбежала вниз по лестнице, захлебываясь слезами, громко, в голос, с подвыванием. На улице она притормозила и поправила свою одежду. «Скорее, скорее от этого ужасного дома!» – дробью стучало у нее в голове.
Она пробежала несколько кварталов и, наконец выбившись из сил, почти упала на скамейку в каком-то дворе. Сидевшая на скамейке старушка в белом платочке посмотрела на нее с жалостью:
– Обидели тебя, дочка?
– Нет, бабушка, я сама во всем виновата, – всхлипывая, ответила Аннушка.
– Ой, сколько в жизни всего было, – вздохнула старушка, – а все прошло. И жизнь тоже, – добавила грустно она. – Перемелется все, доча, и не так страшно будет, как сейчас тебе кажется. Жизнь все по местам разложит – сама, без тебя. – Старушка опять тяжело вздохнула и замолчала.
Аннушка встала со скамейки и побрела домой. Дома она согрела себе чаю, легла на кровать, укрылась тяжелым зимним одеялом и – странно – уснула крепко, без сновидений, лишь слегка опасаясь следующего утра и абсолютно не понимая, как жить дальше.
А утром приехала жена брата Ниночка. Приехала, понимая, что скоро ей это будет не под силу, купить что-нибудь будущему малышу – в Брянске это было очень сложно, а в московском «Детском мире» нет-нет да и выбрасывали.
Нина выпила чаю, перевела дух и отправилась в «Детский мир» в надежде купить еще Максимке цигейковую шубку на зиму.
– Я на целый день, только бы выдержать, – говорила она.
Аннушка лежала, то проваливаясь в некрепкий сон, скорее дрему, то просыпаясь – голова была пустая, ни одной мысли.
Ниночка пришла вечером уставшая, замученная, но абсолютно счастливая – удалось достать и шубку на вырост, и сапожки, и ползунки для младенца, и чепчики. Счастливая, она перебирала все это богатство, возбужденно рассказывая Аннушке, что почем и сколько она за всем этим стояла. Аннушка взяла в руки белый чепец с тонкой полоской кружева по краю и вдруг разревелась, выплеснув разом всю свою боль и терзания. Ниночка испугалась и, ничего не понимая, принялась вокруг нее хлопотать. Тут Аннушка все рассказала золовке как на духу – и про Лару, и про Левушку, и про Алевтину, и про акушерку в Медведках. Нина обнимала ее и гладила по голове:
– Бедная ты моя, девочка, как же ты со всем этим одна? Господи, а если бы я не приехала? И какое счастье, что ты оттуда сбежала. Аня, ты ведь могла бы себе всю жизнь перекорежить, ну разве так можно? Спасибо этой Инночке покойной, это она тебя с небес остановила. Все, Анна, – решительно говорила Нина, – успокойся, от всех этих слез и страданий только ребеночку мученья. Будешь рожать – другого выхода нет. А Евгению Осиповну и Геру я беру на себя – ну не звери же они в конце концов, должны понять.
И опять причитала без конца:
– Девочка ты моя бедная, девочка бедная!
Нина пошла на кухню, пожарила картошки, открыла банку сайры и банку соленых огурцов, и две беременные сели пировать. В первый раз за много дней Аннушка поела с удовольствием и аппетитом.
Потом Ниночка поделила свои драгоценные покупки на две кучки:
– Это, Анюта, твоему будущему малышу.
Они вместе дружно поревели и обнялись, а потом легли спать – позади был очень тяжелый для обеих день.
А утром Аннушка проснулась почти счастливая, с твердой уверенностью, что у нее все наладится и, что самое главное, не надо принимать страшное и ужасное решение.
Ниночка уехала дневным поездом, взяв на себя разговор с мужем и свекровью, а Аннушка решила жить обычной жизнью, повседневными делами – поехала в институт, получила справку на распределение и отправилась в школу на Соколе – свое первое место работы.
Школа ей понравилась – старая, из темного кирпича, трехэтажная, она стояла в тихом месте, в поселке художников, окруженная старым яблоневым садом.
Директриса оказалась милая, пожилая женщина, принявшая ее вполне дружелюбно.
– Замуж не собираетесь? – лукаво спросила она Аннушку.
Аннушка смущенно пролепетала:
– Нет, нет, такого в планах не предвидится.
– Ох, милая моя, – вздохнула директриса, – это сегодня не предвидится, а завтра… Дело молодое, житейское. Потом и до декрета рукой подать. А мне до зарезу нужны молодые специалисты, трех сотрудников проводила на пенсию. Так что смотрите, не подведите, – улыбнулась она.
Аннушка молча вышла из кабинета директорши. Было невыносимо стыдно. «А что делать? Не устраиваться на работу? Значит, она не получит декретных. А как без этого выжить?» За всю жизнь ей не приходилось обманывать сразу столько хороших людей – маму, Германа, директрису. Настроение было хуже некуда.
Через два дня приехала мама. Зашла в комнату с плотно сжатыми губами и сведенными к переносице бровями. У Аннушки упало сердце – поняла сразу: мама все знает. Мама молча села на диван. Аннушка пролепетала:
– Сделать чаю?
Помолчав, мать глубоко вздохнула и сказала:
– Ладно, Аня, дело сделано, что обсуждать. Я сама виновата, бросила тебя, уехала к сыну. За тебя была спокойна, ты девочка разумная. А вот как вышло. Обе виноваты и расхлебывать будем вместе. Какой у тебя срок?
Елизавета Осиповна говорила обо всем спокойно, но было видно, что убита, раздавлена этой вестью и пытается справиться с собой.
– Что Гера? – пролепетала Аннушка.
– А что Гера? – удивилась мать. – У него своих забот полон рот, что ему до этого? Где он и где мы? В общем, будем жить. Жизнь, Анюта, не кончается.
На том и порешили.
А в квартире на Петровке меж тем текла жизнь и происходили перемены. К старухе Капустиной, например, приехала из деревни племянница Райка – тридцатилетняя вдовица. Райка была горластая, крутобокая, с большими некрасивыми руками. В деревне она работала телятницей. Но там не заладилось: муж напился и заснул с папиросой – сгорел вместе с домом. Жить стало негде. У родни дом полон под завязку: два брата с семьями, куча племянников, батя пьющий и тяжелый на руку и почти слепая мать. Со снохами Райка не ладила. На ферме работа была тяжелая, грязная. И решила она податься в Москву, вспомнив про отцову сестру.
Старуха Капустина ее приняла настороженно и без удовольствия. Но Райка ее убедила:
– Я тебе родня, ты старая, ходишь плохо, живешь на копейки. Я пойду торговать и тебя прокормлю. Буду стирать, щи варить, а ты меня пропиши. Ну что тебе, жалко? Все одно комнате пропадать, а в старости кто тебе в аптеку сбегает, портки постирает?
В общем, недоверчивую и опасливую тетушку она убедила. Устроилась на Дзержинке в большой гастроном. Стала в дом носить и колбасу, и сыр, и всякий дефицит. Старуха Капустина так отроду не ела. Правда, с племянницей жили как кошка с собакой, крик стоял – мама не горюй. До драк доходило. А потом ничего, мирились. За бутылкой портвейна под закусочку. И так до следующего раза.
Райка понимала – и угол у нее есть, и работа непыльная, а замуж выходить все равно надо. Жизнь свою бабью устраивать. Не вечно же этой старой гадине портки вонючие стирать. Бабий век он ох какой короткий.
Только женихов что-то не предвиделось. Сошлась с грузчиком в гастрономе – тоже пьянь, спасибо, таких видали-перевидали. Наелись досыта. Тот как протрезвеет – в подсобку ее тащит собачью свадьбу справлять. А потом еще трояк на опохмелку требует. Райка с ним намаялась. Хватит, нахлебалась такого дерьма по уши.
А вечером как-то пошла в ванную, душ принять, а дверь на щеколду не заперла. И входит тут сосед, майор Горлов, увидел Райку во всей ее деревенской молодой красе и обмер на пороге. Тут у них все сразу и случилось. У Райки кровь молодая, да и он мужик еще хоть куда. И начались у них свидания по вечерам в душной ванной с облетевшей старой плиткой – только теперь они дверь на щеколду закрывали, не забывали.
Горлиха узнала обо всем последней – вся квартира уже гудела, как улей. Горлиху не жалели – ее никто не любил, но и за Райку не радовались – приехала паскуда, увела чужого мужика. Поняла все Горлиха спустя четыре месяца, напоровшись в коридоре на крупный Райкин живот, – и вечером ее увезли в больницу с инфарктом. Из больницы Горлиха уже не вернулась. Похоронили. Сын Вадим из Лондона на похороны не приехал. Райка въехала в комнату Горловых еще до смерти хозяйки и стала перешивать себе Горлихины наряды. Чего добру пропадать?
Родила она сына, крупного мальчика с красным сморщенным личиком и рыжими волосами, точную свою копию.
Майор Горлов, здоровый и крепкий мужик, вдруг потерял сознание и упал в той самой ванной, где еще недавно так упоительно грешил. Хлопнул его инсульт – и сразу из крупного и здорового мужчины он превратился в трясущегося старика. Райка орала на него день и ночь, била мокрой тряпкой по лицу – а он плакал и проклинал жизнь, вспоминая себя недавнего и свою покойницу жену. Вот уж кто служил ему верой и правдой! Младенца он не полюбил, Райку возненавидел, по старшему сыну тосковал, за смерть жены себя казнил.
Райка вскоре сошлась с участковым, тот был ей пара – молодой, здоровый деревенский парень. Приходил вечерами, и Райка выкатывала кресло с парализованным мужем в коридор, где тот сидел часами, и по лицу его текли бесконечные слезы. Соседи проходили мимо и опускали глаза. И жалко старика, а что поделаешь? Да и вообще, поделом ему, кобелю старому.
Еще женился Ларин отец, инженер Стрекалин. Вот за кого соседи радовались! На своей секретарше, миниатюрной и милой красавице Маргарите, которая была тут же прозвана Дюймовочкой. Славная, тихая, доброжелательная. На кухне со всеми здоровается, у всех спрашивает, как дела, нужно ли чего. Маргариту полюбили. К мужу она относилась нежно – жизнь обоих побила, никого не пропустила. Поговаривали, что она восемь лет ухаживала за лежачим мужем, бывшим альпинистом, повредившим на своих отчаянных виражах позвоночник. Досталось бедной женщине по горло, под завязку. Но сама она про свою прежнюю жизнь ничего никому не рассказывала, ни слова, ни жалобы – а это всегда люди способны оценить. Старая Глаша совсем одряхлела и почти ослепла. Помощница из нее уже была никакая. Теперь Дюймовочка-Маргарита мыла Глашу в ванной в большом эмалированном тазу, выводила к подъезду подышать воздухом, варила обеды, стирала белье. И опять не роптала.
Аннушка вышла на работу. Дали ей два шестых и два седьмых класса. Директриса ее пожалела: куда ей сразу, без опыта, старшеклассников, съедят ведь девчонку, потрохов не оставят.
К концу третьего месяца токсикоз постепенно отступил, правда, все время хотелось спать и есть – и, стесняясь и краснея, она брала в школьной столовой два вторых и еще пару пирожков с повидлом.
Как-то с ней за столик присела учительница физики Светлана Петровна, дама лет сорока пяти. Она с удивлением взирала на тарелки, стоявшие перед Аннушкой, а потом не выдержала и сказала:
– Ну, девка, ты даешь, у меня столько муж за ужином не съедает. А он медведь будь здоров, сто двадцать кэгэ. А ты при таком питании еще ничего, счастливица. – Потом вдруг поставила стакан с компотом на стол и всплеснула руками: – А ты часом не беременная, а, девица?
Аннушка мгновенно залилась краской, выскочила из-за стола и выбежала из столовой.
На следующий день ее вызвала директриса. Посмотрела на нее внимательно, тяжело вздохнула и спросила:
– Ничего сказать мне не хотите, Анна Брониславовна?
Аннушка затравленно молчала.
– Ну, все ясно, – опять тяжело вздохнула директриса. И жестко добавила: – Негоже жизнь свою с вранья начинать.
В апреле Лара родила близнецов – двух мальчиков, довольно крепких для двойни, по два с половиной килограмма. Рожала долго и тяжело, но мальчишки оказались крепкими и здоровыми, слава богу. Левушка был на седьмом небе от счастья.
А в начале августа родилась девочка у Аннушки – слабенькая, маленькая, болезненная. Из роддома их встречала Елизавета Осиповна – одна. Гера приехать не смог – в феврале у них с Ниночкой тоже родилась дочка – назвали Лизонькой, в честь бабушки. Дома Елизавета Осиповна все подготовила к приезду дочери – кроватку, коляску, приданое. Девочку назвали Милочкой.
В квартире шушукались по углам про Анюту. Кто ждал от такой тихони подобного? Вот от Лары – пожалуйста, сколько угодно. Но от скромницы Анюты? Чудеса, ей-богу. Но поговорили и забыли. Людей больше увлекала другая важная новость: поговаривали, что коммуналку будут расселять и всем дадут отдельные квартиры. Правда, черт-те где, на выселках, в новостройках, в Бабушкине. Но зато это будет своя, отдельная квартира, с чистой ванной, туалетом и только своей, личной кухней. Радовалась в основном молодежь. Старики недовольно скрипели, не хотели уезжать из центра, где прожита вся жизнь, где все близко, понятно и знакомо и все под рукой. А там, говорят, хлеб бывает в магазине два раза в неделю.
Как-то забежала Лара на минутку – посмотреть на Анютину дочку (своих мальчишек она оставила на старенькую бабушку). Поохала-поахала:
– Ах, Анька, счастливая! У тебя девка, не то что у меня два пацана – намаюсь с ними, ох, намаюсь!
Говорила, что сидеть дома не собирается, а собирается идти служить в театр. Левушка, конечно, психует, ревнует к каждому столбу, беснуется. Но кто же его будет слушать! Не выйдет у него ни черта – не запрет в четырех стенах.
– А мальчишек? – спросила Анта.
– В ясли, в ясли, куда же еще, – бодро ответила Лара.
– А не жалко? Болеть ведь начнут, – удивилась Аннушка.
– Ну, знаешь ли, – почти возмутилась Лара, – хорошо тебе говорить, у тебя мать на подхвате. А у меня два спиногрыза, бабка восьмидесятилетняя и вечно хандрящий Левушка. Нет уж, хоронить я себя не собираюсь. Не дождетесь! – привычно легко рассмеялась Лара.
Елизавета Осиповна была счастлива, что они переезжают в отдельную квартиру.
– Меньше глаз, – приговаривала она, пакуя вещи.
К Новому году все стали разъезжаться. Не суждено было пожить в отдельном жилье старухе Капустиной – она тихо умерла ночью. От чего? От старости.
Не доехал до Бабушкина и майор Горлов. Его молодая жена Раиса уехала на три дня в деревню к родне, оставив беспомощного мужа одного. Сутки был Горлов за закрытой дверью. Выл страшно, волком. Соседи пытались открыть дверь – не получалось. А когда вскрыли, было уже поздно. Майор Горлов сидел, вцепившись побелевшими пальцами в ручки своей коляски с открытым ртом, застывшим в крике о помощи.
В новую квартиру Райка въехала с участковым. Не дожила до новой квартиры и старенькая Глаша.
Ларин отец, инженер Стрекалов, въехал в новую «трешку» с женой Маргаритой и удочеренной девочкой Дашенькой.
Лара и Левушка с детьми поселились в соседнем доме. Лара служила в театре оперетты. Увы, на вторых ролях. Примы из нее не вышло. Она похудела, осунулась и была очень недовольна жизнью. Хозяйство, старуха-бабушка, рефлексирующий муж с крошечной зарплатой, двое вечно орущих и дерущихся детей, обеды, стирка, уборка… Разве о такой жизни мечтала красавица Лара? Ну разве это все по справедливости? Дети и муж ее раздражали, хозяйство она не выносила. На работе не клеилось: интриги, зависть – словом, помойка.
Анюта с Милочкой и Елизаветой Осиповной с удовольствием обживали новую квартиру. Конечно, они скучали по центру. Но здесь, на окраине, они пытались найти положительное – воздух, например. Что уж говорить об отдельной, сверкающей белоснежным кафелем ванной? А кухня? Своя, только своя – новый гарнитур, современный светлый пластик, новый холодильник. Своя плита – не нужно ждать, пока кто-то освободит конфорку. Красный уютный абажур над столом. Светлые шторы на окне. На подоконнике – фиалки в горшках фиолетовые, бледно-розовые и белые. У Елизаветы Осиповны – своя комната, у Анюты с Милочкой – своя.
Когда Милочке исполнилось год, Анюта вышла на работу – новая школа была в пятнадцати минутах ходьбы от дома. Однажды встретила в магазине Лару – та была возбуждена, болтала без умолку. Вышли на улицу – Лара начала рассказывать ей, что у нее сумасшедший роман с режиссером. Ну просто безумство какое-то. Конечно, она бы ушла от Левушки не раздумывая, но режиссер прочно женат. Жена – пьющая истеричка, он не решится никогда, нет. Ну, и бог с ним, главное – африканская страсть, любовь. Да и роли тоже. Теперь у нее появились роли. Лара была опять очень хороша – волосы по плечам, горящие глаза.
Анюта морщилась и порывалась уйти. Слушать все это ей было невыносимо. Бедный, бедный Левушка! Замученный, затурканный, и дети на нем, и бабуля, и щи сварить, и постирать, и погладить, и денег в дом принести… А дома вечно недовольная и раздраженная Лара, сопливые малыши и почти беспомощная старуха. Интеллигентный, тонко чувствующий романтик Левушка!
Аннушка сослалась на дела и быстро свернула этот невыносимый для нее разговор.
Доходили слухи и о Вадиме Горлове. Карьера сложилась – спасибо влиятельному тестю. А вот покоя и счастья нет, да и детей тоже бог не дал. Жена строит из себя светскую даму – гости, тряпки, посиделки с подружками. А в доме пустота и холод.











