Читать онлайн Напиши себе некролог
- Автор: Валерий Введенский
- Жанр: Исторические детективы
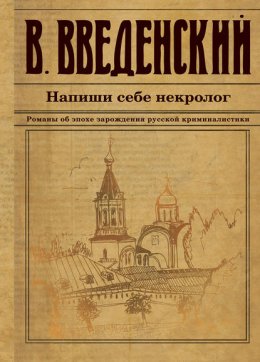
Глава первая
30 мая 1871 года, воскресенье
Дверь в кабинет приоткрылась:
– Можно?
Яблочков, продолжая скрипеть пером, кивнул.
– Господин Крутилин? – уточнил вошедший.
Арсений Иванович мотнул головой:
– Нет его и сегодня не будет. Неприсутственный день.
– Но табличка…
– Я его замещаю. Чиновник для поручений Яблочков, – отрекомендовался Арсений Иванович, отложил перо и, взглянув на посетителя, с ходу составил словесный портрет: глаза синие, нос прямой, продолговатое лицо усыпано веснушками, редкие седые волосы зачесаны, дабы замаскировать проплешины. Возраст – чуть меньше сорока, одет в черный фрак тонкого сукна с обтянутыми тканью по последней моде пуговицами, на ногах – лакированные ботинки с серым суконным верхом, в левой руке – массивная трость, в правой – цилиндр, атласный галстук заколот булавкой с бриллиантом. Кто же перед ним? Аристократ? Если судить по внешности, то несомненно. Но аристократ дверь кабинета начальника сыскной полиции распахнул бы ногой. И разговаривал бы через губу. А этот заискивает… Значит, купец. Причем не из наших, неправославный. Наши по старинке предпочитают носить бороды и армяки. Немец, поляк?
Посетитель, будто услышав размышления Арсения Ивановича, подал визитную карточку.
«Тейтельбаум Григорий Михайлович, купец первой гильдии, собственные лавки готового платья в Гостином дворе и Пассаже», – прочел Яблочков и похвалил себя: «И что купец угадал, и что пруссак!»
Начинающий сыщик постоянно упражнялся в умении с ходу определять сословную принадлежность, род занятий и национальность, и сие умение все чаще ему пригождалось.
– Крутилина точно не будет? – еще раз уточнил посетитель, пристраивая летнее светло-кофейного цвета пальто на крючок вешалки.
– Точно. К семье укатил, на дачу.
– Мы тоже на днях переехали. Кто мог подумать, что вернутся холода? Вчера такая жара стояла, а сегодня – четыре градуса по Реомюру[1]! Брр! Просто неслыханно. Потому Беллочка и отправила меня за шубами. Цельсия. – Белочка? – удивился Яблочков.
– Жена.
Арсений Иванович усмехнулся. Какими только прозвищами не называют друг друга супруги: заинька, рыбонька. А покойный генерал-майор Ефимов-Ольский и вовсе откликался на верблюжонка.
Тейтельбаум тем временем продолжал объяснять причину своего появления в сыскной:
– …вхожу, а вещи по полу раскиданы. Обокрали меня, обокрали!
Яблочков, услышав про кражу, встрепенулся:
– Простите, отвлекся. У вас дачу обокрали?
Если дачу, то посетитель ехал в сыскную напрасно, ему следует обратиться в уездную полицию[2].
– Нет, городскую квартиру.
– Понятно, – вздохнул Арсений Иванович. – Наружную полицию вызвали?
– Нет. Сразу к вам. То бишь к Крутилину.
– Сперва надобно в участок. А вот ежели не справятся…
– Зная нашего пристава, уверен, что не справятся. Лентяй и тупица, в собственном глазу бревна не увидит. А тем временем дети будут мерзнуть. И Беллочка тоже. Шубы нужны срочно. Конечно, я мог бы купить новые. Но тогда Беллочка догадается, что нас ограбили. А у нее больное сердце.
– Сочувствую. Но мы – не волшебники, – Яблочков широко развел руками для убедительности. – Потребуется время. Неделя, а то и больше. Очень надеюсь, что жара к тому времени вернется. И, значит, шубы вам будут не нужны.
– Как так неделя? Говорят, Иван Дмитриевич возвращает вещи в день обращения.
– Кто говорит?
– Один мой клиент.
– Такое случается. Но редко. Очень редко. Вашему клиенту крупно повезло. Думаю, что вор, обокравший его квартиру, был уже изловлен.
– И что прикажете делать?
– Ехать в участок.
Тейтельбаум встал, подошел к вешалке, снял пальто. Но сразу повесил обратно.
– Простите, я ведь главное не сказал, – хлопнул он себя ладонью по голове. – Я готов заплатить за хлопоты. Назовите цену.
Яблочков призадумался: Тейтельбаум сообщил, что переехал на дачу недавно, следовательно, ограбление произошло только что, а значит, имелся шанс, и неплохой, отыскать свидетелей. Наверняка дворники или соседи видели, как преступники выносили вещи. Кто-то из них мог даже их внешность запомнить. Если фотопортреты найдутся в картотеке – дело, считай, раскрыто. Сколько же запросить денег? Пять, десять?
– Пятнадцать, – выдохнул Арсений Иванович.
– Тысяч? – округлились глаза у Тейтельбаума.
– Что вы? – улыбнулся Яблочков. – Рублей, пятнадцать рублей.
– Я заплачу пятьдесят, если шубы вернете сегодня.
– Хорошо, сделаю, что смогу. Но обещать не могу. Итак, приступим. Когда вы переехали?
– Позавчера. Собирались еще в середине мая, но все время стояли холода, потеплело только во вторник. И мы с Беллочкой решили, что пора.
– Вчера в квартиру не заезжали?
– В субботу? Шутить изволите?
– Простите, не понял, – признался Яблочков.
– Священный для иудеев день.
– Так вы еврей?
– Да, – с вызовом ответил Тейтельбаум. – Подданный Его Императорского Величества. А у вас что – предубеждение к нам?
– Нет, – покачал головой Яблочков.
Как же он так опростоволосился? Решил, что пруссак, а оказалось – еврей.
– Просто вы не похожи. Я думал, евреи все чернявые, с бородой и в шапочке…
– Чернявые отнюдь не все. А от бороды с кипой пришлось отказаться, иначе покупатели обходили бы мою лавку стороной. Евреев в столице пока не жалуют.
– Что ж! – привстал Арсений Иванович. – Поехали смотреть квартиру.
Тейтельбаумы проживали в Большой Коломне, в доходном доме на Офицерской[3], двадцать девять, рядом с Литовским замком[4].
– Почему здесь? – удивился Яблочков. – У вас ведь лавки на Невском.
– Потому что здесь поселились мои единоверцы, первые переехавшие в Петербург. Видите ли, наш народ уже две тысячи лет рассеян по свету. И везде к нам относятся неважно. Поджоги, убийства, погромы – обычное дело что в Европе, что в Османской империи. Потому мы и держимся вместе, кагалом. Чтобы дать отпор.
– Тпру, – скомандовал извозчик.
Григорий Михайлович велел ему дожидаться и вместе с Яблочковым направился к парадному подъезду. Дверь перед ними распахнул швейцар в расшитой золотом ливрее: рослый, чуть ли не двенадцати вершков[5], вихрастый, волос каштановый, возраст – чуть больше двадцати, по всем приметам – крестьянский сын на заработках.
– Аще что позабыли? – спросил он у купца с подобострастной улыбочкой.
Но в серых, по-ястребиному посаженных глазах Яблочков заметил испуг. «Причастен», – решил он и вытащил удостоверение:
– Сыскная полиция.
– По-полиция, – пробормотал, запинаясь, швейцар. – А чаво случилось?
– Неужели сам не знаешь?
– Не знаю, ей-богу, не знаю. У нас все чинно-благородно. С самого утра полный абажур, тока Афанасий Евгеньевич с Таисией Павловной шибко полаялись, коды в церкву пошли. А боле ничаво.
– Точно абажур? – с насмешкой уточнил Яблочков.
У швейцара, несмотря на четыре Реомюра, на лбу выступил пот:
– Ничаво-с. Еще вот Гирша Менделевич вернулись, – указал он на Тейтельбаума. – И сразу уехали взад.
Яблочков удивленно на него посмотрел, мол, что еще за Гирша?
– Так меня по паспорту звать, – пояснил купец.
– Запри-ка дверь, пойдешь с нами наверх, – велел швейцару Арсений Иванович.
А то еще сбежит, ищи его потом.
– Никак не можно, хозяин отлучаться не велит…
Яблочков вынул ремингтон:
– Делай, как сказано…
Швейцар аж ниже ростом стал. Поплелся покорно по лестнице, осеняя себя крестным знамением.
– Кого из посторонних вчера и позавчера пускал в дом? – спросил его сыщик.
– Ломовиков, что Гиршу Менделевича на дачу отвозили.
– А потом?
На площадке второго этажа купец вытащил ключи.
– Погодите, сперва замок осмотрю, – остановил его чиновник для поручений и, достав лупу, сел на корточки перед дверью. – Отмычкой ее открывали. Причем недавно. Убедитесь сами. Видите царапину? Свежая.
Тейтельбаум, нацепив монокль, удостоверился:
– Да-с.
– И кто тут у нас царапался? – Яблочков повернулся к швейцару и потряс у него под самым носом ремингтоном. – Последний раз по-хорошему спрашиваю.
– Не з-знаю.
– А как звать тебя, знаешь?
– Звать-то? – переспросил швейцар. – Захаркой. А по фамилии мы Петровы.
– Так вот, Захарка Петров, врешь ты, как сивый мерин.
– Чесслово, чистую правду…
– Открывайте, Гирша Менделевич, – скомандовал Арсений Иванович.
Шкафы с сундуками в передней были вскрыты и выпотрошены. Те из вещей, что воров не заинтересовали, – книги, школьные ранцы, старые тряпки – раскиданы на полу.
– Сколько было шуб? – спросил Арсений Иванович.
– У жены три, у меня парочка, у каждого из деток. У нас их шестеро. А седьмой уже в животике шевелится. Ой, и Беллочкины шляпки украли.
Тейтельбаум подошел к буфету, открыл створку, достал оттуда фарфоровую чашку и в нее заглянул:
– И бабушкину брошь унесли. Янтарь в золоте. Беллочка нарочно ее дома оставила, чтоб не потерять. Семейная реликвия. Беллочка не переживет.
Яблочков, спрятав оружие, прижал швейцара к стенке:
– Крики из Литовского замка часто слышишь?
– Каженную ночь…
– Сегодня сам там будешь орать. Сдернут с тебя шинельку, задерут рубаху и как пойдут лупцевать…
– Не надо. Расскажу как на духу…
Уселись в гостиной вокруг стола:
– По средам у меня банный день, – начал Захарка. – Мирон заместо меня дверь отворяет, старший дворник. А я после баньки забегаю на Фонтанку в трактир Бусурина. Обчество там в горку[6]играет. Обычно ставки копеечные, но в тот раз…
– Когда дело было?
– Три недели назад. Ставки росли и росли. А мне везло и везло. А потом раз – и сглазили. Проиграл все, что выиграл, аще должон остался.
– Много? – уточнил Арсений Иванович.
– Семьдесят рублев. В следующую среду, кады отыграться пришел, меня в обчество не пустили, сразу к хозяину отвели, к Бусурину. Он спросил: «Долг принес?» Я протянул червонец, как раз накануне жалованье получил. «А остальные?» – заорал Бусурин. Я поклялся, что, коли оставит мне мой червончик, сегодня же отыграюсь. «А ежели наоборот?» – «Тогда буду отдавать потихоньку, с каждого жалованья». Бусурин засмеялся: «Как тебе будет угодно. Только запомни: за каждый день задержки – штраф с тебя. Рубль!» Вышел я из трактира сам не свой. Это ведь чаво получается? Штраф с меня тридцать рублев в месяц, а в иной тридцать один. А жалованье – червонец, еще чаевых от жильцов – когда рубль, когда – полтора. Ни в жизнь мне с Бусуриным не рассчитаться. Хотел, было, утопиться, а потом нашел в кармане гривенник. Чудом завалялся. Зашел в другой трактир, заказал водки, чтобы выпить перед смертью, и тут ко мне мужичок подсаживается с полуштофом: «Вижу, горе у тебя. Давай угощу, авось, полегчает». Я и согласился, кто ж откажется? И за водочкой новому приятелю про все беды и рассказал. Тот слушал, слушал, а потом огорошил: мол, могу помочь. «Швейцаром, говоришь, служишь? А есть ли в твоем доме жильцы, что, выезжая на дачи, квартиры оставляют за собой и потому вещи не вывозят?» Ну я сразу про Гиршу Менделевича вспомнил. И рассказал Иван Ивановичу, так моего нового приятеля звали. Он аж зарделся: «Что, вправду, жид?» Я: «А что такого? У нас в околотке их пруд пруди! И все с достатком…» Иван Иванович в ответ: «Вот и замечательно! Жида ограбить грехом не считается. Наоборот, за такое богоугодное дело сразу в рай попадем на том свете. Пусти-ка меня в дом, когда жид на дачу отправится, я тебе семьдесят рублей за это дам». Я засомневался: «Так ведь на меня подумают. А я на каторгу не хочу. Лучше уж в Крюков канал». Но Иван Иваныч меня успокоил: «Кража откроется только осенью, когда жид вернется с дачи. Кто тогда на тебя подумает? Ты ведь на июль к родителям поедешь?» – «Ну да, с урожаем помочь». – «А раз тебя не будет, на тебя и не подумают». – Я и согласился. Куда было деваться? Разве что в канал.
– Надо было ко мне прийти, рассказать начистоту, – воскликнул Тейтельбаум. – Мы бы пошли в полицию, подстроили бы этому негодяю ловушку. Твой Иван Иваныч уже в тюрьме бы сидел.
– А мой долг?
– Я его бы покрыл. А ты потом бы рассчитался со мной. Потихоньку, как и собирался. И безо всяких процентов.
Захарка помотал головой:
– Это вы теперь такой щедрый.
– Я что? Разве тебя когда-нибудь обижал? – накинулся на него купец. – Со стола гостинцы посылал. На праздник деньгами одаривал.
– Простите, Гирша Менделевич. Анчутка меня попутал, – прослезился швейцар.
– Рассказывай дальше, – велел ему Яблочков.
– В пятницу, как только Гирша Менделевич с Беллой Соломоновной укатили, появился Иван Иваныч. Будто их караулил. Принес штоф столового вина: «Вечером дворникам поставишь, скажешь, известие из деревни получил, де, племянник родился. Предложишь радость такую обмыть. Только сам не вздумай из той бутыли хлебать, лишь пригуби для вида. Через час, когда дворники уснут, выйди на улицу и закури, то будет нам знак. Сразу подъедем».
– Подъедем? – переспросил Яблочков. – Значит, не в одиночку действовал?
Швейцар кивнул.
– Сколько их было?
– Трое. Иван Иваныч и двое парней. Шибко на него похожи. Наверно, сыновья.
– Возраст, приметы?
– Иван Иванычу за пятьдесят, старшему его сыну лет двадцать, младшему – пятнадцать или шестнадцать, кто их, пацанов, разберет? Носы у всех картошкой, волос русый. Старший с отцом наверх пошли. А младший при лошадке остался. Нервничал шибко. Особенно, когда околоточный мимо проходил. Но Степан Филимонович ни о чем спрашивать его не стал, записал себе номерок и дальше пошел.
– Околоточный номер телеги записал? – переспросил Арсений Иванович, не веря своему счастью.
– Степан Филимонович всегда все записывает. Где смитье[7]валяется, где штукатурка треснула, где на телегу вещи грузят. Потому что на память ужо не надеется, больно он старенький.
– Едем в участок, ты – с нами, – сказал Яблочков Захарке.
– Я-то вам зачем? Мне на пост надо. Ежели старший дворник отлучку заметит, со службы попрут…
– Служба твоя на этом закончена. Статья 1645 «Уложений о наказаниях уголовных и исправительных», – процитировал Яблочков на память. – «Те из пособников, коих содействие было необходимо для совершения преступления», наказываются по первой степени статьи 31-й Уложения о наказаниях». Так что ждет тебя, Захарка, дорога длинная в Иркутскую губернию.
– Да какой я пособник? В квартиру даже не подымался. И денег обещанных не получил. Иван Иванович сказал, что сам их Бусурину отдаст. Сказал, игрокам деньги в руки давать нельзя, сразу, мол, проиграешь.
– Повернись-ка, руки тебе завяжу, – велел швейцару Яблочков.
– Гирша Менделевич, да скажите, что я невиновный. И что хороший! Помните, Мойше вашему свистелку смастерил? То-то радость была у мальца. Пощадите, не виноват, – Захарка рухнул на колени.
Купец брезгливо отшатнулся:
– Как же не виноват? Ты на то и поставлен, чтоб имущество мое охранять.
Захарка стал биться головой о стену:
– Прошу, прошу…
– Вставай, хватит ныть, – дернул швейцара за воротник Яблочков.
Оба участка Коломенской части размещались в здании у Калинкина моста. Околоточный первого участка Степан Коптелов только-только вернулся с обхода и, чтобы согреться, гонял чаи с подчасками[8]. Увидев Захарку со связанными руками, воскликнул:
– Ну что? Доигрался? Я ведь говорил, что игра в горку тюрьмой закончится. И домовладельцу твоему указывал. А он в ус не дул: «А что такого? Я тоже картишки люблю».
– Сыскная полиция, чиновник для поручений Яблочков, – представился втолкнувший задержанного Арсений Иванович.
– Околоточный Коптелов, – вытянулся околоточный. – Чайку, ваше благородие, али покрепче желаете?
– Спасибо, тороплюсь.
– За что Захарку задержали?
– Воров в дом пустил.
– Не верьте ему, Степан Филимоныч. Это все жид, Тейтельбаум. Сам себя обокрал, а на меня указывает, – закричал Захарка. – Вернулся сегодня и все подчистую вывез. Шубы, шапки…
– А ну-ка, заткнись, – велел задержанному околоточный и приказал одному из подчасков: – Эй, Сковородников, отведи-ка в камеру…
– Нет, Захарку я с собой заберу, – остановил городового Яблочков.
– Зачем тогда пожаловали? – удивился Коптелов.
– Захарка утверждает, что в пятницу вечером, когда квартиру Тейтельбаума обносили, вы с обходом шли по Офицерской.
– Я по Офицерской десять раз на дню хожу.
– …и номер телеги, на которой приехали воры, записали…
– Сейчас поглядим. Так: «Офицерская, двадцать девять, девять двадцать пополудни, ломовая телега 17342».
– И не лень тебе, Филимоныч, под каждую дугу нагибаться[9]? – удивился городовой Сковородников, молодой розовощекий крепыш. – Шея-то, чай, не казенная.
– Может, и лень. И спина давно не гнется, – с нравоучительными нотками ответил околоточный. – Только, видишь, пригодилось мое рвение, благодаря ему воров сыщут.
– А тебе-то что с того? Награды-то им достанутся, – Сковородников кивнул на Яблочкова, – и благодарность от Тейтельбаума тоже.
– И хорошо. Ведь общее дело делаем. Сегодня мы сыскарям помогли, завтра – они нам. Главное, что обывателю от этого – спокойствие. А нам как раз за спокойствие жалованье и платят.
– Благодарю за службу! – сердечно поблагодарил околоточного Яблочков.
И тот, невзирая что штафирка[10]перед ним, вытянулся во фрунт:
– Рад стараться.
– Что ж, полдела сделано, – похвастался Яблочков Тейтельбауму, который ожидал их с Захаркой в пролетке. – Номер телеги мы знаем.
– И куда теперь? В городскую управу? – предположил купец.
– Что мы там забыли? – удивился Арсений Иванович.
– Разве не в управе номера выдают?
– В управе. Только там сегодня неприсутственный день, – напомнил Яблочков.
– Азохен вей! – воскликнул купец.
Арсений Иванович широко улыбнулся: ну, наконец-то, в Тейтельбауме «проснулся» еврей:
– Не волнуйтесь. Извозчиков мы ищем часто. И в неприсутственные дни, и в праздничные, и даже по ночам. По сей причине Крутилин добился, чтобы в сыскную представляли копию реестра.
– Какой мудрый человек ваш Крутилин. Крутилин, Крутилин… Он, часом, не еврей?
Не успел Арсений Иванович войти, как старший агент Фрелих радостно доложил, что за время отсутствия Яблочкова никаких происшествий не случилось.
– Похоже, и у преступников сегодня неприсутственный день, – объяснил он сей казус. – Не пора ли и нам по домам?
– Не пора, – расстроил его Арсений Иванович. – Потому что не все преступники изволят отдыхать. Одного из них я как раз задержал. Пусть его Кастаметов оформляет, а ты принеси-ка мне реестр извозчиков.
Фрелих тяжело вздохнул, не спеша поднялся и, никуда не торопясь, двинулся из кабинета:
– Бегом! – прикрикнул Яблочков.
– Ишь, начальник выискался, – высказал себе в нос Фрелих. – В сыскной без году неделя, а ужо командует.
Вернулся он минут через десять, хотя мог управиться и за тридцать секунд:
– Ищи номер семнадцать триста сорок два, – велел ему Арсений Иванович.
Фрелих пробежался взглядом по листкам:
– Есть такой.
– Кто владелец?
Но старший агент молчал.
– Ты что, читать разучился?
Фрелих медленно, чуть ли не по слогам произнес:
– Жупиков Африкан Семенович, Мытнинская, девятнадцать, собственный дом.
– Африкан? – удивился Тейтельбаум. – Но предводителя шайки звали Иваном…
– Значит, это не он, – обрадовался Фрелих.
– Почему ты так решил? – изумился Яблочков. – Мало ли как злодей фраеру представился. Так, так… По моим сведениям, в шайке три человека, значит, на задержание надобно шесть агентов. Назначь людей и вели им спускаться, пусть садятся в экипажи и ждут меня. А я в картотеку загляну, вдруг Африкан нам уже попадался?
Яблочков отправился в кабинет делопроизводителя, выдвинул нужный ящик. Жуков, Жулавский, Жуменков, Жундриков, Жупахин… А вот и Жупиков Африкан собственной персоной. И даже фотопортрет имеется. Отлично, значит Захарку можно с собой не тащить, без него опознаем.
И за какие такие грехи Жупиков угодил в картотеку сыскной полиции? Яблочков перевернул страницу и открыл рот от удивления: двадцать седьмого июля 1869 года Жупикова по подозрению в квартирной краже задержал не кто иной, как Фрелих. И что случилось дальше? – «Отпущен двадцать восьмого июля по отсутствию улик». Очень странно. Почему Фрелих не сообщил об этом? Забыл? Какой-то он вообще сегодня странный. Может, простыл?
Яблочков велел надзирателю отпереть камеру, в которую поместили Захарку.
– Узнаешь? – Арсений Иванович сунул задержанному фотографический портрет Жупикова.
– Да, Иван Иваныч собственной персоной.
– Обманул он тебя.
– Как обманул? Что, долг мой Бусурину не отдал? Он ведь крест целовал…
– Про долг сам его спросишь. Через часик. Только Иваном его не называй, его Африканом окрестили.
– Как это?
Яблочков неожиданно почувствовал жалость к простофиле:
– Говорю же, обманул он тебя.
– Почему не сообщил, что Жупикова задерживал? – задал Яблочков каверзный вопрос Фрелиху.
– В первый раз о таком слышу.
– Да что ты говоришь? На, почитай, – Арсений Иванович сунул ему лист из картотеки.
Фрелих, бросив взгляд на фотопортрет, пожал плечами:
– Да разве всех мазуриков упомнишь…
– Слушай, не крути, юла.
– Ну, раз желаешь, – Фрелих неожиданно перешел на «ты», – дам совет тебе, Арсений. Не езди на Мытнинскую. Подожди до завтра.
– Почему?
Старший агент замялся:
– Утро вечера мудреней. И агенты устали, домой хотят…
– Тейтельбаум пятьдесят рублей пообещал, если вещи сегодня вернем. Так что с меня – угощение. Всем!
На Большой Морской Яблочкова ждали четыре пролетки, в трех сидели агенты, в четвертой – Тейтельбаум.
– Вылезайте, – велел ему Арсений Иванович. – Ожидайте меня в сыскной.
– Но…
– На задержаниях всякое бывает. Даже стрельба.
– А как вы узнаете мои шубы?
Добротный дом за нумером девятнадцать резко отличался от соседних, прогнивших и покосившихся. Первый его этаж был каменным, второй – деревянным, чтобы обитателям легче дышалось.
Яблочков приказал четырем агентам окружить строение по периметру, а с остальными перелез через выездные ворота и, миновав двор, где между сараями (дровяной, для подвод и лошадей) гуляли куры, обогнул дом. Черный вход заперт не был, через него с револьверами наперевес ворвались в дом.
Жупиковы вечеряли. Увидев незваных гостей, оба сына вскочили, однако отец жестом приказал им сесть:
– С кем имею честь? – спросил он нарочито спокойно.
– Сыскная полиция, чиновник для поручений Яблочков, – отрекомендовался Арсений Иванович.
– Ивану Дмитричу служишь?
– Государю императору…
– Мы с Иваном Дмитричем – старинные друзья с тех времен, когда он еще надзирателем бегал. Пару лет назад такой же чудак со шпейером[11]тоже сюда ворвался: «Руки вверх, – заорал, – вы арестованы». Повез в сыскное. А там, слава богу, Иван Дмитриевич находился. Сразу меня и отпустил. Потому что честный я человек.
– На сей раз не отвертишься, – Яблочков не сводил глаз с янтарной в золоте броши, что украшала душегрею жупиковской жены.
Тихо шепнул агенту Голомысову:
– Приведи-ка потерпевшего.
– Ошибаетесь, господин чиновник. Сами посудите, если б я преступным промыслом промышлял, стал бы Иван Дмитриевич меня нанимать для переезда на дачу? Не далее как вчера его семейство свезли, – сообщил Жупиков, внимательно наблюдая за непрошеными гостями. – Так что сыскной мы не чужие. Может, за стол присядете? В ногах-то правды нет. Палашка, неси стаканы…
– Сидеть! – заорал Яблочков, для убедительности наставив на Жупикова револьвер.
Если спрячет брошь – потом ее не сыщешь. Испуганная хозяйка закрылась от ремингтона, задрав холщовый передник.
– Зачем бабу пужаете, господин для поручений? – у Жупикова лишь на миг дернулась скула, однако сумел он сохранить не только невозмутимость, но и иронию.
– Чиновник для поручений, – поправил его с подчеркнутым раздражением Арсений Иванович.
Скрипнула дверь, Яблочков услышал, как входят в дом, на этот раз с улицы, Голомысов с Тейтельбаумом. Увидев потерпевшего, сыновья Жупикова переглянулись, а Африкан Семенович прикусил губу.
– Опусти передник, – приказал хозяйке Яблочков и спросил купца: – Ваша брошь?
– Не моя, Беллочкина! – На глазах Гирши Менделевича навернулись слезы. – Спасибо вам, дорогой Арсений Иванович. Большущее спасибо.
– Говорил вам: тятечка, не трожьте, – процедил, обращаясь к матери, младший из сыновей.
– Заткнись, Селиван, – оборвал его отец.
– Жду от вас признаний, – улыбнулся ему довольный собственным успехом Яблочков.
– Так не в чем, господин чиновник. Только извиниться могу. Простите великодушно, что должность вашу переврал. Люди мы простые, в чинах не разбираемся. Сами же видите: живем скромно, своими трудами.
– Про труды давай поподробней. Откуда у твоей жены золотая брошь? Где это ты столько деньжат заработал?
– Каюсь. Брошь не заработал, под ногами нашел.
– Ври, да не завирайся.
– Всеми святыми клянусь. В пятницу мы с Харитошей, это старшенький мой, тащили сундук. Страсть какой тяжелый. И вдруг на ступеньках будто звездочка вспыхнула. Я – Харитоше: «Ну-ка, поставь». Наклонился, а там – брошь.
– И где те ступеньки, на которых броши валяются? – с ехидцей уточнил Арсений Иванович.
– На улице Офицерской, дом двадцать девять.
– То бишь признаешь, что в пятницу обнесли там квартиру?
– Шутить изволите? Башкой лучше подумайте, разве нанял бы нас Иван Дмитриевич, если бы воровством промышляли? Нет, мы – люди честные. На Офицерской, как и всегда, заказ исполняли, перевозили вещи.
– Врет, – прошептал Яблочкову Тейтельбаум. – Ничего я ему не заказывал.
– Заказ, говоришь? А кто заказчик? – делано удивился Арсений Иванович.
– Швейцар того дома, Захаркой его звать. Сказал, что квартирант ихний на дачу съехал, а ключи ему оставил и поручил самые ценные вещи на склад вывезти для пущей сохранности. Квартиры-то летом, сами знаете, часто грабят.
Яблочков оторопел от подобной наглости. Если бы Африкан соврал, что нашел брошь на Невском, дело можно было бы передавать следователю. Однако хитрец ловко смешал факты с небылицами. Пойди теперь докажи, что Белла Соломоновна Тейтельбаум оставила брошь в квартире, а не обронила ее на лестнице.
– И куда отвезли вещи?
– Куды Захарка велел. На склад Аставацатурова на Калашниковой набережной.
– А квитанция где? Или успел Захарке отдать?
– Виноват, ваше благородие, не успел. Если нужна, мигом принесу.
– Вместе сходим. Уж больно ты ловок.
У Жупикова опять задергалась бровь:
– Боитесь, что сбегу? Ни в жизнь! Честные люди от полиции не бегают.
Африкан Семенович прошел вместе с Яблочковым в гостиную, отпер ключом, что висел у него на шее, одну из створок буфета, достал оттуда большую железную коробку, в которых хозяйки обычно хранят муку, открыл, сунул руку и вытащил бумажку с печатью. Яблочков пробежался по строкам: «Пять обитых железом сундуков сданы вечером 28 мая 1871 года, оплата хранения произведена по 15 сентября, выдача по предъявлении данной квитанции».
– Что еще в твоей коробке? – поинтересовался Яблочков.
– Ничего. Вексель на сто рублей, купчина один им рассчитался, жду теперь погашения. Еще облигаций на тысячу…
– Дозволь-ка взглянуть.
– В другой раз. Квитанцию хорошо рассмотрели? Тогда попрошу вернуть, мне ее заказчику надо отдать…
– Захарке?
– Ему.
– Тогда нам по пути. Как раз сейчас он на Большой Морской в камере для задержанных. Утверждает, что перевозку вещей никому не заказывал.
– Как так?
– Что то не перевозка была, а похищение, которое спланировал некий Иван Иваныч, как две капли воды похожий на тебя.
– Мало ли кто на кого похожий. Врет ваш Захарка.
– Все может быть, – протянул задумчиво Яблочков. Может, и, правда, Захар с три короба нагородил?
Сам залез в квартиру, сам украл вещи, чтобы долг покрыть, а потом решил замести следы, нанял ломовиков… Глупость, конечно, подозрения все равно на него бы пали. Но Захарка глуп и мог просто этого не понимать. Что ж, придется устроить очную ставку.
– Ничего страшного, разберемся. Сейчас мы с господином Тейтельбаумом отправимся на склад, чтобы опознать вещи, а вы с сынишками прокатитесь на Большую Морскую…
– Да за что, господин начальник? В чем наша вина? На какую работу подрядили, ту и сделали. А ежели Захарка квартиранта ограбил, мы-то при чем?
– Открой-ка банку, – велел Яблочков.
Уж больно нежно Жупиков ее сжимал.
– Не имеете права сего требовать. Постановление должно быть.
Яблочков сунул извозчику в бок ремингтон:
– У меня как раз есть. Чувствуешь его? – и взвел курок. – Не откроешь, убью при попытке к бегству.
Жупиков поставил банку, открыл трясущимися руками крышку и вытащил стопку, штук двадцать, не меньше, квитанций о сдаче вещей на склад Аставацатурова.
– Эти квитанции тоже не успел отдать заказчикам?
Ашот Аставацатуров, важный господин со сросшимися бровями и необъятным животом, сначала утверждал, что не понимает русский язык, потом вдруг его вспомнил, заодно вспомнив, что сегодня – неприсутственный день. Лишь под угрозой ареста за соучастие согласился открыть склад.
– Да, это мои шубы, – произнес Тейтельбаум, заглянув в открытый Яблочковым сундук. – Дорогой Арсений Иванович, держите пятьдесят рублей. Вы их честно заработали.
– Поедешь с нами, – сообщил Яблочков армянину.
– За что? – побледнел тот.
– За хранение ворованных вещей.
– Ай-йа-ай, зачем такой плохой говоришь? Раз у него деньги взял, – Аставацатуров ткнул пальцем в Тейтельбаума, – у меня тоже бери. Много-много дам.
– Поедешь с нами, – повторил Арсений Иванович. – Собирайся.
– Совсем не могу. В склад кто придет, где Ашот? Нехорошо будет.
– А склад я опечатаю. Завтра будем его описывать.
Фрелих идти в трактир отказался:
– Не могу, дома дела.
– Жупиковы-то сознались? – спросил у него Яблочков.
– Нет, запираются.
– Надо им очную ставку с Захаркой устроить…
– Завтра устроим, Арсений Иванович. Айда в трактир, – взмолились агенты. – Поздно ужо. А завтра снова на службу.
И Яблочков махнул рукой. Успеется…
А Фрелих поспешил на телеграф, чтобы дать депешу Крутилину.
31 мая 1871 года, понедельник
Если воскресный день начальник сыскной проводил в Парголово, в понедельник он приезжал на службу не раньше полудня. Зная про то, Яблочков позволил себе припоздниться, пришел не в девять, как положено, а в одиннадцать. И к ужасу своему узнал, что Крутилин давно на месте и несколько раз его уже спрашивал. Яблочков постучался к нему в кабинет.
– Явился наконец, – процедил Иван Дмитриевич. – Ты шо вчера натворил?
– Ничего, – пожал плечами Арсений Иванович. – Шайку квартирных воришек задержал. Улики против них – налицо. Осталось лишь описать вещи, обнаруженные на складе Аставацатурова, и дать их описание в газеты, чтобы найти других потерпевших.
– Почему швейцара Петрова опросить не удосужился?
– Удосужился. Сразу на квартире у потерпевшего его опросил. Петров тотчас сознался в соучастии и указал на соучастников.
– Наврал он с три короба, а ты уши развесил. Тоже мне сыщик. На, читай, – Крутилин кинул в чиновника листок.
Яблочков ознакомился с ним по диагонали – Захар Петров чистосердечно признавался, что самолично задумал и осуществил кражу со взломом в квартире купца первой гильдии Тейтельбаума, а Жупиковых оговорил с перепугу, они, де, знать не знали, что увозят на склад ворованные вещи.
– Иван Дмитриевич, сие ложь. Я тоже сомневался. Но когда у Жупикова обнаружил кипу квитанций…
– Ах да, квитанции. Изъял ты их без постановления следователя на обыск – это раз. Жупиков уже много лет верой и правдой перевозит клиентам вещи: в начале лета – на склад, в сентябре – на квартиру. И давно заработал себе безупречную репутацию. Поэтому постоянные клиенты доверяют ему квитанции держать у себя. Я – в их числе. Это два. Швейцар Петров признался – три. Пойдешь сейчас в камеру к Жупиковым и извинишься – четыре. Армяшку тоже отпустишь на все четыре стороны – пять. Все! Шагом марш выполнять!
– Иван Дмитриевич…
– Я уже сорок три года Иван Дмитриевич. Или сорок четыре. Родители год позабыли. А церковь, где крестили, сгорела вместе с книгами. Ты еще здесь?
– Буду вынужден сообщить мои сомнения по этому делу судебному следователю.
– Заодно сообщи, что взял вознаграждение без моего разрешения. Да еще от жида! Сразу вылетишь отсюда, как пробка из-под шампанского. И с таким аттестатом, что не то что на коронную службу, двор подметать не возьмут.
– Иван…
– Еще слово, клянусь, вместе с Захаркой Петровым по этапу за мздоимство отправлю. Кругом!
Яблочков на ватных ногах вышел из кабинета, сел за стол, закурил. Агенты, с которыми вчера кутил, сегодня стыдливо от него отворачивались. Загасив окурок, Арсений Иванович пошел в камеру, где содержались Жупиковы с Аставацатуровым. Там, против правил, был накрыт стол, на котором пыхтел самовар. Мазурики, громко причмокивая, гоняли чаи. Когда вошел Яблочков, Африкан сделал вид, что его не замечает. Арсений Иванович кашлянул.
– А-а, господин на побегушках, – нагло улыбнулся Жупиков-старший. – Заходи, заходи. Сегодня-то чайку с нами выпьешь?
– Я пришел принести извинения…
– Засунь их куда подальше! – вскочил младший из Жупиковых.
Но отец опять его осадил:
– Цыц! Говорю здесь один я. Продолжай, мусье на посылках.
– Вы свободны, можете ехать домой.
– Сперва чай допьем. А ты, раз чай не хочешь, пшел вон отсюда, – махнул Яблочкову мазурик. Однако, когда открыл дверь, вдруг его остановил. – Нет, постой. Ну-ка, обернись. Обернись, говорю! Посмотри-ка на нас и хорошенько запомни. И если опять перейдешь нам дорогу, пойдешь пешком в тайгу соболей там гонять.
Выйдя из камеры, Яблочков вытер пот со лба. Его трясло. Он с трудом сумел сдержать себя во время унизительного разговора. Как же ему хотелось выхватить ремингтон и разрядить в негодяев барабан.
– Эй, начальник, дай закурить, – услышал он голос из соседней камеры. Голос был ему знаком – Захарка.
Арсений Иванович позвал городового и велел впустить его и в эту камеру:
– На, – протянул он папиросу подследственному.
– Спасибо. Ой, простите, благодарю! Ошибся с непривычки.
– Уже научили?[12]– понял Арсений Иванович. – Осваиваешься, значит?
– Что поделать? Видать, на роду так мне написано: без вины пострадать…
– Почему без вины? Ты кругом виноват.
– Не я! Жид! Кабы с дачи не вернулся, все бы по-другому в моей жизни пошло.
– А зачем ты Жупиковых выгораживаешь?
– Начальник ваш велел. Сказал, так срок поменьше дадут. И отправят поближе. И не в Иркутскую губернию, как вы грозились, а в Томскую или Тобольскую. А Иван Иваныч… то есть Африкан Семеныч, пообещали-с, что не пешком пойду, а на телеге поеду. Ноги-то, чай, не казенные.
Яблочков вздохнул, дал про запас Захарке еще парочку папирос и вернулся за рабочий стол. Сложил аккуратно в стопку ожидавшие дела, вытащил из ящика чистый лист, обмакнул в чернильницу перо…
Отец умер, когда Арсений и две его старшие сестры были еще маленькими. Матушка с трудом растила их на скромную пенсию. Сестры получились одна другой краше и потому, хоть и бесприданницы, удачно вышли замуж.
В уездной гимназии Арсений был первым учеником, но мечтам его о дальнейшей учебе не суждено было сбыться – матушка скоропостижно почила в бозе. Изучив состояние дел, в наследство Арсений Иванович вступать не стал, чтобы не путаться в долгах по гроб жизни. Однако из родного городка ему пришлось уехать – матушкины кредиторы были весьма недовольны таким его решением.
Начались поиски места. Вчерашнего гимназиста, хотя бы и с медалью, брали лишь на самые жалкие должности. Каким-то чудом в одном из уездных городков Рязанской губернии Арсению Ивановичу удалось устроиться в гимназию преподавателем латыни. Увы, здесь его ожидало фиаско – воспринять вчерашнего ровесника учителем гимназисты не пожелали, на занятиях у Яблочкова вечно стоял гвалт, после первой инспекторской проверки его из гимназии попросили. Зато в другом городишке приняли на должность судебного следователя. И сия служба сперва показалась Арсению Ивановичу синекурой – даже мелкие преступления, вроде поножовщины, случались в том городке редко, а про грабежи с убийствами там и не слыхивали. Однако непосредственный начальник – местный прокурор – оказался любителем заложить за воротник. Он вполне искренне считал, что главной обязанностью его подчиненных является составить ему в этом компанию. Возлияния в присутствии начинались с утра, а заканчивались поздно вечером дома у прокурора непременным ликерчиком после ужина. Даже в неприсутственные дни от выпивки не удавалось отвертеться – Яблочкова обязательно приглашали к обеду и, пока прокурор не напьется, не отпускали.
Через полгода Арсений Иванович заметил, что по утрам у него дрожат руки, унять которые удавалось только стопкой. И решил, что с него хватит.
– Жаль, очень жаль, – посетовал прокурор, – у вас выдающиеся способности. Я-то после ликерчика сразу на боковую, а вы еще до квартиры умудряетесь добрести.
На сей раз Арсений Иванович решил попытать счастья в губернском городе. Приехав в Рязань, в первый же вечер отправился в театр. Давным-давно, когда гостили тут с матушкой, они тоже его посетили, и Яблочков забыть не мог, какое оглушительное впечатление произвел на него спектакль. На этот раз давали «Доходное место». И пьеса, и сам спектакль настолько понравились Арсению, что, обнаружив утром объявление в газете: «Известный антрепренер Сковородин объявляет набор господ актеров на новый сезон», он отправился по указанному адресу.
– Какой красавчик! – воскликнула, увидев его, прима труппы Колотыгина.
Сковородин, пожилой сутулый трагик с орлиным носом, скривился:
– Где вы играли раньше, молодой человек?
– Нигде, – честно признался Яблочков.
– Боже, какой баритон, – сложились от восхищения ладошки у Колотыгиной. – Прирожденный герой-любовник.
– Не подходит, нет опыта, – гнул свое антрепренер.
– Сама всему научу.
– Не сомневаюсь, – пробурчал Сковородин.
«Репетировать» – так Колотыгина называла кувырки в ее кровати – она была готова целыми сутками, Арсений за первый месяц своего актерства восемь фунтов потерял. Труппа часто переезжала из города в город, потому что состав ее был слабым и представления частенько заканчивались свистом.
После спектакля в Калуге за кулисы пришла сестра Варя:
– Арсений, бог мой! Как хорошо, что мой Сергей Сергеевич задержался на службе. Умер бы от стыда, узнав тебя. Как ты посмел пойти в актеры?
– Надо же что-то кушать.
– Ты говоришь как лакей. Неужели не мог написать, попросить помощи?
– Зовешь в приживалы?
– Почему в приживалы? У Сергея Сергеевича – дядюшка-генерал в Петербурге. Я упрошу его написать, попросить для тебя протекцию. Только ты должен немедленно, слышишь, немедленно покинуть этот вертеп. И никому никогда даже под пытками не признаваться, что служил актером. Это – позор. Как ты не понимаешь?
Арсений Иванович и сам уже был не рад службе в театре. За пять лет кочевой жизни, наполненных бесконечными интригами из-за ролей, постоянными денежными обманами Сковородина и изматывающими «репетициями» с Колотыгиной, очарование сцены сменилось ненавистью и презрением к ней. Да и перспектив для себя он не видел. Молодость скоро пройдет и вместо героев-любовников придется играть простоватых отцов семейств, потом – лакеев. А затем, если повезет, – богадельня. А если не повезет – место на паперти.
Генерал-майор Ефимов-Ольский давно пребывал в отставке.
– Почему-с не желаете служить Отечеству на поле брани? – спросил он строго.
– Из-за слабого здоровья, ваше превосходительство.
– Образование?
– Гимназия. Окончил с медалью…
– Чем изволили заниматься ранее?
– Служил судебным следователем в Спасске-Рязанском.
– Это в захолустье гимназистов следователями берут. Здесь вам столица! Без образования никакая протекция, даже моя, не поможет.
– Верблюжонок, – подала голос жена генерала Серафима Юрьевна, старушка с добрыми глазами в старомодном чепце. – А если Феденьку попросить?
– В полицию пойти не побрезгуете? – строго спросил Ефимов-Ольский.
– Нет, – пожал плечами Яблочков.
И через день представился Крутилину.
Арсений Иванович дописал прошение об отставке, оставалось лишь его подписать. Но он его спрятал в ящик, чтобы еще и еще обдумать внезапное решение. Вынужденное решение.
Совершенно случайно попав в сыскное, Арсений Иванович понял, что рожден для этой службы. Ему нравилось ловить воров и грабителей. И Крутилин ему нравился. Можно сказать, что Ивана Дмитриевича он просто боготворил. До сегодняшнего утра, конечно. Крутилин не только командовал, но и учил его нелегкому сыскному ремеслу. Первоначальный холодок (Ивану Дмитриевичу было неприятно, что не сам подчиненного выбрал, а навязали сверху) быстро растаял, когда Яблочков, переодевшись нищим, в одиночку задержал беглого каторжника[13]. И хотя платили в полиции немного, Арсений Иванович был доволен и службой, и перспективой. Потому что был уверен, что рано или поздно сам займет место Крутилина. А там, глядишь, и чины пойдут, и цацки, и квартира казенная начальнику сыскной полагается.
Сегодняшний день перечеркнул все надежды. Как же так? Почему Крутилин отпустил заведомых негодяев? Почему он поверил Жупикову? Зачем подверг Яблочкова унижению, заставив извиняться перед преступниками?
Арсений Иванович опять открыл ящик. И сразу закрыл. Протекцию теперь никто не составит – генерал Юлий Валерьянович Ефимов-Ольский нынешней зимой почил в бозе.
В огромную приемную сыскной полиции вошли Жупиковы с Аставацатуровым. Агенты, что там толклись, замолчали словно по команде. Африкан Семенович обвел их наглым взглядом:
– Ошибочка вышла, господа сыщики, – Жупиков повернулся к Яблочкову: – Что молчишь, хрен для поручений, а ну, подтверди.
– Вы свободны, обвинения с вас сняты, – сквозь зубы, будто под дулом, произнес Арсений Иванович.
Негодяи с важным видом прошествовали к двери.
А Яблочков дернул ящик, вытащил прошение и размашисто в нем расписался. Потом без стука вошел в кабинет и положил перед Крутилиным. Тот кинул быстрый взгляд:
– Причины?
– Семейные.
– Обиделся, значит…
– Господин надворный советник…
– Не перебивай. Я не закончил. Вернее, даже и не начинал. Садись, слушай. Думаешь, я не знаю, что Жупиков вор? Знаю. Преотлично знаю. И что швейцар сказал правду, тоже знаю. Но вот какое дело… Жупиков – мой освед[14]. Знаешь, сколько преступлений благодаря ему я открыл? Помнишь, кражу из дворца Великого князя М.? Кабы не Африкан, ни преступника, ни похищенную картину не отыскал бы. А если бы этого не сделал, еще неизвестно, кто сейчас в этом кресле напротив тебя сидел бы. Ты еще молод и просто не понимаешь, как тебе повезло. Вожусь с тобой, как со щенком, учу уму-разуму. Ну да, распекаю иногда, куда без этого? Но без злобы, по-отечески. А когда выращу из тебя волкодава, с преспокойной совестью уйду на пенсию внуков нянчить, рыбку удить. Будешь тогда меня, старика, добрым словом вспоминать. Потому что учить уже будет некому, а распекать станут пуще прежнего. Я от обер-полицмейстера всегда на полусогнутых выхожу, ни живой ни мертвый. И первым делом после его выволочки лекарство принимаю. Ты тоже прими, – Крутилин встал, подошел к сейфу, достал оттуда полуштоф с водкой и стакан, плеснул на донышко, протянул Яблочкову. – Потом сажусь, – начальник сыскной вернулся в кресло, – открываю ящик, достаю вот этот листок и читаю. На!
Яблочков не без удовольствия (голова после вчерашнего гудела сильно) выпил, поставил стакан и взял протянутую ему бумажку. Красивым с завитушками почерком там было выведено:
«Сегодня на сто втором году жизни скончался действительный тайный советник, кавалер орденов Анны, Станислава и Владимира первых степеней, бывший петербургский обер-полицмейстер и бывший министр внутренних дел Иван Дмитриевич Крутилин. Он принадлежал к числу тех типических тружеников, которые работают с утра до вечера, не знают никаких в свете удовольствий и всецело преданы своему делу…»
– Кто это написал? – спросил ошарашенный Яблочков.
– Кто еще с этакой любовью напишет? Сам, конечно. Так вот… Перечту сей некролог, вспомню, какой я есть замечательный, и успокоюсь. Ты тоже некролог себе напиши. Пригодится. Ну все! Разговор окончен. Пора за работу. Ступай.
– А прошение?
– Какое прошение? – И Крутилин демонстративно его разорвал.
Глава вторая
31 мая 1871 года, понедельник
Яблочков успел отписать лишь пару бумаг, как начальник вновь его вызвал.
– Самый мой лучший сыщик, – отрекомендовал чиновника для поручений Иван Дмитриевич посетителям: болезненно худой с заплаканными глазами даме в темно-фиолетовом жакете, молодому человеку в поношенной гимназической форме и юной прелестнице в платье голубого, под цвет ее глаз, шелка. – Вчера всего за час квартирных воров открыл. Ну, не надо плакать, Анна Сергеевна. Уверяю вас, Арсений Иванович и Капу так же быстро разыщет. Только расскажите ему подробно.
– Иван Дмитриевич, дорогой, – поднялась не без труда дама, – была уверена, что поможете. Покойный Аристарх Матвеевич так вас ценил.
Иван Дмитриевич вышел из-за стола, дама раскрыла объятия, но начальник сыскной от них уклонился, просто поцеловав ручку. Яблочков указал посетителям на дверь. Крутилин сделал ему знак, чтоб задержался:
– Дочка с кавалером сбежала, – кратко объяснил он суть дела. – Личность кавалера неизвестна.
– И где их искать? – спросил с недоумением Арсений Иванович.
Крутилин хохотнул:
– Я разве искать поручил? Выслушай, успокой, отошли домой. Будем надеяться, к вечеру девка нагуляется и вернется.
– Извините, но мне пора, – заявил гимназист.
– Костик, я отказываюсь тебя понимать, – возмутилась Анна Сергеевна. – Ведь не кошка пропала, а Капочка, сестренка твоя. Леночка вот, чужой человек, и то больше тебя взволнована.
– Вот с ней и рассказывайте. А у меня завтра экзамен, мне готовиться надо.
– По какому предмету? – спросил Яблочков, чтобы завязать разговор с юношей.
Почему он столь спокоен, почему не волнуется за сестру? Не потому ли, что знает, с кем сбежала?
– Новейшие языки[15], – ответил сыщику Костик.
– Я долго не задержу, – пообещал ему Арсений Иванович. – Итак, приступим. Полное имя вашей Капочки?
– Капитолина Аристарховна Гневышева, – сообщила Анна Сергеевна.
– Сословие?
– Из дворян.
– Когда вы видели ее в последний раз?
– Вчера за ужином. После Капа сказала, что пойдет ночевать к Леночке Корнильевой.
Барышня в голубом платье приветственно кивнула Яблочкову – мол, это я.
– Но сегодня Леночка сама к нам заглянула, – продолжила рассказ Анна Сергеевна, – и выяснилось, что Капа к ней не приходила. И тем более не ночевала. Ее похитили по дороге.
И дама зарыдала.
– Далеко от Гневышевых проживаете? – спросил Яблочков Леночку, которая с большим интересом его разглядывала.
– Нет, они – на Моховой, я – на Фурштадской, – ответила барышня. – Но дело в том, что Капу вчера я не звала. Устную математику и без нее знаю.
– У вас тоже экзамены?
– Сегодня последний сдала. На отлично.
– Поздравляю, – улыбнулся девушке Арсений Иванович.
– После экзамена пошла к Капе хвастаться, но оказалось, она сбежала. – В словах Леночки одновременно прозвучали и ужас, и восхищение поступком подруги.
– Нет, она не могла сбежать. Она – честная и порядочная девушка. Она не способна бросить больную мать. Капу похитили, – повторила свою версию случившегося Анна Сергеевна.
– А вы, молодой человек, как считаете? Ваша сестра сбежала или ее похитили? – обратился Яблочков к Костику, который ерзал на стуле и постоянно оглядывался на напольные с боем часы, стоявшие у него за спиной.
– Считаю, что вышло недоразумение. Маман просто плохо расслышала. Или перепутала имена. Наверно, Капа не к Елене пошла, а к какой-нибудь другой своей подружке.
– К какой другой? У Капы больше нет подруг. Все от нее отвернулись, кроме меня, – возразила Леночка.
– Много ты знаешь, – раздраженно парировал Костик.
– А как ее звать? Эту подружку? – уточнил у гимназиста Яблочков.
– Понятия не имею. Я не присутствовал при разговоре Капы с маман. Я занимался, у меня – экзамен.
– Зато присутствовала Степанида, – напомнила сыну Анна Сергеевна. – И тоже слышала про Леночку.
– Степанида глуха как тетерев. Я могу идти?
Слишком нервное поведение Костика еще более укрепило подозрение Яблочкова в том, что гимназист знает, где и с кем Капа. И уйти побыстрей (и без матери) он хочет вовсе не из-за экзамена. Он торопится к сестре, хочет предупредить, что ее уловка с ночевкой у Леночки раскрыта. Хитрый юноша сумел даже придумать, как Капе вывернуться из этой ситуации – девице придется убеждать мать, что та неправильно расслышала имя подруги.
Если бы Яблочков расследовал уголовное дело, Костика бы не отпустил, пока тот не рассказал правду. Но безнравственный поступок Капы преступлением не являлся, потому смысла задерживать юношу не было.
– Что ж, ни пуха ни пера на экзамене.
– К черту, – ответил Костик и, схватив ранец, покинул сыскное.
– А разве портрет вам не нужен? – удивленно спросила Анна Сергеевна.
– Чей? – не сразу понял Яблочков.
Иван Дмитриевич поручил лишь выслушать и успокоить, потому и про внешность девушки, и во что одета Арсений Иванович расспрашивать даже не собирался.
– Портрет Капочки. Вы должны его размножить и раздать городовым.
– Да, конечно, – не стал спорить Яблочков. – Давайте сюда.
– Так он у Костика. Леночка, вы помоложе, прошу, догоните его.
Яблочков, вскакивая со стула, сделал барышне знак, чтобы оставалась в кабинете. Как ей с турнюром бегать по лестницам?
Надо признать, Леночка ему очень понравилась. Смуглую ее кожу оттеняли пепельные волосы, маленький ротик гармонично сочетался со вздернутым носиком, а высокая грудь – с тонкой талией.
– Константин, стойте, – крикнул сыщик с площадки второго этажа, увидев сверху, что гимназист вот-вот покинет здание. Ищи его потом на Большой Морской…
Костик подождал его у парадной двери.
– Вы забыли отдать портрет, – объяснил ему причину погони запыхавшийся Яблочков.
Гимназист снял с плеч затасканный ранец, расстегнул… и оттуда выпала фляжка, заскользив по мраморному полу к сыщику. Яблочков нагнулся, поднял, прочел гравировку: «Аристарху Гневышеву от благодарных подчиненных», открыл, понюхал – столовое вино.
– Гимназистам запрещено…
– А вам что за дело? Отдайте! Отцовская.
– Водка тоже отцовская?
– Представьте себе.
– Константин, мы сейчас тет-а-тет. Вы ведь прекрасно знаете, где Капа. Пожалейте мать. Обещаю, сделаю все…
Костик раздумывал лишь долю секунды:
– Я понятия не имею, где она. Не знаю и знать не хочу! Слышите? Отдайте флягу! Держите портрет.
Поднимаясь обратно, Яблочков разглядывал портрет исчезнувшей девушки. Ого! По красоте Капа не уступала Леночке, даже превосходила – круглое личико, игривые кудри из-под шляпки, томный взгляд раскосых глаз, пухлые губы в озорной улыбке. Подобных барышень зрелые мужчины провожают тоскливым взглядом – ах, почему они умудрились состариться, а гимназистки по-прежнему молоды?
Кто вскружил тебе голову, милое дитя? Лихой гвардеец, романтический студент, красавец-инженер? Почему ты не привела его к матушке за благословением? Почему сбежала?
– Догнали? – спросила Анна Сергеевна, когда Арсений Иванович уселся за стол.
– Да, конечно. Ваша дочь очень красива.
– Возможно, не матери о том судить.
– Расскажите о ее поклонниках…
– Я же сказала Ивану Дмитриевичу. Никаких поклонников нет. Капе не до глупостей, с утра до вечера улица, 27—29.
– Шьет? – удивился Арсений Иванович.
На портрете Капа была дорого и со вкусом одета. Такие барышни если и шьют, то лишь для развлечения.
– После внезапной смерти мужа мы остались без средств, – призналась Анна Сергеевна. – Третья гимназия[16]пошла навстречу, Костика перевели на казенный кошт. А вот Литейная женская[17]отказалась, Капочке пришлось ее оставить. Временно, конечно. Как только Костик получит медаль, мы ее заложим[18]и оплатим Капочке последний год. А пока, чтобы заплатить за квартиру и прокормиться, ей приходится перешивать вещи, а Костику бегать по урокам.
– А что нам скажет лучшая подруга? – ласково посмотрел Арсений Иванович на Леночку. – У Капочки имеются кавалеры?
– Конечно.
– Не сочиняй, – махнула на нее рукой Анна Сергеевна.
– Я точно знаю, Капа по секрету сказала…
– Как его зовут? – спросил Яблочков.
Леночка замялась.
– Смелей…
– Но он не способен на такой поступок. Евгений – зубрилка и маменькин сынок.
– Евгений? Какой Евгений? – насторожилась Анна Сергеевна.
– Тарусов.
– Сын присяжного поверенного? – уточнил изумленный Арсений Иванович.
– Ну да. Они с Костиком одноклассники.
Анна Сергеевна встала:
– Я еду к Тарусовым! И пусть они даже не надеются, что заткнут мне рот своими деньгами. Или свадьба, или в тюрьму.
– Анна Сергеевна, погодите, – Яблочков был вынужден перегородить Гневышевой путь. – Успокойтесь. Я знаю Тарусовых, знаю Евгения…
– Я тоже знаю! Причем с отвратительной стороны. Сначала Евгений унизил моего сына. Теперь опозорил дочь. Пусть женится!
На шум выскочил Крутилин:
– Что случилось? Кто женится?
– Евгений Тарусов. Он соблазнил Капу! – объяснила ему Гневышева.
Иван Дмитриевич уставился на нее как на умалишенную:
– Быть того не может.
– Может. Леночка все про них знает. Почему ты раньше не рассказала?
– А что было рассказывать? – пожала плечами барышня. – Женька нравился Капе всегда. Но не обращал на нее внимания. А на Масленицу они случайно встретились на Царицыном лугу, с горки вместе катались. Потом он Капу провожал домой, они целовались…
– Слышите, Иван Дмитриевич? Слышите? – У Анны Сергеевны задрожали руки. – Бедная моя девочка. Вы должны поехать к Тарусовым со мной.
Крутилин достал из жилета часы, прикинул, сколько времени займет поездка на Сергеевскую, где проживал с семьей присяжный поверенный, и помотал головой:
– Нет, не успею, в два – доклад у обер-полицмейстера. Езжай ты, – велел он Яблочкову.
По лестнице спускались долго. Анна Сергеевна то и дело останавливалась, переводила дух:
– Простите, быстрее не могу. Из-за болезни. Скорей бы умереть, перестать всех мучить. А все Степанида. Говорила я ей: «Закрывай окна». А она, зебра старая, твердила как заведенная: «В спертом воздухе зараза заводится». А что сквозняки заразу разносят, ей плевать. Из-за сквозняков я и простудилась. Спину скрутило так, что ни сесть, ни встать не могла. Аристарх Матвеевич потащил меня к докторам. Один радикулит ставил, другой – почечуй[19], третий – табес[20]. Только потом выяснилось, что ничего-то про мою болезнь они знать не знали, только деньги тянули, да лекарства выписывали. Целое ведро их съела. А еще на курорты отправляли. Где мы только не лечились: Кисловодск, Лазурный берег, Баден-Баден. Сколько денег истратили – и все впустую. И только в Вене мне поставили диагноз. Саркома. Сказали, надо оперировать. Запросили десять тысяч. Арик отчаянно торговался, с деньгами было уже туго, но скостили самую малость. Вы ведь знали Арика?
– Не имел чести, – признался Арсений Иванович.
– Ах да! Это Иван Дмитриевич знал его с детства, они вместе учились в реальном. Арик был замечательным. Всего в жизни добился сам. Такой умница… В тридцать лет стал управляющим торгового дома «Киселев и сыновья»! Представляете? За ним был закреплен персональный экипаж. Мы жили на широкую ногу, снимали шикарную квартиру, каждое лето выезжали на дачу, Капочка с Костиком посещали лучшие гимназии. Все было замечательно, пока я не заболела. Из-за наших поездок у Аристарха расстроились отношения с хозяевами. Они оказались такими бессердечными! За уклонения от службы делали вычеты. И исключений для Арика, которому всем обязаны, не делали. Нам пришлось залезть в долги.
– Пойдемте, Анна Сергеевна, – поторопил ее Яблочков.
– Операция прошла удачно, но из Вены мы вернулись без копейки. Арик в тот же день явился на службу, но оказалось, что его место занято. Киселевы наняли другого управляющего, а Арику указали на дверь. А вдобавок обвинили в каких-то злоупотреблениях. Арик пришел домой, держась за грудь, подошел к буфету, чтобы налить водки. И не налил. Упал и умер. Сердце не выдержало.
Якобы случайные касания с Леночкой в экипаже кружили Яблочкову голову.
– Анна Сергеевна, давайте заедем к вам домой. Вдруг Капа уже вернулась? – предложила барышня, когда извозчик свернул с Невского на Литейный.
Яблочков посмотрел на девушку с благодарностью – ей в голову пришла отличная мысль. Вдруг и вправду Капитолина вернулась? Потому что его очень угнетала предстоящая сцена у Тарусовых. Он ни на йоту не сомневался, что благоразумный Евгений, будь он хоть трижды влюблен в Гневышеву, накануне последнего экзамена с ней бы не сбежал.
– Да, надо домой. Забыла принять… Боль, снова проклятущая боль…
Арсений Иванович взглянул на Анну Сергеевну – ее восковое лицо покрылось испариной, лицо исказили страдания.
На четвертый этаж Анну Сергеевну несли на руках дворники, подняться сама она не смогла.
– Обещайте… Обещайте, что найдете Капу, – повторяла она Яблочкову.
Дверь им открыла толстая прислуга в испачканном мукой фартуке:
– Ой! Говорила же: «Примите лекарство». А она: «Заткнись, зебра старая». Вот тебе и заткнись. Несите в спальню.
– Капа не вернулась? – спросил Яблочков.
Вместо ответа последовал глубокий печальный вздох. В спальне Степанида сдернула покрывало с узкой кровати, дворники уложили Гневышеву, повторявшую:
– Лекарство, мое лекарство…
Степанида достала из тумбочки флакон, вытащила из него притертую крышку, взяв в руки ложку, налила несколько капель:
– Хорошо, что Костик вчера денег добыл и купил. Давеча вот не было. Сутки орала на весь дом. Я боялась, что на ночь глядя выселят, ведь с марта не платим. Слава богу, обошлось.
Анна Сергеевна, захлебываясь, выпила из ложки.
– Костик дома? – спросил Яблочков.
– Костик? Он ведь с Аней ушел. Аня, ты Костика потеряла? – строго спросила Степанида у хозяйки.
– Заниматься… Заниматься … – тихо, почти шепотом объяснила Анна Сергеевна.
– Значит, у Невельского. Завсегда вместе готовятся.
– К Тарусовым – вы сами, – прошептала Гневышева Яблочкову. – Заберите у них Капу. Я буду ждать.
Тарусовы снимали престижную квартиру на Сергеевской. Яблочков бывал там не раз. Поднявшись на третий этаж, он позвонил, дверь ему тут же с недовольной миной открыл камердинер Тертий. Однако, разглядев Арсения Ивановича, радостно заулыбался:
– Наконец-то хоть приличный человек к нам пожаловал, – сообщил он, принимая пальто и трость. – А то второй месяц – одни гимназисты. Туда-сюда по пятнадцать человек каждый божий день. Уже еле на ногах стою. А повар – тот уже падает. Попробуй-ка их прокормить. Проведу вас пока в библиотеку. Дмитрий Данилович будет через полчаса. Заседает в суде-с.
– А Евгений Дмитриевич у себя?
– Говорю же, готовится к экзамену. Слышите? – Камердинер приложил палец ко рту. – Что-то товарищам объясняет.
– Вчера он выходил из дома?
– Ну что вы! Последние месяцы только в день экзаменов квартиру покидает.
– Там одни юноши? Девушек нет? – задал Яблочков свой последний вопрос, намереваясь после утвердительного ответа откланяться.
– Шутите?
– Значит, зайду в другой раз....
Но не тут-то было!
– Арсений Иванович! Как я рада вас видеть, – выпорхнула из комнаты хозяйка дома Александра Ильинична. – Проходите, проходите. Муж скоро будет.
Яблочков склонился к ручке:
– И я рад встрече. А вы почему не в суде?
Княгиня Тарусова никогда не пропускала заседаний с участием мужа.
– Потому что Диди, – супруга она называла по инициалам, – защищает афериста. Сами посудите: выпустил акций, выгодно их продал, а потом объявил себя банкротом. Если он банкрот, откуда у него деньги на гонорарий для Диди? Потому и не пошла. И, похоже, не прогадала. Вы ведь по делу пришли?
– Чепуховому.
– Все равно рассказывайте. Самые загадочные дела начинаются с ерунды. Вспомните историю с Гуравицким. Я всего лишь прочла оставленную кем-то газету[21].
Княгиня Тарусова обожала совать нос в дела сыскной полиции. И, надо признать, ее вмешательства часто приводили к открытию преступника. Крутилин весьма высоко оценивал способности княгини. Однако Яблочков его восторгов не разделял, объясняя успехи Александры Ильиничны стечением обстоятельств. Будь дело Капы Гневышевой не столь игривым (подумаешь, девица сбежала), откровенничать с Александрой Ильиничной не стал бы. Но раз такая ерунда, почему бы и нет? Вдруг княгиня пригласит на обед? Повар-то у Тарусовых знатный.
– На самом деле мне был нужен Евгений Дмитриевич, – признался Яблочков.
– Что он натворил? – удивилась Александра Ильинична. – И когда умудрился? Целыми днями зубрит.
– Пропала девушка. Мы опрашиваем ее знакомых.
– Как ее зовут? Может, и я ее знаю?
– Капитолина Гневышева.
– Капочка? О боже… Что значит пропала?
– Сказала вчера вечером матери, что пойдет к подруге, с тех пор ее никто не видел.
– Бедная Анна Сергеевна! Будто из ведра на нее несчастья сыпятся. Вы правильно сделали, что пришли сюда. Сможете опросить сразу весь класс. Уверена, с сестрой товарища знакомы все.
Юноши удивленно притихли, когда княгиня представила Яблочкова. Он принялся задавать вопросы, но гимназисты в ответ лишь пожимали плечами – за прошедший учебный год никто из них Капу Гневышеву не видал. Лишь Евгений Тарусов – Арсений Иванович внимательно за ним наблюдал – открыл было рот, но сразу передумал. Интересно почему?
– Кто-нибудь из вас ухаживал за ней? Судя по фотопортрету, барышня весьма недурна.
Покраснело сразу несколько лиц, а Тарусов закашлялся.
– Вы, например? – обратился Яблочков к одному из смутившихся – долговязому рыжеволосому юноше.
– Фон Штукенберг, – представился гимназист. – Я в седьмом классе писал ей записочки, а Костик, он тогда еще с нами дружил, их относил. Но Капа ни разу не ответила. Как-то я ее подкараулил. И Капа призналась, что любит другого.
– Кого, не сказала?
Штукенберг покраснел еще больше.
– Ну же, говорите, это важно.
– Женю Тарусова.
Яблочков заметил, как удивленно вскинулись брови княгини.
– Ты знал о ее чувствах? – спросила она сына.
Тот кивнул.
– Думаю, нам надо поговорить наедине. Арсений Иванович, прошу вас присоединиться.
– Почему не признался? Почему промолчал? – накинулась Александра Ильинична на сына в будуаре.
– В чем я должен признаться?
– Что влюблен!
– А я не влюблен. Это Капа влюблена в меня.
– А ты, значит, нет?
– Не знаю. Да, она красивая, умная, серьезная, но… Я не знаю. И потом ты сама говорила, чтобы держал ухо востро. Что когда девицы проявляют интерес сами, значит, охотятся за моими деньгами.
– Как вы узнали о чувствах Капы? – спросил Яблочков.
– Мы столкнулись на Масленицу. Ели блины, смотрели балаганы, катались с горки. А потом она меня поцеловала…
– Сама? – всплеснула руками Александра Ильинична. – Ну и ну.
– Я проводил ее до дома.
– А потом?
– Она просила заходить. Но я… Я не рискнул.
– И правильно сделал. Похоже, я не зря тебя предупреждала. Капа затащила бы тебя в постель.
– Нет! Она не такая. Она правильная, – возразил матери Евгений.
– Тогда почему ты ее отверг?
– Во-первых, из-за Костика. Ты же знаешь, мы поссорились.
– Из-за чего вы поссорились? – уточнил Яблочков.
– Когда в августе мы вернулись с каникул и пришли в гимназию, то узнали, что у Гневышева умер отец, и Костика перевели на казенный кошт. И что у него нет денег ни на форму, ни на учебники. Я пустил по классу подписку. Класс у нас обеспеченный, всем дают карманные деньги. Когда Костик про это узнал, он страшно рассердился, наговорил грубых слов, что он не нищий, в подачках не нуждается и на все заработает сам. С тех пор мы даже не здороваемся.
– А во-вторых? – спросила княгиня, всегда цепко державшая нить разговора.
– Что, во-вторых? – сделал вид, что не понимает, о чем толкует мать, Евгений.
– Ты сказал – причин две.
– Оговорился. Просто так выразился. Во-вторых, ничего, – выпалил юноша.
– Да, врать ты не умеешь. Адвокат из тебя не получится, – вздохнула мать.
– Хотите пойти по стопам отца? – спросил у гимназиста Арсений Иванович.
– Да! В мире столько несправедливости…
– А еще больше вранья, – напомнила Александра Ильинична. – Не стоит его умножать. Будь добр, назови вторую причину.
Евгений отвернул голову:
– Невельский. Тогда на Масленицу, когда гуляли с Капой, мы и с ним столкнулись. Просто поздоровались и разошлись. Но, оказывается, он пошел за нами следом, видел, как мы целовались. И когда, проводив Капу, я пошел домой, подкараулил и пару раз двинул мне в челюсть. Сказал, что, если буду к ней приставать, изувечит или убьет.
– И ты испугался угроз? – изумилась княгиня.
– Знаешь, как он Штуке… Штукенбергу бока намял? Тот неделю кровью харкал. Его родители подозревали чахотку.
– Почему Штукенберг не открыл им правду?
– Ябедничать – последнее дело.
– Согласен, – поддержал юношу Яблочков. – Но ведь можно устроить темную.
– Пытались. Но вместо Невельского в уборную, где мы его поджидали, вошел инспектор. Повезло, что не успели накинуть шинель. А то бы и я остался без медали…
– А кто без нее остался? – еще более удивленно, чем ранее, спросила княгиня.
Как, оказывается, многого она не знала про сына.
– Костик, – ответил Евгений.
– Почему?
– У него тройка по поведению.
– За какой проступок?
– Не знаю…
– Знаешь. И опять врешь.
– Их с Невельским застали… – Слово было готово слететь с губ, но почему-то застряло. Евгений фразу так и не закончил.
– Где застали? – попробовала настоять на ответе княгиня.
Евгений, сжав зубы, ответил уклончиво:
– В недозволенном для посещения гимназистами месте[22]. В каком именно, не знаю.
– Знаешь.
– Нет! – рассерженный Евгений направился к двери. – Нам не сообщили.
– Погодите, – окликнул его Яблочков. – У меня еще пара вопросов.
Евгений обернулся.
– Невельский. Расскажите о нем подробней.
– Пришел в этом году. Старше всех, ему двадцать один.
– Вечный второгодник?
– Нет, учится он неплохо. У него в семье беда.
– История очень грустная, – пояснила Александра Ильинична. – Несколько лет назад его мать бросила мужа и ушла к другому. И отец Павлика с горя застрелился у него на глазах. У мальчика случилась нервная горячка. Его несколько лет лечили в разных клиниках.
– Лучше бы он там остался навсегда, – пробурчал Евгений.
– Невельский дружит с Гневышевым? – уточнил Яблочков.
– Да. Костик даже пересел от меня к нему на «камчатку».
– Думаю, их сблизила безотцовщина, – предположила княгиня.
– Где живет Невельский?
– На Литейном, дом Тацки.
– Сеня, ты ли это? – распахнувший дубовую дверь швейцар сгреб Яблочкова в охапку и, словно на пасхальной неделе, троекратно облобызал.
– Артюшкин? – Арсений Иванович сумел разглядеть старого знакомца, только когда тот выпустил его из объятий. – Что ты тут делаешь?
– Служу, – радостно сообщил он сочным басом.
– А как же театр?
– Театр, театр, – вздохнул Артюшкин. – Через месяц после твоего ухода Сковородин свою лавочку прикрыл. Я туда, сюда… Везде – от ворот поворот. Стариков и без меня пруд пруди, а ролей для них – малая толика. Плюнул я тогда на актерство и поехал искать счастье в столицу. А рост-то у меня гвардейский! Потому и нашел местечко. Всего-то делов – дверь отворять. Ну, еще кланяться. Чего-чего, а это мы умеем, – подмигнул он сыщику. – Помнишь, в Козлове? Как нам там аплодировали! Ты – Глумов, я – Крутицкий, езжу на тебе верхом и кричу: «Где, спрашиваю, вековая мудрость, что стул поставила на ножки?»[23]. Да, были времена, брат Яблочков… Ну, а ты? Кем, где?
– В сыскной полиции.
– Все шутишь…
– Честное слово.
– А там не опасно? Вдруг пырнут? Слушай… В соседнем доме швейцара выгнали за пьянку. Хочешь, с управляющим переговорю? Залог тут не нужен.
– Благодарю. Но мне и в полиции неплохо.
– Ну смотри, как знаешь.
Слуга, смерив наметанным глазом видавшее виды пальто, надменно поинтересовался:
– Что вам угодно?
– Сыскная полиция. Павел Невельский дома?
– Дома. Но вашего брата пускать не велено, – и слуга попытался захлопнуть дверь. Однако Арсений Иванович, ловко выставив колено, это ему не позволил.
А схватив за кадык, посоветовал:
– Никогда так больше не делай.
Тот моргнул – мол, не буду. Яблочков разжал пальцы.
– Кто там, Онисий? – раздался из глубин квартиры дребезжащий женский голос.
– Сыскная полиция, – крикнул слуга, растирая шею.
– Боже! Что он опять натворил? – голос материализовался в немолодую, но все еще миловидную даму в светло-сером домашнем платье. Ее маленькие зеленые глазки впились в сыщика, будто пиявки.
– Позвольте представиться: Яблочков Арсений Иванович, чиновник для поручений сыскной полиции.
– Черницкая Васса Никитична, – произнесла дама и, схватив чиновника за руку, увлекла его в столовую. – Чай, кофе, покрепче?
– Спасибо, в другой раз.
– Давайте условимся сразу: мой муж ничего не узнает. Он Павлику – не отец. И слишком с ним строг. Я хорошо вам заплачу.
– Успокойтесь, Васса Никитична, ваш сын ничего противоправного не совершал. Во всяком случае, мне о том неведомо.
– Зачем тогда явились?
– Хочу его расспросить о некой барышне, сестре его одноклассника.
– Тогда зайдите послезавтра. Павлик занимается. У него завтра испытание.
– А Костик Гневышев с ним?
– Костик? Нет, еще не приходил. Странно, обычно является ни свет ни заря.
– У Костика пропала сестра.
– Что значит пропала? Сквозь землю, что ли, провалилась?
– Возможно, сбежала с кавалером.
– И при чем тут мой сын?
– Уверен, что ни при чем. Но он с Костиком дружит. Вдруг что-нибудь знает?
– Хорошо, я его позову.
– Яблочков Арсений Иванович, чиновник сыскной полиции, – представился сыщик, когда молодой человек зашел в столовую.
– Павел Невельский, все еще гимназист. Но, надеюсь, завтра наконец сорву этот чертов значок с фуражки.
– Вы знакомы с Капитолиной Гневышевой?
– Да.
– Она вам нравится?
– А если нравится, какое вам дело? – скривил губы Невельский.
– Гневышева ему нравиться не может. Как может нравиться бесприданница? – заявила Васса Никитична, пожелавшая присутствовать при опросе сына.
– Тогда почему ваш сын угрожал Евгению Тарусову, даже убить его грозился, если еще раз встретит с Капой?
– Павлик пошутил, – опять встряла Васса Никитична. – У подростков так принято.
– Не называй меня подростком! – заорал на мать гимназист. – И я не шутил!
– Значит, я прав? У вас чувства к Капитолине Гневышевой? – задал вопрос Яблочков.
– Молчи! Не говори ни слова. Девица пропала, он хочет тебя обвинить.
– Капа пропала? – побледнел Невельский.
– Сказала вчера, что идет ночевать к подруге, но к ней не пришла и домой не вернулась, – объяснил ему Яблочков.
– И Костика до сих пор нет, – задумчиво произнес Невельский.
– Вы знаете, где Капа провела сегодняшнюю ночь?
– Я похож на ясновидящего? – пожал плечами гимназист.
Он отвечал искренне, Яблочков был в том уверен. И было видно, как он обескуражен исчезновением девушки.
– Как вы смеете подозревать моего сына? – возмутилась Васса Никитична.
– Он ночевал дома?
– У него испытания. В последний месяц он покидает квартиру только в дни испытаний.
– Я иду к Костику, – заявил вдруг гимназист. – Надо выяснить…
– Никуда ты не пойдешь, – вскочила Васса Никитична, – ты поклялся Леониду Владимировичу....
– Он мне не отец!
– Если бы не Леонид Владимирович, тебя бы вытурили из гимназии. Ты поклялся, что сдашь экзамены и поступишь в артиллерийское. Будь же мужчиной, держи слово. Если бы не Леонид Владимирович…
– Если бы не он, отец был бы жив. А я здоров.
Васса Никитична схватилась за виски:
– Замолчи.
– Я пойду к Костику. Что-то случилось…
– Я только что от Гневышевых, – схватил юношу за руку Яблочков. – Костика нет дома. Его прислуга сказала, что он у вас. Вот я и явился.
– Где же он? Где Капа?
– Вы в нее влюблены?
– Нет! Конечно, нет.
– И все-таки ответьте: у вас с Капой роман?
– Нет…
– Тогда почему вы угрожали Тарусову?
– А вы не понимаете? Богатенькие не женятся на бесприданницах. Залезут под юбку и оревуар.
– А вам что за печаль?
– Константин – мой друг. Я не мог допустить, чтобы его лютый враг обесчестил его сестру.
– А за что вас собирались выгнать из гимназии?
– Молчи, – велела Невельскому мать. – К уходу из дома разбитной девицы та история отношения не имеет.
– Капа не разбитная! – накинулся он на Вассу Никитичну. – А выгнать нас хотели за посещение борделя.
– Борделя? – изумился Яблочков. – И что? Не выгнали?
– Мой муж все уладил, – объяснила Черницкая.
– Барыня спит, – сообщила Степанида.
– Капа? – на всякий случай уточнил Яблочков.
Служанка покачала головой.
– Костик?
– Раньше восьми и не жду. У него в шесть вечера ученик.
– Передайте Анне Сергеевне, что Тарусовых я посетил, Капу у них не обнаружил. А Евгений Тарусов уже месяц из дома не выходит, готовится к испытаниям. И прошу вас, как только вернется Капитолина Аристарховна, меня известить.
– Вы у Ивана Дмитрича служите?
– Да.
– Поклон ему от меня. Скажите, что Степанида в молитвах его завсегда поминает. Кабы не он… Три года назад пошла я на рынок. Деньги, как обычно, в узелок завязала. А на Садовой у меня их и вытащили. А кроме денег ладанка там лежала, родителем покойным подаренная. Дужка у нее поломалась, шла к мастеру, чтоб запаял. Рыдала из-за ладанки два дня. Аристарх Матвеевич не выдержал, к Ивану Дмитриевичу поехал, чтоб тот помог. Они с ним – земляки. В тот же день Крутилин мне ладанку привез. «Извини, – сказал, – но запаять не успели». Святой человек! Так ему и скажите.
– Во что Капа вчера была одета?
– А что ей надеть, бедняжке? Одно приличное платье и осталось – черное, с похорон, остальные продала. Сверху пелерина, тоже черная. Только вы Капу не ищите, только хуже ей сделаете, еще от стыда помрет.
– Что? Знаете, где она?
– Знаю. Аннушке вот не решилась сказать. Она и без того не жилец. Дохтур, что резал ее, удалять ничего не стал. «Поздно, – сказал он Аристарху Матвеевичу, – опухоль ужо в легких». Велел лекарство пить, чтоб болей не чувствовала.
– И все же где Капа?
– В хор она поступила. Уж как рыдала, когда Говориловна ее уговаривала. У меня сердце кровью обливалось.
– В какой хор?
– Про то Говориловну спросите.
– Кто такая?
– Сваха местная, в Соляном переулке живет. Только не вздумайте ее Говориловной назвать, еще обидится. Пелагея Гавриловна она.
– Садись, касатик, – Говориловна с ходу пригласила за стол, заставленный пирожными и вазочками с вареньем. – Чай али кофий?
Арсений Иванович попытался представиться:
– Яблочков…
– И яблочков подадут, коль желаешь.
– Я по делу…
– Знаю, касатик… Невесту ты ищешь. Блондинку, брунетку, рыжую?
– Эту, – сыщик сунул фотопортрет Гневышевой.
– Белены, что ль, объелся? Она ж «голая»[24]. Ни в столе краюшки, ни в мошне полушки, одна копейка и та ребром. Давай лучше вдовушку за тебя посватаем. Век будешь благодарен: одна рука у ней в меду, другая в сахаре…
– В другой раз.
– Думаешь, ждать тебя, голодранца, будет? Таких касатиков, что сельдей в бочке.
– Я тебе не касатик. Сыскная полиция, чиновник для поручений Яблочков, – наконец сумел представиться Арсений Иванович. – Где находится Капа Гневышева?
Говориловна пожала плечами:
– На Моховой, дом Зубовой, вход со двора, аккурат под крышей…
– Где проживает, без тебя знаю. Только нет ее там, сбежала.
– Врешь! – очень искренне удивилась сваха.
– Не забыла, с кем говоришь?
– Прости, касатик, вырвалось. Удивлена потому что. Девка-то она красивая, в содержанки определить раз плюнуть. Но артачилась, нос воротила, мечтала замуж по любви. А я ей: «Глупенькая! Чтоб по любви, нужны деньжата. Шитьем-то их не заработаешь. А вот пением запросто». Слышал бы ты, как она поет, касатик, голосок – прямо ангельский. Но не уговорила. Сбежала, говоришь?
Яблочков встал.
– А про вдовушку подумай. Денег у ней столько, за всю жизнь не сосчитаешь.
Догнала его во дворе:
– Знаю, где Капа…
– Где?
– Поклянись, что Ирму проклятущую прижмешь, заставишь заплатить.
– Кто такая?
– Хозяйка русского хора в «Крестовском саду». Столкнулись мы с ней в прошлую пятницу на Литейном. Я обрадовалась, потому что двадцать рублей мне должна. Прачку ей осенью пристроила, Фенькой звать. На рожу, правда, не вышла, вся рябая, но поет звонко. Восемьдесят рублей Ирма отдала сразу. А двадцать поприжала. Вдруг Фенька не потянет? Но та поет и поет. Ну так вот, столкнулись мы, стала я с Ирмы деньги требовать. А та в ответ на жизнь давай жалиться. Мол, доходов нет, потому что певички ейные примелькались. Нет ли новинок на примете? Иначе, де, долг не отдать. И я, дура безголовая, про Капу и открылась. И что дворяночка, и что «кровь с молочком», и что на воскресную службу ходят исключительно ее послушать. Ирма аж вцепилась в меня – «вези немедленно». А я, что поделать, руками развела, мол, «не созрела» девка, не дошла до того отчаяния, чтоб в хористки… Зря я про церковь сболтнула. Видать, Ирма сама в воскресенье туда сходила и за моей спиной с Капой сговорилась. Сэкономить вздумала, дрянь такая. Я бы за Капу три «катеньки»[25] с нее содрала.
На пристани у Летнего сада Яблочков сел на пароходик, который за двугривенный отвез его на Среднюю Невку к «Русскому трактиру». Вход туда стоил тридцать копеек, которых Арсению Ивановичу было жаль, и вместо оплаты сыщик предъявил на входе удостоверение. Однако ожидаемого впечатления оно не произвело:
– У нас и приставы платят, и даже полицмейстер, – сообщил презрительно швейцар.
– А я не развлекаться, урок[26] исполняю. Некую Ирму велено опросить. Знаешь такую?
– Ирину Макаровну, хозяйку русского хора?
Яблочков кивнул.
– Они-с так рано не приходят. Ближе к полуночи приходьте.
– А где эта Ирма живет?
Швейцар заколебался:
– Точно из сыскной?
– Ты что, читать не умеешь?
– Нет, – признался тот. – Нам без надобности. Ирина Макаровна вместе с хором на Опекунской[27]проживают. Тут недалече, за рощей.
Звуки рояля и женское пение слышны были с улицы. Чтобы не мешать репетиции, Яблочков стучаться не стал, вошел в дом без спроса, гадая по дороге, Капа-то поет или нет? Дойдя до общей залы, аккуратно заглянул – одетые в сарафаны певички стояли кружком у рояля, внимая солистке:
- Я все еще его, безумная, люблю!
- При имени его душа моя трепещет;
- Тоска по-прежнему сжимает грудь мою,
- И взор горячею слезой невольно блещет:
- Я все еще его люблю.[28]
Арсений Иванович внимательно рассмотрел девиц. Увы, Капы среди них не оказалось. Хотел было удалиться, но его вдруг заметили:
– Что вам угодно? – завизжала дама лет сорока, единственная, кто не в сарафане, – на ней был розовый со складками капот.
Пение прервалось, дюжина пар глаз уставилась на Яблочкова.
– Простите, не хотел мешать… Сыскная полиция, – достал удостоверение Арсений Иванович. – Ирина Макаровна?
– А в чем дело? – дама в капоте подошла к сыщику.
– Позволите на пару слов?
– Подайте шубу, на улице холодно.
Они вышли в сад и уселись на скамейку под вишней.
– Признаюсь, Говориловна меня заинтриговала, – ответила Ирма на вопрос про Капу Гневышеву. – Потому встала в воскресенье пораньше и поехала в Пантелеймоновскую церковь[29]. Сваха не обманула, голос девушки действительно был божественен. Внешность – тоже. И я решила уговорить ее сама. Соврала, что была знакома с ее покойным отцом, выразила соболезнование, предложила помощь. Она слушала благосклонно. И если бы не ее брат… Он обругал меня бранными словами. Очень невоспитанный юноша.
– Спасибо! Очень мне помогли, – поблагодарил хозяйку хора Арсений Иванович и отправился на Большую Морскую.
– Где шлялся? – накинулся на него Крутилин.
Яблочков подробно доложил:
– Я думаю…
– Я разве думать велел?
– Уверен, Костик знает, где Капа.
– Мне на это дело плевать. У тебя куча поручений не отписана.
Арсений Иванович корпел над бумагами почти до полуночи. Добравшись домой, тотчас завалился в постель – спать хотелось так, что даже ужинать не стал.
1 июня 1871 года, вторник
В семь утра Арсения Ивановича разбудил городовой четверого участка Петербургской части:
– Утопленник всплыл. Велено вам его предъявить. Вразумительного объяснения, почему участковый пристав послал именно за Яблочковым, сыщик от городового не добился. Поеживаясь от холода, они доехали до Колтовской набережной[30], пересекли мост и свернули налево. Через пару минут дрожки остановились у одной из тоней[31], где сыщика дожидался пристав капитан Феопентов.
–Зачем вызвали, Елисей Аполлинариевич? – спросил его, пожимая руку, Арсений Иванович.
– Хозяйка хора, что пел этим господам на рыбалке, – Феопентов указал на празднично разодетых мужчин, неподалеку вкушавших свежесваренную в котелке уху, вместе с ними завтракали дюжина одетых в сарафан девиц, – сказала, что вчера вы разыскивали сестру нашего утопленника…
– Можно на него взглянуть? Где он?
– Перенесли подальше от берега, чтобы не смущать отдыхающих.
Яблочкову взгляда хватило, чтобы опознать Костика, к ноге которого гимназическим ремнем был привязан его ранец. У тела юноши колдовал частный[32] врач Долотов.
– Какова причина смерти, Петр Порфирьевич? – уточнил у него Арсений Иванович.
– Удар по голове тупым предметом. На правой затылочно-теменной области я обнаружил проникающую рану звездообразной формы. Удар был сильным. Смерть наступила мгновенно.
– Орудие убийства?
– Кирпич, острый камень, угол доски? Что угодно.
Кстати, вдруг важно: удар был нанесен сверху вниз.
– Получается, убийца выше Костика.
– Да, он перед смертью с кем-то дрался. Обратите внимание на гематому возле правого глаза. А с левой стороны рассечена губа, взгляните-ка, – доктор приоткрыл Костику челюсть, – выбит зуб. Теперь посмотрите на мундир – пара пуговиц вырваны с «мясом».
– Время смерти?
– Точно определить не смогу. Если руководствоваться температурой тела, то смерть наступила пять-шесть часов назад. Но надо учитывать, что труп побывал в воде, а она сегодня теплее воздуха. Видите? Мацерация[33]лишь на подушечках пальцев, значит, тело плавало часа два или три.
– То бишь, Костика убили ночью?
– Нет, ночью его бросили в воду. А убили его часов восемь назад, а то и все двенадцать. Об этом свидетельствуют трупные пятна, – доктор задрал гимназисту рубаху и сильно нажал пальцем на живот. – Если на них надавить, они не исчезают, как у «свежего» трупа, лишь бледнеют.
– Сейчас семь пятнадцать, – взглянул на часы Яблочков. – Значит, убили Костика в промежутке между семью и одиннадцатью вечера.
– Я поручил городовым обшарить берег, благо, белые ночи, но место преступления они не обнаружили. Значит, юношу убили не здесь. Думаю, тело сперва где-то прятали, а уже ночью привезли сюда на телеге и опустили в воду, – предположил пристав.
– Или сбросили с лодки, – добавил доктор.
– Члены понтонной команды Крестовского моста ни вечером, ни ночью гимназистов не видали, – сообщил пристав. – А вот всяких телег проезжало с десяток.
Яблочков открыл черной кожи ранец, крышка которого была обшита клеенкой – в нем обнаружил только размокшие тетради и учебники. Серебряной фляги внутри не было.
– Ваше благородие, где вас носит? Иван Дмитриевич пять раз уже спрашивал, – накинулся на Яблочкова Фрелих.
Арсений Иванович после осмотра трупа на Малой Невке заскочил сперва домой, чтобы помыться-побриться, а потом в кухмистерскую позавтракать.
– Кто у него?
– Вчерашняя вдова. Ох, и невезучая! Мало, что дочка сбежала. Теперь и сын пропал.
– О боже…
Прозвенел звонок сонетки – Крутилин в который раз вызывал Яблочкова. Перекрестившись, Арсений Иванович зашел в кабинет.
– А вот и он, легок на помине, – с раздражением произнес Иван Дмитриевич.
– Вы нашли Капочку? – спросила с надеждой Анна Сергеевна.
Яблочков покачал головой:
– Иван Дмитриевич, можно вас на пару слов?
Выслушав ужасную новость, Анна Сергеевна сперва остолбенела, потом истошно закричала, затем лишилась чувств. Крутилин послал Яблочкова этажом ниже в Адмиралтейскую часть за частным врачом, который, явившись, привел несчастную в чувство с помощью нашатыря.
– Я вчера весь день проспала, – рыдая, сообщила Анна Сергеевна. – Как вернулась, так до самого утра и не просыпалась. Степанида утверждает, что тоже вчера рано легла и Костика не дождалась. Он по понедельникам обычно возвращается не раньше восьми вечера, потому что к ученику ходит.
– Как ученика зовут, где живет? – спросил начальник сыскной.
– Сенечка Пятибрюхов.
– Сын Степана Порфирьевича? – воскликнул Крутилин.
– Да. Живут Пятибрюховы где-то на окраине Петербургской стороны.
Сыщики переглянулись.
– Съездить опросить? – предложил Яблочков.
– Нет, к Степану Порфирьевичу поеду сам, – сказал Крутилин. – Тебя, боюсь, он не примет. Разбогател потому что сильно. Раньше-то шапку сдирал, завидев меня. А ты, давай, Анну Сергеевну проводи, потом загляни в гимназию, опроси одноклассников. Вдруг кто-нибудь Костика вчера видел?
По лестнице на этот раз Анна Сергеевна взбиралась сама, но долго, чуть ли не час, ее душили слезы:
– За что? За что мне это? – то и дело спрашивала она.
Степанида, узнав про Костика, опустилась на сундук, обхватив голову руками:
– Мальчик мой маленький, почему тебя, почему не меня?
Яблочков проводил Анну Сергеевну в спальню. Дойдя до кровати, она рухнула в нее лицом вниз. А Арсений Иванович долго не уходил, вглядываясь в фотопортрет Костика, мысленно спрашивая его:
«Что же ты скрыл от нас?»
Но забрать портрет (в процессе дознания мог понадобиться) без спроса не решился. Выйдя из спальни, спросил Степаниду, нет ли другого?
– У Капочки в комнате висит, – сообщила служанка.
– Можно я заберу? На время. Нужен для поимки убийцы, – объяснил Арсений Иванович.
– Забирайте, для святого дела ничего не жалко, – махнула рукой Степанида и провела в комнату барышни. – К Говориловне-то ходили? Рассказала, где Капу найти? Надо про Костика ей сообщить…
– Говориловна ничего не знает.
– Врет.
– Я и в хор ездил. Нет там Капы.
– Где же она?
Но Яблочков Степаниду уже не слушал, завороженно смотрел на раскрытую тетрадь, из которой была вырвана страничка. Чутье нашептывало ему, что вырвана она неспроста, что в ней кроется разгадка.
Яблочков взял в руки тетрадку, поднес ее к окну. Повертел и так, и сяк, пытаясь разглядеть, остался ли след от вырванной надписи на следующей странице. Какие-то вмятины имелись, но прочесть их он не смог. Арсений Иванович вернулся к столу, схватил карандаш, легким штрихом покрыл «вмятины» и прочел адрес:
«Лигово, ул. Дернова, дом Юрлова».
Выйдя от Гневышевых, подкинул монетку – сразу ехать в Лигово (орел) или сперва выполнить урок Крутилина – опросить гимназистов (решка)? Выпала решка.
Сторож в гимназию Яблочкова не пустил:
– Не положено. Испытания.
Пришлось идти в участок, просить содействия у исправляющего должность пристава первого участка Литейной части коллежского советника Батьякова. Тот сыщику не обрадовался:
– Без вас дел по горло. Который месяц за двоих тяну. И помощника взять не разрешают, и в должности не утверждают. Тянут и тянут с решением. Полицмейстер советует громкое дело раскрыть, тогда, мол, сразу. А у меня, как на грех, тишина.
– Я очень вас прошу, Валериан Николаевич, – в который раз повторил Яблочков.
Батьяков со вздохом встал из-за стола.
Глава третья
Лавка в Апраксином дворе досталась Степану Пятибрюхову по наследству. Однако после крестьянской реформы провинциальные помещики, главные его клиенты, заказывать мебельную фурнитуру перестали. В прежние-то времена всю мебель им делали крепостные столяры, трудившиеся за харчи. А после реформы пришлось им деньги за работу платить. Дешевле оказалось готовое изделие с фабрики заказывать. А фабрики в пятибрюховской фурнитуре не нуждались, сами ее из-за границы возили.
Разум подсказывал Степану Порфирьевичу лавку закрыть, но сердце слушать его не хотело. Как своими руками отцовское детище загубить? Что на это общество скажет?
В Духов день[34]торговля никогда не велась. Степан Порфирьевич с самого утра у зеркала расчесал волосы и бороду, надел новый кафтан, подпоясал его самым дорогим кушаком, помолился перед иконами и отправился в Летний сад на смотрины. Тридцать лет, считай, ему стукнуло, пора наследников заводить. Сваха объяснила, по какой именно аллее Поликсена Осиповна с матушкой будут прохаживаться, дабы будущие жених и невеста смогли друг друга рассмотреть.
Но Поликсену в тот день увидеть не довелось. «Пожар, пожар!» – закричали посетители Летнего сада хором, как только Пятибрюхов прошел через Невские ворота. Степан Порфирьевич задрал голову и поверх шпалер[35]увидал вдалеке огромное черное облако.
– Апраксин горит. И Щучий! – услышал он крики.
Искать Косую аллею, где ожидала Поликсена, было некогда. Степан Порфирьевич бросился бежать напрямки к Инженерному замку, оттуда по Садовой к Апраксину. Из лавки ничего спасти не удалось, огонь был настолько силен, что даже бронзовые ручки для шкапов расплавились. Отстраиваться заново, несмотря на вспомоществование правительства, Степан Порфирьевич не стал, понимая, что бессмысленно. Начал собирать долги. Дебиторы, зная ситуацию, рассчитывались с ним медленно, вместо денег норовили неликвидный товар всучить. Так, помещик Ящиковский прислал подводу срубленных сосен. Степан Порфирьевич знать не знал, куда их девать. Кто-то посоветовал распилить на доски. И сие принесло неожиданный доход. Невероятный доход! С руками у Пятибрюхова доски оторвали – как раз Апраксин и Щучий начали отстраивать, и строительных материалов не хватало. На рубль долга Пятибрюхов получил два с полтиной. И решил обзавестись собственной лесопилкой. Часть денег ссудили раскольники-единоверцы, с остатком суммы поспособствовал знакомец, квартальный надзиратель Адмиралтейской части Крутилин, который свел Пятибрюхова с земляком Аристархом Гневышевым, управляющим торгового дома «Киселев и сыновья». Его хозяева как раз затеяли строительство доходного дома и сильно нуждались в досках. Пятибрюхов, благодаря Аристарху Матвеевичу, получил от них крупный аванс.
1 июля 1871 года, вторник
Крутилин с завистью оглядел солидный, с портиком из дорических колонн двухэтажный особняк на берегу Малой Невки, обнесенный забором высотой в сажень. Подошел к воротам, покрутил ручку звонка:
– Чего желаете? – спросил открывший калитку бородатый верзила в черной косоворотке.
– Степан Порфирьевич дома?
– Смотря кто спрашивает, – честно ответил верзила, с подозрением разглядывая посетителя.
– Начальник сыскной полиции, – сыщик подал визитку.
Купец тотчас принял Крутилина в обставленном мебелью из карельской березы кабинете.
– Какими судьбами? – раскрыл он объятия.
– Да так, пара вопросиков, – уклончиво произнес Иван Дмитриевич, рассматривая старого приятеля: раздобрел, погрузнел, поседел, утратил добродушие во взоре, не суетится, как прежде, говорит степенно, на равных. Но одет по-прежнему по старинке: долгополый темного цвета кафтан, русская рубаха и плисовый жилет. В левой руке между средним и безымянным пальцами – лестовка[36].
– Коньяк, сигару?
– Ты что, веру поменял? – удивился Крутилин.
– Что вы, как можно? Баловство сие, – Степан Порфирьевич пододвинул коробку «гаван» к сыщику, – для дорогих гостей держу. Курите, не стесняйтесь, я привык.
– Как Поликсена Осиповна?
– Лучше всех. Третьего в животе носит. Вернее, пятого. Двое-то в младенчестве скончались, Царствие им небесное, – Степан Порфирьевич перекрестился двумя перстами на икону. – А как ваша Прасковья Матвеевна поживает?
– Тоже слава богу, – соврал Крутилин.
Брак его трещал по швам, разрывался он между семьей и любовью.
– Внимательно вас слушаю, Иван Дмитриевич, – быстро покончив с церемониями, взял быка за рога купец.
– Аристарха Гневышева помнишь?
– Как не помнить! Много добра мне сделал.
– Не всем так повезло…
– Что, и вам остался должен?
– Тысячу рублей. Для вас, купцов, это пшик, а для мелких чиновников вроде меня – большие деньги.
– Так вот почему на похороны не пришли…
– Нет, не потому. Занят был. А ты, говорят, семье Аристарха помогаешь?
– Ну, чем могу. Боженька ведь делиться велел. С переездом вот помог. Костик, сын Аристарха, Сенечке моему латынь преподает[37]. А как Варька подрастет – Капу к ней в училки приглашу. Если, конечно, захочет.
– Как часто Костик к вам приходит?
– Три раза в неделю.
– Вчера приходил?
– Сейчас узнаем.
Пятибрюхов позвонил в колокольчик. Одна из дубовых дверей его кабинета тотчас отворилась, и в нее вошел высокий поджарый молодой человек в темно-сером армяке с такими же длинными, как у Пятибрюхова, волосами и с бородой.
– Узнаете, Иван Дмитриевич? – спросил Пятибрюхов.
– Никак Обожженыш?
Во время страшного пожара 1862 года лавка скобяных товаров купца Поносова сгорела вместе с хозяином и приказчиками. Спастись удалось лишь мальчику-сидельцу Феде Рыкачеву. Пятибрюхов из жалости взял его на службу.
– Он самый, – гордо сказал Степан Порфирьевич. – Как сына люблю. В Англию отправлял его на учебу. Вернулся оттуда полгода назад, теперь – моя правая рука.
– Доброго дня, – поклонился в пояс молодой человек.
– Костик Гневышев вчера приходил? – спросил его Пятибрюхов.
Обожженыш тотчас кинул быстрый взгляд на хозяина, Крутилину показалось, что Пятибрюхов ему кивнул.
– Да.
– В котором часу? – уточнил Иван Дмитриевич.
– Как всегда, в шесть вечера.
– А ушел?
– Тоже как всегда, в семь.
– Ты его видел?
– Да, он перед уходом всегда заходит ко мне за оплатой.
– Сколько ему за урок причитается? – спросил Крутилин.
Денег в карманах Костика не обнаружили, может, они и стали причиной преступления?
– Рубль.
– Рубль? – удивился Крутилин и повернулся к Пятибрюхову. – Не маловато ли, Степан Порфирьевич?
– Наоборот, переплачиваю из-за желания помочь их семье. За рубль-то хоть студента можно нанять, хоть приват-доцента. А Костик кто? Обычный гимназист.
– А про дорогу ты не забыл? Не всякий извозчик сюда за полтинник поедет.
– Какой извозчик? Кто нуждается, ходит пешком, – объяснил Пятибрюхов. – Я в его годы тоже извозчика не мог себе позволить.
– Ничего странного, необычного вчера не заметил? – обратился Крутилин с вопросом к Федору Рыкачеву. Вдруг Костик пришел к Пятибрюховым уже с синяками на лице?
Тот наморщил лоб, подумал немного:
– Заметил, – признался Рыкачев.
– Что? – взволнованным тоном спросил Пятибрюхов.
– Нервозность, некоторую рассеянность, озабоченность. Что в общем-то вполне объяснимо: сегодня Костику экзамен предстоял. Я пожелал ему сдать его на отлично.
– А… Ты про это, – облегченно перевел дух Степан Порфирьевич. – А почему Костиком интересуетесь, Иван Дмитриевич?
– Потому что его убили, – равнодушным тоном сообщил Крутилин, отодвинув кресло так, чтобы одновременно видеть и купца, и его помощника.
Что-то в их поведении сыщика настораживало.
Оба вздрогнули, потом испуганно переглянулись, затем дружно развернулись к иконам и перекрестились. Купец двумя перстами, Рыкачев – тремя.
– За что его убили? – спросил Пятибрюхов.
– Не знаю. Но выясню. Обязательно выясню. Затем и приехал.
– Помогу, чем смогу. Где сие произошло?
– Где-то здесь, недалеко, тело выловили напротив Колтовской слободы. Не знаете, куда от вас Костик направился?
Федор помотал головой:
– Обычно он домой по Левашевскому проспекту…
– Где такой? – удивился Крутилин незнакомому названию.
– Дорогу, где моя лесопилка, так назвали. В честь генерала, что прокладывал, – объяснил Пятибрюхов.
– Костик по ней всегда шел до Гисляровского переулка, сворачивал на Бармалееву улицу, с нее – на Большой проспект, оттуда – на Каменностровский. И уже по нему – к Троицкому мосту. Так быстрее, чем через Биржевой, – обрисовал обычный путь домой Гневышева Федор.
Крутилин записал его слова в блокнот:
– Поручу агентам всю дорогу прочесать. И опросить рабочих с твоей лесопилки, Степан Порфирьевич.
– За них ручаюсь. Все – единоверцы. Не пьют, не курят, даже не сквернословят.
– На воротах тот же человек стоит, что и вчера? – уточнил сыщик.
– Хотите опросить? – догадался Пятибрюхов.
Крутилин кивнул.
– Федор, ну-ка сбегай за Николаем.
Ивану Дмитриевичу опять показалось, что купец с помощником быстро переглянулись. Нет, они явно что-то скрывают. Что? Имеет ли сие отношение к убийству Гневышева?
– Не надо. Опрошу его, когда уезжать буду, – сыщик вытащил из жилетки часы. – Собственно, мне уже пора. Если что вспомните, прошу без промедления сообщить.
Крутилин встал. Пятибрюхов вышел из-за стола и протянул ему руку. Федор, кивнув головой, скрылся за дверью.
– Анна Сергеевна про смерть Костика знает? – уточнил Степан Порфирьевич.
– Да.
– Боюсь, эту смерть она не переживет, – произнес Пятибрюхов, продолжая сжимать ладонь Ивана Дмитриевича.
Крутилин понял, что купец тянет время, дает Федору возможность добежать до человека на воротах. Значит, тот видел нечто, о чем Крутилин не должен узнать. Что?
Неужели Пятибрюхов замешан в убийстве гимназиста?
– А Капа как? Держится?
– Разве не знаете?
– Что? – купец сжал руку так, что Иван Дмитриевич едва не закричал.
– Она пропала…
– Как пропала?
– Ушла из дома и не вернулась.
– Когда?
– Позавчера.
– Что? До сих пор не вернулась?
– Нет.
Купец схватился за грудь:
– Что же с ней случилось?
– Почему ты так волнуешься?
– Из сострадания к Анне Сергеевне. Муж умер, сын погиб, дочь пропала. Ужас-то какой!
– Мы ищем Капу. Вчера я опрашивал Костика. Думаю, он был замешан в исчезновении сестры. Но скрыл от меня правду. Это его и сгубило.
Охранник, глядя в сторону, сообщил, что Костика вчера видел, что ушел он в семь, а куда, ему неизвестно:
– Мое дело – ворота.
Иван Дмитриевич сел в ожидавшую его пролетку – отпускать «ваньку» не стал, потому что по будням Колтовская набережная пустынна. Только по воскресеньям и в праздники, когда горожане выезжают на Острова, здесь бурлит жизнь.
– На Большую Морскую, – скомандовал он.
В голове по привычке начал составлять список дальнейших разыскных действий: во-первых, послать агентов опросить местных жителей. Во-вторых, надо вызвать осведомителей из местных шаек – Костик мог стать жертвой их разбойного нападения. Для мелкой шпаны, что тут промышляет, честно заработанный гимназистом рубль – неплохая добыча. Конечно, убивать бы за него не стали, но Костик был юношей нервным, мог и нагрубить, и сопротивление оказать. В пылу драки его и убили, а потом попытались спрятать концы в воду.
Так, так… На Петербургской стороне орудуют четыре шайки: «гайда», «рощинские», «дворянские» и «ждановские». Пятибрюхов построил дом на территории последних. Только вот осведа среди «ждановских» у Крутилина сейчас нет. Был до недавнего времени, Колькой Киселем звали, но весь вышел – перебрал водки на Масленицу и замерз в сугробе. «Дворянские» про дела «ждановских» вряд ли знают, слишком далеко они друг от друга. Может, «рощинские» что-то сообщат?
Уже пересекая Гисляровский, Иван Дмитриевич вспомнил, что на Резной, буквально в ста саженях[38]от Крестовского моста, ныне обитает Кешка Очкарик, знаменитый некогда бирочник[39]. Одни говорят, что от дел уже отошел, другие, наоборот, утверждают, что ремеслом своим промышляет по-прежнему, только стал более осторожен и подозрителен.
– А ну, разворачивай, – скомандовал начальник сыскной извозчику.
Первый же встречный указал на деревянный с мезонином дом, в котором проживал мещанин Иннокентий Луцев. На скамеечке у входа «бил баклуши» здоровенный мужик. Едва Крутилин спустился из пролетки и пошел к воротам, тот вскочил, перегородив путь.
– Кешка дома? – спросил его Иван Дмитриевич.
– Кем будешь?
– Передай, Крутилин его видеть желает.
Мужик испуганно отшатнулся, оглядел с ног до головы, пытаясь понять, не разыгрывают ли, затем постучал в ворота. Калитка приоткрылась на щель, в которую разве лезвие ножа можно всунуть. Мужик быстро сказал отворившему пару слов, и калитка снова захлопнулась. Иван Дмитриевич отошел на пару шагов, поднял голову на окна. В одном из них раздвинули занавеску. Буквально на миг. И тут же, словно по волшебству, калитка распахнулась, из нее вышел еще один здоровяк.
– Ждут. Только оружие приказали сдать.
Крутилин усмехнулся – раз Кешка с охраной, значит, при делах. А стало быть, и за окрестностями приглядывает. Ивана Дмитриевича провели через сад в беседку с разноцветными стеклами. В ней на столе стояли запотевший графин, пара серебряных стопок и легкая закуска.
– Сколько зим, сколько лет, – поприветствовал его вошедший следом сутулый мужчина лет этак за пятьдесят. Ни очков, ни пенсне Луцев не носил, прозвище «прилипло» к нему от его изделий[40].
– Не так и много, – добродушно заметил Крутилин, разливая водку. – Если бы я лично тогда у тебя обыск делал, проживал бы ты ныне в Тобольской губернии.
– Если бы у бабушки был дедушка, не умерла бы она старой девой. Со свиданьицем, Иван Дмитриевич.
– Будь здоров, – мужчины чокнулись.
– Из-за гимназиста пожаловал?
Крутилин кивнул.
– То не фартовые.
– А кто?
– Парнишка тот ходил к Пятибрюховым, мальца ихнего латыни учил. Да, видно, плохо учил, раз вчера его Степан Порфирьевич вытолкал пинками.
– Да ну? – удивился Крутилин. – Сам Степан Порфирьевич?
– Именно.
– Сам видел?
– Мне сие не по чину. Сбитенщик Васька аккурат в сей момент мимо пятибрюховского дворца проходил. Гимназист чуть с ног его не сбил.
– И что потом было?
– Мальчонка встал, отряхнулся и как побитый пес побрел.
– По Левашевскому?
– Все верно. Только вот что дальше с ним случилось, увы, узнать не удалось. Сбитенщик Васька по набережной пошел, в слободу.
Крутилин снова разлил водку:
– Давай за упокой мальчика. Я с его отцом в гимназии учился.
– Ах, вот оно как… Теперь понятно, почему лично пожаловали.
В этот раз не чокались.
– Может, предположение имеешь, кто убийца?
– Может, и имею.
– Буду признателен, – веско произнес Крутилин.
– Тогда слушайте. На Глухой Зелениной в доме Кочневой живет отставной солдат, Пашкой звать – горький пьяница. Пенсии ему на выпивку всегда не хватает, выходит по ночам в Невку, а улов утром продает. Я у него частенько покупаю, потому что рыба у Пашки всегда калиброванная. Видать, места, шельмец, знает. Вчера сигов ему заказал, но сегодня он пришел с пустыми руками, мол, клева не было. Что ж… И такое случается. И в такие дни Пашка сильно страдает, клянчит аванс, а если везде отказывают, слоняется у трактира в надежде, что кто-нибудь да угостит. Но сегодня он гуляет с самого утра. И всех угощает. Отсюда и вопрос: где деньги раздобыл?
Лодка! Рыбак! А ведь верно! Пашка ограбил и убил гимназиста. А ночью, дождавшись удобного момента, вышел на лодке и выкинул тело в воду.
– Где он лодку держит?
– За лесопилкой дегтярные бараки, за ними – рощица, если сквозь нее пройти, выйдете к затоке. Там Пашкину лодку и найдете. Когда приподнимете, много интересного увидите…
– Благодарю, – встал из-за стола Крутилин. – Ты знаешь, в долгу не останусь.
– Очень на это рассчитываю, Иван Дмитриевич.
Пристав второго участка ротмистр Лябзин начальнику сыскной не обрадовался – после дела Муравкина[41] Крутилина недолюбливал.
– Труп ваш где выловили? Ах, на Крестовском? Туда за подчасками и ступайте.
Крутилин чертыхнулся, пообещав, что подобную наглость без последствий не спустит. И поехал обратно.
А вот уже знакомый читателю пристав четвертого участка Петербургской части капитан Феопентов, наоборот, просиял, увидев Крутилина:
– Как здорово, что вы лично занялись этим делом. Просто гора с плеч. Боялся, что свалят его на меня. А я в сыске как свинья в апельсинах.
– Вскрытие произвели?
– Да, вот протокол.
Крутилин быстро его прочел: кроме смертельной раны на темечке и синяков на лице доктор обнаружил множество прижизненных кровоизлияний на теле. С кем же Костик подрался? С отставным солдатом Пашкой или купцом Пятибрюховым? Почему Степан Порфирьевич не признался, что Костика видел, и не только видел, но и руки против него распустил?
Лодку нашли там, где указал Очкарик, лежала на берегу днищем вверх. Когда городовые ее приподняли и перевернули, Крутилин обнаружил на земле груду опилок, часть из которых была окрашена в бурый цвет. Кровь? Частный доктор Долотов, который вызвался ехать с Крутилиным, достал склянку с перекисью водорода и капнул на опилки. Сразу появилась шипящая белая пена:
– Кровь, – заключил эскулап.
Пашка был сильно пьян. Когда городовые его растолкали, полез к ним обниматься. В его кармане обнаружили четыре красненьких[42].
– Где ты их взял? – спросил его Крутилин.
– Бог послал, – сладко улыбнулся пьяница.
– Везите в сыскное, – велел Иван Дмитриевич, а сам снова направился к Пятибрюхову.
– Я же просил рассказать правду.
– Так я и хотел рассказать, но, когда про гибель Костика услышал, перепугался. Побоялся, что на меня подозрения упадут.
– Считай, что упали. И упали крепко…
– Иван Дмитриевич, да за что мне Костика убивать?
– А за что пинками прогонять?
– Так плату потребовал увеличить. Вот я и рассвирепел. Нанял-то его из жалости. А ему, наглецу, видите ли, мало.
В сыскной Пашку окатили ведром ледяной воды.
– Пить! – потребовал он.
– Ты убил гимназиста?
– Пить…
– На каторге напьешься, в Енисее воды много.
– Не убивал, вашеродие.
– А кто убивал?
– Не знаю. Пошел ночью рыбачить, как обычно, толкнул лодку, запрыгнул, а там – тело.
– В котором часу дело было?
– А я знаю? Часы рядовым не положены. А звезд летом в Питере нет, словно днем светло. Может, в полночь пошел. Может, позже. Не знаю.
– Где находился до того?
– В трактире, где ж еще? А как его закрыли, спал под его дверью. Там и проснулся.
– Как же у тебя рука на мальчишку поднялась?
– Вашеродие…
– Ваше высокоблагородие!
– Высокоблагородие. Не убивал, клянусь. Не могу я православных губить. Турок – запросто, англикашек – тоже, французиков всяких убивал. Черкесов, как свиней, резал. А вот наших не могу… Ей-богу, не могу. Невиновен я, отпустите.
– Хорошо, допустим. Ты залез в лодку, нашел тело. Почему в полицию не побежал?
– Я разве дурной? Кто ж в такое поверит? Меня же в убийстве и обвинят. Потому решил труп утопить. Вышел в Невку, а там рыбаков – как кобелей на сучке. Пришлось держаться от всех подальше, чтоб никто не увидел, что у меня за груз. И долго ждать. Часа два прошло, а может, три, пока все лодки разъехались. Чтобы тело пошло на дно, ранец к ноге пристегнул. Да, видно, тяжести в нем мало. Всплыл, подлец. Вот горе-то.
– Червонцы где взял?
– У мальца в карманах нашел. Пять штук. Зачем они ему? Пришлось забрать. Один ужо пропил.
– То бишь воровство ты признаешь, а в убийстве сознаваться не желаешь?
– И в воровстве не желаю. Воровство – когда у живого отымешь. А мертвому, что ему надо? Только крестик на шее. Крестик я оставил.
Крутилин битых три часа опрашивал Пашку, по кругу повторяя вопросы. Но отставной солдат твердил одно и то же.
В девять вечера в камеру постучали:
– Иван Дмитриевич, агенты заждались, – сообщил Фрелих.
– Пусть Яблочков рапорты примет.
– Нет его.
– Как нет?
– Как ушел утром, так и не возвращался.
– Где его носит? – Крутилин выскочил из камеры. Проходя через приемную, заметил заплаканную посетительницу, с виду кухарку.
Та вскочила:
– Ваше…
– Завтра приходи, некогда.
– Пристав послал…
– Завтра, – рявкнул Крутилин.
– Степанида я, кухарка Гневышевых.
Крутилин обернулся:
– Неужто Капа вернулась?
Та покачала головой:
– Анна Сергеевна свое лекарство разом выпила. Тихо так померла. Я даже не слышала. Записку вам оставила. Пристав велел отдать.
Дрожащими руками Иван Дмитриевич взял записку:
«Простите меня, люди добрые, за все зло, что совершила, за обиды, что причинила. Ухожу, потому что Господь всю семью мою к себе призвал. Значит, и мне пора. Надеюсь, что господин Крутилин найдет убийц Капочки и Костика.
Анна Гневышева».
– Почему она решила, что Капа мертва?
– Сердце материнское подсказало.
2 июня 1871 года, среда
За завтраком Крутилин обычно просматривал газеты. Но сегодня почтальон припозднился, пришлось знакомиться с ними в пролетке. Открыв страницу с происшествиями и прочитав первый заголовок, начальник сыскной так выругался, что извозчик крикнул «тпру» и испуганно обернулся.
– Откуда узнали? – спросил его Крутилин.
– Чаво?
– Про Гневышевых.
Извозчик пожал плечами:
– Про каких Гневышевых?
Крутилин махнул рукой:











