Читать онлайн Зоопарк на краю света
- Автор: Ма Боюн
- Жанр: Зарубежные приключения, Исторические приключения, Книги о путешествиях, Современная зарубежная литература
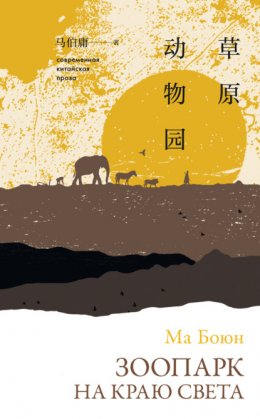
Ma Boyong
The Zoo At The End Of The World
Published in agreement with CITIC Press Corporation in association with The Grayhawk Agency Ltd, through The Van Lear Agency.
Copyright © 2017 by Ma Boyong
© Ольга Кремлина, перевод на русский язык, 2023
© ООО «Издательство «Лайвбук», 2023
Предисловие
Как ни крути, человеческая память наполовину правдива, наполовину обманчива, и подлиннейшие, точнейшие ее детали сосуществуют с вымыслом, порожденным фантазией, – тем, чего на самом деле никогда не было. Вымысел пробивается из почвы правды, тянет, как тополь, свои ветви и вновь врастает в землю. Правда и вымысел сплетаются, сплавляются, просачиваются в каждую клеточку друг друга. И вот наконец они сливаются воедино, да так, что даже самому рассказчику подчас не разобрать, где кончается правда и начинается выдумка.
Чифэн[1] – моя родина, здесь я вырос. Родина для меня – сказка, полная ностальгии и чудес. Я помню, как спускались на степь белые облака, превращаясь в овец, помню силуэты одинокого волка и антилопы, бредущих сквозь пыльную бурю. Среди бетонных высоток нет-нет да и спрячутся голубоватые обо[2]: стоит подойти к такому поближе – и он вдруг разверзнется, и изнутри вылетит ширококрылый орел, взмоет в небо.
Моя память вся из этих образов. Я и сам не знаю, какие из них видел собственными глазами, какие сочинил в детстве, а какие – грезы, принесенные ветрами былых времен.
Мне нравится это чувство, нравится сновать между правдой и иллюзией, соединять две реки, столь же непохожие, как Цзинхэ и Вэйхэ[3], в один общий поток.
История, которую я вам поведаю, той же природы. Быть может, это честный рассказ о событиях, всеми забытых, а может, химера из сновидений, что снятся чифэнцам из поколения в поколение. Я не творец, я лишь добросовестный летописец. А если кто-то спросит, верна ли моя история и откуда она взялась, я скажу, что она, как и я сам, родилась здесь, в Чифэне, здесь и выросла и мало-помалу стала одним целым с реальным миром.
И стало так.
Глава 1
Гуйхуа
Эта история берет начало не в Чифэне, а в Гуйхуа[4], городе в Суйюани.
В эпоху поздней Цин, во времена правления Гуансюя[5] в Гуйхуа прибыл из далекого Лондона миссионер. Звали его Джек Джордж, но в Китае он представлялся Хуа Госяном; будучи посланником «Внутрикитайской миссии»[6], он надеялся добиться успеха в этом оживленном уголке китайской Монголии[7], принести слово Божие на монгольскую землю.
Хуа Госян приехал вместе с женой. Они сняли дом у торговой компании «Юннин» в переулке Шуйцюй и превратили его в первую протестантскую церковь – «Обитель Иисуса». Сперва Хуа Госян действовал по старинке: читал проповеди, раздавал Библии. Увы, местное население оставалось к его стараниям равнодушно, и как он ни бился, тех, кто ходил в церковь и внимал его проповедям, было раз-два и обчелся, что уж говорить о желающих принять веру.
Жена Хуа отлично разбиралась в западной медицине. Пока муж проповедовал, она открыла в переулке Саньсинчэн, что рядом с улицей Шуньчэн, больницу, где лечила страждущих западными методами, отчего снискала большой почет. Выздоравливая, пациенты исполнялись к ней благодарности, и она, пользуясь случаем, убеждала их перейти в христианство. За несколько лет она привлекла больше последователей, чем сам Хуа Госян.
В Гуйхуа был храм бога богатства, построенный на второй год правления Юнчжэна[8]. Прямо перед храмом возвышались широкие двухъярусные театральные подмостки, так называемая Музыкальная башня. Каждый год в день поклонения божеству музыканты и актеры устраивали в Башне представления, развлекали публику, и народу набегало столько, что яблоку некуда было упасть, даже в Новый год не встретишь такого веселья – это было самое оживленное место во всем Гуйхуа. Как-то раз Хуа Госяну случилось проходить мимо. При виде толпы он невольно поднял глаза к небу и тяжело вздохнул:
– Я бы жизнь отдал за то, чтобы у моей церкви было столько прихожан!
Жена, услышав эти слова, попыталась его утешить, но ненароком задела Хуа Госяна за живое, и он не на шутку с ней поругался. Прежде между супругами царило взаимоуважение, но из-за пустячной размолвки они отдалились друг от друга. От переживаний жена разболелась, да так, что слегла. Хуа Госян страшно раскаивался. Он написал миссионерскому обществу письмо с просьбой отправить им несколько открыток с пейзажами Англии, надеясь, что они развеют женину тоску.
В британском управлении «Внутрикитайской миссии» у Хуа Госяна остался старый приятель. Он-то и рассказал ему в ответном письме занятную новость: в Европе изобрели недавно одну штуку – внешне она похожа на фотоаппарат, но если посветить и покрутить ручку, можно показывать движущиеся картинки. Называется этот прибор «синематограф». Приятель посоветовал Хуа Госяну раздобыть такой для жены и показать ей родные края, глядишь, она и отвлечется.
Обрадовавшись, Хуа Госян попросил разузнать, где можно найти синематограф. Наконец прибор был куплен и, пройдя через множество рук, доставлен в Гуйхуа. Жена с ним и вправду пошла на поправку. Выздоровев, она сказала Хуа Госяну: картинки у этой машины прямо как живые, чудеса, да и только, но стоило ли ради нее одной так тратиться, не лучше ли продать синематограф, чтобы покрыть расходы миссии?
Хуа Госяну жалко было расставаться с покупкой. Он подумал: раз вся эта история началась у храма бога богатства, пусть там она и закончится. Ему вдруг пришла в голову великолепная идея.
Через десять дней жители Гуйхуа стали замечать расклеенные по всему городу афиши: в такой-то день такого-то месяца в Музыкальной башне перед храмом бога богатства их ждет удивительное зрелище, представление состоится вечером, совершенно бесплатно и проч., и проч. Все решили, что это реклама новой театральной труппы. Повеселиться в Гуйхуа любили, поэтому в назначенный день у храма было не протолкнуться. В Музыкальной башне, однако, было тихо; на сцене стоял какой-то носатый иностранец с чудным ящиком. Стена у него за спиной была закрашена белой краской.
Иностранец этот был не кто иной, как Хуа Госян. Видя, что народу собралось достаточно, он запустил синематограф, и на белоснежной стене вдруг ожили кадры «Прибытия поезда», «Выхода рабочих с фабрики»[9] и фильмов с английскими пейзажами. Увидев, как на стене появляются из ниоткуда живые люди, живые лошади, зрители перепугались и чуть не разбежались. Но вскоре они поняли, что это всего лишь иллюзия, успокоились и смотрели как зачарованные.
Публика не расходилась до самой полуночи, снова и снова любуясь новинкой – электрическим театром, и только когда явились власти и всех разогнали, представление закончилось. Зажегся свет, миражи исчезли, и зрители неохотно разбрелись по домам. Так древнюю степь впервые озарил свет кино, и для многих очевидцев это стало самым невероятным событием в жизни, таким, о котором вспоминают даже спустя много-много лет.
Авторитет Хуа Госяна вырос всего за одну ночь. С тех пор каждый месяц, первого и пятнадцатого числа, он устраивал в Музыкальной башне киносеансы. Еще он показывал фильмы в «Обители Иисуса», обычно во время богослужений, и каждый раз церковь была битком набита, даже местный князь с ламой приезжали поглядеть. Кино прозвали «театром теней». Попутно Хуа Госян читал проповеди, и они имели большой успех. В «Суйюаньских хрониках» говорится: «…демонстрировал кинопроекции в Музыкальной башне у храма бога богатства, по вечерам, бесплатно, и как только собиралась толпа, рассказывал заодно о христианской религии, убеждал людей уверовать в Христа». Эффект, по всей видимости, был превосходный. Благодаря этой уловке Хуа Госян прославился на весь суйюаньский край, миссионерство стремительно набирало обороты.
История Хуа Госяна была записана журналистом и опубликована в «Китайском вестнике». Слух о чудесном «электрическом театре в степи» пересек океан, дошел до Запада, стал популярен в миссионерских кругах и вызвал большой ажиотаж. Увы, для большинства слушателей этот рассказ оставался лишь диковинной байкой из далеких земель. Со временем о нем позабыли, и он – как и древняя степь и люди, ее населявшие, – затерялся, безызвестный, на страницах ветхих книг.
Годы спустя, словно по велению судьбы, один американский священник-конгрегационалист пришел в публичную библиотеку Мемфиса, перелистал страницы пыльного «Китайского вестника» и совершенно случайно прочел о тех давних событиях. И вдруг его озарило; он поднял голову к небу, и на его лице мелькнула загадочная улыбка…
Глава 2
Сад десяти тысяч зверей
Священник этот, по имени Морган Кэрроуэй, родился и вырос в Берлингтоне. Отец его был зубным врачом, а мать – известной в городе филантропкой. Оба были набожными христианами, и их сын еще в детстве твердо решил стать миссионером.
Судя по единственной сохранившейся фотографии, преподобный Кэрроуэй был невысок ростом, зато обладал весьма широкими плечами, между которыми покоилась маленькая, круглая, потешно напоминающая желудь голова. На «желуде» красовались грустные, опущенные книзу, как штрихи иероглифа
Друзья, отдавая должное набожности и доброте преподобного Кэрроуэя, подмечали в нем единственный недостаток: его считали чудаком и фантазером.
К примеру, он любил перед проповедью сыграть на церковном органе регтайм – афроамериканские мелодии, только-только покорившие Новый Орлеан, а еще мог вложить в Библии карикатурные открытки Томаса Наста и раздать прихожанам. Он даже выучился плясать джигу и чечетку. Словом, преподобный Кэрроуэй охотно знакомил церковь с веяниями светской моды. Многие говорили, что он чересчур эксцентричен, но преподобный Кэрроуэй упрямо пропускал критику мимо ушей и поступал по-своему.
– Я должен прислушиваться к своему сердцу, – настаивал он. – Никто не знает его так, как Бог, и никто не знает меня так, как оно.
На третий день своего сорокапятилетия преподобный Кэрроуэй получил от миссионерского общества письмо на бело-голубом бланке. Американское миссионерское общество конгрегационалистов заведовало делами внешней миссии и каждый год отправляло многочисленные группы проповедников в Восточную и Южную Азию, на Ближний Восток и в Африку – осваивать новые Божьи земли. На сей раз в списке священников, рекомендованных к миссионерской службе в Китае, торжественно значилось имя преподобного Кэрроуэя. Поручитель описал его как человека твердой веры, стойкого, смекалистого, идеального кандидата для миссии на Востоке.
Миссионерство в Китае было в то время делом отнюдь не простым. Ходили слухи, что там ужасная антисанитария, дурной климат, враждебное население и высокий процент смертности среди проповедников. Без твердой веры нелегко было отважиться ступить на эту «тернистую землю».
В детстве преподобный Кэрроуэй прочел в берлингтонской библиотеке «Путешествия Марко Поло». В памяти остались книжные описания монгольской степи – священной, таинственной и недосягаемой, как вечернее сияние, разлитое по краешку закатного солнца. Письмо вдруг пробудило в нем ребячью сторону его натуры, и внутренний ребенок запрыгал, закричал, протянул ручонку, пытаясь ухватить разноцветные облака на горизонте.
Уняв сердцебиение, преподобный Кэрроуэй взялся за перьевую ручку: он решил принять назначение. Загадочный Восток всегда вызывал в нем жгучее, наивное любопытство. Он и сам толком не знал, что влекло его в Китай – желание нести Благую весть или стремление удовлетворить это любопытство – быть может, и то и другое.
Он и не подозревал: самая что ни на есть настоящая степь приведет его сперва в ад, а затем в рай.
Вскоре пришло официальное извещение от миссионерского общества, и дело было решено.
Чтобы как следует подготовиться к предстоящему путешествию, преподобный Кэрроуэй снова нанес визит в библиотеку, где хранилась полная коллекция номеров «Китайского вестника» с самыми разнообразными заметками и историями об этой древней империи. Тогда-то он и прочел про Хуа Госяна, чья восхитительная выдумка потрясла его воображение.
Преподобный Кэрроуэй задумал пойти по стопам «мудреца ушедших лет» и на собственные средства купил эдисоновский аппарат последней модели и несколько кинопленок, решив увезти их с собой в Китай. Ему верилось, что они окажут миссии бесценную помощь и чудо, которое случилось с Хуа Госяном в Гуйхуа, свершится вновь.
Тем же летом преподобный Кэрроуэй, взяв с собой киноаппарат, вместе с девятью другими миссионерами пересек на пароходе Тихий океан. В пути он изучал книги и миссионерские журналы о Китае, письма проповедников, но обнаружил, что их описания восточной державы сумбурны и противоречивы, совершенно друг с другом не сходятся, как будто в одну коробку насыпали кусочки из разных пазлов и они никак не складываются в цельную картинку.
Каждый раз, когда преподобный Кэрроуэй убеждался в этом, он откладывал книгу, становился на носу парохода и всматривался в даль. Муссон перекатывал неторопливые величавые волны в белесой пене, темно-зеленое море походило на огромный прозрачный аквариум с жидкими изумрудами, и край его терялся в той точке, где взгляд касался изогнутой линии горизонта, – море до того широченное, что мощь его неописуема.
Прямо как степь?
Мысли преподобного Кэрроуэя вдруг приняли причудливый оборот. Безбрежный сине-зеленый океан перед глазами мало-помалу наложился на воображаемые картины степных просторов. Эта фантазия показалась ему куда реальнее и правдоподобнее всех книжных описаний.
Благородные пастыри прибыли в Шанхай, затем, после короткой передышки, направились в Пекин, где остановились в Конгрегационной церкви Северного Китая на Дэншикоу, в хутуне[10] Юфан. Во время Ихэтуаньского восстания[11] церковь сожгли и лишь недавно отстроили заново, и теперь четырехэтажный готический храм из кирпича и дерева – украшенный с четырех сторон великолепными витражами, со шпилем, увенчанным крестом, – возвышался среди приземистых сыхэюаней[12], как великан среди пигмеев. За выступающие по бокам серые мраморные пьедесталы, которые так полюбились местным жителям, церковь прозвали «восьмигранными яслями».
В церкви на Дэншикоу священники провели полгода: сражались с мандаринским наречием, разбирались в тонкостях сложных китайских церемоний и обычаев, пытались постичь эту древнюю империю. У преподобного Кэрроуэя обнаружился завидный талант к изучению языка, так что вскоре он уже мог худо-бедно общаться с пекинцами. А вот к чему он, увы, не смог приноровиться, так это к палочкам для еды. Этот столовый прибор, который местные называли «куайцзы», оставался для него столь же удивительным и мудреным, как китайская философия, управляться с ним было труднее, чем укрощать норовистого коня.
С киноаппаратом тоже вышла неувязка. Пекин оказался куда восприимчивее к новым веяниям, чем представлялось преподобному Кэрроуэю. По слухам, несколько лет назад, когда загадочная вдовствующая императрица Китая[13] праздновала семидесятилетний юбилей, англичане подарили ей кинопроектор. Правда, во время киносеанса из-за слишком быстрого вращения мотора пленка загорелась и случился пожар. Вдовствующая императрица сочла это дурным знамением и строжайше запретила приносить кинопроектор во дворец.
Но о чуде кино к тому времени знала уже вся столица. Вскоре в «Театре теней Дагуаньлоу» на улице Дашилань за воротами Цяньмэнь, в «Чайном саду Вэньминь» на Сиданьском рынке, в театре «Цзисян» на Дунъаньском базаре, в театре «Хэшэн» на Синьфэнском рынке в районе Сичэн начали проходить один за другим показы «западных картинок». Кино стало для пекинцев делом привычным.
Преподобный Кэрроуэй слегка приуныл: он-то думал, что столичные жители будут дивиться на новинку из далеких краев, точно на чудо света, а оказалось, что к ней уже успели остыть. Быть может, утешал себя преподобный, в глухой провинции киноаппарат по-прежнему редкость, уж там-то он придется людям по душе.
К слову, о вдовствующей императрице преподобный Кэрроуэй слышал немало: о ее бесчинствах, сумасбродстве и безумной идее объявить войну чуть ли не всему миру. Впрочем, она уже скончалась и лежала глубоко под землей, в усыпальнице, похороненная вместе с легендами и несметными сокровищами, оставившая после себя лишь опустошенный, мрачный город-призрак.
Как-то раз на рассвете преподобный Кэрроуэй проезжал на рикше мимо ворот Тяньаньмэнь. Он с любопытством вглядывался в очертания величественного, древнего Запретного города вдали. В этот час Запретный город кутался в голубоватую дымку, пряча силуэты своих дворцов, необычайно тихий, как дряхлый старик, уснувший в плетеном кресле. Он тоже был при смерти, а может, уже умер – точно как вдовствующая императрица.
Преподобный вовсе не подозревал, что с покойной императрицей будет связана, пусть и весьма отдаленно, его собственная судьба.
В те годы положение конгрегационалистов в Китае оставляло желать лучшего, прихожан не становилось больше, к тому же почти все они жили в провинциях Гуандун, Фуцзянь и кое-где на севере. Церковь надеялась, что новоприбывшие миссионеры отправятся в самую глубь страны, «освоят» новые земли.
Спустя полгода обучения сгоравшие от нетерпения наставники посчитали, что их подопечные уже овладели теорией и готовы приступить к практике.
Одним лунным вечером тринадцать священников, в числе которых был преподобный Кэрроуэй, собрали в церковной комнате отдыха. На стене висела карта Китая. Красные кнопки на карте отмечали места, где уже служили миссионеры; там, где кнопок не было, конгрегационалисты еще не проповедовали. Несколько красных точек было разбросано вдоль побережья, в остальном же карта зияла белой пустотой.
Миссионерам разрешили выбирать любые земли из тех, что не отмечены кнопками. Священники растерянно переглянулись. Ни об одном из этих краев у них не было ни малейшего представления.
Преподобный Кэрроуэй спокойно окинул взглядом карту. Провинции, горные хребты, реки и дороги были прочерчены на ней подробнейшим образом – в отличие от прямых границ на карте Америки, эти линии были затейливы, точно китайские иероглифы. Да и сам Китай казался на бумаге иероглифом из множества витых черт, замысловатым и изящным, словно загадочная и глубокая китайская поэзия.
Преподобный Кэрроуэй решил прислушаться к своему сердцу. Он закрыл глаза и молча помолился. Когда он снова посмотрел на карту, в глаза ему бросилось одно слово.
Одно слово из двух иероглифов: Чифэн.
Будучи прилежным учеником, он знал значение этих иероглифов: «красная вершина». Он тут же вообразил удивительную картину: пылающий алым горный пик тянулся ввысь, пронзал тучи и упирался в небосвод. Преподобный повторил слово про себя, смакуя оба слога – их звучание на китайском походило на далекий зов ангельских труб, и его вдруг охватил легкий трепет, и сердце разгорелось.
Почему же так откликнулось в нем незнакомое название? Пока разум искал ответ, чувства уже взяли верх: под влиянием порыва он поднял правую руку, перекрестился, коснулся пальцами губ и указал на Чифэн.
Судя по скупым церковным записям, Чифэн был «округом прямого подчинения» в Северной Чжили, рядом с владениями монгольских князей. Располагался он к северо-востоку от Пекина, там, где сходятся степи Чжили, Маньчжурии и Монголии, в двухстах пятидесяти с лишним милях от столицы; населяло его около ста тысяч человек. Земли Чифэна тянулись на семьдесят миль в ширину и сто пятьдесят в длину, вдоль просторной степи и пустыни.
Как это напоминало Гуйхуа, город Хуа Госяна! Преподобный Кэрроуэй пришел в полный восторг. Он верил, что его направляет само Небо.
Епископ предупредил его, что почва там неплодородная, климат скверный; то был суровый край за Великой стеной, где – почти наверняка – жили монгольские араты[14] – буддисты, которых не так-то легко обратить в христианскую веру.
– Где, как не в суровом краю, воссиять Божьей славе? – возразил преподобный Кэрроуэй. – И разве вера Моисея пошатнулась, когда он стоял перед Красным морем?
После таких слов епископ махнул на уговоры рукой, собрал священнослужителей, и все вместе они пожелали своему смелому и решительному брату удачи.
Преподобный Кэрроуэй с радостью погрузился в сборы. Ему удалось наскрести по крупицам кое-какие сведения о Чифэне – преподобному не терпелось разузнать, каков он – город, куда ему предстояло отправиться.
В отличие от многих других китайских городов, способных похвастать тысячелетней историей, Чифэн был основан не так давно. Чтобы сохранить свою власть в монгольских степях, цинский император разделил степные кочевья на несколько чуулганов и хошунов[15] и отдал их под управление местной знати. Монгольских аристократов избавили от налогов, возложив на них лишь две обязанности: церемониальную и воинскую. Каждый хошун – с его горами, реками, пастбищами и людьми – целиком принадлежал своему монгольскому господину.
Ближайшими к столице чуулганами были Джо́соту (что означало «почтовая станция») и Джу-Уд («сто ив»). От них шли дороги к Чжили, кроме того, они соединяли Монголию с северо-восточными провинциями; между городами тянулись караванные пути, торговля процветала. Монголы в Джосоту и Джу-Уде жили бок о бок с китайцами. Между двумя чуулганами – на берегу реки Инцзиньхэ, у подножия горы Хуншань – пролегала богатая природными ресурсами равнина Улан-Хад. Она так удачно располагалась, что лучшего места для привала и придумать было нельзя. Поэтому торговцы, следуя на север или юг, неизменно останавливались там, чтобы отдохнуть. Мало-помалу на равнине выросли китайские поселки, которые позже превратились в настоящий торговый городок – среди его жителей больше всего было китайцев, хотя монгольские купцы тоже частенько туда наведывались. Со временем город стал важнейшим торговым узлом Восточной Монголии.
Этот город, Улан-Хад, пересекал границы обоих чуулганов, к тому же туда стекался «свободный народ», те, кто не подчинялся дзасаку (так в Цинской империи называли правителей хошунов), что порождало немало проблем с наведением порядка, налогами, правосудием и обороной. Кончилось все тем, что император отделил Улан-Хад от чуулганов и учредил в нем бюро патрулирования. Город не раз менял имя и лишь пару лет назад, превратившись в округ под прямым подчинением Чэндэской управы, стал называться Чифэном.
Преподобному Кэрроуэю Чифэн представлялся необыкновенным местом. С самого основания в нем крылось что-то таинственное и противоречивое. Его возвели в степи, и все же он был частью Китая; вокруг него раскинулись владения степных дзасаков, но им самим, как и уездными городами равнины, напрямую управлял император; львиную долю его территории занимали истинно монгольские привольные пастбища, а на городских улицах выстроились ряды разномастных китайских лавок; по лугам брели пастухи, подгоняя быков и овец, по торговому пути днем и ночью колесили купцы, и краем уха слышно было, как ламы поют свои мантры. Чифэн вскормили непохожие культуры, и он остался где-то посередине, на границе этих культур, не склоняясь вполне ни к одной из них, – поэтому у него было два лица. И никак было не различить, какое лицо появилось раньше, с разных сторон каждому виделось свое.
В ту ночь, после чтения о Чифэне, преподобный Кэрроуэй увидел сон. Ему снилось, что он ступает по вершине красной горы, а над ним, на возвышении, стоит женщина. Стоит прямо-прямо, на самом пике, похожая на город у подошвы горы: она, как и город, двулика, одно лицо – жесткое, смелое, лицо той, что многое повидала и испытала; второе – с тонкими, изящными чертами, слегка печальное. Лица безостановочно мелькают, и преподобному все не удается уловить тот миг, когда одно лицо сменяет другое; он упорно карабкается к женщине, но не может дотянуться даже до краешка ее красной юбки.
Вдруг таинственный лунный свет нисходит с небосвода и обволакивает преподобного. Цвета стремительно блекнут, все вокруг становится ослепительно-белым. Женщина медленно идет к преподобному, шаги ее легки, невесомы, красные одежды посреди белоснежного света приковывают к себе взгляд. Преподобный протягивает руку, хочет к ней прикоснуться, а она рядом, близко-близко, и в то же время – где-то совсем в другой эпохе, ином пространстве.
Женщина начинает кружиться в причудливом, невиданном танце, и ее лица снова и снова сменяют друг друга, следуя за ритмом. Неожиданно преподобный Кэрроуэй слышит низкий мужской голос – незнакомец то ли читает сутру, то ли поет. Мало-помалу лунный свет заливает весь мир… Незаметно сон кончился, и преподобный, как ни старался, уже не мог припомнить до мельчайших подробностей все, что в нем видел, он даже не был уверен, правда ли ему приснились женщина с мужчиной.
Следующий месяц прошел в подготовке к путешествию. Преподобному Кэрроуэю предстояла немалая работа: упаковать множество книг, приборов, лекарств, пригодных в хозяйстве инструментов, найти, на чем он будет все это перевозить, раздобыть револьвер «Смит-Вессон» 586-й модели на случай опасности. Других конгрегационалистов в Монголии не было, преподобный мог рассчитывать лишь на себя самого.
К счастью, человек он был зажиточный, притом щедрый, денег на сборы не жалел.
Но тут случилось то, что простой смертный не в силах предвидеть, а деньги не способны исправить.
Каждые выходные в церкви на Дэншикоу служили вечернюю литургию. В тот день один прихожанин, по фамилии Би, привел на литургию сына. Старина Би, длинноногий малый с заскорузлыми руками, разгуливал в ветхой желтой шляпе из фетра; выпученные глаза под короткими широкими бровками создавали впечатление, что их обладатель неизменно чему-то удивлен. Его сыну, Сяоманю, было всего десять лет.
Большая голова Сяоманя болталась на тонкой шейке – казалось, шея вот-вот переломится. Его красивые раскосые глаза смотрели тускло, безжизненно, оставаясь равнодушными ко всему, что бы ни происходило вокруг.
К своим десяти годам ребенок так и не начал говорить. Старина Би обошел все окрестные храмы, а когда это не помогло, обратился к Христу, надеясь, что этот бог окажется чудотворнее бодхисаттв[16] и даосских святых и быстрее излечит сына. И хотя церковь не слишком-то одобряла его мотивы, с прихожанами как-никак было туго, так что отца с сыном приняли в общину.
Литургия началась, и взгляды паствы устремились вперед. Пользуясь тем, что взрослые отвлеклись, ребенок стащил со стола для причастия горящую свечу, улизнул через боковую дверь и выбежал на задний двор.
По вечернему небу плыли тонкие облака – ветер рвал их в длинные клочья, похожие на пеньковые тросы, и эти тросы обвивали шею лунного серпа, подвешивая его к небесному куполу. Неровный лунный свет погрузил задний двор в бледный сумрак, надгробия и углы домов растворились в темноте, словно отделившись от остального мира. Ребенок сел на ступеньку, пристроил на ладони свечу, не сводя глаз с дрожащего огонька – во всем дворе только на нем и можно было сфокусировать взгляд.
Вдруг в траве между надгробиями мелькнула серая мышка. Увидав чужака, она тут же бросилась наутек. У Сяоманя загорелись глаза, он вскочил и, подняв свечу, поспешил вдогонку. Мышь юркнула в сарай за дворовой оградой – в этом сарае под окном прогнили доски и образовалась дыра, которую не успели залатать.
Ребенок пролез через дыру. Внутри громоздилась хозяйственная утварь общины, хранились продукты и кое-какое оборудование для печати. Между ящиками высились стопки соломенных подстилок, превращая сарай в подобие лабиринта.
Зверек уже успел скрыться. Сяомань поднял свечу повыше и запищал точь-в-точь как мышка. Его губы двигались так уверенно, будто он и вправду знал мышиный язык. Мышь прислушалась к этому новому звуку, помедлила секунду и наконец показалась в проходе.
Не переставая пищать, Сяомань попытался ухватить зверька за серую шерстку. При этом он случайно разжал вторую ладонь, и свеча упала на пол.
Рисовая солома мгновенно вспыхнула – фш-ш-ш! – и Сяоманя вдруг опоясал огненный круг. С соломенных подстилок пламя перекинулось на пачки недавно купленного картона, набросилось на коробки с ситцем, мотки джутовой пряжи и тюки с одеждой. Весь этот скарб оказался прекрасным топливом, огонь разгорался все жарче. Сарай тотчас потонул в густом черном дыму.
Увы, свой киноаппарат преподобный Кэрроуэй тоже припрятал в сарае. Он держал его в большом, прочном деревянном ящике, а сам ящик окружали горки березовых дощечек размером с ладонь – из них собирались мастерить нательные крестики. Сперва занялась древесина на кресты, вокруг ящика взвилось пламя, взревело, заплясало. Из каждого уголка поползли внутрь ящика огненные язычки, с треском запылала пленка, кадры с чудесными картинками один за другим погибали в пожаре. Следом горячие языки принялись облизывать деревянный корпус, ручку и объектив аппарата, и те съежились, скорчились…
К тому времени, как на пожар сбежались люди, от сарая уже ничего не осталось. Среди развалин преподобный Кэрроуэй с грустью разглядел то, что когда-то было киноаппаратом, – огонь привел его в полную негодность, превратил в странную, обугленную резную деревяшку; починить его было невозможно, оставалось лишь выбросить.
Сяоманю удалось спастись. Разъяренный отец схватил его за шею, выволок на середину двора и свирепо выпорол кнутом. Ребенок не сопротивлялся, тощее тельце невольно вздрагивало под свистящими ударами, рот открывался и закрывался, но не раздавалось ни звука. Желтоватую кожу полосовали жуткие шрамы, и все это под отборную отцовскую брань, в которой священники не разбирали ни слова.
Преподобный Кэрроуэй не вынес такого зрелища, подошел, остановил руку старины Би, сочувственно погладил Сяоманя по голове: что ж, мол, на то, видно, Божья воля, ни к чему наказывать этого заблудшего ягненка.
Старина Би бухнулся на колени и разрыдался. Он был бедным кучером, денег на возмещение убытка у него не водилось, так что он совсем растерялся. Сын, вцепившись в краешек отцовой одежды, глядел равнодушно, без страха, без злобы, точно происходящее не имело к нему ни малейшего отношения.
Преподобному Кэрроуэю ничего не оставалось, кроме как объявить, что сам он на компенсацию не претендует. Пусть старина Би решает с общиной, как ему расплатиться за все остальное – преподобному и без того хватало хлопот.
«План Хуа Госяна» с треском провалился. Несколько дней преподобный Кэрроуэй обивал пороги увеселительных заведений столицы, надеясь купить кинопроектор, но так и не сыскал желающих его продать. Фирмы, в которые он обращался, заявляли: если заказать новый аппарат из Америки, в Китай его доставят не раньше, чем через полгода. Так долго преподобный Кэрроуэй ждать не мог.
В церкви удивлялись. «Да будьте вы уже как все, – твердили ему. – И без кино обойдетесь».
Преподобный Кэрроуэй лишь упрямо мотал головой, его переполняла странная уверенность: степной поход – часть великого Божьего промысла. Без кинопроектора ничего не выйдет.
Он подписался на множество газет и каждый день изучал объявления – вдруг кто-то решит сбыть подержанный аппарат. Семь дней спустя, когда преподобный Кэрроуэй открыл рано утром газету «Цзинхуа жибао», его внимание привлекла одна заметка.
Речь в ней шла про «Сад десяти тысяч зверей». «Сад», единственный в столице (да и во всем Китае) зоопарк, закрывался и распродавал животных, приглашая к себе всех заинтересованных, «чтобы обсудить условия покупки».
Преподобный Кэрроуэй слышал о «Саде». Его начали строить в западном пригороде Пекина на тридцать третий год правления Гуансюя. Когда-то на этом месте была экспериментальная ферма, а потом лянцзянский наместник Дуаньфан привез туда из Германии несколько зверей и птиц, после чего китайские губернаторы и иностранные дипломаты тоже поспешили принести новому зоопарку свои дары. Вскоре в «Саду» поселились диковинные существа со всех континентов: львы, тигры и бурые медведи, попугаи, лебеди, черепахи и тигровые лошади (зебры)[17] – словом, кого там только не водилось. В зоопарке часто и с удовольствием бывали вдовствующая императрица с императором.
В те дни, когда «Сад десяти тысяч зверей» не принимал у себя императорских особ, его двери были открыты для всех желающих – обычный билет стоил восемь медяков, детей и слуг пропускали за четыре. Удивительные, невиданные прежде обитатели «Сада» пользовались у пекинцев большой популярностью, что ни праздник, то в зоопарке толпился народ – можно сказать, «Сад» стал одной из главных городских достопримечательностей. Художники рисовали открытки с животными и продавали их у ворот, картинки были нарасхват.
Как ни прискорбно, к тому времени, как преподобный Кэрроуэй оказался в столице, «Сад десяти тысяч зверей» уже пришел в упадок. Вдовствующая императрица скончалась, новому императору с регентом зоопарк наскучил, средств на него выделялось все меньше и меньше, да и те нередко оседали по карманам, так что «Сад» вовсе перестал сводить концы с концами. Дела шли худо, животные, голодные и неухоженные, подыхали один за другим. Все реже заглядывали в «Сад» посетители.
Зоопарк держался на трех немцах, которые уже несколько месяцев сидели без зарплаты. Отчаявшись, они решили без спросу распродать зверей, тех, в ком каким-то чудом еще теплилась жизнь, – вдруг удастся скопить на билеты и уплыть в Европу.
Преподобный Кэрроуэй пробежал глазами заметку и замер: его сердце пронизал луч света, и все стало предельно ясно.
Для чего он вез с собой кинопроектор? Чтобы воссоздать чудо Хуа Госяна, чтобы любопытство привело жителей монгольской степи на его проповеди. Важен не сам проектор, важна цель – заинтересовать степной народ. В этом ему могло помочь не только кино…
«Да будет свет» – и свет зажегся в душе преподобного.
А следом мелькнула безумная мысль: что если купить экзотических зверей «Сада» и основать в Чифэне похожий зоопарк, чем не способ привлечь всеобщее внимание? Ведь местные, конечно, никогда не слыхали львиный рык, не разбегались в страхе от гигантского питона, знать не знают о таких чудных созданиях, как тигровые лошади. Вот бы взять и привезти им диких животных, показать как есть, скачущих, ревущих, да разве это не затмит любой кинопроектор?
Открыть в степном раздолье зоопарк! Нелепая, но такая заманчивая идея!
С тех пор как преподобный Кэрроуэй решил ехать в Чифэн, он все пытался понять, почему выбрал именно это место. Он не сомневался, что на то была Божья воля, но в чем же заключалось его предназначение? Он напоминал солдата, который со дня на день уйдет в поход, пожитки и снаряжение собраны, а генерал так и не отдал приказ, и до сих пор непонятно, с кем предстоит сражаться.
Преподобный Кэрроуэй верил, что Бог каким-то образом откроет ему Свой замысел. И наконец это свершилось.
Едва заметно задрожали руки, зашуршала газета. Преподобный Кэрроуэй попытался убедить себя, что все это вздор, но не нашел ни одной причины отказаться от своей затеи. Доводы разума нахлынули, точно прибой, и отступили сердитой волной. Новая идея, словно упрямое зернышко, засела глубоко в сердце, так просто не выкорчуешь. Всю ночь напролет звери не покидали мысли преподобного: неслись стремглав по воображаемой степи, до самого края горизонта и обратно, таранили его черепушку копытами, рогами и бивнями, так что у него голова раскалывалась от боли.
Промучившись ночь без сна, преподобный Кэрроуэй пришел наутро к воротам «Сада десяти тысяч зверей» с налитыми кровью глазами. Он решился.
Главный вход в «Сад» представлял собой изящную бордовую арку в традиционном китайском стиле. Железную ограду под ней обвивали кованые цветы, сверху, посередине, были высечены в камне слова «ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ФЕРМА», по бокам растянулись четырехлапые драконы-горельефы. Справа и слева от арки стояли деревянные будки. В левой имелись окошки, красные и белые, в одних продавали мужские билеты, в других женские, правая же служила для хранения вещей, посетители оставляли в ней громоздкий багаж.
Еще совсем недавно здесь царило оживление, сюда стекались бессчетные толпы любопытных. Жаль, теперь это место совсем забросили, заперли окошки и двери, оставили на стенах обрывки старых объявлений, белые клочки вперемешку с голубыми – аж в глазах рябило. Щебневую дорожку перед входом никто не подметал, ее усеивала палая листва, тут и там валялся мусор. Бордовые кованые ворота были приоткрыты; «Сад» походил на чучело бенгальского тигра: пасть оскалена, словно для грозного рыка, вот только от зверя-то одна шкура и осталась. Смутно, но неотвязно воняло тухлятиной.
Преподобного Кэрроуэя встретил смотритель зоопарка, немец со слегка курчавыми волосами. На нем была магуа – короткая куртка китайского покроя, кожа лица отдавала желтизной, шрамы от ожогов между пальцами выдавали привычку покуривать опиум. Судя по его виду, жилось ему не слишком сладко.
Посетовав на безответственность власть имущих, немец выудил из-за пазухи лист бумаги – подробный список зверей на продажу, где на немецком, английском и китайском были указаны виды животных, количество, цена и состояние здоровья. Цену назначили честную, можно сказать, продавали практически за бесценок, а вот насколько честны были пометки о здоровье, одному Небу было известно.
Смотритель умоляюще взглянул на американца:
– Нам троим лишь бы на билеты домой собрать.
Ажиотажа объявление в газете явно не вызвало, о зоопарке мало кто справлялся, и вполне могло статься, что стоявший перед немцем священник был его единственной надеждой.
Преподобный Кэрроуэй внимательно прочел список и задумался. Ему предстояло решить научную, религиозную и коммерческую задачу.
Он не мог купить весь зоопарк – значит, нужно было выбирать. Преподобный ощутил себя Ноем: одних зверей он возьмет в свой ковчег, другим же останется лишь дожидаться великого потопа.
Выбор был не из простых: в конце концов, он отправлялся в незнакомый суровый край, где, по слухам, вечно царила непогода. Преподобному следовало учесть размеры, повадки животных, умение приспосабливаться к новым условиям, питание, физическую крепость и отобрать тех, кто не умрет в первую же зиму в степи.
Кроме того, с точки зрения коммерческой выгоды (преподобному претила эта мысль), покупать стоило только тех животных, которые больше всего приглянутся степному народу. Как ни крути, одни существа – хорьки или лебеди – людям нравятся, а другие, к примеру огромные бледно-зеленые игуаны, вызывают отвращение.
После долгих размышлений преподобный Кэрроуэй выбрал первого зверя – африканского льва по кличке Стражник[18]. Он слышал, что ко львам китайцы испытывают особый пиетет. Каменные львы стерегли ворота канцелярий и богатых усадьб, охраняли мосты; изображения львов украшали домашнюю утварь; танец льва[19] исполняли на праздниках от Пекина до Кантона – что самое удивительное, Китай вовсе не был родиной львов, поэтому представление о них по большей части основывалось на фантазиях, которым было уже несколько тысяч лет. И вот теперь появилась прекрасная возможность показать китайцам настоящего льва.
Затем преподобному Кэрроуэю захотелось купить двух тигровых лошадей, Талисмана и Везунчика[20]. Пусть это были те же лошади, зато выглядели они весьма необычно. Преподобный рассудил: коней в монгольских степях водится предостаточно, но этих чудо-зверей в черно-белую полоску с ними не спутаешь, аратам наверняка захочется на них полюбоваться. А главное, хоть на тигровых лошадях и не поездишь верхом, в случае необходимости их можно привязать к повозке, чтобы они следовали за обозом – значит, перевезти их не составит труда.
Последними преподобный Кэрроуэй выбрал пять павианов анубисов. Этих бестий поймали в саванне Восточной Африки; гривы у них были внушительные, а вот размеры скромные, и их легко было взять с собой.
Лев, тигровые лошади, павианы – все они были родом из африканской саванны. По крайней мере, думал преподобный, им будет проще, чем другим зверям, привыкнуть к монгольской степи.
Один лев, две лошади и пять павианов; преподобный подсчитал: денег у него было ровно столько, сколько нужно, чтобы увезти в Чифэн восемь животных.
Смотритель и мечтать не смел о такой сумме, он-то воображал, что священник в лучшем случае купит пару-тройку уточек. На радостях он в качестве бонуса подарил преподобному волнистого попугайчика и скального питона. Подумав, преподобный решил, что попугай с питоном много места не займут, и принял подарок.
Определившись с выбором, преподобный пожелал лично убедиться, что животные здоровы. Немец закивал и поспешил обратно в «Сад», с готовностью показывая дорогу и увлекая священника за собой.
«Сад десяти тысяч зверей» делился на три части: ботанический сад, экспериментальную ферму и зоопарк. Ботанический сад с зоопарком раскинулись ближе ко входу, ферма пряталась на задворках. Преподобный Кэрроуэй с немцем прошли через арку и зашагали по усыпанной белой галькой тропе. Эта извилистая тропка вела в глубь «Сада», между камешками всюду пробивались травинки – видно, по гальке давно никто не ступал.
Стоило им свернуть за угол, как они оказались в полной тишине. Бесшумно опустился плотный зеленый полог, оставляя все звуки снаружи. Оказалось, «зеленый полог» выглядывал из ботанического сада по соседству. Без должного ухода добрая половина ценных растений попросту засохла, зато те, что уцелели, демонстрировали завидную живучесть, яростно разрастаясь во все стороны.
Кисти сирени притулились среди цветущих ветвей форзиции, у подножия стен по обеим сторонам дороги простые сорные травы сплелись в схватке со знаменитым огненным вьюнком. Тут и там над дорогой высились, перекрещиваясь вверху, сухие бамбуковые стволы – раньше на них натягивали летом навесы от солнца, теперь же их увивали изумрудно-зеленые побеги девичьего винограда, так что из-за них было не видать неба, а между виноградными лозами беззастенчиво проклевывались белые цветки-свастики[21].
Лишившись надзора, мирные растения вдруг выказали свой грозный нрав, обернулись зелеными разбойниками. Они разрастались в этом забытом людьми уголке, безудержно, дико, раскидывали стебли куда вздумается, превращали сад в изумрудный первобытный лабиринт. Если бы не галечная тропинка, никто бы и не догадался, в каком направлении идти, – да и тропинка-то уже наполовину заросла сорняками, того и гляди вконец исчезнет.
Преподобный озирался с любопытством ребенка, исследовал чудеса, скрытые за каждым поворотом, у каждой развилки. Смотритель поминутно его подгонял – ему не терпелось поскорее заключить сделку.
Они быстро пересекли «джунгли» и наконец очутились в зоопарке. Справа и слева от дороги стояли большие и малые домики для животных, каждый был обнесен крашеной деревянной оградой разной высоты, рядом из травы торчали коричневые таблички с черными надписями на китайском и английском: обитатель домика принадлежит к такому-то виду, родом с такого-то континента.
Было заметно, что зоопарк давно не чистили, в воздухе стоял густой смрад. Воняло фекалиями и, вероятно, гниющими трупами зверей. Преподобный Кэрроуэй оглядывался по сторонам, и ему казалось, что он бродит среди экспонатов зоологического музея; его окружала мертвая тишина.
Большинство несчастных животных, иссохших, с тусклым мехом, дожидалось в клетках своего конца. Они так обессилили от скупой кормежки, что даже голос не могли подать. Они не рычали, не ржали, их взгляды застыли, на подошедших людей никто не обращал внимания. Все вокруг оцепенело от приближения смерти.
Боясь, как бы эта печальная картина не пошатнула решимость священника, немец поскорее отвел его к Стражнику. Лев был истинным королем зоопарка и в одиночку занимал самый широкий склон. Только благодаря ему и удавалось порой выручить какие-то крохи с билетов, правда, приличная часть дохода оседала в его же брюхе.
Безучастный ко всему, Стражник лежал, щурясь, на склоне, и хорошо было видно, как под шерстью проступают ребра. Он давно привык к любопытным взглядам посетителей, так что появление преподобного не вызвало в нем ни малейшей перемены, он лишь хвостом махнул, отгоняя мух.
Смотритель подобрал длинную бамбуковую жердь и попытался потыкать ею львиный нос, чтобы зверь зарычал или вцепился в жердь клыками. Но Стражник оставался так же равнодушен к его уловкам, как чопорный наставник – к глупым шуткам своих учеников.
Смотритель обозлился: он непременно должен был доказать священнику, что лев еще силен и живуч. Он согнул руку в локте и стал грубо пихать Стражника жердью в бок. Лев не вытерпел, легонько отвел жердь передней лапой, мотнул гривой. Немец думал, что теперь-то Стражник издаст свой фирменный рык, но тот лишь чихнул и неторопливо вернулся в клетку.
Немец хотел было снова подразнить льва, но священник его остановил. Преподобный Кэрроуэй вовсе не искал себе свирепого монстра, слабость и кротость зверя были ему только на руку. Хорошо бы льву, конечно, выказывать чуть больше дикого нрава, но преподобный решил, что когда они доберутся до степи, он что-нибудь придумает на этот счет.
Затем преподобному показали тигровых лошадей и павианов. Крепким здоровьем они не отличались, но, по крайней мере, были живы и, надо думать, способны перенести долгую дорогу. Что же касается питона, он лениво свернулся в клетке клубком, и если бы не мелькавший порой змеиный язычок, никто бы и не понял, жив он или мертв.
Самым «знатным» происхождением среди обитателей зоопарка мог похвастать волнистый попугайчик. Один иностранный дипломат подарил его вдовствующей императрице; попугай кричал на чистейшем китайском: «Долгих лет жизни!» Вдовствующая императрица любила его и всюду носила с собой. Но однажды он выучился где-то ругательству, и все переменилось: непростительно запятнав себя, он больше не мог оставаться во дворце. Вдовствующая императрица приказала отнести его в «Сад десяти тысяч зверей».
Едва завидев преподобного, красивый пестрокрылый попугайчик заверещал: «Паршивец!» и трижды энергично кивнул. Смотритель поспешно объяснил, что дурную привычку птица принесла из дворца – наверняка подслушала, как какой-нибудь евнух заигрывает со служанкой.
Преподобному стало любопытно, и он попробовал было разговорить пернатого, но немец смущенно признался, что больше попугай никаких слов не знает. С тех пор, мол, как этого гаденыша отдали в зоопарк, он даже «долгих лет жизни» разучился кричать. Попугая, однако, совесть не мучила – напротив, он важно захлопал крыльями. Преподобный рассмеялся и протянул руку, чтобы его погладить, но тот безо всяких церемоний больно клюнул его в палец.
Проведав зверей, преподобный остался доволен и согласился заплатить за них оговоренную сумму. Сгорая от нетерпения, немец потянул его подписывать договор. Преподобный печально огляделся и вдруг спросил:
– А что будет с другими животными?
Смотритель пожал плечами.
– Если никто на них в ближайшее время не польстится, придется оставить их здесь. Мы возьмем себе три билета на пароход и купим им еды на первое время. Ну а там уж… – Немец сделал жест. – Как Богу угодно.
Преподобный Кэрроуэй знал, что у моряков этот жест означает «бросай корабль и спасайся».
Преподобному снова вспомнились неподвижные взгляды зверей. Одно дело – видеть трупы, и совсем другое – наблюдать, как на твоих глазах медленно и беспомощно угасает чья-то жизнь. Он не знал, что чувствовал Ной, когда смотрел на покинутых животных; у него, преподобного, сердце сжималось, но он был бессилен. Он молча помолился, развернулся и ушел вместе с немцем. Теперь он шагал, не поднимая глаз, страшась, что взгляды животных вновь разбередят ему душу.
Зоопарк в «Саду» тянулся вдоль кольцевой тропы, так что посетители могли обойти его от начала до конца, ни разу не повернув обратно. Немец спешил вперед, ведя преподобного мимо унылых рядов крытых построек и птичьих вольеров, и вскоре справа от дороги показалась искусственная скала.
Эту скалу из камней озера Тайху[22] сложили так, чтобы ее очертания как можно точнее походили на изломы настоящих горных хребтов. Два крутых серых выступа, один побольше, другой поменьше, соединял длинный, как слоновий хобот, тонкий арочный мост, увитый изумрудными побегами глицинии. Посетители перебирались через гору по мосту и оказывались у выхода из «Сада».
Преподобный Кэрроуэй пересекал каменный мост и уже готовился покинуть зоопарк, как вдруг увидел Счастливицу.
Неподалеку, по правую сторону от моста, в горе была широкая впадина в форме полумесяца. Массивная деревянная ограда и нависшие по бокам каменные глыбы превращали впадину в закрытый дворик.
Проходя через мост, преподобный заметил, что у края дворика, под крупным горным выступом, одиноко стоит истощенная серая слониха. Она замерла напротив каменной стены – хобот низко опущен, взгляд глубоко посаженных глаз тусклый, равнодушный даже ко вьющимся вокруг зеленым мухам. Правую заднюю ногу опоясывала толстая, вся в пятнах ржавчины железная цепь; она так крепко впивалась в кожу, что заросла по краям грубыми мозолями. Другой конец цепи был намотан на деревянный кол.
Сердце преподобного словно рукой сжали. Он обернулся к смотрителю:
– А это еще кто? Почему ее не было в списке?
Немец не замедлил объяснить. Оказывается, в год, когда основали «Сад десяти тысяч зверей», заправлявший открытием сановник Дуаньфан решил задобрить вдовствующую императрицу и раздобыл для нее в Индии двух танцующих слонов. К несчастью, самец не смог привыкнуть к новому климату и вскоре умер, оставив беременную самку одну. Спустя некоторое время слониха родила малышку, которую назвали Счастливицей[23].
Когда Счастливице исполнилось три года, ее мать переела порченой пищи и померла от диареи. С тех пор и потекла одинокая жизнь юной Счастливицы, единственной слонихи в «Саду». С самого рождения ее взгляд был полон печали. Она ни разу не покидала свой «слоновий дворик» и уж конечно не умела угождать публике танцами. Большую часть дня она так и стояла напротив горы, неизвестно о чем думая. Однажды во дворик забрался мальчишка; Счастливица перепугалась и от страха принялась крушить все вокруг, так что работникам зоопарка пришлось заковать ее в железную цепь, чтобы она больше никогда не буянила.
Родись Счастливица на несколько лет раньше, она, возможно, стала бы звездой «Сада», но после смерти вдовствующей императрицы «Сад десяти тысяч зверей» столкнулся с серьезными финансовыми трудностями. Животные с нешуточным аппетитом, такие как Счастливица, превратились в тяжкую обузу. По словам смотрителя, зоопарку не хватало средств, чтобы кормить слониху досыта, поэтому ее суточный рацион урезали до самого минимума. Судя по ее виду, она со дня на день могла помереть с голоду, так что ее даже в список зверей на продажу не стали включать.
Преподобный долго стоял на краю дворика, долго глядел на слониху и наконец спросил немца, можно ли войти внутрь. После минутного колебания немец кивнул. Слониха была при последнем издыхании и вряд ли могла кому-то навредить, а ему не хотелось отказывать своему щедрому благодетелю.
Получив разрешение, преподобный отворил деревянную дверцу, через которую вносили еду, ступил в «слоновий дворик» и медленно приблизился к Счастливице. Та даже не шелохнулась: бушевать она давно разучилась, ее сил хватало лишь на то, чтобы не упасть, и она стояла, точно утратившее душу каменное изваяние.
Преподобный набрался храбрости, встал прямо перед Счастливицей и, сощурив глаза, начал внимательно ее разглядывать. Ему уже доводилось видеть слонов в берлингтонском зоопарке. По сравнению со своими сородичами Счастливица была невероятно худой, казалось, от нее остались лишь кожа да кости.
Словно по велению неведомого голоса преподобный Кэрроуэй протянул руку, погладил шершавую, испещренную трещинками слоновью кожу, отогнал проворными пальцами мух. Прошло не более минуты; вдруг крупная прозрачная слеза выкатилась из глаза Счастливицы и капнула на усеянный пометом песок. Преподобный несколько удивился, но руку не отнял, гладя вокруг глаз, гладя уголки рта, опущенный хобот и похожие на пальмовые веера уши.
Трудно сказать, сколько прошло времени, только огромное тело Счастливицы вдруг дважды пошатнулось, передние ноги подкосились, и слониха рухнула на колени. Был полдень, и из расщелины, которую Счастливица прежде загораживала, брызнул солнечный свет, пролился между слоновьей головой и преподобным, окутал животное и человека священным золотым сиянием.
Может быть, слониха упала на колени, потому что вконец обессилила, не устояла на ногах, и никаких потаенных смыслов в ее движении не крылось. Но преподобный Кэрроуэй тотчас залился слезами. Он не сомневался, что ему был послан знак – он услышал, как в последний раз взывает о помощи измученная душа.
Он похлопал Счастливицу по боку и решился на безумный поступок.
– Поехали-ка со мной в Чифэн, – пробормотал он. – Там наша с тобой земля обетованная.
Счастливица будто поняла его слова. Она с трудом согнула хобот и пальцеобразным отростком на его конце легонько коснулась лба своего нового хозяина – учитывая ее нынешнее состояние, этот жест поистине дорогого стоил. Пролитые слезы увлажнили темные глаза, и оттого в них словно бы робко заискрилась жизнь. Преподобный Кэрроуэй опустил голову: ему захотелось освободить несчастное создание от железных оков, но, присмотревшись, он обнаружил, что цепь слишком глубоко впилась в кожу, вросла в плоть, начнешь отстегивать – хлынет кровь. Пришлось ему отказаться от этой затеи.
Преподобный Кэрроуэй перекрестился и направился к выходу. Счастливица попыталась было преградить ему дорогу хоботом, точно ей не хотелось его отпускать. Но в конце концов она убрала хобот и проводила преподобного взглядом. Казалось, она понимала: этот человек еще вернется.
Смотритель весь иззевался, пока ждал у дверцы – видно, сказывалось пристрастие к опиуму[24]. Преподобный Кэрроуэй с ходу объявил ему, что желает внести слониху в список.
Просьба священника поставила немца в затруднительное положение. Он-то уже обо всем договорился: когда слониха подохнет, можно будет продать ее тушу одному столичному доктору[25].
– Прояви милосердие, брат мой, – взмолился преподобный Кэрроуэй, протягивая к нему руки. – Ее предки делили с нашими один ковчег.
Немцу неохота было уступать, но он боялся, что покупатель развернется и уйдет восвояси, и вся сделка сорвется. Поторговавшись, стороны пришли к соглашению: преподобный Кэрроуэй доплачивает за Счастливицу и отдает смотрителю нательный крест из чистого золота – и может увозить слониху куда вздумается.
Преподобный потребовал впредь кормить Счастливицу как следует (все расходы он брал на себя), а еще позвать к ней ветеринара и придумать, как избавиться от цепи. Бедняга страшно ослабла, ей нужно было поскорее набраться сил, чтобы одолеть долгий путь.
Деньги сделали немца сговорчивым. Правда, он так до конца и не понял, к чему преподобному все эти хлопоты.
– На что вам сдалась эта слониха? Неужто стоит так ради нее тратиться?
Преподобный Кэрроуэй слегка улыбнулся и вместо ответа указал пальцем на небо. Затем он снова взглянул на далекий силуэт Счастливицы. А слониха вдруг отвернулась от скалы и посмотрела в его сторону.
Встретив Счастливицу, преподобный Кэрроуэй осознал, что зоопарк в степи значит гораздо больше, чем ему представлялось. Он твердо верил: все в жизни случается по воле Божьей, каждое событие – часть великого плана. Он видел знамение, значит, нужно смело идти навстречу судьбе, даже если впереди его ждет поросший колючим терновником скалистый обрыв.
Преподобный покинул зоопарк, вернулся в церковь и начал собираться в путешествие. Вскоре он обнаружил, что далеко не все можно устроить одной лишь верой…
Пекин с Чифэном разделяло восемьсот с лишним ли, поезда в Чифэн не ходили, водных путей не было, а был один только казенный тракт – не слишком ровная дорога, по которой колесили торговые обозы. Если бы преподобный Кэрроуэй добирался до города в одиночку или вместе с торговцами, весь путь занял бы дней двадцать.
Но преподобный брал с собой животных, и эта прихоть сильно усложняла дело.
Чтобы перевезти льва, двух тигровых лошадей, пять павианов, попугая и питона, требовалось нанять по меньшей мере две большие телеги с оглоблями. А если учесть, что животных в дороге нужно чем-то кормить, что кому-то придется за ними ухаживать, да прибавить ко всей компании самого преподобного с его вещами, получится, что нужно брать целых четыре телеги с конями и кучерами.
Теперь же, благодаря знамению, к ним присоединилась слониха – и проделать путь от Пекина до Чифэна стало труднее, чем верблюду пройти сквозь игольное ушко.
В Пекине в ходу были плоские двухколесные подводы, на таких много не увезешь. Самая большая грузовая телега, которую удалось сыскать, выдерживала пару сотен килограммов и худо-бедно годилась для отощавшего Стражника, но о том, чтобы взгромоздить на нее Счастливицу, и речи не шло – как бы юная слониха ни исхудала, она по-прежнему весила больше четырехсот кило, так что о конных повозках можно было забыть.
Преподобный совсем растерялся: но ведь родители Счастливицы были гораздо крупнее, как же их перевезли из Тяньцзиня в Пекин?
Он прошерстил официальные бумаги «Сада», расспросил смотрителя и выяснил, что сперва слонов переправили в тяньцзиньский порт на пароходе, затем привели к железной дороге, погрузили в специально оборудованный поезд и отправили в Пекин, до станции «Ворота Чжэнъянмэнь». А чтобы беспрепятственно доставить двух гигантов в «Сад», императорский двор даже приказал протянуть от станции на север, вдоль западной городской стены, почти до самого зоопарка, новую железнодорожную ветку. Местные газеты еще долго переваривали эту сенсацию.
От Тяньцзиня до Пекина ходили поезда, и если уж путешествие между этими городами обернулось такой морокой, что было говорить про странствие от Пекина до Чифэна.
Церковь всеми силами пыталась отговорить преподобного от его чудачеств. Священникам казалось, что преподобный Кэрроуэй попросту спятил. Разве захватить с собой побольше библий – не более богоугодное дело, чем везти каких-то непонятных зверей? Епископ твердил: это Китай, своевольничать тут крайне опасно; затея преподобного и обойдется ему недешево, и смысла в ней ни на грамм – если в других общинах прознают, что у них цирковая труппа вместо проповедников, конгрегационалистов поднимут на смех.
Преподобный Кэрроуэй восторженно поведал епископу о божественном знамении у искусственной скалы в «Саду», руки его так и «плясали», глаза сияли. Епископ слушал с каменным лицом.
– С чего бы Всевышнему сообщать тебе Свою волю через слона? – поинтересовался епископ. – Зачем Ему отправлять тебя в степь с целым зверинцем?
– Этот зверинец – посох пастыря, вокруг которого соберутся ягнята, – ответил преподобный Кэрроуэй. – Это горн, это синематограф Хуа Госяна, это посланник Благой вести. Вы только представьте! Я построю в древней монгольской степи зоопарк, то, чего там раньше не бывало, чего эти люди прежде не видели…
– Мы тут религию распространяем, а не запашок. – Епископ нетерпеливо привстал. – А тебе, гляжу, вонь от слоновьего помета шибанула в голову, оттого и чудится всякое – вот и все твое «небесное знамение». Опасные у тебя мысли, брат Кэрроуэй. Чересчур дерзкие.
– А я думаю, что зоопарк поможет Господу завоевать людские сердца. И как говорится в Деяниях апостолов: «Мы не можем не говорить того, что видели и слышали».
– Нельзя использовать Господа Всемогущего как разменную монету, точно торгаш; нельзя привлекать последователей пустыми дешевыми трюками, точно третьесортный цирковой фокусник. Эти чуждые нашей вере уловки лишь позорят ее… Берегись: все это уже напоминает идолопоклонство.
– Нет-нет, это всего лишь средство – разве Христос не послал гадаринских бесов в свиней, прежде чем сбросить их с кручи?
Епископ вздохнул.
– Для тебя это просто забава. Прикрываешься Божьим именем, чтобы утолить свое любопытство, не так ли?
Вопрос епископа попал не в бровь, а в глаз. Преподобный Кэрроуэй и сам толком не понимал, отчего так ухватился за идею забрать животных в степь, из-за знамения свыше или всего-навсего оттого, что ему рисовались увлекательные картины – а это и правда, как сказал епископ, были опасные мысли, выходило, что им, священнослужителем, движет отнюдь не вера, что он ставит собственные желания выше Господа Бога.
– Чего ты хочешь: проповедовать, чтобы открыть зоопарк, или открыть зоопарк, чтобы проповедовать? – сурово спросил епископ.
Преподобный Кэрроуэй вовремя прикусил язык, перекрестился и скромно проговорил:
– Я должен прислушиваться к своему сердцу. Никто не знает его так, как Бог, и никто не знает меня так, как оно.
Ответ преподобного привел епископа в замешательство, и он раздраженно забарабанил пальцами по обложке Библии на столе.
Американская конгрегациональная церковь являла собой не слишком строгий союз обособленных общин, в ней, в отличие от церкви католической, не было четкой иерархии и сурового надзора. Именно поэтому преподобный Кэрроуэй мог свободно экспериментировать со своими проповедями в Берлингтоне, руки у него были развязаны. Несмотря на единую систему управления, китайское миссионерское общество соблюдало американские традиции, а значит, преподобный по-прежнему сохранял независимость. Раз он твердо решил поступать по-своему, епископ был не в силах ему помешать.
Хорошенько поразмыслив, епископ мягко намекнул, что если преподобный Кэрроуэй продолжит упрямиться, он, епископ, вправе отозвать его назначение в Чифэн. Местный ямэнь[26] попросту не даст ему проповедовать без церковного рекомендательного письма. Преподобный Кэрроуэй тут же заявил, что обойдется своими силами и уедет в Чифэн, даже если его отлучат от церкви.
Прежде чем покинуть кабинет, преподобный бросил напоследок:
– В конце концов, рассудить, кто из нас прав, может только Всемогущий Господь.
Неприятности подстерегали преподобного не только со стороны церкви. Он обошел десяток с лишним пекинских контор, которые занимались перевозкой грузов на большие расстояния. Стоило хозяину такой конторы услышать, что везти предстоит каких-то неведомых чудных зверей, как он моментально отказывался. Уж слишком далеко было до Чифэна, хозяева боялись, что где-нибудь на полпути верблюды с лошадьми учуют запах хищника, испугаются, переломают повозки. К тому же среди них ходил диковинный слух: мол, тот, кто повезет для чужеземца заморских животных, навлечет на себя небесную кару.
Но даже если бы желающие нашлись, со Счастливицей им было не управиться. Она была слишком тяжелой; пусть бы даже им удалось кое-как водрузить ее на телегу, далеко бы такая телега не уехала.
Однако преподобный был упрям. Знамение, которое он видел у искусственной скалы, зажгло его сердце, он не сомневался, что путешествие с животными в степь – задача чрезвычайно важная, более того, степень ее значимости непостижима для человеческого разума.
Люди бывают упрямцами, бывают фантазерами, а стоит только обоим качествам взыграть в одном человеке, как он превращается в бушующее пламя, в паровую машину на полном ходу. Преподобного Кэрроуэя так пленила его затея, что он сутками напролет листал книги про степь, искал подходящего перевозчика и тратил, тратил собственные сбережения. То, что весь мир был против, лишь сильнее его раззадоривало.
Усердие всегда приносит свои плоды. Спустя полмесяца проблема с перевозкой чудесным образом разрешилась.
Старина Би, отец мальчика, случайно спалившего церковный сарай, был опытным и известным в своем кругу кучером. В тот раз, когда его сын устроил пожар, преподобный Кэрроуэй простил ребенка и не стал требовать возмещения убытка. Старина Би не забыл его доброты и, узнав, что преподобный Кэрроуэй повсюду ищет повозки, пришел к нему сам и объявил, что готов взяться за дело.
Правда, выслушав преподобного, старина Би все же засомневался: работа предстояла весьма необычная. В конце концов он хлопнул себя по бедру и воскликнул:
– А, ладно – коли платишь за добро, так не торгуйся, как на рынке. Уж я что-нибудь придумаю.
Спустя несколько дней старине Би удалось-таки уболтать некоторых товарищей по ремеслу, и те заявили, что согласны снабдить священника телегами, если сойдутся с ним в цене. Старина Би ударял себя кулаком в грудь и твердил, что лично возьмется за вожжи и доставит преподобного в Чифэн целым и невредимым.
Однако старина Би предупредил: прочие-то звери хлопот не доставят, а вот Счастливицу упряжным нипочем с места не сдвинуть.
К слову, преподобный, пока собирался в дорогу, не раз заходил при случае в зоопарк, навещал слониху. Немец исправно за ней ухаживал, так что она заметно взбодрилась, бока залоснились, глаза заблестели. Один ветеринар осторожно снял с ее задней ноги цепь – на коже остался темно-бурый отпечаток, круглый, точно кольцо.
Каждый раз, едва завидев преподобного, Счастливица принималась размахивать хоботом и ласково тереться им о лицо священника. Большие черные глаза светились спокойствием и безмятежностью; печальная тусклая дымка, что когда-то их обволакивала, постепенно рассеялась. Преподобный ликовал. У него не было ни жены, ни детей, и лишь теперь, со Счастливицей, он вдруг познал своего рода отцовскую радость.
Как только преподобный улучал время, он приходил в «слоновий домик» и сидел там, запрокинув голову, часами. Счастливица никогда не выказывала нетерпения. Она спокойно стояла рядом с преподобным и хоботом отгоняла от него мух и комаров.
Однажды к Счастливице заглянули старина Би с сыном. Старина Би побаивался слониху и держался от нее поодаль, а чтобы Сяомань снова не набедокурил, он и ему запретил приближаться к животному. Отец вовсе не заметил, что едва Сяомань вошел в «Сад десяти тысяч зверей», его привычная скованность и холодность исчезли. Глаза глядели жадно, ноздри раздувались, напряженные мышцы понемногу расслабились, как будто мальчик наконец оказался дома.
Пока взрослые разговаривали, Сяомань нырнул за плотную зеленую завесу из растений, поднял голову и заметил на дереве волнистого попугайчика. При виде Сяоманя попугай радостно захлопал крыльями, открыл клюв и заговорил. За то время, что птица прожила в зоопарке, она выучилась множеству «звериных языков», которые теперь слились в один хор: ржание сменялось рыком, а утиное кряканье перерастало в резкий протяжный крик совы. Хор вышел нестройный, сумбурный. Попугай умел лишь подражать услышанным голосам, ему не хватало ума сообразить, в каком порядке их повторять, а потому он, как испорченный граммофон, мог выдать любую мешанину звуков.
Стоявший под деревом Сяомань рассмеялся. Ничто там, в наружном мире, не могло сравниться с этой восхитительной забавой. Неожиданно он и сам, вторя попугаю, издал нечто подобное. Вскоре его голос, звучавший поначалу неуверенно, стал почти неотличим от птичьего… У Сяоманя с малолетства был недуг – он не умел разговаривать с людьми, зато он наловчился передразнивать мышиный писк или кошачье мяуканье. Старина Би одно время боялся, что сын одержим бесом.
Попугай все трещал и трещал, беседовал с Сяоманем; вдруг он крутанул головой, взмахнул крыльями и упорхнул прочь. Сяомань помчался следом. Мальчик и птица спешили вперед, обгоняя друг друга, мимо лиан, через кусты, пока не очутились у одного вольера в дальнем углу зоопарка.
В вольере жил бизон из американских прерий. Теперь он замер на земле – лежал и ждал смерти. Бизон прислонился боком к ограде; от густого бурого меха исходило зловоние, слизи в уголках глаз скопилось столько, что она почти превратилась в затвердевшую маску-скорлупу. Попугай подлетел к нему, сел на высоко вздымающийся рог и снова затрещал, будто подзывая Сяоманя. Сяомань подошел, помахал руками, отчего в воздух взвилось жужжащее роище мух. Мухи кружили над бизоном, не желали улетать.
Сяомань робко придвинулся к большой голове животного, протянул ладошку и погладил бизоний лоб. Бизон шевельнул ухом и глухо замычал. Сяомань сложил по-особому губы и язык и издал точь-в-точь такой же звук. Внезапно бизоньи рога качнулись, спугнув попугая – гигант поднялся из последних сил, уставился на Сяоманя мутным взглядом, но уже через секунду с шумом повалился на землю и умер.
Быть может, он слишком долго прозябал в одиночестве, и услышанный перед смертью зов сородича помог ему наконец спокойно проститься с жизнью. Сяомань неподвижно сидел рядом с трупом, по щекам мальчика текли прозрачные слезы – их было не так много, но они все никак не утихали. Он и сам толком не знал, почему плачет, только его вдруг накрыло какое-то чувство, нечто намного большее, чем печаль. Попугай, примостившись на его вздрагивающем плече, чистил острым клювом перышки.
У вольера Сяомань пробыл недолго; вскоре он вернулся к слоновьему домику. Старина Би с преподобным по-прежнему увлеченно обсуждали поездку, не подозревая о том, что произошло.
Старина Би с Сяоманем еще не единожды наведывались в «Сад», и каждый раз Сяомань потихоньку убегал за попугаем к какой-нибудь клетке. Он подбирался поближе, садился на корточки, гладил звериный лоб, слушал последний зов обреченного животного и успокаивал его ответным зовом. Изможденные медведи, лебеди, олени и павианы один за другим тихо испускали дух рядом с Сяоманем, хлопочущим, точно пастор, который спешит помолиться за душу умирающего.
В начале лета, когда на раскидистом дереве у входа в хутун Юфан застрекотали первые цикады, дела преподобного Кэрроуэя наконец сдвинулись с мертвой точки.
Пусть из старины Би и не вышло набожного христианина, сердце у него было доброе. Он знал Пекин как свои пять пальцев, хорошо разбирался в обычаях северян и потому легко подмечал все слабые места плана преподобного. И вот теперь благодаря ему этот грандиозный план был окончательно готов.
Старина Би нанял четыре повозки. Одна, крытая, с дышлом, предназначалась для преподобного Кэрроуэя и ручной клади. Три другие представляли собой широкие, крепкие телеги о двух оглоблях, с колесами из вяза, обитыми для прочности железом: одна – для клетки со Стражником, вторая – для павианов и питона, третья – для ящиков с лекарствами, книгами, одеждой, продуктами и кое-какими инструментами.
Тигровым лошадям повозки были ни к чему. Старина Би надумал привязать эту парочку к телегам веревкой, чтобы лошади трусили следом. Это изрядно облегчало кучерам задачу.
Главный вопрос – как быть со Счастливицей – преподобный Кэрроуэй решил так: он объявил, что слониха сама пойдет за обозом.
Она была слишком велика, во всем Пекине не нашлось ни одной конной телеги, которая смогла бы выдержать ее вес. Старина Би даже в иностранных фирмах справлялся, но так и не нашел ничего подходящего. Счастливице не оставалось ничего иного, кроме как пройти путь пешком.
Преподобный Кэрроуэй поручил смотрителю зоопарка отправить в Германию телеграмму, спросить торговца, который продал «Саду» зверей, могут ли слоны преодолевать большие расстояния. Ответ не заставил долго себя ждать: из-за веса и строения туловища, сообщал торговец, слоны не умеют ни прыгать, ни бегать – только быстро шагать. Зато ходоки из них отличные: сразу три слоновьи ступни при ходьбе находятся на земле, что позволяет животному беречь силы для долгой дороги. Дикие слоны способны разогнаться до восемнадцати километров в час, а их стада даже на длительных переходах развивают скорость до семи километров в час.
Торговец подсчитал, что если Счастливица будет шагать по четыре часа в день, ей потребуется всего пара-тройка недель и капелька удачи, чтобы благополучно добраться до Чифэна. Правда, она только-только пошла на поправку, так что задача перед ней стояла трудная, но все-таки выполнимая. Преподобный Кэрроуэй вовсе не собирался ее подгонять: как бы медленно ни двигался обоз, пусть даже по нескольку километров в день, рано или поздно он окажется там, где нужно.
Преподобный верил, что Бог его не оставит.
Старина Би согласился пустить слониху пешком. Это неминуемо тормозило обоз, зато щадило упряжных. У кучера имелись и собственные планы на путешествие, свой расчет, только он о нем помалкивал.
Вопрос с перевозкой решился, оставалось разобраться с продовольствием.
Обычные расходы на питание преподобного Кэрроуэя не пугали. Однако среди его животных было два настоящих проглота: Счастливица и Стражник.
Стражник поглощал на удивление много мяса, не меньше пяти килограммов ежедневно. Впрочем, он был не привередлив, уплетал все, что дадут, будь то свинина, говядина или баранина, курятина или утятина. К тому же льву предстояло провести всю дорогу в клетке, а значит, его рацион можно было слегка сократить.
Прокормить Счастливицу было сложнее.
С тех пор, как преподобный Кэрроуэй стал ее содержать, Счастливица окрепла, прибавила в весе, к ней вернулся аппетит. За два месяца она потяжелела на полтонны, каждый день съедая по меньшей мере пятнадцать килограммов сена или бамбуковых листьев с горкой фруктов и овощей в прикуску.
Везти с собой столько слоновьей провизии было невозможно, а раз так, нужно было восполнять запасы по пути. К счастью, старина Би не раз колесил по дороге от Пекина до Чифэна и хорошо знал местные почтовые станции и деревни. Он бил себя в грудь и уверял, что летом, да еще в такой мирный год, когда военные стычки и разбойные нападения стали редкостью и на тракте было относительно спокойно, раздобыть слонихе еды не составит большого труда – готовь только денежки. У степных аратов всегда найдутся кормовые травы. Счастливица к ним, может, и не привыкла, но голодная смерть ей точно не грозит.
А если уж совсем будет худо, добавлял старина Би мысленно, бросим зверюг и доберемся до Пекина или Чифэна без них. Он до сих пор не мог взять в толк, зачем преподобный из кожи вон лезет, чтобы увезти животных за Великую стену.
Уладив последние мелочи, преподобный Кэрроуэй выдохнул с облегчением, довольный тем, как все устроилось. Его карманы стремительно пустели, но главное – дело двигалось. Он опустился на колени и вознес хвалу Господу. Если бы старина Би, надеясь вылечить сына, не привел тогда Сяоманя в церковь, а Сяомань не сжег сарай, прощать мальчика было бы не за что, и старина Би не стал бы выручать преподобного. Если бы не Божья помощь, разве могло все так удачно сложиться?
Старина Би пообещал: как только кучерам заплатят, он тут же возьмется за работу, и через десять дней можно будет отправляться в путь. Смотритель зоопарка в свою очередь заверил, что за десять дней приведет и Счастливицу, и других подопечных в наилучшую форму. Преподобный хотел было взять смотрителя с собой, чтобы тот ухаживал в дороге за животными. Смотритель вежливо отказался. Зоопарк ему осточертел, он уже купил билеты домой и только и ждал того часа, когда передаст зверей миссионеру и поднимется на борт парохода… бросив менее удачливых обитателей «Сада» на произвол судьбы.
Священнику оставалось устранить всего одну досадную загвоздку.
Преподобный Кэрроуэй влетел в кабинет епископа и хлопнул на стол из красного дерева конверт с письмом. Внутри оказался один-единственный листок, исписанный витиеватым почерком, которым преподобный так гордился. В письме говорилось, что преподобный Кэрроуэй несет полную ответственность за свои действия – миссионерское общество не имеет к ним ни малейшего отношения.
Епископ обреченно взглянул на него и поинтересовался, что он выдумал на этот раз.
– Мне нужно рекомендательное письмо для ямэня, – заявил преподобный. – Эту объяснительную оставьте себе. Если я наделаю глупостей или со мной что-нибудь случится, вы всегда можете сказать, что меня погубило собственное безрассудство, а не ваша халатность.
Епископ покачал головой.
– Зачем упрямиться, если сам знаешь, что поступаешь безрассудно? Ты и в Америке был таким же сумасбродом?.. – Он вдруг запнулся.
Не дожидаясь, пока епископ возьмет свои слова обратно, преподобный Кэрроуэй расплылся в доверчивой, ребячьей улыбке.
– Верно! И в Америке!
– Надеюсь, ты еще помнишь, зачем мы здесь, в Китае. Да пребудет с тобой Господь!..
Преподобный Кэрроуэй указал пальцем вверх.
– Ради этого я и еду в Чифэн.
Не найдя, что ответить, епископ вздохнул, подписал рекомендательное письмо, а затем взял объяснительную и невозмутимо спрятал ее в ящичек стола.
Глава 3
Чэндэская управа
Знойным июльским утром, на заре, обоз преподобного Кэрроуэя тронулся в путь. Рассветное небо на горизонте поблескивало золотой кромкой, предвещая очередной ясный, душный день.
Ровно в семь часов преподобный Кэрроуэй, облаченный в черную шелковую рясу, опрятный и строгий, занял свой пост в воротах «Сада десяти тысяч зверей». Счастливица встала рядом; остальных животных уже рассадили по клеткам. Немец радостно вглядывался в дорогу, надеясь поскорее распрощаться с опостылевшим бременем.
Старины Би было не видать: ему предстояло забрать из церкви на Дэншикоу вещи преподобного, встретиться с другими кучерами и только затем выехать с ними за город и погнать лошадей к зоопарку.
Прошло около получаса; наконец вдалеке послышались скрип деревянных колес и неровный перестук копыт. Преподобный поднял голову. Четыре огромные повозки в облаке пыли спешили друг за другом к воротам. Сердце преподобного забилось быстрее – то, о чем он так долго грезил, наконец сбывалось. Он сжал крест на груди и легонько погладил его большим пальцем, сгорая от нетерпения.
Вскоре обоз остановился у ворот зоопарка. В первой повозке восседал старина Би. Повозка была ему под стать – такая же потрепанная; концы оглобель, на которых болтались разноцветные шелковые ленты, истерлись и стали совсем круглыми, колеса покрылись щербинами. Белый навес – грубый холст, натянутый на бамбуковые жерди – был штопан-перештопан, весь в толстых стежках, отчего тому, кто смотрел на него снизу вверх, казалось, будто по ткани ползают сколопендры. Впрочем, два пегих мерина в упряжи были полны сил и то и дело нетерпеливо ржали.
Кучера, которых отыскал старина Би, правили такими же, как у него, видавшими виды, но еще крепкими повозками. Предстоящая работа была им по душе, иметь дело с миссионером было выгодно – он щедро платил. Правда, на тракте было не слишком спокойно. Зато в Чифэне можно было нагрузить телеги астрагалом[27], переправить его в Пекин и выручить за это неплохие деньги. Так что старине Би не пришлось тратить много времени на уговоры.
Пристроив повозки, кучера начали суетливо перетаскивать в них клетки с животными. Сладить со львом оказалось труднее всего – под деревянную клетку пришлось подложить бревна, чтобы сдвинуть ее с места. Стражнику это не понравилось. Он беспокойно вертелся и то и дело пытался хватить кого-нибудь лапой. Еле-еле старина Би упросил товарищей вернуться к работе.
Преподобный раздобыл широкий кусок брезента и накинул его на клетку, чтобы не пугать никого по дороге.
С остальными животными возились куда меньше. Очень скоро их разместили в телегах – павианы поверещали, да и только, питон даже не шелохнулся, так и лежал, свернувшись в клубок. Разве что тигровые лошади, Талисман и Везунчик, заартачились и все никак не давали старине Би набросить на них веревку – то вставали на дыбы, то тянули шеи, пытаясь укусить упряжных. Кончилось тем, что смотритель зоопарка саданул по ним кнутом, надеясь, что строптивцы запомнят урок.
Крытая повозка с дышлом, которой управлял старина Би, была пассажирской. В ее передней части, там, где полагалось сидеть преподобному, на широкую скамью заботливо постелили набитый мякиной тюфяк, а сверху повесили тонкую жердочку для попугая. Напротив разложили книги, бытовую и церковную утварь, кое-какие орудия для сельского хозяйства, и оттого преподобный казался сам себе переселенцем, который едет пахать земли Дикого Запада.
Нагрудные карманы преподобного были туго набиты банкнотами на двести лянов из меняльной лавки «Жишэнчан» и тридцатью серебряными монетами, мексиканскими песо[28]. Свои сбережения он целиком истратил на животных, остались лишь те деньги, которыми священника снабдила церковь, «начальный капитал миссионера». Да еще кое-что лично от епископа – тот хоть и не одобрял поступки преподобного Кэрроуэя, но при мысли о суровом Чифэне все-таки подарил ему от себя золотой слиток. Этих средств должно было хватить на строительство церкви и год жизни на новом месте, после чего преподобный мог полагаться лишь на собственную смекалку и Божью помощь.
Сяомань прибежал проводить отца, следом за ним явилась толстая женщина, по всей видимости соседка (мать Сяоманя рано умерла). Кроме сына, у старины Би никого больше не было, и каждый раз, когда кучер надолго уезжал из города, за мальчиком присматривали соседи.
С интересом разглядывая Счастливицу, Сяомань, однако, ни на секунду не отпускал краешек отцовой одежды и кусал губы, словно не хотел расставаться со стариной Би. Преподобный выудил из кармана шоколадку и отдал ее мальчику.
– Папа скоро вернется, – пообещал он.
Сяомань по-прежнему молчал, на его лице не было ни тени улыбки. Преподобный смущенно похлопал себя по рясе, но больше не нашел ничего, что годилось в подарок ребенку.
Пока он думал, не снять ли нательный крест, над головой вдруг раздался шелест крыльев: упитанный волнистый попугайчик выпорхнул из повозки, уселся на плечо Сяоманя и прокричал что-то радостно-неразборчивое.
Лицо Сяоманя немного смягчилось. Но тут старина Би, недовольный тем, что сын увязался за ним, грубо выдернул из пальцев Сяоманя край одежды, развернулся и вскочил на козлы. Сяомань завопил и попытался было его задержать, но соседка крепко ухватила мальчика за руку, не пуская к отцу.
В этот самый миг Счастливица вдруг учудила то, чего от нее никто не ожидал. Медленно переставляя ноги, слониха подошла к ребенку. Соседка, никогда прежде не видавшая таких гигантских животных, заверещала от страха и, отпустив Сяоманя, отпрянула в сторону.
Сяомань растерянно замер. Счастливица долго не отводила от него глаз; внезапно мальчик кивнул и издал странный звук. Счастливица слегка склонила голову, а затем обвила Сяоманя длинным хоботом и приподняла его тщедушное тельце над землей.
Проглядев в суете, как все было на самом деле, взрослые решили, что слониха напала на ребенка. Кучера заорали, замахали кнутами, и даже преподобный Кэрроуэй был несколько обескуражен и уже хотел было остановить Счастливицу. А она невозмутимо покрутила Сяоманя в воздухе и водрузила его на первую повозку, прямо на козлы, рядом со стариной Би. Упряжные беспокойно затанцевали на месте, повозка затряслась.
От такой неожиданной развязки все вокруг облегченно выдохнули и разразились хохотом. Старина Би вспыхнул, стащил сына вниз, как тот ни сопротивлялся, и отвел его к трясущейся соседке. Сяомань уцепился за отцовскую ладонь и никак не хотел разжимать пальцы. Лицо старины Би окаменело, и он отвесил Сяоманю затрещину. Ребенок сердито отдернул руку.
Преподобному Кэрроуэю пришло в голову, что Счастливица, должно быть, любит детей. Он потрепал слоновье ухо и шепнул:
– Нам нельзя брать его с собой в степь. Он останется в Пекине, будет ждать папу.
Счастливица понуро опустила хобот и больше не шевелилась – стояла и виновато глядела на Сяоманя.
Старина Би раздраженно махнул толстой соседке рукой, та подхватила ребенка и поспешила прочь. Сяомань уже не вырывался; к нему вернулось прежнее безразличие. Он развернулся назад, обнял соседку, уткнулся ей в плечо подбородком и устремил неподвижный взгляд раскосых глаз на обоз. Постепенно женщина с мальчиком скрылись из виду.
Кучера снова взялись за погрузку. Вскоре все было готово, и поклажу, и клетки с животными перенесли в телеги. Настало время выступать в путь.
Преподобный Кэрроуэй с трудом влез в свою повозку, под навес, и устроился на тюфяке. Волнистый попугайчик вспорхнул на жердочку и принялся с важным видом осматриваться по сторонам. Старина Би обернул косу[29] вокруг шеи, закусил кончик зубами, взобрался, босой, на деревянный приступок и под скрип повозки вскарабкался наверх.
Преподобный Кэрроуэй с любопытством высунулся наружу, задрал голову и увидел, как старина Би вынул из-за пазухи золотисто-коричневый крест и с силой ввинтил его в каркас повозки. Затем он этот крест пошатал, убедился, что тот закреплен надежно, молитвенно сложил ладони, поклонился и спрыгнул на землю. Преподобный Кэрроуэй знал, что местные называют этот обычай «просить у креста» – так кучера давали понять, что везут священника. Обычно и разбойникам, и чиновникам неохота было связываться с церковью и задерживать такие обозы.
Однако следом, к удивлению преподобного, старина Би зажег охапку благовоний и, бормоча что-то себе под нос, обошел с ними вокруг повозки. Повозку окутал ароматный дым. Наконец старина Би приладил благовония к лошадиной сбруе, подвязал к ним блестящий латунный колокольчик, встал на колени и отвесил низкий поклон.
Преподобный Кэрроуэй изучал восточные религии и потому догадался, что перед ним даосский «колокольчик Сань-Цин[30]». Он недовольно выглянул из окна и заявил, что это уже кощунство. Старина Би, кивая и кланяясь, затараторил: мол, непременно нужно почтить бога дороги, чтобы спокойно «бегать». Кучера, добавил он, не «отправляются в путь», а «пускаются бегом»[31], так уж принято в их ремесле – словом, старина Би изворачивался как уж на сковородке, лишь бы не снимать колокольчик.
Во время путешествия в Китай на пароходе преподобный Кэрроуэй почитывал труд своего знаменитого предшественника, конгрегационалиста Лу Гунмина[32] – «Общественная жизнь китайцев». Проповедник Лу Гунмин прибыл в Фуцзянь в 1850 году, прожил в Китае около четырнадцати лет и внес весомый вклад в дело миссии. Он не только обращал китайцев в христианство, но и тщательно исследовал их обычаи, взгляды и верования. Его книгу непременно читал каждый, кто хотел нести в Китай слово Божие.
О религии Лу Гунмин писал так: «Среди китайцев бытует представление – и представление ошибочное – о том, что каждый может обрести и рай, и спасение в своей собственной вере». Эти слова поразили преподобного.
Книга вышла несколько десятков лет назад, но то, как беспечно старина Би «перескочил» из одной религии в другую, доказывало, что наблюдения Лу Гунмина о нравах древней державы ничуть не устарели.
Преподобный Кэрроуэй стоял на том, что колокольчик нужно убрать, и старина Би, не желая ссориться с клиентом, неохотно снял его и спрятал за пазуху. Как только преподобный отвернулся, он снова его достал, подвесил потихоньку к передней стенке повозки и накрыл грязной тряпкой. Преподобный заметил, но не стал спорить, только молча перекрестился.
Покончив с этим крошечным разногласием, старина Би снял повозку с тормоза, кнут его взвился в воздух, щелкнул, упряжные, фыркая, двинулись вперед, темно-серые вязовые колеса медленно покатились по пыльной дороге, повозка заскрипела каждым своим сочленением. Три телеги с животными одна за другой тронулись с места.
К двум из них были привязаны сбоку тигровые лошади, которым вовсе не хотелось никуда идти. Они быстро поняли, что места вокруг не похожи на «Сад десяти тысяч зверей», оживились и теперь пытались перегрызть веревку и сбежать.
Но тут из деревянной клетки под брезентом раздалось львиное порыкивание, и глуповатые коняги наконец присмирели.
Медленно, в одиночку, за повозкой старины Би брела на привязи Счастливица. Преподобный Кэрроуэй обернулся и встревоженно наблюдал за ней со своего тюфяка. По правде говоря, слониха стопорила весь обоз: кучерам приходилось сдерживать лошадей, приноравливаясь к ее скорости.
Впервые в жизни она покинула «Сад», впервые очутилась в бескрайнем мире за его стенами. Дорога перед глазами была до того длинна, что Счастливица и ликовала, и робела. Никогда прежде она не проходила больше сотни шагов за раз – это испытание обрушилось на нее слишком внезапно.
Шла она так: поднимет левую переднюю ногу, подержит в воздухе, опустит, поднимет правую заднюю, задумается, куда ее ставить, чувствуя, что пора бы уже отрывать от земли правую переднюю. Слониха шаталась, чуть не падала, похожая то ли на малыша, который неловко ковыляет по льду, то ли на старый автомобиль с увязшим в грязи колесом. Клубы желтой пыли вокруг ее огромного тела едва не скрывали солнечный свет. Лошади дружно фыркали, потешаясь над ней.
В задней части повозки, на расстоянии вытянутого хобота, лежали слоновьи лакомства: свежие бамбуковые листья и паровые лепешки. Но юная Счастливица даже не смотрела в их сторону, все ее внимание поглотила необъятная даль впереди. Дыхание сбилось, сердце стучало чаще, толстые шершавые ноги переступали несмело – и поднять страшно, и опустить боязно, и за каждым поворотом поджидали новые мучения.
На секунду Счастливица дрогнула, попятилась назад, к «Саду». Ей вдруг захотелось вернуться в свой захудалый, тесный уголок.
Пройдя полкилометра, юная слониха встала как вкопанная и робко, умоляюще поглядела на преподобного. Преподобный велел старине Би затормозить, спрыгнул с повозки, подошел к Счастливице и погладил ее ухо.
Он видел, как тяжело бедняге дается ходьба, как трудно ей управляться с правой задней ногой, которую так долго сковывала цепь. Изначально, прежде, чем они отправились в путь, он даже хотел подковать ее, но в конце концов ему пришлось оставить эту мысль – он не сумел найти кузнеца, который согласился бы изготовить такие большие подковы.
Преподобный взял в руки веревку, которая тянулась от Счастливицы к повозке, и пошел рядом со слонихой. Счастливица беспомощно качнула хоботом и вновь двинулась с опаской вперед. Понемногу она уловила ритм, стала держаться увереннее. Знойный июльский ветер, зеленая трава пробудили в ней наследственную память о далекой родине; она обнаружила, что лишь во время ходьбы эти «воспоминания» становятся отчетливее.
Преподобный вел Счастливицу около километра, затем, убедившись, что она наконец поймала ритм, снова нырнул в повозку.
У слонихи было отличное зрение. Время от времени она оглядывалась назад и видела бегущую вдалеке крошечную фигурку. Это был Сяомань – он вырвался из рук толстой соседки и мчался, весь в соплях, за обозом. На полпути он вдруг упал и, кажется, раскровянил лоб. Вскоре толстая соседка нагнала его и свирепо поволокла обратно. Лицо Сяоманя оставалось бесстрастным; вместо крика из его груди вырвался зов, понятный одной лишь слонихе.
Счастливица беспокойно махнула ушами и хотела было привлечь внимание преподобного Кэрроуэя. Но преподобный повернулся к ней затылком: он, похоже, говорил что-то старине Би. Счастливица опустила голову и медленно поплелась по дороге. Мало-помалу распластавшийся на земле Сяомань исчез из виду. Четыре повозки – с тигровыми лошадьми и слонихой на привязи – неторопливо пустились в свое далекое странствие.
Когда диковинный обоз миновал северную городскую заставу и выехал на казенный тракт, со стороны Запретного города донесся переливчатый колокольный звон. Колокола пели звучно, протяжно, музыка парила в воздухе, и преподобному чудилось, будто его провожает родная берлингтонская церковь.
Как только повозка покатилась по тракту, сидящий на козлах старина Би выпрямил спину. Всю его боязливость, неуверенность как ветром сдуло, вид у него сделался важный, гордый, точно у короля, который со скипетром в руке объезжает свои владения.
Дорога от Пекина на север шла ровная – как-никак, сами Сыны Неба ездили по ней в Чэндэ и обратно. В этом году, однако, было ясно, что нынешний маленький император не станет, подобно предкам, проводить лето в чэндэской усадьбе, так что в основном по тракту брел простой люд с заплечными узлами да проносились разномастные экипажи сановников. Народу было полно, кругом царило оживление.
Какой бы на дороге ни возник затор, старина Би объезжал его в два счета: крикнет пару отрывистых указаний, махнет в воздухе кнутом, и вот уже обоз как ни в чем ни бывало движется дальше, огибая все преграды, словно стайка рыб в воде.
Отчасти, конечно, в этом была заслуга Счастливицы и Талисмана с Везунчиком. Стоило путникам завидеть перед собой слониху и полосатых черно-белых лошадей, как они в страхе пятились, боясь, что звери их затопчут. Встречные кони пугались Счастливицы и не раз вставали на дыбы, пока их седоки в панике цеплялись за лошадиную шею и отчаянно бранились. Никто не смел обгонять обоз, наоборот, каждый спешил посторониться, пропустить телеги вперед.
Лишь один мальчуган отдернул синюю занавеску на окошке и высунул голову из своей повозки, с любопытством разглядывая необычную процессию.
Поначалу Счастливице было не по себе, но скоро она привыкла к шуму. Если «Сад десяти тысяч зверей» сковала стерильная, гнилая, мертвая тишина, то на тракте, ведущем за Великую стену, напротив, кипела жизнь – грубоватая, чумазая, бурлящая. Если бы Счастливица могла читать мысли преподобного, она узнала бы, что и он думает о чем-то схожем, только вместо зоопарка он вспоминал Запретный город.
Дорога была ничем не покрыта, и слонихе нелегко было по ней ступать. Но пока она шла, в ее крови все жарче разгоралась жажда свободы. В теле появилась легкость, шаги заметно ускорились.
Вместе со слонихой ускорился и весь обоз. Старина Би погнал его по тракту, оставляя всех и вся позади. Вязовые колеса давили укатанный желтозем, поднимали задорные, невесомые пылевые облака, красили лазоревое небо в желтоватый цвет. Скрип телег, звон цикад, мычание скота, щелканье кнутов, ругань взрослых и плач младенцев сливались в хаотичную, жизнерадостную симфонию.
Одна ладонь преподобного покоилась на переплете Библии, другая поглаживала волнистого попугайчика; миссионер наблюдал за тем, что происходило вокруг, и пытался уловить скрытый в хаосе порядок. Преподобный Кэрроуэй был убежден, что только уяснив себе этот порядок, он сможет понять душу китайского народа. Епископ упрекал его в том, что он, в отличие от других проповедников, недостаточно предан Истине, что его легко увлечь, одурачить нелепыми варварскими сказками. Однако преподобный считал, что Божья любовь не знает высокомерия; если вечно смотреть на людей сверху вниз, они никогда по-настоящему тебя не примут.
«Зоопарк в степи» был своего рода экспериментом – преподобный надеялся, что животные помогут ему раскрыть сердца степных жителей. Ведь где бы человек ни селился, хоть в тундре, хоть в тропических джунглях, одним из главных его качеств остается любопытство. Дойдя до этой мысли, преподобный Кэрроуэй вздохнул и переключил внимание на своего кучера.
Да, как раскроются степные жители, преподобный еще не знал, зато старина Би с начала путешествия уже успел раскрыться бессчетное количество раз.
От скуки он сделался необычайно болтлив и потому совмещал два дела сразу: подгонял коней и трещал без умолку. Диалект кучера отличался от мандаринского наречия, преподобный насилу разбирал его стремительную скороговорку, хотя по тону догадывался, что старина Би жалуется на жизнь.
– Отец Кэр, ну вы скажите, как нынче жить-то с такими ценами? Помню, в детстве за сорок медяков можно было раздобыть полкило отличнейшей свининки. А теперь что? Наскребешь девяносто – не хватит даже на мясо старой свиноматки! С утра до вечера капуста с тофу, тофу с капустой, ни капельки масла в животе. Гоняешь повозку, а половина того, что заработал, уходит на пошлины!
– Ай, отец Кэр, я почему за дело-то это взялся – да потому, что вижу, вы человек порядочный. Вообще-то я за Стену обычно не суюсь: дороги там никудышные, места неспокойные, вот так поедешь – и с концами. Хотя, если уж на то пошло, в стране вон что творится[33], безопасную дорогу все равно днем с огнем не сыщешь, везде бардак, эх!
– По правде говоря, отец Кэр, несколько лет назад я бы вас не повез, побоялся: еще угодили бы к ихэтуаням, они бы нас живо пустили на небесные фонарики[34]. Сейчас вроде потише стало. Но я вам так скажу: едут к нам некоторые проповедовать, ну вот вроде вас… так среди них такие гады попадаются. Дурят народ и загребают деньги. Да если б Сяомань не болел, ноги бы моей в этих церквях не было.
– Что вы спросили? Где его мать? Эх! Как родила этого дурачка, так и померла. Тетушка Се говорит, мол, в прошлой жизни эти двое были врагами, а как переродились, решили друг с другом поквитаться – а иначе с чего вдруг мать перед смертью схватила ребенка за горло, да так схватила, что он до сих пор не разговаривает? Отомстила. Но ничего, кое-чему мой дурачок все-таки выучился: он славно ладит с животными, любая скотинка к нему ластится, как чиновник к иностранцу. А впрочем, чему удивляться, как говорится, дракон породит дракона, феникс – феникса, такой сын только кучеру и мог достаться. Да я все продумал: как вернусь домой, покажу ему, как обращаться с кнутом, пусть поскорее приучается к ремеслу. Чего? Крестить его хотите? Ну посмотрим, посмотрим…
Старина Би болтал не переставая, но руки его не забывали про работу, и обоз безостановочно ехал вперед, уже не быстро, но и не слишком медленно. Счастливица не отставала, бодро шла следом.
Устав от разговоров, старина Би отцепил от дышла флягу с узким горлышком, влил в себя чай и снова повернулся к преподобному:
– Отец Кэр, денег-то вы потратили столько, что на них полдома можно было купить. Вы прямо в лепешку готовы расшибиться, чтобы увезти этих зверюг в Чифэн – а зачем?
Этот вопрос он задавал уже с десяток раз. Однако преподобный Кэрроуэй лишь улыбался в ответ и просил кучера собираться в дорогу, ни о чем не тревожась. Старина Би решил, что миссионер не хочет раньше времени раскрывать свои тайны, но теперь-то, когда они уже в пути, к чему секретничать?
Преподобный Кэрроуэй закрыл Библию, которая лежала у него на коленях.
– Затем, что там – Чифэн, – ответил он серьезно.
– Чего? Кто там? – не понял старина Би.
Преподобный Кэрроуэй сощурил глаза и, вглядываясь в даль, проговорил:
– В Америке я был знаком с одним ученым-натуралистом. Он страстно любил искать по всему миру, от Папуа до Конго, необычных животных и редкие растения, каждый год скитался в таких краях, о которых никто и не слышал, и нередко бывал на волосок от гибели. Многие говорили ему: это занятие не приносит вам ни гроша, что же вы никак его не бросите? Может, тут скрыт какой-то глубокий смысл? А он отвечал: не брошу, потому что все эти удивительные звери, птицы, цветы – все они ждут меня там…
Старина Би угукнул и покивал головой, хотя никак не мог взять в толк, о чем речь.
Преподобный вздохнул:
– Есть вещи, существование которых само по себе становится чьей-то целью. Так предначертано. Там – Чифэн, там – наша земля обетованная, моя и этих животных. У меня нет другого выбора – я могу лишь повиноваться Его воле.
Больше старина Би ни о чем не спрашивал. Кучеру пришлось признать, что теперь ему понятно еще меньше, чем прежде.
В первый день повозки проехали около сорока ли[35]; четыре раза кучера останавливали лошадей, чтобы пополнить запасы корма и воды для животных. Когда солнце начало садиться, преподобный, переживая за Счастливицу, решительно велел сделать привал.
Устроившись на постоялом дворе, старина Би и для Счастливицы подыскал подходящее место – рощицу неподалеку, где можно было укрыться от ветра. Преподобный сам набрал чистой родниковой воды, принес кадки слонихе и дал ей напиться вволю. Затем он осмотрел ее стопы: оказалось, что подошвы ног кровят, а ногти поистерлись. Преподобный забеспокоился. Было ясно, что через два-три дня Счастливица может попросту охрометь, и тогда на путешествии будет поставлен крест.
В конце концов один из кучеров нашел выход: взял куски ткани, холщовой и гладкой хлопчатобумажной, сложил их в два слоя и обернул ими слоновьи стопы, а чтобы ткань держалась, как следует закрепил ее веревками. Эти бинты должны были отчасти уберечь ноги Счастливицы от «износа» при ходьбе. Что весьма удобно, прохудившуюся в дороге повязку всегда можно было заменить на новую.
Как ни крути, Счастливица слониха, а не скаковая лошадь, единственное, что от нее требовалось, – одолеть путь до Чифэна.
Остальные животные чувствовали себя неплохо. Питон спал, свернувшись в клубок, павианы затеяли потасовку за лакомые кусочки, тигровые лошади нетерпеливо приплясывали на месте. Стражник остался доволен прошедшим днем: он проглотил пять килограммов мяса, баранины и свинины, а после еды только и делал, что валялся в клетке, и кроме тряски жаловаться ему было не на что. Неожиданно выяснилось, что держать при себе льва полезно: к повозкам не смела подобраться ни одна живая душа – ни грабитель, ни дикий зверь.
Ночью небо заволокло густыми тучами, погас и лунный, и звездный свет, на постоялый двор и его окрестности опустилась непроглядная тьма. Преподобный ворочался без сна – общая спальня пропахла потом, а в постели водились блохи. Наконец он встал, вышел из спальни и побрел к рощице. Мрак поглотил все звуки. Счастливица мирно стояла среди деревьев – преподобный с трудом разглядел в темноте ее силуэт. Она так утомилась за день, что давно уснула. Уши-веера порой приподнимались и тотчас опускались; должно быть, подумал преподобный, ей что-то снится – уж не родина ли?
А вот волнистому попугайчику не спалось – едва заслышав шаги преподобного, он замахал крыльями, подлетел и уже раскрыл было клюв для громкого приветствия. Преподобный торопливо схватил крикуна и сунул в карман.
Осмотрев клетки с животными, преподобный поднял с земли ветку, начертил на песке рядом со Счастливицей карту и красным камнем обозначил на карте Чифэн. Затем он сел, оперся спиной об огромное тело слонихи и зашептал о своих планах и надеждах, обращаясь то ли к Счастливице, которая его не слышала – а если бы и слышала, не смогла бы понять, – то ли к себе самому.
Ему виделся большой, просторный, ухоженный сад площадью по меньшей мере в двадцать акров, обсаженный кустарником, осененный ивами, с водоемом поблизости. Таким представал в его мечтах будущий зоопарк – с увитыми плющом круглыми «лунными воротами», которые он выкрасит в зеленый цвет. А сверху на воротах – крест, лавровый венок и одинокая звезда, и люди придут к этой звезде, словно восточные волхвы. Слоновий домик будет в самом центре сада, неподалеку от искусственной скалы Стражника и загона для тигровых лошадей. А по соседству преподобный построит церковь с высокой-превысокой колокольней, чтобы гости зоопарка, любуясь животными, слышали колокольный зов…
Он все шептал и шептал, чертя на песке; наконец он выронил ветку и, по-прежнему опираясь спиной о Счастливицу, крепко уснул. Наутро, проснувшись, когда солнце над головой стало припекать, он обнаружил, что укрыт листьями, которые Счастливица подобрала хоботом, а сама слониха стоит рядом, ласково смотрит на него и помахивает коротким хвостом, отгоняя комаров.
– Впереди нас ждет Чифэн, – сказал преподобный, гадая, способна ли Счастливица его понять. – Сегодня нам предстоит долгая дорога.
Счастливица никак не отреагировала на его слова, зато волнистый попугайчик выдал звонко: «Паршивец!», после чего залетел в повозку и уселся на жердочку.
Следующие несколько дней пути выдались тихими, без происшествий. С тех пор как Счастливице забинтовали ноги, ей стало гораздо легче шагать. Правда, теперь она двигалась чуть медленнее, но в остальном держалась молодцом. Вначале миссионер побаивался, что путешествие подорвет здоровье той, что так долго страдала от недоедания. Однако, вопреки опасениям, слонихе вовсе не стало хуже, напротив, от физической нагрузки она только окрепла, сил у нее прибавилось, и обозу все реже приходилось делать привал.
Счастливица выучилась тому, что не давалось упряжным лошадям: на каверзных подъемах и переходах через канавы она по очереди волочила телеги за собой. Ее даже малость зауважали. Кучера встречных повозок только языком прицокивали от удивления, думая, что неплохо бы и самим обзавестись слоном-рикшей. Правда, все они с сожалением расходились, как только им рассказывали о слоновьем аппетите.
По вечерам, во время привалов, преподобный спешил к Счастливице, приникал к ней и рисовал на земле их будущую жизнь, рисовал, пока не погружался в сон до самого рассвета. Старина Би твердил, что спать под открытым небом небезопасно, да и одежда пачкается, но преподобный пропускал его слова мимо ушей, так что кучеру приходилось стеречь своего пассажира с дубинкой в руке.
Старина Би тревожился не зря. На пятую ночь к их лагерю подкрался вор из ближней деревни: он приметил груженые телеги и решил немного их разгрузить. Но не успел он и пальцем притронуться к чужому добру, как павианы, животные с чутким слухом, подняли шум и запрыгали по клетке. Их крики перебудили кучеров, и те примчались поглядеть, что стряслось.
Вор упрямо сдернул с одной из повозок брезент (хотел чем-нибудь поживиться, прежде чем уносить ноги), но на него пахнуло такой вонью – опасной, грозной – что он чуть не лишился чувств. Он присмотрелся: перед ним стоял невиданный свирепый зверь, хищная пасть разверзнута, между клыками застрял кровавый мясной ошметок. Вор перепугался так, что душа ушла в пятки, и рухнул без сознания на землю.
Сонный Стражник недоуменно глянул на него, зевнул и снова лег спать.
После этого незначительного происшествия все снова стало складываться наилучшим образом. Время от времени преподобный Кэрроуэй заговаривал со своим кучером, расспрашивал его про Чифэн и даже учился у него фразам на монгольском.
Старина Би объяснял преподобному: если отправишься из Пекина на северо-запад и оставишь позади ворота города Чжанцзякоу, попадешь в края, которые зовутся «за Вратами»; а если подашься на северо-восток – пройдешь через заставу Шаньхайгуань и окажешься «за Заставой». Ну а где-то посерединке находится Чифэн, место, где встречаются пять дорог, ведущих в Чжили, Монголию и на Дунбэй[36], важный торговый узел за Великой стеной, цветущий город. На нынешнюю поездку в Чифэн у старины Би были и свои планы, он признался, что хочет разжиться на обратном пути астрагалом и хорошенько на нем заработать в столице.
Стоило разговору коснуться прибыли, как старина Би стал чрезвычайно словоохотлив. Видя, что у кучера одни деньги на уме, а красоты и обычаи далеких земель его ничуть не заботят, преподобный Кэрроуэй потерял интерес к беседе. Он задернул занавеску, мечтая о тишине и спокойствии, но не тут-то было: теперь ему пришлось слушать непрерывный галдеж попугая.
До Чэндэской управы обоз добрался за семь дней. Если не считать трескотни попугая и болтовни старины Би, преподобному не на что было жаловаться. Животные не доставляли хлопот, даже норовистые тигровые лошади присмирели и послушно трусили за телегами.
Усадьба Чэндэской управы была для цинских императоров убежищем от летнего зноя, а сама управа являла собой «рубеж цивилизации».
Путешественники миновали высокие, монументальные городские ворота. Преподобный Кэрроуэй отметил про себя, что чэндэскую архитектуру легко спутать с пекинской, а вот местные жители несколько отличаются от столичных: голос выше, шаг шире, одежда безыскуснее, но ярче. Теперь, когда преподобный освоился в Китае, он уже мог, полагаясь на острую наблюдательность, по мельчайшим признакам определить, кто есть кто. Круглые шапочки гуапимао выдавали торговцев пушниной из Шаньси, державших путь на север; они часто щурили глаза и длинными изящными пальцами пощипывали тонкие усики. В синих халатах даньпао и фиолетовых шляпах из фетра ходили монгольские араты: загорелые, красноватые лица, огрубелая кожа, ноги слегка изогнуты от постоянной верховой езды. Встречались и рослые детины с курчавой бородкой, туго подпоясанные, в коротких куртках нараспашку, бросавшие на прохожих настороженные взгляды, – по всей видимости, телохранители из Цанчжоу[37]. Лишь здешние чиновники-маньчжуры, чопорные и холодно-равнодушные, казались двойниками пекинских.
Кучера подкатили повозки как можно ближе к управскому ямэню, и старина Би повел преподобного Кэрроуэя оформлять разрешение на проезд. Преподобный вручил чиновнику справку из управления по иностранным делам, ту, что позволяла вести миссионерскую деятельность, и рекомендательное письмо от церкви. Состроив недоверчиво-презрительную мину, чиновник полистал бумаги, смерил преподобного долгим взглядом, положил перед собой таможенный бланк и прочел, растягивая слова:
– «Слониха, лев, павианы, питон, тигровые лошади»? Это еще что такое? Зачем вы их везете в Чифэн?
Преподобный Кэрроуэй терпеливо объяснил, что хочет открыть в степи зоопарк. Чиновник поморщился. Незнакомое слово «зоопарк» казалось ему подозрительным.
– И как это связано с вашими проповедями? – спросил он.
– Напрямую… напрямую никак не связано. Можно сказать, это две разные вещи.
Чиновник потряс рекомендательным письмом:
– Тут написано, что церковь отправляет вас в Чифэн проповедовать, про зоопарк не говорится ни слова. Вы ничего не согласовали с начальством, как же я вам печать поставлю?
Так преподобный Кэрроуэй узнал, что епископ его обхитрил, поручился за него лишь наполовину. Это ставило его в крайне незавидное положение.
Чиновник вздернул подбородок и принял такой вид, словно поймал преподобного с поличным.
– Вы не думайте, будто я церквей не видел. Как же, у нас в управе тоже есть своя церковь. И с тамошним монахом-иностранцем я знаком, понимаю, как ваше христианство устроено. Монах – человек приличный, порядочный, то молится, то овощи сажает в огороде, никаких диковинных зверей у него и в помине нет.
У преподобного загорелись глаза.
– А где она, эта церковь?
Чиновник холодно хмыкнул и ничего не ответил. Старина Би украдкой сделал знак преподобному, тот наконец опомнился, вынул из кармана серебряную монету и неловко положил ее на стол. Чиновник сердито фыркнул и даже не притронулся к деньгам, лишь поднес ко рту медную курительную трубку и втянул опиумные пары. Тогда кучер оттеснил преподобного в сторону, растопырил пальцы, накрыл монету пятерней, медленно подтянул к себе и сунул руку под стол. Чиновник отложил трубку, принял под столом взятку, неторопливо поднял казенную печать и со стуком оставил на бумаге багряный оттиск.
Преподобный Кэрроуэй хотел было забрать разрешение, но чиновник придержал документ ладонью.
– Погодите-ка, сначала я должен все проверить.
Вечно эти иностранцы что-то затеют, думал чиновник. А ну как опять выкинут фокус? Был уже случай: явились как-то в Луаньпин миссионеры, говорили, будут проповедовать, построят женский монастырь и дом престарелых, а сами открыли рядом с храмом шахту, дело едва не дошло до суда.
Пусть императорский двор не мог запретить миссионерство, к священникам он предъявлял самые строгие требования. Чиновник решил лично убедиться в том, что преподобный не замышляет ничего дурного.
Старина Би и преподобный Кэрроуэй отвели чиновника и его «свиту» на стоянку. От глаз чиновника не ускользнуло, что вокруг телег преподобного полно пустого места – торговые обозы старались держаться от клеток подальше.
Сперва чиновник заметил Счастливицу; впервые он видел слона вживую – прежде он был знаком с ними лишь по статуям бодхисаттв в буддийских храмах. После долгой дороги, нескольких дней, проведенных в спешке, Счастливица казалась изнуренной. Бинты на ногах еще держались, но ткань почти протерлась, а ее цвет стал совсем неразличим из-за слоя пыли.
Чиновник с любопытством обошел слониху кругом, легонько потыкал в нее опиумной трубкой. Счастливица в ответ лишь досадливо качнула хоботом. Чиновник принялся рассматривать павианов, тигровых лошадей и питона. Особенно его заинтересовал гигантский питон. Понизив голос, чиновник спросил старину Би, нельзя ли забрать змею себе и пустить на водку[38]. Преподобный вежливо ему отказал, чем вызвал чиновничье недовольство.
Наконец чиновник подошел к львиной клетке. Обозленный отказом, он не стал изменять своим привычкам и резко ткнул Стражника курительной трубкой. Вот только лев не проявил к этому важному человеку ни малейшего почтения – зверь вздыбил гриву, гневно рыкнул и нанес удар лапой. Чиновник заорал, потерял от страха равновесие и плюхнулся задом в грязь. Блестящая медная трубка с треском переломилась надвое.
Чиновничья свита кинулась, согнувшись, поднимать своего господина. То бледнея, то наливаясь кровью, чиновник удостоверился, что животное заперто и не выпрыгнет на него из клетки, а затем замахал рукой и завопил во всю глотку:
– Немедленно прикончить эту тварь!
Свита схватилась за кинжалы, но приблизиться к грозному хищнику никто не решался. Львов каменных они повидали немало, а вот со львом из плоти и крови повстречались в первый раз, и этот зверь казался им теперь едва ли не свирепее самого тигра. Чиновник, размахивая грязными полами халата, приказывал им сейчас же наброситься на обидчика.
Видя, что дело приняло худой оборот, преподобный Кэрроуэй поспешно выступил вперед, загородил собой клетку и сердито спросил, на каком основании чиновник решил устроить расправу. Поднять руку на иностранца чиновник побаивался; насупившись, он заявил, что лев опасен и уж где-где, а в Чэндэской управе оставаться без присмотра никак не может, а значит, с ним нужно незамедлительно покончить.
После этих слов свита ринулась оттаскивать преподобного от клетки. Положение становилось все безнадежнее. Старина Би подскочил к чиновнику и зашептал:
– Вы только подумайте: «Сад десяти тысяч зверей» – любимая забава вдовствующей императрицы, а он вот так просто взял и забрал оттуда животных, повез их в Чифэн. Видать, этот священник – не последний человек в столице. Если дойдет до суда, ничего хорошего не жди.
Эта полуправда-полуложь слегка остудила чиновничий гнев. Однако, чувствуя себя оскорбленным, чиновник потребовал заплатить за сломанную трубку, а еще велел кучерам оставаться за городской стеной и не въезжать в Чэндэ.
Запрет на въезд означал, что ни люди, ни звери не смогут как следует отдохнуть, да и пополнить запасы еды и питья будет непросто. Но на лучшее рассчитывать не приходилось. Преподобный Кэрроуэй забрал у чиновника таможенный документ с печатью, после чего миссионерский обоз торопливо покинул город. Животные до поры до времени притихли, а вот кучера, напротив, взбунтовались и громко жаловались, что им не дают перевести дух в этот знойный день.











