Читать онлайн Долгая дорога
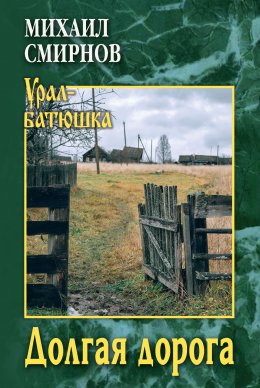
© Фетисов И.В., наследники, 2023
© ООО «Издательство «Вече», 2023
Позднее возвращение
Леонтий Шаргунов вернулся из госпиталя в начале осени, когда зачастили дожди, листва на деревьях пожелтела, а в низинах заколыхался туман. Война уже второй год как закончилась, а он только приехал.
Солнце повернуло на закат, когда Леонтий появился в деревне. Одной ноги у него не было, вместо нее деревянный чурбак, затянутый выше колена широкими ремнями. На другой ноге запыленный разбитый сапог. Сам в галифе, в гимнастерке, на которой поблескивало несколько медалей. Пилотка сдвинута на бровь, а за плечами тощий вещмешок.
Леонтий долго стоял за околицей, поглядывая на деревню. Задергалась щека, а потом затряслась и голова. Он схватился за нее рукой, словно хотел придержать, и зло матюгнулся. Нервное, как сказал врач в госпитале, пройдет со временем. А может, и нога отрастет. И хохотнул. Леонтий в ответ криво усмехнулся. Ладно, если бы кусок мяса выдрало – это дело наживное, а вот молодому без ноги остаться, да еще в деревне, – это большая беда. Тут и здоровому мужику ни времени, ни рук не хватает, чтобы по хозяйству успеть, а он, Леонтий, теперь обрубок.
Достал кисет. Руки дрожали. Пока прикуривал «козью ногу», просыпал табак. Несколько раз затянулся, поплевал на ладонь, затушил – и вытрусил остатки обратно в кисет: пригодится. Прислонился к дереву, расстегнул ремень. Поморщился, растирая култышку. Устала нога, ноет, спасу нет! А еще тащиться на другой конец деревни, да на виду: вечер, уже все с работы домой пришли… Леонтий не раз пожалел, что решил вернуться в деревню. Лучше бы не возвращался. Для всех лучше, и для жены – тоже…
Он еще немного потоптался, потом сплюнул, закинул вещмешок за спину и захромал по разбитой дороге: скрип-шлеп, скрип-шлеп, скрип-шлеп…
Леонтий шел медленно, искоса поглядывая на избы. Кое-где мерцал свет. Где-то громыхнуло ведро, сразу захотелось пить. Он подошел к колодцу. Ухватившись одной рукой за высокий сруб, второй стал крутить ворот. Достал воды, сделал несколько глотков – кадык заходил ходуном. Леонтий слил воду на корявую жесткую ладонь, плеснул на лицо, опять слил и плеснул… Гимнастерка намокла, пошла пятнами. Он пригладил короткий ежик волос, поправил вещмешок – и опять по деревне: скрип-шлеп, скрип-шлеп…
Изредка кто-нибудь из жителей появлялся на улице. Заметив солдата с вещмешком, люди жадно всматривались в его лицо, а потом долго провожали взглядом.
Скрип-шлеп, скрип-шлеп, скрип-шлеп… Леонтий морщился, когда оступался, и снова шагал, стараясь не смотреть по сторонам, чувствуя, что за ним наблюдают. Казалось бы, родная деревня, но сейчас никого не хотелось видеть: устал за долгую дорогу. Да и радости от возвращения он не испытывал. Не было ему здесь жизни в прошлом, а теперь тем более не будет.
Скрип-шлеп, скрип-шлеп…
Наконец Леонтий добрался до дома. Вокруг поразрослась бузина да кусты сирени. Постоял, хмурясь, исподлобья поглядывая на темные окна. Все же решился – толкнул калитку, но не стал закрывать: пусть стоит распахнутая. Прошелся по заросшему двору – повсюду татарник да репей, – сбросил мешок на крыльцо, неуклюже развернулся и уселся на пыльную скрипучую ступеньку. Тяжко, со всхлипом вздохнул. Расстегнул ремни. Деревянная нога громыхнула и съехала на землю. Достал кисет, свернул «козью ножку» и задымил.
Ну, вот он и вернулся домой. А ждут ли его здесь? Вряд ли…
Махра потрескивала искрами, а потом едкий дым подхватывало ветерком, закручивало и уносило. Леонтий сгорбился, под гимнастеркой топорщились худые лопатки. Он сидел и, время от времени поглядывая по сторонам, морщился, растирая обрубок ноги.
За забором раздался чей-то голос. Ударили по доске, и донеслись шаркающие шаги.
– Это… Что расселся, прохожий? – пробубнил низенький лысый мужичок и пошкрябал волосатую грудь. – Что, говорю, сидишь-то? – Он махнул длинной рукой: – Ступай, ступай отсюда! Видишь, хозяйки нет? Вот и нечего соваться. Иди, пока я тебе пятки в обратную сторону не завернул.
– Да пошел ты! – буркнул Леонтий, продолжая растирать культю. – У, зараза, разнылась!
– Шагай, тебе сказано, нечего по чужим дворам шариться! – громко зевнул мужик, потянулся, а потом всмотрелся в Леонтия и удивленно отмахнулся: – Да ну, не верю… – Подступил ближе, склонился к солдату, хотел было опять зевнуть, но быстро закрыл рот, аж зубы клацнули. – Ленька! Ты, что ли? Ты вернулся?! На тебя же похоронка давным-давно пришла! Мол, погиб смертью храбрых, похоронен в братской могиле… А где – я забыл. Сам читал. Варвара твоя как получила похоронку, так в обморок и грохнулась, едва откачали. Все продолжала ждать от тебя вестей, не верила, что ты погиб. Ага… Война как закончилась, все деревенские мужики, кто в живых остался, домой вернулись. Мы, как соберемся, всё тебя поминали в числе погибших. А Варька каждый день на дорогу выходила – высматривала, не идешь ли. И вот ты сидишь здесь живой… Как же так, а? И правда живой, чертяка!
Мужик не удержался, хлопнул широченной ладонью солдата по спине так, что тот покачнулся и закряхтел.
– Слышь, Агафон, что ты размахался ручищами? Чуть спину не переломил, черт длиннорукий! Что на всю деревню разорался? Ну пришел я, ну живой – и что?
– Так это же я от радости… Ага! Много наших мужиков полегло, а ты уцелел! Я что говорю… За такое нужно выпить! – Агафон звонко щелкнул по горлу, а потом, словно невзначай, поинтересовался: – Слышь, Ленька, а где же ты столько времени пропадал? Неужто в лагерях побывал? Или какую-нить бабу утешал и забыл про свою Варьку? Сейчас же много такого добра. Сам знаешь, мужиков-то не хватает. На вес золота, так сказать…
– Какие лагеря, какие бабы, что ты мелешь помелом-то? – рассердился Леонтий. – Нога не заживала. Гангрена. Отпилят – а она опять гниет, отпилят – а она опять… Я сразу говорил, чтобы отрубили по самую мошонку и всё на этом. Ан нет, они же умные, всё знают и умеют. Говорят: «Пытаемся спасти». А что спасать, если уже гангрена пошла? Сами измучились и меня измохратили. Ладно, не подох, живучий оказался. Кое-как выкарабкался. Еле-еле душа в теле…
И заскрипел зубами – протяжно, громко, до озноба.
А потом принялся стаскивать сапог с ноги. Уцепился задинкой сапога за ступеньку, склонился, удерживая его, и запыхтел, заматерился, когда нога соскочила. Опять зацепился, снова стал дергать – и новые матюги, еще хлеще прежних.
– Погоди, Ленька, не психуй, – подскочил Агафон, ухватился за сапог и за ногу, дернул раз, другой… Примерился, рванул – и Леонтий съехал со ступеньки. – На, держи свой сапог. Нога-то не оторвалась, когда дерганул, а? – Агафон засмеялся, мелко затрясся. – Меня на фронте всегда звали, если сапоги прирастали к ногам. Почитай, сутками на ходу, сапоги некогда снять, портянки перемотать. Вот и прирастали. Глянешь, а от портянок одно название осталось. И твоя портянка сопрела, гляди… Ты, Ленька, посиди чуток, сейчас вернусь. Отметим приезд.
Он щелкнул толстым пальцем по горлу, а потом заторопился со двора.
Леонтий пошевелил пальцами. Кожа белая, рыхлая, местами сбитая до кровяных мозолей, а ногти на ногах толстые да желтые, и такой запах… Он пожамкал в руках вонючую портянку, та под пальцами стала расползаться. Нахмурился, хотел было выбросить, а потом повесил на крыльцо. Авось еще послужит, когда просохнет.
– Ну, Ленька, давай за твой приезд выпьем! – закричал Агафон, появляясь в калитке, и бултыхнул бутылку с мутноватой белесой жидкостью. В другой руке он держал стопки и две вяленые рыбки. Засеменил к крыльцу. – На, держи…
Сунул одну стопку Леонтию, сам зубами вытащил пробку из бутылки – и забулькал самогон.
– С возвращеньицем!
Чокнулись. Выпили.
Леонтий поморщился: отвык. Выпивал при случае, но так, чтобы каждый день, не было желания. Он пошкрябал щетинистую щеку, достал кисет и принялся сворачивать «козью ножку». Закурил. Следом засмолил и Агафон. Поставил чурбак напротив крыльца, уселся на него и дымил, поглядывая на соседа, на обрубок ноги и большой деревянный протез со сбитой набойкой. Похвастался:
– А я всю войну прошел – и ни одной царапины! Бывало, после боя глянешь: вся шинелька в дырах, а сам целый. Ага…
– У каждого своя судьба, – буркнул Леонтий. – У нас был такой же, как ты: тоже ни одного ранения, словно заговоренный. А через речку переправлялись – он утонул. Видишь, как судьба распорядилась…
– А для чего такие большие оглобли сделал? – Агафон ткнул в протез. – Ничего промеж ног не натерло? Гляди, отвалится хозяйство-то. Как же без него будешь, а?
И хохотнул, довольный.
– За свое хозяйство беспокойся, – покосился на него Леонтий и высыпал остатки табака в кисет. – Так удобнее ходить. Не потеряется. Ремнями привязал к ноге и шагай. Первый протез выстругал, так на ходу мотылялся, все колено истер. Вот и придумал с такими оглоблями. Подушечку под колено сделал, рюмку для култышки и ремни присобачил. Култышку сунул, захлестнул ремнями – ни в жизнь не соскочит. Проверено.
– Ага, понятно, – закивал Агафон и потянулся с бутылкой. – Давай-ка еще раз за твое возвращение. Живой пришел, глянь-ка! – И удивленно мотнул башкой.
Выпили еще по стопке. Леонтий оторвал рыбий хвостик, погрыз и опять вынул кисет. Курил, поглядывая по сторонам. Вон сарай покосился. Огородишко зарос сорняками, а поле, где картоху сажали, почти все бурьяном покрылось. Лишь поближе к избе земля чернеет. Раньше-то поболее засаживали… В старые времена по осени картоху выкапывали, а нынче уже убрали. А может, даже и съели – кто знает. Он вздохнул.
– А что домой не писал? – покосился на него Агафон. – Как ушел на войну, так и пропал. Ни слуху ни духу…
– Что спрашиваешь-то? – Леонтий сгорбился, уткнулся взглядом в крыльцо. – Сам знаешь, как я жил.
Жизнь у него еще до войны не заладилась. Свела судьба с Варварой, но так и остались чужими друг для дружки. Да и женились как-то не по-людски. Слишком быстро все закрутилось. Немного погуляли, а потом расписались. Может, как говорят, влюбился по уши: девка-то красивая была, мимо не пройдешь – оглянешься. А может, чем-нибудь опоили, чтобы дальше своего носа не видел. На следующий день, когда свадебные гости опохмелились, кто-то с ехидцей сказал, что баба у него блудливая, как мартовская кошка. Леонтий не выдержал, обозвал жену по-всякому и оттолкнул от себя, а она взглянула и промолчала, ни слова не сказала в ответ, лишь нахмурилась и в избе скрылась. Он сидел на крыльце словно оплеванный и не знал, как быть дальше. Ударить кулаком по столу и сказать гостям, что не останется с Варварой, потому что его обманули? Засмеют и не поймут: сам же выбирал невесту, вот и живи теперь. И никуда не денешься.
Стали жить. Леонтий думал, перемелется – все забудется, но, видать, бесполезно. Не простила его Варвара, затаила обиду. Первое время возвращался домой, по хозяйству возился, ночью совался к жене, а она словно бревно лежит или отвернется и молчит. До замужества веселая была да ласковая. Дня не мог прожить без нее. А потом будто наизнанку вывернули… Замолчала с той поры, как он ее при людях обругал, и ни словечка не говорила.
Детей не было. Пустая оказалась.
По деревне про нее всякие слухи гуляли. Говорили, будто у Варвары раньше был заезжий хахаль, с которым она было уехала да через две недели вернулась. Всё думали, за ум возьмется. Ага, как же! Другого ухажера подцепила и назло всем закрутила с ним любовь, потом третьего… А потом Леонтий подвернулся – молодой, глупый. Окрутили его Варька с ее матерью, башку задурили и женили простачка… И еще всякое шептали.
Так и жили молодые супруги – каждый сам по себе. Он дневал и ночевал на работе. Она собиралась и тоже уходила. Леонтий вернется домой, а ее нет. Появится, молчком сунется на кровать и не шевелится, а начни говорить – будто не слышит. И лаской пытался образумить, и смертным боем бил, а Варвара отлежится – и снова в молчанку играет. Потом Леонтия на войну забрали. Ни слезинки не проронила, когда провожала. Все смотрела на него, за руки хватала и старалась в глаза заглянуть, но молчала. Он буркнул, что прощает все ее грехи, но больше к ней не вернется, потом уселся на подводу и ни разу не оглянулся, пока деревня не скрылась из виду.
А сейчас приехал – и для чего?..
Леонтий помедлил, взглянул на соседа, выпил, отмахнулся от закуски и, уткнувшись носом в пропахшую потом гимнастерку, сгорбился на ступеньке.
– Устал я, Агафон, – сказал он. – И раньше была жизнь через пень-колоду, и сейчас вернулся не знаю зачем. Сижу, а в избу не захожу. Словно не моя она, а чужая. Как будто мимо шел, присел немного отдохнуть и сейчас дальше отправлюсь. Видать, вся наша жизнь – это дорога. Только у кого-то она гладкая, а у меня – вся в колдобинах…
– Знаешь, Ленька, у каждого в жизни колдобин хватает, – перебил Агафон. – Не успеваешь перепрыгивать и обходить. И люди не станут разбираться, кто или что тебя толкнуло в грязь, а тут же начнут судачить. Вот помочь отмыться и встать на ноги согласится не каждый, потому что всегда легче осудить, чем протянуть руку.
Они сидели и молчали. Изредка курили, а еще реже наливали самогонку и выпивали. Потом Агафон поднялся.
– Ну, бывай, – сказал он. – Подумай над моими словами, а я пошел. Умотался сегодня. На ходу засыпаю. – И громко, протяжно зевнул.
Направился к калитке, но потом обернулся.
– Слышь, а что про Варьку-то не спрашиваешь? Все-таки жена…
Леонтий пожал плечами.
– А зачем? – сказал он. – У Варьки своя жизнь, а у меня…
И махнул рукой.
– Уехала она, – зевая, сказал Агафон. – Немного не застал. Дня два как уехала, а куда – не знаю.
И ушел.
Леонтий невольно оглянулся на дверь. Уехала… Кажется, на душе стало легче, но в то же время навалилась усталость. Он боялся этой встречи, но в душе хотел увидеть ее, свою жену. Посмотреть, какой она стала за эти годы. Хотя какие годы, если его в середине войны забрали… Такая же осталась, как раньше. С ним холодная, словно ледышка, зато с другими была горяча, как шептались в деревне. Леонтий ушел на фронт и ей руки развязал: делай что хочешь…
Он чертыхнулся. Хватит о ней думать и себя накручивать!
Долго поднимался, схватившись за шаткие перила. Придерживаясь за стену, допрыгал до двери. Она не заперта: зачем, если нечего воровать. Толкнул – заскрипела и распахнулась. Уже в сенях до боли знакомые запахи. На ощупь нашел в темноте дверь в избу, дернул. Не получилось переступить порог. Опустился на щелястый пол, на карачках пробрался внутрь. Прислонился к печке. Холодная, а все равно пахнуло хлебом и дымом. В животе заурчало. Леонтий уже забыл, когда в последний раз ел, да и желания раньше не было: покурил, водички попил – и хватит.
Заполз в горницу и опять прислонился к стене. Стена обшарпанная, давно не мазанная и не беленная. Взглянул по сторонам – и закашлялся, задохнулся. Частенько ему на фронте и потом в госпитале ночами снилось, как он сидит за столом, а на столе чугунок с картохой, рядом капуста лежит и полная чашка соленых рыжиков, а здесь груздочки выглядывают, а в другой чашке судак и щука соленые – сам на зиму заготавливал. Каждый год опускал в погреб по два-три бочонка с рыбой, потом всю зиму питались. С картошкой, с соленьями, а если еще под стакашок… И, как ни странно, Варвара снилась. Иной раз Леонтий чертыхался, а бывало, тоска накатывала, да такая, что хоть волком вой или об стену головой бейся!
И всегда была какая-то недосказанность в этих снах. Варвара стоит перед ним и смотрит, словно в душу заглядывает и выворачивает ее – эту душу, и вроде что-то хочет сказать. Потянется ему навстречу, а потом плечики поникнут, и стоит сгорбившись. Леонтий руку начнет к ней протягивать, а рука неподъемная, с места не сдвинешь. Рванется к ней – и тут же просыпается, а потом весь день смурной ходит…
– Эй, хозяева! – С улицы донесся густой голос, и раздались медленные тяжелые шаги. – Что свои ноги разбросали по всему двору? Ни пройти ни проехать.
Заскрипела дверь. Склонившись, протиснулся высокий мужик, аккуратно приставил протез к печке, а сам заглянул в горницу.
– Здорово, Ленька! – забасил он, подхватил Леонтия и принялся тискать. – Здорово, чертяка! Живой, ёшкин малахай, а мы уж тебя тыщу раз похоронили! Значит, будешь жить вечно… – И опять тискает.
– Пусти, Панкрат! – захрипел Леонтий, стараясь вырваться из цепких рук. – Все ребра переломал, ирод!
– А мне Агафон говорит, ты вернулся, а я не верю. Сам знаешь, какой он болтун, – продолжал басить мужик. – С того света не возвращаются. Ага, ёшкин малахай… Думал, он лишку выпил. Присмотрелся – вроде трезвый, и по глазам видно, не врет, зараза. Ну, я у своей бабы пузырек забрал ради такого случая, немного снеди прихватил – думаю, ты же голодный вернулся – и сюда подался. Гляжу: точно, возле крыльца нога валяется. Не обманул Афонька! Аж дух занялся, так обрадовался. Ведь тебя же давным-давно схоронили, ёшкин малахай. Одна твоя Варька не верила, что ты погиб. Всё ждала…
И Панкрат опять полез обниматься. Потом дотащил Леонтия до стола и посадил на шаткую табуретку.
– Здесь чуток посветлее будет, – сказал он, вытащил из кармана бутылку, заткнутую бумажной пробкой, положил на стол большой сверток и метнулся на кухоньку. Загремел чем-то, захлопали дверцы, и Панкрат опять вернулся. – Вот, разыскал, – сказал он, поставил стаканы и разлил выпивку. Потом развернул сверток и придвинул к Леонтию. – Это для тебя, ёшкин малахай. Давай-ка опрокинем по стопке, и принимайся за еду. Истощал, кожа да кости остались! Ну, ничего, были бы кости, а мясо нарастет. Откормит тебя Варвара, поставит на ноги…
И запнулся, исподлобья взглянув на Леонтия. Тот промолчал, лишь сильнее нахмурился.
– Ну, «провались земля и небо, мы на кочках проживем», как мой батяня говорил. Давай-ка опрокинем за приезд, – сказал Панкрат, медленно выпил и затряс головой. – Ух, зараза, аж слезу вышибает! – И тут же ткнул пальцем: – Ты покушай, Ленька, покушай. Оголодал, пока добрался. Правда, мало разносолов. Голодновато в деревне, но ничего, не помрем – привыкшие.
Леонтий взял со стола маленького жареного окунька и принялся его грызть, обгладывая и обсасывая каждую косточку. У, вкусно-то как! Всякую рыбу пробовал, а своя намного вкуснее. Родная, можно сказать.
– Давай еще по стопке опрокинем, – подтолкнул Панкрат. – Ну и что, что темно? Мимо рта не пронесешь!
И снова закряхтел, закашлялся. Потом закурил, и огонек выхватывал из тьмы уставшее лицо, заросшее щетиной, и пальцы с обгрызенными ногтями.
– Ну, рассказывай, почему задержался, – наблюдая за Леонтием, сказал сосед. – Афонька говорил, что в госпитале валялся. А почему не писал домой? Все обиду держишь на Варвару, да?
– А тебе какое дело? – не стерпев, рявкнул Леонтий и бросил рыбью голову на стол. – Что лезете в душу? Один зашел, взялся учить, сейчас ты нос суешь… В своих семьях разбирайтесь, а ко мне не приставайте, не то враз отлуп получите. Ишь, защитнички выискались!
Не удержался, схватился за бутылку, налил в стакан, выпил и замолчал, поглядывая в темное окно.
– Дурак, – спокойно, даже неторопливо пробасил Панкрат и повторил: – Дурак! Развыступался, ёшкин малахай! Сам виноват. Поменьше бы других слушал, а побольше бы Варькой интересовался. Внимание уделял, так сказать. Глядишь, жили бы как люди. Ладно, потом поговорим… Лучше скажи, как в госпиталь попал, почему похоронку прислали?
– Как обычно попадают – ранили, – буркнул Леонтий. – Осколком зацепило. Гангрена началась. Если бы сразу отрезали ногу, давно бы приехал, а они «спасали». И на кой черт она нужна такая? – Он хлопнул по обрубку, поморщился – больно. – Это же не мужик, с такой култышкой, тем более в деревне: ни копать, ни пахать. Молодой еще, жить да жить, но уже стал обузой. Ай, да пропади всё…
Махнул рукой и отвернулся.
– Какая обуза, если всего полноги не хватает? – хохотнул Панкрат. – Вон возьми нашего Николая Дронова. Ну, у которого дом возле речки. Да ты знаешь его, ёшкин малахай! У него три култышки и рука крючком, а он живет да еще умудрился ребятенка сделать. И баба его рада-радехонька, пылинки с него сдувает. А ты: обуза, обуза… Кому – Варьке, что ли, обуза? Да ну, скажешь тоже…
– Что ты заладил: Варька, Варька… – взъярился Леонтий и крепко хлопнул ладонью по столу. – У нее своя жизнь, а у меня своя. Понял? Я вообще не хотел возвращаться. Никто не ждет меня. Некому ждать.
– Дурак, ох дурак! – покачивая головой, сказал Панкрат и поднялся. – Ладно, я пойду, пока не разругались. Вижу, разговор не получается. Отсыпайся с дороги. Скажу своей бабе, чтобы завтра к тебе заглянула. Чем-нибудь поможем. – Постоял, помолчал, потом все-таки сказал: – А Варька твоя, чтобы ты знал, за десятерых ломила в войну, когда всех мужиков на фронт забрали. Всех баб поддерживала, с любой бедой к ней бежали, а она помогала. Последний кусок ребятишкам-сиротам отдавала, а сейчас поехала… – Он запнулся, а потом махнул рукой: – Смотришь далеко, а под носом ни шиша не видишь. Эх ты, горе луковое…
И ушел, хлопнув дверью.
Леонтий долго сидел за столом. Темно за окном, а в избе еще темнее. Руку протяни – и не увидишь. Курил. Вспыхивал огонек, выхватывая из темноты край стола, или отражался в мутном стекле. Леонтий потушит окурок, вытрусит в кисет и снова сидит. Обо всем думал. Мелькали перед ним обрывки прошлой жизни. Одни исчезали, другие складывались в какую-нибудь картинку. То война вспоминалась, то довоенное. Вот отец мелькнул, давно уж его нет в живых. Надо бы на могилки сходить к родителям да и деда с бабкой проведать. Всех родных Леонтий схоронил. Один был у матери с отцом. Мать он помнил плохо: какой-то смутный образ, запахи больницы… А потом она померла. Леонтия воспитывал отец. Да как воспитывал, если его дома-то не было, все на работе пропадал? Вернется, повозится по хозяйству, что-нибудь перекусит и спать заваливается… Однажды по весне отец стоял на обрыве, смотрел, как вода прибывает, а край обрыва обвалился и ушел под воду. Отца нашли в топляках, когда вода на спад пошла.
Пришлось Леонтию самому заниматься хозяйством. Не до учебы стало, рано пошел работать, а подошло время – женился, но жизнь как-то не сложилась. Конечно, Леонтий и себя за это корил, но Варвару – больше: мол, люди зря не будут говорить, дыма без огня не бывает. С другой стороны, может, со всем бы они справились, если бы он, мужик, ей плечо подставил. А он, получается, оставил ее одну со всеми бедами-напастями: мол, разбирайся как знаешь… Вспомнил он, как они с Варварой познакомились, как гуляли, о чем разговаривали… Что ни говори, а с ней было интересно! И смеялась она так, что и не захочешь, а следом за ней зальешься. А уж как взглянет…
Леонтий чертыхнулся: все-то она в башку лезет! Неуклюже поднялся. Придерживаясь за стену, допрыгал до кровати в углу. Скинул гимнастерку и повалился на матрац. Покрутился, устраиваясь на подушке, – и от нее Варварой пахнуло, как показалось. Хотел сбросить подушку на пол, а потом обнял покрепче и уснул, словно провалился. Все, он дома…
Едва рассвело, Леонтий был на ногах, если можно так сказать. Сунул свой обрубок в протез, захлестнул ремнями, вышел во двор, постоял, поглядывая по сторонам, потом взял ведро и как был в нательной рубахе, так и направился к колодцу: скрип-шлеп, скрип-шлеп…
– Ой, гляньте-ка, Леонтий воскрес из мертвых! – протяжно, с ехидцей, заголосила толстая баба, стоявшая возле колодца. – Прикатил, а его раскрасавица умызнула. Видать, поехала нового хахаля искать…
– Дура ты, Глашка! Что языком-то поганым мелешь? – всплеснула руками старушонка в широкой юбке до земли, в кацавейке и теплом платке. – Не знаешь – не болтай! Здрасте вам, Леонтий Матвеич! – Она склонила голову. – Вот радость-то, живым вернулись! А Глашку не слушайте. Завистливая баба.
– А чему завидовать-то? – уперев руки в боки, возмутилась Глафира. – Что у него баба гулящая или что он безногим воротился? Хе-хе, вот радость-то! И Варька не баба, и он не мужик. Так, две половинки… – И поджала тонкие губы.
– Стыда у тебя нет! – покачивая головой, протяжно сказала старуха. – Не слушай ее, Леонтий Матвеич! Твоя Варька – золото, а не баба.
– Золото для других? – буркнул Леонтий, подхватил ведро и медленно направился к дому: скрип-шлеп, скрип-шлеп…
– О, баб Дуся, слышала? Сам Ленька сказал, что его Варька еще та гулена! Всех мужиков перебрала, огни и воды прошла, шалава подзаборная, – опять зачастила Глафира. – Горбатого могила исправит. Так и ее…
– Да замолчи уже! – сердито прошамкала старуха. – Сама не живешь и другим не даешь. Распустили сплетни на пустом месте, ославили девку на всю деревню… Вот погоди, скажу твоему мужику, пусть он тебя проучит!
– Тоже мне напугала – мужик! Да я сама его… – начала было Глашка – и ойкнула, когда рядом с ней вдруг загудел тягучий бас. – Коленька, я же пошутила… Конечно, ты настоящий мужик… А-а-а!..
– Правильно, Коля, так ее, заразу! – донеслось от колодца. – Приструни немного, чтобы почем зря языком не молола.
Во дворе Леонтий скинул исподнюю рубаху и принялся мыться холодной водой. Охал, фыркал, намываясь. Потом вытерся утиркой, висевшей на крыльце, подхватил рубаху и зашел в избу.
Усевшись за стол, сразу налил в стакан, выпил. Закряхтел, замотал головой: ух, крепка самогонка! Потом схватил окунька и принялся грызть. Достал из свертка, что оставил Панкрат, две небольшие картошки. Очистил одну: внутри почерневшая. Все равно откусил и зажмурился. Опять налил и выпил. Закурил. Стал осматриваться.
Впотьмах-то накануне родную избу не разглядел. Все такое знакомое, но в то же время чужое. Как он вчера сказал соседу, «будто я мимо проходил и просто присел отдохнуть». Так и сейчас было, но уже как будто немного отступило и притупилось… Стол, табуретки, кровать в углу, над ней простенький коврик. Рядом сундук, а в нем, как он помнил, его костюм, рубахи и ботинки, Варькины платья и прочие тряпки. Возле окна этажерка, на ней две-три книжки, огрызок карандаша, шкатулка – все нажитое богатство. А в углу икона виднеется. Это Варвара с собой принесла, когда они с Леонтием поженились. Странно, если насовсем уехала, почему ее не забрала? Леонтий сдвинул брови. Знал, что жена дорожила этой иконой, которая ей будто бы еще от бабки досталась. Икона здесь, а Варвары нет, и куда укатила – непонятно, все молчат…
Леонтий поднялся. Придерживаясь за стены, вышел во двор. Распахнул дверь в сараюшку. Тишина. Раньше, хоть и жили сами по себе, а здесь и свинка была, даже не одна, и кур десятка два, и гуси ходили, и козу держали. И за всем этим хозяйством Варвара присматривала… Тьфу ты! О чем бы ни подумал, все думки неминуемо к Варьке сходятся!
Огляделся в полутьме. Скрип-шлеп, скрип-шлеп. Подошел к закрытой двери, звякнул щеколдой – открыл. Остановился на пороге. Здесь он столярничал. Верстак в углу, на нем лежит весь инструмент, на стенке пилы, угольники да линейки. Он постоял, рассматривая. Каждая вещь на своем месте, как он привык держать. Наверное, Варвара позаботилась… Вот черт, опять! Грохнул дверью и направился в избу: скрип-шлеп, скрип-шлеп.
– Хозяин, бывай здоров! – На крыльце стояла соседка с ведром и узелком. – С прибытием, Лень! Мы так рады, что ты вернулся живой, так рады! Я всю ноченьку глаз не сомкнула, все про тебя думала да про Варвару…
– Нечего думать, – буркнул Леонтий и стал медленно подниматься по ступеням. – Не успел появиться, уже всю плешь прогрызли. И ты будь здорова, Анюта! Что тебя нелегкая принесла?
– Панкрат прислал. – Она кивнула на ведро. – Чуток картошки положила. Плохо уродилась в этот раз, да и сажать было нечего. Вот здесь еще грибы. А Панкрат выделил для тебя самосад и газетку сунул на всякий случай. Мало ли что… – Она помялась, хотела что-то сказать, а потом махнула рукой, все оставила и пошла со двора. – Сами разберетесь, не малые дети.
Чему-чему, а табаку Леонтий обрадовался. Лучше без куска хлеба остаться, чем без курева! Проголодаешься – можно потерпеть дня два и даже три, а вот без табака сразу беда. Весь изведешься, всю траву да листья искуришь или изжуешь, но все равно тянет смолить – спасу нет. Он сразу подхватил узелок и ведро да быстрее подался в избу.
К вечеру снова нагрянули гости. А потом люди и вовсе потянулись друг за дружкой. По деревне быстро разошелся слух, что считавшийся погибшим Леонтий Шаргунов вернулся – без ноги, но живым. Несмотря на голодные времена, каждый старался прихватить гостинчик. К Леонтию заглядывали все: соседи, ребятня, деревенские бабы и молодые девчонки. И вдовы заходили – спросить, не встречался ли он где-нибудь на фронте с их мужьями… Спрашивали, а сами плакали.
Плакали все, кто приходил, бывало, даже мужчины не сдерживали слез.
Мужики приносили бутылку, рассаживались возле стола, а то и на подоконнике, если места было маловато, выпивали и подолгу разговаривали. Все разговоры в конце концов сводились к войне. Каждый старался выложить что-нибудь свое, наболевшее: или про себя, или про друзей, с кем рядом воевал. Этот вернулся, тот погиб, а тем повезло – в госпиталь угодили. Повезло, потому что в живых остались, а что теперь без руки или без ноги – это мелочи. Дома их готовы ждать сколько угодно и примут любых: здоровых, контуженных, безруких и безногих, слепых и глухих… Лишь бы вернулись.
– Вот я помню, наш полк вырвался вперед, – рассказывал невысокий тощий мужичок. – Ушли мы далеко от своих – и нас взяли в кольцо. Боеприпасы закончились. И как принялись фашисты садить в нас без передышки, зная, что никуда не вырвемся! Трое суток мы пролежали в болотах, головы не могли поднять – такой огонь вели по нам фрицы. Чтобы от него укрыться, мы выкладывали перед собой тела погибших товарищей. Они мертвые спасали нас живых. А через трое суток наши подоспели. Вот только от полка осталась всего одна рота. Так-то, братцы… Мне ночами снятся ребята, что там погибли. Приходят. Разговариваю с ними…
Он замолчал, уткнувшись взглядом в пол.
– Давайте, мужики, выпьем, – сказал кто-то.
Все выпили.
– А мы готовились к атаке. «Катюши» как врезали по немцам – ужас, что творилось! – заговорил крепкий мужик в расстегнутой до пупа рубахе. – Как дали, аж земля горела! Потом пошли мы, танки. И только двинулись в атаку, как из огня навстречу нам выскакивает фашист! Прямо вот так, передо мной. Гляжу, а у него вся башка седая и глаза белые-белые, даже зрачков не видно! Видать, рассудка лишился после наших «катюш». Никого не замечает и бежит прямо на мой танк. А я куда отверну, если рядом со мной другие идут? По нему прошли… Эх, война сволочная!..
И тоже смолк, уставившись куда-то в окно.
– Помню, заскочил я в один дом, когда Берлин брали, – медленно заговорил еще один мужик, потирая щетинистое лицо. – Слышу, кто-то возится в комнате. Забегаю туда, а там офицер-эсэсовец в гражданскую одежду переодевается. Видать, сбежать хотел. Меня увидел, пистолет выхватил и выстрелил мне в лицо. Промахнулся, мне только висок обожгло. Я его из автомата снял. Дурак он: нужно было в грудь стрелять, тогда бы попал. А он – в лицо из пистолета! Кто же так стреляет?
Сказал и пожал плечами, словно не в него палили и не его могли убить.
– Давайте, мужики, выпьем за всех, кто не вернулся домой, – предложил кто-то за столом. – За всех, кого до сих пор ждут и будут ждать…
Выпили. Потом потянулись на улицу, на перекур. И на крыльце опять долгие разговоры. Вспоминали войну, тут же переходили на деревенскую жизнь и начинали что-нибудь обсуждать, спорить, а иногда и ссориться. Тогда вмешивались жены и наводили порядок: одних ругали, других уговаривали, третьих просто уводили домой.
Прошло несколько дней, и на пороге появился председатель, Роман Тимофеевич. Зашел, осмотрелся. Нахмурился, увидев замызганные полы, мусор в углах, пепел на столе и подоконниках, разбросанные повсюду свертки, узелки и узелочки. В доме стоял стойкий запах махорки.
Леонтий сидел за столом – небритый, опухший и уже навеселе.
– Здорово, солдат! – Председатель подошел к столу, громыхнул табуреткой и присел напротив Леонтия. Покрутил в руках заляпанный стакан, чуточку налил в него и выпил. – За приезд, за твое воскрешение из мертвых!
– А, здрасте вам. – Леонтий пьяно качнул головой. – Как живете-можете? – И потянулся за бутылкой.
– Вашими молитвами. – Председатель перехватил бутылку и отставил подальше. – Не надоело в рюмку заглядывать?
– А что? – с гонором сказал Леонтий. – Имею право! Я домой вернулся. Вот гуляю…
Он обвел рукой стол.
– И долго еще собираешься гулять? – прищурился Роман Тимофеевич.
– Сколько хочу, столько гуляю. Вам-то какое дело? – повысил голос Леонтий. И заухмылялся: – Я человек списанный, к жизни и труду непригодный. Калека безногий. Вся моя жизнь коту под хвост. Ясно вам?
– А, ну да, ну да! – закивал председатель. – Это проще всего – себя жалеть. Мол, больной, хромой, жизнью обиженный… И самогоном себя глушить – так сказать, горе заливать.
– Я войну видел! – Леонтий ударил кулаком по столу. – А ты, Тимофеич, дальше райцентра не выезжал. И не тебе меня совестить, понятно?
– А я каждый день смотрел в глаза детишек, которых к нам привозили в эвакуацию! – тоже повысил голос председатель. – У нас в деревне всю войну детдом стоял, только потом его в город перевели. Ты знаешь, каково это, когда голодные дети смотрят на тебя и молчат? Страшно и больно… Твоя Варвара этих ребятишек выхаживала. В тень превратилась, потому что у самой маковой росинки во рту не было, все им отдавала. И если бы не она…
– Да что вы лезете ко мне с этой Варькой? – вспылил Леонтий и смахнул со стола пустую бутылку. Та, звякнув, покатилась по грязному полу. – Нашли икону! У меня своя жизнь…
– Знаешь, Ленька, я тебе раньше сочувствовал, – помолчав, сказал Роман Тимофеевич. – Ты рано без родителей остался, совсем еще мальчишкой пошел работать, чтобы себя прокормить. Потом, как женился, поползли эти слухи про Варвару… Я думал, надо же, как не везет человеку, жалел тебя. А теперь понял: ты просто дальше своего носа не видел и не хотел видеть. Тебе так было удобно. Наслушался бабьих пересудов, отвернулся от жены и успокоился. А ты бы своей башкой подумал, сколько Варваре пришлось вынести, через что она прошла! Ты помочь ей должен был, защитить. А ты бросил ее одну…
Председатель вздохнул. Хотел было налить себе в стакан, но передумал и поставил бутылку обратно.
– Я бросил?! – вскинулся Леонтий. – Я вернулся – и где же она, моя разлюбезная, а? Никто не знает, а кто знает – посмеиваются. Говорят, к хахалю подалась…
– Дурак! – оборвал его председатель. – В город твоя Варька поехала, в детдом. Прикажешь на каждом перекрестке об этом кричать? Хочет она взять мальчонку-сироту. Мы с бумагами помогли. А что тебя никто не спросил, так ведь ты погибшим числился, столько лет не подавал о себе вестей… – И добавил: – Радуйся, сын у тебя будет! Еще один мужик в доме появится, помощник вырастет. Мальчонка – вылитый ты. Варвара как его увидела, так сразу к нему сердцем и потянулась.
– Сын… – Леонтий запнулся и в растерянности закрутил башкой. – Так ведь… А как жить-то будем? Я же безногий…
Сказал и поник.
– А руки и голова у тебя на что? – усмехнулся Роман Тимофеевич. – Чем собираешься заниматься? Так и будешь у бутылки дно искать или все-таки возьмешься за ум? Не для того Варвара мальчонку привезет, чтобы он смотрел, как отец лодыря гоняет и спивается.
– Да куда я со своей культей пойду? – Леонтий стукнул по ноге. – Ни копать, ни пахать…
– Кто тебя заставляет пахать? – пожал плечами председатель. – Ты же неплохой столяр и плотник. До войны любо-дорого было смотреть на твою работу. И двери делал, и окна, да много чего… Вот и займись. Мастерскую выделю, инструментами и материалом обеспечу. Помощников подберешь сам. Работы – непочатый край: нужно старое восстанавливать, новое строить… Сына в подручные возьмешь, пусть растет при деле, учится мастерству. Ну как, согласен?
Леонтий растерялся от неожиданного предложения. Он уже привык считать себя ни на что не годным, обузой для других, а тут вдруг… Вспомнил, как в первый день после возвращения зашел в свою мастерскую, как задрожали руки, прикоснувшись к инструментам… Соскучился!
– Можно взяться, – степенно сказал он. – От работы я никогда не бегал. Приучиться бы только с одной ногой управляться…
– Вот и ладушки, – перебил Роман Тимофеевич и встал. – Договорились. Я распоряжусь, чтобы подготовили мастерские и прочее. А тебе даю еще три дня на уборку в избе… – Он обвел взглядом горницу. – И в семье порядок наведи. Нужно жить своей головой, а не верить чужим сплетням. Понял? Вот так!
Надвинув на глаза фуражку, председатель пошел к выходу. На пороге оглянулся, постоял, глядя на Леонтия, как будто прикидывал, можно на того надеяться или нет. Потом погрозил пальцем и вышел.
Леонтий еще посидел за столом. Хотел выпить, но подумал и отставил бутылку в сторону. Посмотрел по сторонам: везде грязь, мусор, окурки… А запах!.. Поморщился и торопливо взялся за уборку. Думал о Варваре, о сыне, который скоро приедет, и удивленно качал головой.
Смеркалось, когда дверь распахнулась и на пороге появился Агафон. Он хохотнул, увидев, как Леонтий елозит по полу в исподнем белье и косырем скоблит грязные половицы.
– Эй, Ленька, ты что это делаешь? – Сосед прислонился к косяку. – Полы драить – это же бабья работа! Хватит, поднимайся. Посидим, покурим, поболтаем. Столько не виделись…
– Некогда рассиживаться, – буркнул запыхавшийся Леонтий. – Иди отсюда, не стой над душой! Мешаешь. Хватит, отметили приезд. Пора делом заняться.
И опять взялся за косырь.
Агафон потоптался, что-то бормоча себе под нос. Собрался закурить, достал кисет, потом взглянул на чистый пол и молчком вышел.
Чуть погодя снова стукнули в дверь. Ввалился крепкий старик, держа в руке небольшой кукан с мелочевкой.
– Ленька, я рыбку принес! – забасил он и в грязных опорках прошлепал к столу. Положил на него рыбу и прищурился: – А ты чего на карачках ползаешь? Перебрал, что ли?
– Ну, дед Тимоха! Я тут полы скоблю, а ты в грязной обуви шляешься! – не удержался, рыкнул Леонтий и вытер вспотевшее лицо. – Вон, аж мокрый весь… Спасибо за гостинец.
– Ну ладно, не стану мешать. – Дед Тимоха направился к двери. – Не ругайся. Рыбку определи, чтобы не испортилась. Наловлю – еще принесу.
Леонтий не ответил, все скоблил полы. Доски зажелтели. Намочит их – сразу смоляным духом тянет. Опять берется за косырь и начинает скоблить. Немного продерет, смывает водой – и опять запах смоляной…
Наконец закончил. Чувствуя усталость, устроился на крыльце с кисетом. Над деревней висели густые сумерки. Дорога терялась в них, но Леонтий все равно смотрел вдаль, дымил самокруткой и ждал. Вдруг они приедут уже сегодня – Варвара и мальчик. Какими словами их встретить? «Здорово, малой, я твой папка. Здравствуй, Варя. Мне Тимофеич все рассказал…» Так, что ли?
Задергалась щека, следом затряслась голова. Он схватился рукой, словно старался удержать. Врачи говорили, что это нервное, со временем пройдет…
Леонтий представил лицо жены. Вспомнил, как она смотрела в тот день, когда его забирали на войну, – словно хотела что-то сказать или спросить, но не решалась… Вспомнил слова председателя, что нужно жить своей головой. И вдруг успокоился. Здесь его дом, и теперь у него по-настоящему есть семья. Война и мытарства по госпиталям остались позади. Можно начинать жить заново. Они с Варварой и сами не пропадут, и сына на ноги поставят. Ничего, что он, Леонтий, без ноги. К этому можно приспособиться. Главное, что живой.
Он сидел, курил, вглядываясь в дорогу, по которой к нему должна была прийти новая жизнь, готовый встать и шагнуть ей навстречу. Может, они приедут завтра, а не сегодня. Путь-то из города не близкий… Ну и ладно: ведь Леонтий больше никуда отсюда не денется. Он теперь всегда будет с ними. Он вернулся.
С возвращением, Федька
Скрипели старые, рассохшиеся двери под резкими порывами ветра, не в силах прикрыть внутреннее убожество домов. Тёмными провалами смотрелись оконца. Видно было, здесь уже кто-то побывал – по-хозяйски себя вёл, ничего не опасался, влезая в старые избы. Да и кого бояться-то в заброшенных деревушках, коих немеряно развелось повсюду. Всё перевернули, искорёжили, что-то выискивая, и, громко топоча, уходили – пакостники. А ежели с ночевьём оставались – считай, пропала избёнка: подпалят, покидая, и далее отправляются, не оглядываясь, не задумываясь, что с деревней-то будет. Ветром сорвёт петуха красного, и начнёт он гулять по всей деревне, и нет её больше, исчезла с лица земли, осталась лишь память о ней да печные трубы закопчённые, что сиротливо в небо уставились.
Так и стоят деревни и сёла там и сям, глядя на мир тёмными прорехами оконцев. Старики уж почти все на погостах, молодёжь перебралась в города, в надежде, что там жизнь лёгкая. Лишь те остались, кому ехать некуда, да и незачем. Остались, чтобы свой век дожить, докуковать.
…Фёдор вздохнул, устало растёр ладонями вспотевшее лицо, размазывая прилипшую пыль, присел на корточки, внимательно всматриваясь в едва заметную надпись на покосившемся кресте.
– Ну, здравствуй, батя, – сказал он. Торопливо начал искать в потёртой сумке и достал початую бутылку с мутной жидкостью. – Вот я и вернулся домой…
Он снова стал шарить в сумке, вытащил гранёную рюмку, пластмассовый стаканчик, наполнил до краёв и, поставив рюмку возле креста, выдохнул, выпил из стаканчика, громко закряхтел и, морщась, взглянул на просевший бугорок земли.
– Знаешь, батя, а я не нашёл материну могилку. Ходил, ходил по кладбищу и не смог отыскать, где она покоится. Памятники ржавые, кресты покосившиеся, а надписей нет. Одним словом – безымянные. Завтра сюда приду, мамаку разыщу и ваши могилки поправлю. Понимаю, некому было за вами ухаживать. Теперь я займусь, всё исправлю. Ты прости меня, дурака, что не послушал тебя и в молодости в город сбежал за лёгкой жизнью. Да уж, лёгкая, – Фёдор опять тяжело вздохнул, вылил остатки из бутылки, выпил и передёрнул плечами. – Фу, гадость! Что я говорил? А, да… О лёгкой жизни рассказывал. Кому-то она как мать родна, а мне словно мачеха. Закружила, завертела и выбросила на обочину. Всё повидал, всюду побывал, даже в тюрьму угодил. Там-то и вспомнил твои слова, что везде хорошо, где нас нет, и то, что дом – это родина, мать родная. Так и получается. Шлялся-мотался, за длинным рублём гонялся, полстраны проехал, а в кармане – вошь на аркане: всё проел, прогулял, а пришло время – в родной дом воротился и каюсь, что прозрение поздно пришло. Кнутом, вожжами нужно было меня хлестать до крови, до визга, на цепь сажать, чтобы никуда не рвался, тогда и не пришлось бы мыкаться – это я сам виноват, что так получилось. Ничего, теперь вернулся, надо думать, как жить, чем заниматься. Прошлое не вычеркнуть, батя, да от него и не уйдёшь. Не знал, что теперь автобусы не ездят по деревням. Пришлось на шоссейке водителя просить, чтобы остановился, а потом пешим ходом столько вёрст сюда добирался. Издаля глянул на деревню, что от неё осталось, на разруху, и сразу на кладбище отправился. Да уж, сильно разрослось… Читаю, вижу знакомые имена, а вспомнить никого не могу. Эх, жизня…
– Чего шляешься по погосту, нехристь? – услышал Фёдор, хотел повернуться и почуял сильный удар по спине. – Мало вам, что все избы изгадили, так ещё и сюда добрались. Креста на вас нет, разбойники!
Извернувшись, чтобы ещё раз не получить по хребтине, Фёдор отскочил в сторону и прижался к старенькой ржавой оградке.
– Бабка, хватит меня костерить! – рявкнул он и посмотрел на сгорбленную, сухонькую старушонку, одетую в залатанную чёрную юбку до щиколоток, из-под которой виднелись замызганные галоши, на плечах был ватник, весь в дырьях, голова повязана коричневым шерстяным платком, седые прядки выбились, закрывая морщинистый лоб, и были заметны блёклые голубоватые глаза. – Отстань от меня, карга старая! Нашла место, где клюшкой своей махать.
– Вот ужо погодь, – опять намахнулась клюкой старуха. – Покличу народ с деревни, вмиг бока намнут!
– Да какой народ, с какой деревни, бабка? – Фёдор оглянулся на редкие дома, видневшиеся среди кустов и деревьев. – Нет её – умерла! А люди… Остались два старика и три калеки да ты в придачу – и всё!
– Покудова последнего не отвезут на погост, жива будет деревенька, жива, – старуха погрозила скрюченным пальцем и снова намахнулась клюкой. – Вот отхожу тебя, ирод, тогда узнаешь! Откель тебя занесло в наши края, лихоимец?
– Я местный, бабка, здешний. – Фёдор кивнул на могилу. – Тут мой батя лежит, а мамку так и не нашёл. Эх, жизня… – Он тяжело вздохнул, снял засаленную кепку и пригладил взъерошенные волосы.
– Местный, говоришь? Погодь, погодь, – прищурившись, старуха начала всматриваться. – Да ну… Неужто Федька? Не может быть! Ты же… – не поверив, она перекрестилась и отмахнулась. – Сгинь!
– Да, бабка, я вернулся, – перебил её Фёдор, смял в руках кепку и повторил. – Домой вернулся… А тебя, старая, что-то не припомню.
– Дык у нас болтали, будто тебя уже давным-давно схоронили, а ты живёхонек стоишь передо мной, – продолжая всматриваться, бабка опять быстро перекрестилась. – Даже заупокойную заказывали батюшке. Твои, пока живы были, каждый год, на родителей, тебя поминали. Говоришь, не помнишь, да? – и, прикрыв ладошкой беззубый рот, дробно засмеялась. – Я же бабка Ляпуниха, баб Катя… Ну та, которая тебя, когда начал женихаться, отстегала крапивой, а потом засунула её тебе в штаны, чтобы за девками в бане не подглядывал. Опозорила на всю деревню. Хе-х!
Фёдор исподлобья посмотрел на неё. Да уж, он помнил этот случай, а потом ещё и батя несколько раз ремнём отстегал, когда соседи проходу не стали давать.
– Не забыл, – насупившись, буркнул Фёдор. – И тебя, баб Катя, частенько вспоминал. До сих пор небо коптишь, старая? Ну живи, живи, сколько наверху отпущено…
– А я и взаправду думала, что тебя уж давно на свете нету, – покачав головой, сказала бабка Ляпуниха. – Сколько лет ни слуху ни духу, а сейчас заявился. Ох, шустёр был, однако…
– Да жив я, жив, – поморщившись, пробормотал Фёдор. – Вот вернулся… Домой не заходил, сразу сюда подался.
– Господи, а что стоим-то? – перекрестившись, прошамкала баба Катя. – Ты же с дороги, чать, голодный. Пошли ко мне, покормлю, а там и погуторим, – и, не оглядываясь, она засеменила по узенькой заросшей тропке.
Подняв сумку из холстины, где лежали смена белья, пара книжек, кусок дешёвой варёной колбасы и четвертинка хлеба, Фёдор взглянул на отцовский крест, окинул взглядом заросшее сиренью да черёмухой неухоженное кладбище и, неторопливо шагая, стал нагонять старуху.
Приноравливаясь к мелким шагам бабы Кати, он спотыкался на разбитой дороге. Обходил глубокие рытвины. Цеплял на мятые штаны колючий репейник, растущий по обочинам. Крутил башкой, с любопытством оглядывая деревню, когда-то большую и зажиточную, а сейчас почти безлюдную – избы вросли в землю, в некоторых мерцали огоньки лампадок, а другие смотрели в небо пустыми глазницами окон.
– Танюха, – Фёдор вздрогнул, услышав резковатый шамкающий голос бабки и увидел, что она приостановилась возле высокого глухого забора, где тявкнула собачонка и, заскулив, умолкла. – Заходь ко мне! Твой хахаль бывший возвернулся, Федька, которого я крапивой отстегала. Не забыла? Хе-х! Отметим приезд-то… – и, постучав клюкой по забору, засеменила к приземистому дому с покосившейся трубой, с крышей, где местами чернели дырья, и скамейкой возле палисадника.
– Ага, разбежалась, – донёсся женский голос. – Тоже мне – хахаль. Кобелина! Нагулялся, нашлялся и вернулся. Отмечу… Кочергой да по хребтине! Ишь, женишок выискался…
– Ох, строга наша Танька, строга! – приостановившись, зашамкала баба Катя. – Вдовая… А хозяйственная – страсть! Сынки в город подались, а она не пожелала. Так и живёт одна-одинёшенька…
Распахнув калитку, она прикрикнула на козу, привязанную к столбику в глубине двора, поднялась, держась за поясницу, по просевшим ступенькам, толкнула скрипучую дверь и скрылась в избе, которая чуть ли не по оконца вросла в землю.
– Проходь в избу, Федька, – донёсся шамкающий голос бабы Кати. – Сейчас на стол соберу, самовар вздую и покормлю тебя, горемыку.
Заметив рукомойник, Фёдор умылся, оставив на лице грязные потёки, вытерся носовым платком, присел на ступеньку, невесело посмотрел по сторонам и прислушался. Вдалеке одиноко пропел петух и умолк – отозваться-то некому. Сидел, глядел на соседние избы, на просевшие крыши, на буйно разросшиеся кусты, на крапиву да репейник, что заполонил все места, откуда ушли жители, – это первый признак необжитости. Там, через два двора, находилась родная изба, где он играл с дружками. Где помогал бате и мамаке. Где вечерами сидел на скамейке и дожидался, когда подаст знак Танька – его первая любовь, чтобы с ней ушмыгнуть к речке, целоваться до первых петухов, а потом крадучись прошмыгнуть в избу и завалиться на печку, пока не поднялась мать, чтобы подоить корову. Да, всё было… Было, пока не уехал из родного дома. И понесло, закружило по жизни: каждодневные шабашки, деньги дурные, пьянки, бабы, драки; а потом, когда из бригады выгнали, начал воровать, и как итог – тюрьма. Там-то он и понял, что жизнь зря прожита. Ни дома, ни семьи, ни детей – один как перст остался на этом свете. Более двадцати лет вычеркнуто, с корнем вырвано из жизни, пока шлялся по стране, потому что не заметил её, жизни-то, не почувствовал ни вкуса, ни радости. Так, перекати-поле, по-другому он не мог себя назвать. Эх, жизня…
Не выдержав, Фёдор поднялся, спотыкаясь, добрался до родной избы. Рванул, вырвал щеколду, распахнул скрипучую дверь и остановился на пороге, прислонившись к косяку. Затхлый воздух, запах мышей – что они грызут в пустом доме, бедолаги? Кругом свисает клочьями старая паутина. И пыль… Повсюду толстым слоем лежит пыль. Напротив, в простенке между окнами, висят в простеньких рамочках поблёкшие от времени фотографии деда с бабакой и большой снимок отца с матерью, подретушированный заезжим фотографом. Под ними, на самом виду, – комод, как богатство и украшение дома. Фёдор помнил, что его смастерил их сосед, мастер на все руки, и даже вырезал на ящиках по паре цветков да целующихся голубей. Сверху стоят запылённые флаконы, наверное, какие-нибудь лекарства. Стопочкой лежат бумажки, а может, фотографии, да в середине возвышается пузатый графин, в который наливали самогонку, когда наступал праздник, приходили гости и его торжественно ставили возле горки нарезанного хлеба, чашек с винегретом, щербатых тарелок с помидорами и огурцами, с картошкой и прочей незамысловатой деревенской едой. В углу – божница с иконами, с лампадкой и парой свечных огарышей. Под ней притулился стол с одиноко стоящей на нём гранёной рюмкой. Возле него – две рассохшиеся табуретки. Тускло сверкнула дугами старая никелированная кровать; в детстве он откручивал с неё блестючие шарики и играл с ними, пока не терял, а потом от отца получал ремнем; в изголовье чудом сохранились две большие подушки – удивительно, как не своровали, а по полу простёрлись самотканые дорожки, старые и запылённые. В задней избе – лоскутное одеяло на обшарпанной печи, невесть откуда взявшийся цветочный горшок с засохшей геранью, ухваты и рядом, на полу, два-три разнокалиберных чугунка. А в шкапчике, что висел над столом, если открыть, Фёдор помнил, были кружки и чашки, несколько щербатых тарелок и горка ложек с вилками да пара стёртых ножей…
– Федька, Федька, – донёсся с улицы голос бабы Кати. – Куда умызнул? Эть неугомонный! Я на стол собрала, вышла, а его ужо и след простыл. Подь сюда, пора вечерять!
Вздохнув, Фёдор ещё раз осмотрел внутреннее убранство дома, медленно вышел, прикрыл дверь и направился к дому старухи.
В сенях, где пахло разнотравьем, чесноком и луком, он скинул стоптанные туфли, поставил рядышком с галошами бабы Кати. Куртчонку повесил на гвоздь. Поправил смятый ворот рубашки. Пригладил давно не мытые волосы. На ощупь нашёл дверь и, стукнувшись лбом о низкий косяк, прошёл в избу, потирая ушибленное место и продолжая держать смятую кепку. Обшарпанная печь, щелястый пол и потолок, напротив двери раскорячился допотопный стол, тронь – и развалится, а за ним засиженное мухами оконце с застиранным сероватым куском тюля. Всё, как в их доме…
– Проходь, сидай, – смахнув застиранным полотенчиком невидимую пыль, бабка Ляпуниха придвинула к столу табуретку. – Гостей не ждала, угощайся чем Бог послал. – Присела на краешек табуретки, наклонилась и чем-то зазвякала.
На середине стола – початый каравай, горкой высятся отхваченные крупные ломти хлеба. Из чугунка вкусно пахнет варёной картошкой в мундире. На тарелке лежат с пяток яиц вкрутую. Рядом – солонка с крупной сероватой солью. В чашке желтеет горка квашеной капусты, из которой виднеются небольшие огурчики, а поверх разлеглись мятые красновато-бурые помидоры. Отдельно на щербатом блюдце – нарезанное сало, пожелтевшее, с тёмной прослойкой и с высохшей твёрдой шкуркой. Видно, что сало берегут и достают в редких случаях, когда гости приходят или наступает какой-нибудь праздник…
– Ну, Федька, с возвращеньицем, – прошамкала баба Катя и придвинула гранёный стаканчик с мутной белёсой жидкостью. – Выкушай стопочку с устатку, с дороги, а потом повечеряем.
Опрокинув стаканчик, Фёдор передёрнул плечами, отломил кусочек хлеба и шумно выдохнул.
– Ух сильна! – поперхнувшись, пробормотал он, ухватил пальцами капусту и громко захрустел. – Не, баб Кать, мне хватит. Я на могилке выпил да у тебя – этого достаточно, а вот повечеряю с удовольствием. – Он достал картошку, обжигаясь, очистил, ткнул в солонку, откусил и зажмурился от удовольствия. – Ох, соскучился по родимой!
И быстро начал есть, хватая помидоры, огурцы, высохшее прогорклое сало, лук, картошку и – жевал, жевал, жевал, причмокивая. Подавившись, исходил натужным кашлем. Смахивал крошки в ладонь и кидал их в рот, что-то бормотал, отвечая на вопросы старухи, вытирал вспотевший лоб и снова тянулся к тарелкам.
Сдвинув шерстяной платок, баба Катя поправила выбившиеся прядки седых волос, опять надвинула платок, закрывая лоб, вытерла сухонькой ладошкой морщинистый рот и, сложив руки на столе, наблюдала, как Фёдор торопливо ест, изредка сокрушенно качала головой.
– Да, Федька, потрепала тебя жизнь, потрепала, – сказала она, когда Фёдор наконец-то откинулся к стене, расстегнул ворот рубашки, утёрся грязным носовым платком и осоловело взглянул на старуху. – Где же тебя носило, горемычный?
Фёдор достал из кармана помятую пачку дешёвых сигарет, посмотрел на бабу Катю.
– Чего уж там, смоли, – она придвинула грязную банку. – Хоть в избе мужиком запахнет.
– Везде побывал. – Фёдор прикурил, выпустил густое облако дыма и с неохотой сказал: – Многое повидал, более двадцати лет промотался на чужой стороне, оглянулся назад, а там пшик – пустота, ничего в жизни не оставил. Так, ветер в поле… И такая тоска взяла, хоть волком вой, хоть башкой об стену – всё едино. Собрал вещички и подался сюда. Сидел на могилке, с батей разговаривал, и на душе полегчало, словно он рядышком примостился, как в детстве. Я же в молодости, как сбежал из дома, так ни разу в гости не приезжал. Некогда было! Эх, жизня… – и, выбросив окурок, снова достал сигарету, прикурил дрогнувшей рукой и опять скрылся в густом облаке едучего дыма.
– И чего же ты, милок, собираешься делать? – поджав губы, прошамкала бабка Ляпуниха. – Проведал батьку и вновь в бега подашься? Опять начнёшь щастье в жизни искать?
– Нет, баб, никуда не поеду, – натужно кашляя, прохрипел Фёдор. – Сызнова надо жизнь начинать. Сызнова, но по другой дорожке, по настоящей, а не по той, что опять в болото заведёт, где сгинуть проще простого, да и…
– Вот и правильно говоришь, правильно, – перебила, махнув рукой, бабка Ляпуниха. – Оставайся и налаживай свою жизнь. Впереди ещё много годочков, а назад не оглядывайся, не тревожь душу, но и не забывай. Соседи, кто в деревне остался, тебе подмогнут, а остальное сам сообразишь-сделаешь. Так и поднимешься на ноги, так и станешь жить, как твои папка с мамакой. Правильно, Федька, правильно! – повторила она и хлопнула по столу ладошкой.
– Ну, а как в деревне жилось, пока меня не было? – попыхивая сигареткой, спросил Фёдор. – Я же почти ничего не знаю. Первые годы получал письма, а потом, когда стал ездить из города в город, почта запаздывала. Последнюю весточку с год назад от тётки передали. Сообщила, что мамака давным-давно померла, а батю недавно схоронили, и всё на этом. Как здесь жилось-то?
– Нормально жили, нормально, – поджав губы, прошамкала баба Катя. – Работали, покуда колхоз был. А когда развалился, многие в город подались, другие устроились к этим… Как их… Ну, к хапугам, кто землю выкупил за копейки… А-а-а, фермеры! Что в колхозе от зари до зари работали за трудодни, что у хапуг за зерно да мелочишку – копейки. Ничего жилось, нормально, – повторила бабка Ляпуниха.
– А сейчас работа есть? – затушив окурок, спросил Фёдор. – Посмотрел – только ржавые косилки да комбайны возле деревни стоят.
– Кто хочет работать, тот всегда найдёт, – махнув рукой, сказала баба Катя. – Вон Танюха каждый день в соседнее село мотается. Пристроилась дояркой. Дождь ли, снег ли, а она тащится. Потеплее укутается и бредёт по дороге. Привыкла! То молочка, то с пяток-десяток яичек занесёт, а хлеб поставит, так каравай-другой обязательно притащит. Остальные, кто здесь живёт, тоже пристроились. В соседнем колхозе, как говорили, фермер всех мужиков излечил от пьянки. Надоело ему смотреть, как через пень-колоду работают, подогнал автобус, загрузил мужиков, кто самогонку хлестал, и отвёз в город. Сейчас фермер не нарадуется, глядя на работничков, да и бабы расцвели, похорошели: ни пьянок, ни ругани, ни драчек, благоверные деньги в дом несут, а не за бутылкой в магазин бегут. Где это видано, чтобы деревенские мужики не хлобыстали самогонку? А ему удалося всех приструнить. Благодать, да и только! А давеча, по весне, Петруха с жинкой из города вернулись. Говорят, в деревне легче прожить. Хе-х! А может, и правда, не знаю… Домишко новый хотят себе ставить. Лесу понавезли – страсть! Уже свинок держат, гусятки-курятки бегают. Надо жить, Федька, жить…
Фёдор сдвинул тюль, посмотрел в мутное оконце, за которым сгущались вечерние сумерки. Вздохнул, помял кепку в руках, поднялся и сказал:
– Засиделись, баб Катя, заговорились. Пора и честь знать. Благодарствую за хлеб да соль! Пойду домой. Поздно уже…
– Куда тебя понесло? – посмотрев, как под осенним промозглым ветром гнутся кусты, она всплеснула руками. – Холодно, Федька! Здесь оставайся, переночуешь. Вон, на печке проспишь…
– Нет, баба Катя, пойду домой, – направляясь к двери, повторил Фёдор. – Слишком долгим был мой путь, слишком… Ночку перекантуюсь, а завтра надо крышу подлатать, печку подправить да в доме убраться. Много дел скопилось, пока шлялся. Думаю, справлюсь. А потом, как наведу порядок, куда-нибудь устроюсь на работу. Ничего, проживу, – и, подхватив сумку, он шагнул за порог.
– С возвращением, Федька, – прошамкала бабка Ляпуниха и перекрестила вслед. – Утречком заверну к Танюхе. Уговорю, чтобы по хозяйству помогла. Глядишь, жизнь-то и наладится…
Старик и облака
Заскрипели половицы, и донеслось покашливание. Сергей Иваныч, заложив руки за голову, заскрипел продавленной кроватью и покосился на хозяина дома, который промелькнул в проёме двери и загремел ведром, что стояло на широкой лавке возле входа, забубнил под нос, а потом принялся что-то искать на широкой полке, прибитой к стене. Сергей Иваныч покосился на старика и снова нахмурился, посматривая на блёклое небо, подёрнутое серой пеленой. Вздохнул. Он снял на лето большую веранду, где можно было бы ночевать, а в остальное время бродить по окрестностям да заниматься пейзажами, благо здешняя природа манила, чтобы её перенесли на холст. Горы и всхолмья, перелески и берёзовые колки, извилистые речушки и ручейки, а цветущие луга и поля с пшеницей такие необъятные – аж дух захватывало!..
…Он случайно наткнулся на эту забытую богом деревушку, когда сбился с дороги и долго колесил по грунтовкам, которые как раки расползались в разные стороны, пока наконец-то не наткнулся на небольшую деревню, затерянную среди лесов, полей и лугов. Он полдня просидел на пригорке. Дома там и сям разбросаны по пологим холмам. Огороды упираются в речку, что протекает позади деревни. Сонные улицы. Замерла деревня, но в то же время жизнь в ней теплилась. Вон неторопливо потрусила собака по своим собачьим делам. Остановилась возле какого-то двора, лениво гавкнула – может, здоровалась, а может, соседскую собаку пригласила на прогулку, – а потом снова уткнула нос в тропку и дальше пустилась. Загремело ведро. На улицу вышла старуха. Приложила ладошку к глазам, долго всматривалась вдаль, видать, кого-то ждала, но не дождалась, заглянула через забор в соседний двор, кого-то окликнула, но там была тишина, и она снова вернулась в дом. Гоготнул гусь, но тут же смолк, когда неожиданно заорал петух, взлетел на забор и захлопал крыльями, а вслед за ним ещё несколько отозвались. Живёт деревня – это хорошо. Сергей Иваныч долго наблюдал за сонной деревней, за маревом, что нависло над горизонтом, за стайками берёз, что взбегали по горе, и за яркими всполохами рябин. К вечеру, не выдержав, спустился к крайней избе и долго разговаривал с неуступчивым ворчливым старичком, одетым в засаленные пузыристые штаны, в выцветшую рубаху навыпуск, в вороте которой виднелась толстая чёрная нить с простеньким крестиком, а на клювастом носу едва держались очки с толстыми стёклами и дужкой, замотанной синей изолентой. Наконец сошлись в цене. Сергей Иваныч уплатил аванс. Старик сразу же запрятал деньги в необъятный карман, а потом повёл его на веранду, где в дальнем полутёмном углу стояла кровать с большими тяжеленными подушками и цветастым ватным одеялом, из которого торчала клочкастая вата. Рядом раскорячился сундучище, в таких раньше приданое держали да прятали под амбарный замок одежду, накопленную за долгие годы. К нему притулились два-три мешка с прогрызенными дырками и рассыпавшейся пшеницей. На стене, на вбитых толстых гвоздях висели старые фуфайки, облезлый тулуп, тут же громыхнул жестью брезентовый плащ – обычно такие пастухи носят – от жары спасаются да от дождя можно укрыться. А чуть наискосок было широченное запыленное окно. Свисали клочья старой паутины. Сквозь дырявую крышу пробивались тонкие лучики света, в которых кружилась пыль, поднятая стариком, когда он стал наводить порядок на веранде, сметая сор да пшеницу потёртым чилиговым веником в щелястый пол, из-под которого радостно загорланил петух, созывая несушек к обеденному столу…
– Что валяешься, мил-человек? – дед Гриша поправил очки, прошёлся по веранде, присел на край кровати, достал самосад, сделал самокрутку и закурил, выпустив ядовитое зеленоватое облако дыма. – Вторые сутки бока отлёживаешь да на облака поглядываешь. Глянь, какие погоды стоят. И облака подросли. Повзрослели, можно сказать, силушкой налились.
И ткнул скрюченным пальцем в окно.
Приподнявшись, Сергей Иваныч прислонился к спинке кровати.
– Я уж второй день смотрю, как облака растут, – недовольно буркнул он. – Мне ветер нужен, ветер, чтобы немного отогнал облака от деревни, и тогда утренние лучи солнца другими будут, а не такими, как сейчас – блёклыми и безжизненными. Едва солнце начинает всходить, едва мелькнут первые лучи и тут же скрываются за облаками, которые нависли над деревней и словно приросли к горам, – ничем не сдвинешь. Может, тяжёлые, а может, ветер нужен, чтобы их чуточку отогнал, чтобы утреннее небо стало ярким и глубоким, словно умытое, а лучи будут его подсвечивать, вот тогда-то облака заиграют. Мне нужны эти лучи, чтобы наружу вытянуть свет, а сейчас…
Не договорил, удрученно махнул рукой.
– Вот те на, я думал, он облакам обрадуется. Не каждый день над нашей деревней такие собираются. Наверное, смотрят, как люди живут, как я ворчу, как ты на кровати валяешься. Смотрят и удивляются, что люди – это лодыри. Ты, мил-человек, облакам радуйся, потому что они живые, – взглянув поверх очков, сказал старик, – а ему лучи подавай. Хе-х, насмешил! Где же взять эти лучи, мил-человек, если облака не по дням, а по часам растут? Время для них настало, силушку набирают…
– Меня зову… – раздражённо заворчал художник.
– Да знаю, мил-человек, знаю, как тебя зовут, – отмахнулся дед Гриша и, затянувшись, опять скрылся в облаке едучего дыма. – Привычка такая у меня – мил-человек. Даже выговор получил за это, когда самого секретаря райкома на собрании назвал мил-человеком и носом при всём народе ткнул в его ошибки. Обиделся! Он молодой был, с гонором. Расфырчался, что я ничего не понимаю в его работе и вместо того, чтобы слушать и помогать, палки в колёса вставляю. Так и сказал. Да! Ну, меня наказали, а толку-то? Выговор влепили, а с работы-то не сняли. Секретарь укатил, а я остался и мне его выговор, как мёртвому припарки. Он душу успокоил, а я даже не расстроился. Хе-х! – он встрепенулся и привычно ткнул в очки, поправляя. – Что хотел узнать-то… Вот ты, Серёжка, малюешь картинки, а я наблюдаю за тобой и удивляюсь, неужто эту мазню покупают, а? – И, поднявшись, он подошёл к мольберту, картинно отставил ногу в рваном носке, почёсывая реденькую седую поросль на груди, склонился и прищурился, стараясь понять, что на холсте, сделал несколько шагов назад, опять взглянул и небрежно махнул рукой. – Мазня-мазней! Помнится, я в детстве так малевал, а потом батя хворостиной задницу расписывал. Хе-х! – и, поглаживая венчик седых волос, хрипловато хохотнул и снова спросил: – И покупают?
Он взглянул на постояльца.
– Покупают, дед Гриша, покупают, – усмехнувшись, сказал Сергей Иваныч. – На хлеб с маслом хватает. Бывает, икоркой балуюсь.
– Неужели? – удивился старик и опять подошёл к мольберту, словно хотел понять, за что платят такие деньжищи, долго стоял, качал головой и снова пожал плечами. – Вот убей – не пойму! Натыкал кисточкой, размазал по всей картине и считаешь, мил-человек, что красиво. Хе-х! – склонившись, выглянул в окно, зыркнул глазами туда-сюда, приложил руку лодочкой, прищурившись, долго смотрел на берёзы, стоявшие за речкой, взглянул на тяжёлые, этажные облака, которые, казалось, зацепились за верхушки деревьев и никак не хотели уползать за горизонт, потом ткнул скрюченным пальцем, показывая. – Вот ты говоришь, что облака не нравятся, что лучи тебе подавай… А что ты знаешь про облака, мил-человек? – и, хитро сощурившись, взглянул поверх очков на постояльца.
Прислонившись к высокой спинке, художник усмехнулся, поглядывая на ершистого старика, с которым чуть ли не каждый день приходилось спорить о чём-либо, потому что у старика был свой взгляд на жизнь и всё, что его окружало.
– Что могу сказать, – Сергей Иваныч запнулся, думая, как бы вспомнить и более доступно объяснить, а потом просто сказал: – Ты, дед Гриша, говоришь, будто облака живые, а я скажу – это вода превращается в облака – это мы ещё в школе проходили. Вода испаряется из морей и океанов, да отовсюду, где она есть, и поднимается вверх, а там свои законы, по которым в облака превращается.
Дёрнув за венчик волос, дед Гриша тоненько засмеялся.
– Я в школах не учился, как ты, к примеру, – он погрозил пальцем и снова ткнул в окно. – Сызмальства пришлось работать. Закорючку ставлю заместо росписи, но меня не проведёшь. Моя бабка Агриппина, царствие ей небесное, – он крутанул рукой перед собой, словно перекрестился, и посмотрел на икону, что висела в углу. – Она могла на любой вопрос ответить. Всё знала! И ведь тоже не училась. Да и какая учёба в деревне, если семеро по лавкам?! То люльку качают, то за малышнёй присматривают, потом с батей в поле уходишь или в леса, а то на реку. Оглянуться не успеешь, самого оженили, и тоже семеро по лавкам сидят и все кушать просят. А ты пластаешься день и ночь, чтобы семью содержать. Так всегда было, мил-человек. А сейчас… Эх… – старик сокрушённо покачал головой. – Одного еле-еле народили и плачутся, слезами заливаются, что жизнь тяжёлая, а сами-то и не видели ещё – эту жизнь, зато научились жаловаться. Измельчал народ. Не люди, а так, людишки пошли…
И старик махнул рукой, а потом полез в карман, доставая свой любимый самосад.
– О как! – рассмеялся Сергей Иваныч. – Начал за здравие, а закончил за упокой. Обещал про живые облака рассказать, а сам…
И, продолжая смеяться, он замолчал.
Старик ткнул пальцем в переносицу, поправляя съехавшие очки. Покрутил головой и, заметив запыленную пустую банку, поплевал в неё и ткнул туда окурок.
– Вот ты – умный человек, – подняв палец вверх, сказал старик, – а говоришь, что облака – это вода из морей-океанов. Там вода горькая, как слышал, а дождевая вода – сладкая. Почему так? Ты же должен всё подмечать, а тут с облаками опростоволосился. Хе-х! – дед Гриша торжествующе посмотрел на постояльца. – Ты подумай своей головой, мил-человек, как должен закипеть океан или море, к примеру, чтобы этот самый пар добрался до небес, а? Вон, кастрюлька стоит на огне, из неё пар вырывается. Чуть повыше подними руку и не почуешь его – этот пар, потому что он исчез, в обычный воздух превратился, а ты говоришь… Хе-х! – и тонко засмеялся, махнув рукой, а потом прищурился, посматривая на постояльца. – А ты видел, какие облака бывают, к примеру, зимой, а весной или летом и осенью? Что говоришь? Разные… Я без тебя знаю, что они разные, а почему? Ты хреновый художник, если не можешь объяснить, почему они разные… Ничему тебя жизнь не научила и ваша школа – тоже. Это я болтун? Да ты… Да ты… – старик возмущённо запыхтел, он поддёрнул штаны и ткнул пальцем. – Сам ты, балаболка городская! Тебя учили, учили… Кучу денег потратили, а в твоей голове как был сквозняк, так и остался. Вот и получается, что пустили деньги на ветер. Ещё неизвестно, кто из нас – болтун. Вот так, мил-человек! – и, махнув рукой, хлопнул дверью. – Ишь, говорит, из горького моря делаются облака, а дождик-то сладкий идёт. А почему – не может сказать. Меня болтуном выставил, а сам-то… Пустомеля!
Старик продолжал ворчать, медленно спускаясь по ступенькам крыльца.
Проводив взглядом старика, художник усмехнулся, заложив руки за голову. Долго лежал, прислушиваясь к разноголосому кудахтанью кур, что возились в пыли, к ворчливому голосу старика, который, скорее всего, сидел на лавочке возле калитки и с кем-нибудь разговаривал. Не удержавшись, зная обидчивый характер старика, художник поднялся, потянулся, насколько можно было на невысокой веранде, поддёрнул старенькие штаны, перепачканные краской, и вышел на крыльцо, присев на высокую ступеньку. Взглянул на дальние холмы, на зелёные склоны, длинные тени от берёзок и низкое солнце, которое едва было видно сквозь мутную пелену, нависшую над горизонтом.
– Дед Гриш, – крикнул он, заметив его замызганную фуражку за забором. – Может, поужинаем? Накормишь голодного и хренового художника, а?
Фуражка зашевелилась и приподнялась. Из-за забора выглянул дед Гриша и, грозно сдвинув густые седоватые брови, взглянул поверх очков и погрозил.
– Я те дам, передразнивать! – сказал он, открыв калитку, и быстро засеменил к дому. – Ишь, пустомеля! Сам в трёх соснах заблудился, а меня выставил болтуном. Эть, ну, дал боженька постояльца! Теперь замучает, пока не умотает в свой город, – и тут же ткнул пальцем. – А я скажу так, мил-человек, что моя бабка Агриппина намного умнее всех вас, нынешних, хоть и была неучем… – Он запнулся, постоял, подёргивая бровями, о чём-то думая, и махнул рукой. – Ну ладно, так и быть, заходи. Покормлю тебя, хоть и не заслужил, но если будешь обзываться, голодным оставлю. Понял?
И, прихватив головку чеснока и пучок лука, скрылся в избе.
Посмеиваясь, Сергей Иваныч отправился за ним.
Ужинали неторопливо. А куда спешить, если вечер на дворе. На столе несколько варёных картофелин, пара-тройка яиц вкрутую, лук лежит рядом с солонкой, ломти хлеба, мяса нет, но есть немного пожелтевшего сала и две щербатые чашки с вермишелевым супом, который дед Гриша сам приготовил. Жена давно померла, а дочка и сын в город перебрались. Его звали, он отмахнулся. Родился в деревне, мол, и пусть здесь же закопают. И место приготовил. Рядышком с женой. Сказал, рядышком уляжется, хоть ей веселее будет. Закатится смешком, а глаза-то грустные. Сколько лет один, но так никого в дом не привёл. Говорит, негоже, чтобы на жинкиной кровати спала другая баба, негоже. Сколько пытались ему невесту найти, он отмахивался. Своей не стало, а другая не нужна. Так и живёт с той поры один, да редкий раз дети навещают, – и всё на этом. И Сергей Иваныч, когда поселился у него, заметил, старик ворчит-ворчит, всё не так ему, а глаза радуются. Видать, всё же надоело одному-то в пустой избе. А то, что брюзжит, так возраст такой – ворчливый, можно сказать. Всё истории рассказывает. Заслушаешься. Много знает. Откуда, даже непонятно. И вот сейчас – зацепился за облака. Утверждает, что они живые. Значит, опять начнёт рассказывать историю. Интересно его слушать. Кажется, небылицы плетёт, а в то же время правдиво. Вот и задумываешься над его словами. А вдруг не обманывает?
После ужина Сергей Иваныч со стариком пили чай с печеньем и простыми карамельками. Долго пили. Старик любил из блюдца чаи гонять. Чуточку плеснёт. Покатает во рту карамельку, подует на горячий чай и шумно отхлёбывает. Швыркаю, как он говорил. Так и швыркали с ним, пока крупные капли пота не потекли. Наконец дед Гриша поднялся. Серым застиранным полотенчиком вытер вспотевшее лицо и принялся убирать со стола. Сергея Иваныча отправил во двор, чтобы не путался под ногами.
Сергей Иваныч вышел на улицу и присел на ступеньку, тоже утираясь полотенцем. Так было всегда, когда они пили чай. Словно старались друг друга перегнать, кто больше выпьет. И всегда старик побеждал. А потом посмеивался над постояльцем, мол, слабый народишко пошёл, даже чай пить не научились. И хекает сидит, а по глазам видно – доволен.
Повесив полотенчико на перила, Сергей Иваныч привычно принялся осматривать окрестности, останавливая взгляд на каких-либо мелочах, и снова смотрел, стараясь всё запомнить.
Заскрипели половицы, раздался кашель, и рядом уселся старик, достал кисет и закурил, разгоняя сизый вонючий дым.
– Всё лучи свои ищешь или ворон ловишь? – Он подтолкнул постояльца и не удержался, зашёлся в долгом кашле, потом сплюнул и просипел. – Сидит и башкой вертит во все стороны. Ну, чисто сорока, да и только!
– Привычка смотреть, – пожимая плечами, задумчиво сказал художник. – Что-нибудь заметил – и сразу в памяти откладывается, а то в блокноте или в записной книжке почиркаешь, да на любой бумажке, что под руку попала, лишь бы не забыть. У меня таких почеркушек немеряно собралось! И запоминаешь детальки, всякую мелочёвку, а из этого уже постепенно начинаешь мозаику выкладывать. Потом, когда в голове сложился образ или картину представил, тогда берёшься за работу. И таких задумок в голове – не счесть! И так всегда…
– Твоя правда, мил-человек, – закивал головой дед Гриша и аккуратно стряхнул пепел в заскорузлую ладонь. – Я вот тоже, к примеру, увижу какую-нить железяку, сразу думаю, что из неё можно соорудить, куда бы приспособить. Всё в хозяйстве сгодится. Так и собираю, где и что лежит, и тащу домой. Вон уже сколько добра навалил, – и кивнул на большую кучу возле баньки. – Моя бабка ругалась, что двор захламляю, а потом махнула рукой. А когда мне что-нить нужно, я прямиком туда отправляюсь и начинаю кучу ворошить. И нахожу!
И начинался долгий и неторопливый разговор. Да какой разговор, если больше молчали, чем говорили. Так, изредка перебрасывались словами, да курили, иногда спорили, но тут же умолкали и каждый вспоминал о чём-нибудь своём, а когда молчание затягивалось, снова скажут и сидят, о своём думают. И так каждый день…
– Скажи, мил-человек, вот намалюешь свои картинки, а потом что с ними будешь делать? На рынок понесёшь или как? – попыхивая цигаркой, сказал дед Гриша. – Наверное, уже вся квартира завалена, да?
Сказал и, хитро прищурившись, взглянул поверх очков.
– Почему на рынок? – удивлённо взглянул Сергей Иваныч. – Бывают выставки, правда, редко. Иногда заказывают картины, а ещё есть такие любители, кто приезжает, смотрит и забирает, что ему понравилось. Пока не жалуюсь, а что дальше будет – время покажет, – он задумался, потом покосился на старика. – Дед Гриша, что ты говорил про живые облака? Вижу, опять какую-нибудь байку намереваешься рассказать, да?
И покосился на старика, посмеиваясь.
Старик пошевелил бровями, наморщив и без того морщинистый лоб, снял фуражку, пригладил венчик волос и опять стал скручивать цигарку, отмахнувшись от папирос, какие подсунул художник.
– Что суёшь всякую дрянь? Сколько смолю, но так и не привык к вашим папироскам и сигареткам, одно баловство и только, – поморщившись, он махнул рукой, потом провёл языком по газетке и удовлетворённо осмотрел самокрутку. – Вот это конфетка! И вкусная, и запашистая, и для здоровья полезная, как говорил мой дед. Зимой, бывало, подхватит какую-нибудь лихоманку. Кашлем исходит. Дохает, как собака. Никому покоя не было. Тогда он брал самый крепкий самосад. Был у него такой. Горлодёром называл. На всякий случай выращивал. Я мальцом был, стащил у него и решил посмолить. Так чуть концы не отдал! Ага… О чём я говорил? А… – он опять повторил. – Дед возьмёт этот горлодёр, скрутит здоровенную цигарку и на улицу подаётся. А там мороз, аж деревья трещат! Он смолит цигарку и ходит туда-сюда, а сам кашлем исходит. Опять скрутит и снова бродит – морозным воздухом дышит, а ещё этим самым горлодёром. Вот несколько цигарок изведёт, до самых кишок прокашляется, вернётся и быстрее в баню идёт. Напарится так, едва до избы добирался. Зайдёт, а ему бабка Агриппина стакан самогонки подаёт, а туда ещё медку добавит. Не ради сладости, а для здоровья. Дед опрокинет его и лезет на печку. Укроется одеялом, бабка сверху на него всякое тряпьё навалит, и он притихнет. А на ночь бабка возле печи ведро с водой ставила. Дед очнётся, ковшичек опрокинет, мокрые портки поменяет и снова лезет под одеяло. Утром глядишь, а он здоровёхонек бегает. Вот и получается, что наш горлодёр лечит, а ваши папироски один вред приносят и больше ничего. Дрянь, да и только! Что говоришь? – опять зашевелились широкие кустистые брови. – А, живые облака… Ты, Серёжка, когда картинки малюешь, только летом или постоянно? Ага, понял, как время есть, так и мотаешься за картинами… Мил-человек, можешь сказать, когда облака появляются на свет божий? Ну, рождаются…
Сергей Иваныч удивлённо мотнул головой, а потом пожал плечами.
– Сразил вопросом, дед Гриша, – развёл руками художник. – Право, не знаю… Не соображу, почему они рождаются. Мне кажется, они всегда были, есть и будут, потому что круговорот воды в природе, как говорится. Одни уходят за горизонт, а другие появляются.
– Это всё брехня – ваш водоворот, – старик поднял палец вверх и поправил очки. – Я был мальцом, когда услышал эту побасенку, а может, это и не сказка, но всю жизнюшку поднимаю голову и смотрю на небо и ещё ни разу не видел, чтобы моя бабка обманула. Всё сходится, как она рассказывала. Значит, она правду говорила. Я что говорю, бабка Агриппина неграмотная была, а столько знала, что любого профессора за пояс заткнёт. Правда! К ней многие обращались. Одни за травками приезжали, другие за советом, и она никому не отказывала. Всем помогала. Так вот, как бы тебе попонятливее сказать-то… – он задумался, поглаживая венчик волос, потом продолжил. – Каждый человек это видит, но не всякий замечает. Взгляни на человека и его жизнь со дня рождения и до последнего дня, как из мальца становится стариком, а потом сравни с облаками. Всю зиму небо белесое от морозов или закрыто тучами. Даже при ясной погоде по небу пелена раскинута. Правильно? Ага, точно… Весна наступает, теплом потянуло, и небо становится чище, и там появляются тоненькие лёгкие пёрышки-облачка – это детишки родились. Что? Наверное, перистые – не знаю… Летом эти облачка-детишки растут не по дням, а по часам, наливаются силой и к концу лета становятся огромными и высокими – это уже взрослые по небу гуляют. Так говорю? Вот, правильно! Наступает осень. Облака начинают темнеть, потихонечку состариваются, ежели по-людски сказать. Расползаются во все стороны, всё чаще заволакивая небо до самого горизонта. А в конце осени уже почти сплошь растянулись над головой и стали чёрно-серыми, тяжёлыми и медлительными, будто наверху собрались пожилые облака. А зима наступает, небо закрывается серыми, седыми облаками – это старость пришла к ним, и лишь изредка появляется солнце, но это солнце всегда в какой-то пелене. А начинают исчезать седые облака в начале весны, а на их месте снова появляются лёгкие, перистые, как ты назвал. Человека хоронят в землю, а седые облака уходят в небесную синь, чтобы дать новую жизнь другим облакам. Вот и подумай, мил-человек, откуда берутся облака. Они рождаются! И с весны до весны – это их жизнь. С одной стороны, короткая жизнь, а с другой, если подумать, длинная, потому что они очень много пользы приносят людям. Как, кто родил? Эта… – старик покрутил головой, ткнул пальцем в очки и подёргал венчик волос. – Как её… А, вспомнил! Природа – это она родила, так моя бабка Агриппина говорила. А не верить ей не могу, она умнее всех была. Убедился! И ты, ежли умом пораскинешь, тоже поверишь. Гляди на небо, мил-человек, жизнь не только на земле, но и на небесах – тоже! – И, поднявшись, он громко зевнул, направился в избу, но приостановился. – Да, вот ещё… А моря и океаны – это слёзы людские. Для кого-то слёзы радости, кому – горести. У каждого человека свои слёзы. Это мне бабка Агриппина говорила. Как-нибудь расскажу тебе, а сейчас что-то меня сморило, – и опять протяжно зевнул. – Пойду чуток подремлю, – и захлопнул дверь.
И снова дверь заскрипела. Дед Гриша вышел и взглянул на небо.
– Забыл сказать… Слышь, мил-человек, – он ткнул пальцем, показывая на небо. – Можешь готовить свои краски. Завтра будет ветер. Утром лучи по небу пробегут, и оно станет таким, каким ты его видишь. Поторопись…
А сам направился к двери.
– Дед Гриша, – Сергей Иваныч посмотрел на небо. Оно было блёклым и безжизненным. – Дед, откуда знаешь, что будет ветер?
– Я знаю гораздо больше, чем ты думаешь, – буркнул старик. – К примеру, после обеда начнётся гроза. Сильная. До нитки вымокнешь, пока до деревни доберёшься, но ты не заболеешь. А я, пока тебя не будет, баньку протоплю. Попаримся, чай пошвыркаем, а потом посидим, за жизнь поговорим…
Сказал и притворил дверь.
Сергей Иваныч опять взглянул на мутное небо. Казалось, облака стали ещё больше, словно подросли за эти дни: тяжёлые, высокие и неповоротливые, они зацепились за вершины гор – ничем не сдвинешь. Редко проглядывало тусклое солнце. Он пожал плечами, задумался, вспоминая рассказ старика, и сравнил человека с жизнью облаков, от первого и до последнего дня, удивлённо хмыкнул, поражаясь сходству. Потом махнул рукой, заторопился на веранду и стал собирать краски с кистями. А вдруг старик не обманывает и завтра будет долгожданный ясный день, и тогда он снова возьмётся за картину? Всё может быть…
А вечером, как обычно, они будут сидеть на крыльце и вести долгие разговоры. Даже разговорами-то назвать нельзя. Так, изредка перебросятся словами, но в основном будут молчать и курить, иногда спорить, и снова молчать, и каждый будет о чём-то своём вспоминать, а когда молчание затянется, снова перебросятся парой слов, а если настроение будет у старика, он что-нибудь расскажет, к примеру, о море людских слёз или ещё о чём-либо…
Танечка
Невысокая, худенькая девушка в выцветшем коротковатом платье, не обращая внимания на промозглый порывистый ветер и нудный осенний дождь, едва слышно напевала и медленно танцевала. Встряхивала мокрыми косичками, запрокидывала голову и торопливо говорила, подставляя под мелкую морось синюшные губы, заливисто смеялась и, словно прильнув на мгновение, тут же отстранялась и опять продолжала босиком танцевать на пожухлой траве, не замечая, что всё ближе и ближе край обрывистого крутого берега…
Виктор мотнул головой и посмотрел в окно, за которым летела холодная морось, чахлая яблонька сиротливо постукивала ветками по стеклу, тёмные низкие тучи давили, скрывая округу за мелким обложным дождём. Виктор зябко передёрнул плечами, поплотнее запахнул лёгонькую осеннюю курточку и поджал ноги. Из-под щелястых полов тянуло сыростью и холодом. Протяжно заскрипела старая табуретка, на которой сидел возле окна. Прислонившись к обшарпанной стене, он исподлобья осмотрел небольшую низенькую комнатку, где, если не ошибался, не был уж лет пятнадцать, а может около того. Виктор долго сидел, поглядывая в мутное окно, вспоминал, что произошло за последние дни, для чего он бросил в городе всё и вернулся в эту деревню, в это захолустье. Для чего приехал, что хотел увидеть, или кого встретить, но зачем, если сам забыл, вычеркнул эту деревню из памяти, словно ничего и не было. Но получилось так, что случайно увидел голенастую девчушку на улице, которая словно из прошлого явилась, чтобы напомнить о себе, и что-то внутри ёкнуло и так заныло в груди, что он махнул рукой на все дела и помчался на вокзал. Не успевая в кассу, едва успел запрыгнуть в вагон, долго уговаривал проводницу, что возьмёт билет на следующей станции, затем забросил сумку на полку и присел возле окна. Более суток трясся в поезде, неотрывно поглядывая на унылую осеннюю погоду. Потом ещё полдня тащился в старом скрипучем автобусе, подолгу останавливаясь возле деревень и сёл. Пристроившись на краешке сиденья, ехал вместе с бабками, которые крепко вцепились в свои многочисленные авоськи и мешки, и обсуждали последние деревенские новости, будто другого места и времени не нашли. А рядом с ними, звякая бутылками и стаканами, голосила подвыпившая компания, временами затихая, и опять начинали шуметь. И ещё три часа торопливо топал, часто спотыкаясь, по разбитой просёлочной дороге, обходя глубокие колеи, заполненные водой, скользил по пожухлой траве, чертыхался, когда разъезжались ноги, возвращался на обочину и снова торопился, пока не добрался до дома бабки Авдотьи. Поднялся по расшатанным ступеням, того и гляди, свалишься с крыльца, распахнул дверь, обитую старым дерматином, из дыр которого торчали клочья ваты, и торопливо прошёл в горницу. Осмотрелся, словно надеялся, что наконец-то встретит её, свою Танечку, к которой примчался за многие сотни километров и которую забыл на долгие годы. А может, просто не хотел вспоминать, потому что так жилось легче. И всё было бы по-прежнему, но на днях, когда возвращался с работы, сердце захолонуло, аж дыхание перехватило, когда заметил нескладную девчушку в летнем, выцветшем платьишке и с тоненькими косичками, которая, услышав музыку из открытого окна, не обращая внимания на людей, стоявших на остановке, стала медленно покачиваться, словно танцевала и что-то едва слышно напевала. Потом взглянула на него доверчивым взглядом, звонко рассмеялась и, запнувшись, вспыхнула и торопливо отвернулась. Вот она-то – эта девчонка, и напомнила Танечку – ту, единственную, которую, как ему показалось в тот момент, он продолжал любить все эти годы, но старался скрывать своё чувство, потому что мешало жить. Но столкнувшись с девчушкой, снова огнём полыхнуло внутри. Сердце забилось часто и неровно, словно не было годов расставания и опять внутри зажгло. Поэтому бросил всё и помчался в далекую деревню, в своё далёкое прошлое, чтобы побыстрее встретиться с Танечкой и остаться с ней навсегда…
Вздохнув, Виктор протёр воспалённые глаза и опять осмотрел комнатушку, пожимая плечами. Ничего не изменилось за эти годы. Тусклое зеркало, засиженное мухами, висело в простенке. Под ним стояла тумбочка, поблёскивали пузырьки, рядом лежала потрёпанная колода карт, видать, баба Дуня продолжает гадать деревенским девчонкам, и лежали очки – одна дужка целая, а другая примотана изолентой. К стене притулился колченогий стол – на нём: потрёпанная книжка без обложки, старая тетрадка, а рядом огрызок карандаша. Наверное, опять баба Дуня все расходы записывает, как раньше бывало, когда возвращалась из магазина. Сядет и долго думает, что-то бормочет, на пальцах начинает считать, потом возьмёт карандаш, послюнявит и медленно выводит каракули в тетрадке. Деньги любят счёт, как она говорила…
Виктор вздохнул, почёсывая небритый подбородок, и снова взглянул на комнату. Всё тот же оранжевый абажур с кистями, но стал каким-то поблёкшим, а может, пыль скопилась за эти годы, кто знает. На божнице старая икона и перед ней едва теплилась лампадка. Баб Дуня говорила, что с этой иконой под венец шла. За цветастой занавеской виднелась спинка старой кровати и высилась горка мягких подушек, а на стенке висел потёртый коврик. Рядом окошко с задёрнутыми занавесками. Щели заклеены пожелтевшими газетными полосками. Видать, баба Дуня готовится к зиме, а может, просто холодно в доме, поэтому и заделывает щели. А вон геранька на подоконнике. Цветёт, как прежде. Он помнил, как дождливыми вечерами сидели с Танечкой за колченогим столом, пили горячий чай с карамельками или вслух читали книжки. Танечка очень любила читать и часто приносила книжки из деревенской библиотеки. Изредка поглядывали на плачущие оконца и прислушивались к завыванию ветра…
– Ишь, вспомнил про неё. Решил, что Танечка сидит и горючими слезами заливается, тебя дожидаясь? – сказала баба Дуня, поправляя грязный фартук, и взглянула поверх очков. – Ошибаешься! Соизволил спуститься с небес на землю. Ишь, явление… Господи, прости меня, дуру грешную! – и, повернувшись к иконе, истово перекрестилась. – Не за себя ругаю, за сиротинку вступилась. Прости…
– Баб Дунь, как бы сказать… – перебивая старуху, покачал головой Виктор и принялся приглаживать тёмные волосы с едва заметной сединой. – Сам не знаю, не могу понять, почему и для чего приехал. Поверь. Увидел девчушку на улице и показалось, будто Танечку встретил. Словно ткнули меня, знак подали. И так защемило в груди, так сильно засвербело, аж не продохнуть, я плюнул на всё и поехал сюда. Захотел Танечку увидеть, с ней встретиться. В общем, взял и приехал… – он устало провёл по небритой щеке и снова запахнул куртку.
Виктор сидел на скрипучей табуретке и посматривал в оконце, наблюдая за деревенской жизнью. Исподлобья глядел на старуху. Столько лет прошло, но баба Дуня какой была, такой осталась, ничуть не изменилась, даже очки те же, и тёмный платок тот же носит, и коричневая кофта с латками на локтях, да и характер не изменился. Ершистая старуха! Виктор посмотрел в окно. Вон старик сидит возле дома в расстёгнутой драной телогрейке, из-под которой ещё видна меховая безрукавка и застиранная рубаха навыпуск, в засаленных штанах с пузырями на коленях и в фуражке со сломанным козырьком. Опёршись на клюку, он так и продолжает сидеть на лавочке, словно не замечая холодных порывов ветра, и что-то рассказывает соседу, который слушал, прислонившись к забору, и смолил вонючую цигарку, прикрываясь от мелкой мороси. К старику притулилась серая кошка и дремала, потом привстала, потянулась и опять легла, свернулась в клубок, не обращая внимания на воробьишек, что расчирикались, разодрались из-за какой-то травинки. А на взгорке старая церквушка стоит. Оттуда бабка вышла, держит внучку за руку, сама перекрестилась и малышку заставила, а потом заторопились по улице. Наверное, на службе были или свечки ставили за здравие и упокой. Он опять взглянул в окно. Хоть и говорят, что здесь, в деревне, время меняется, становится замедленным и тягучим, но всё же, как заметил, деревня изменилась. Какая-то неухоженная стала. Дома постарели и потемнели, а некоторые сильно просели, чуть ли не по оконца вросли в землю за эти годы, сильно разрослась крапива, да чертополох поднялся возле кривых, щелястых заборов. Местами, в палисадниках виднелись чахлые яблоньки, но в основном кустились заросли сирени с бузиной, скрывая низкие окна домов.
– Ехал, и были нехорошие предчувствия, – встрепенувшись, сказал Виктор и взглянул на старуху. – Что-то душа не на месте. Всё ли в порядке, баб Дунь?
– У нас-то всё хорошо, ничего не случилось, ежели можно так сказать, а вот ты… – поправляя платок, прошамкала старуха. – Лучше бы о себе побеспокоился. Неужто ничего не замечаешь? – она опять посмотрела на него поверх очков, помолчала, поправила платок, потом сказала: – Самое страшное, что случилось – ты совесть потерял, а может, вовсе не было её, или специально так делаешь, чтобы спокойнее жилось. Бог тебе судья. Он рассудит и всех расставит по местам, каждый получит, что заслужил. Не думая, ты взял и выбросил самое хорошее, что было в твоей душе. Всё растоптал ради лёгкой жизни, а главное – в душу наплевал и перешагнул через нашу Танечку, – обвиняя его, прошамкала баба Дуня, ткнула пальцем в переносицу, поправляя очки, и мелко перекрестилась, глядя в красный угол. – Она и без этого хлебнула горя, когда осталась без родителей. И голодала, и по соседям жила, а потом отправили в детдом. Когда вернулась оттуда, не озлобилась на людей и на жизнь, а такая чистая, такая светлая была, она всему радовалась. Она жизни радовалась, паскудник этакий. А ты взял и… Бог тебе судья! – Она помолчала, потом сказала: – Где же тебя носило эти годы, бесстыдник? По тебе видно, хорошо живёшь. Вон, какой холёный сидишь, аж морда лоснится и одёжка не из дешёвой, – не удержалась, съязвила старуха. – Ну, похвастайся жизнью-то…
– У меня всё хорошо. Грех жаловаться, – задумавшись, Виктор пожал плечами, пригладил растрёпанные волосы с проседью, рассматривая щелястый пол. – Многого в жизни добился, – обвёл взглядом тёмную комнатушку и ткнул пальцем в сторону окна. – Честно сказать, здесь бы такого не было. Правда! В лучшем случае стал бы агрономом или механиком, и не более того, и всю жизнь бы прожил в грязи. А в городе добился. И работа хорошая, и квартира есть, машина с дачей, да ещё сыновья-погодки и дочка подрастают.
– Думаю, не забыл, что натворил? – перебивая, махнула рукой баба Дуня. – Пока я гостевала, задурил девке голову, добился, чего хотел, в душу наплевал и смотался исподтишка, аки трус последний. Да-да, сбежал, испугался. И не смотри на меня так! – и она погрозила скрюченным пальцем. – Вот попомнишь моё слово, твои дети пойдут по той же дорожке, по какой ты пошёл, – и сказала: – Попомнишь моё слово. Всё сбудется, как я говорю. Яблоко от яблони…
Поморщилась и махнула рукой.
Виктор взглянул исподлобья на старуху, тяжело вздохнул, хотел что-то сказать, но махнул рукой и промолчал. Он многие годы делал вид, сам себя обманывал, будто ничего не было в деревне, и можно сказать, что не должен отвечать за Танечку, за ту ночь, потому что они любили друг друга, а то, что потихоньку сбежал, не мог объяснить причину, или не хотел – так легче жилось. Да, он спокойно жил, пока не увидел девчушку на улице, и душа заболела, напомнила ему о прошлом. Ему всегда хотелось лёгкой жизни, и он нашёл её – эту жизнь. Нашёл для того, чтобы лишиться самого ценного, как ему казалось сейчас. Нашёл, чтобы потерять свою Танечку.
– Вот уже смеркается. Вечер наступил, – зашамкала старуха, одёрнула кофту с латками на локтях, посмотрела в оконце и вздохнула. – Чем ближе к порогу, тем быстрее дни мелькают. Не успеешь глаза открыть, а уже сумерки за окном. День прошёл. Вечерять-то будем, Витька, или где-нить по дороге перехватил?
– Ужинать? – он потёр подбородок, взглянул в окно и торопливо стал расстёгивать большую сумку. – А знаешь, не откажусь, баб Дуня. Только сейчас почуял, как проголодался, пока до деревни добрался. Вот, разбери пакеты с продуктами, – он поставил тяжёлую сумку на стол. – Там колбаса, конфеты, заварка, что-то ещё, точно не помню… Всего понабрал, когда сюда приехал. В городе-то не успел в магазины заскочить. Пришлось в райцентре забежать в магазин, да в ваше сельпо заглянул. В общем, держи, сама разберёшься.
Баба Дуня что-то достала, положила на тарелочку, что стояла возле самовара, чтобы повечерять, а остальное убрала в шкафчик, который был напротив стола – это у неё продуктовый склад.
– Правду сказать, давно хотела вылепить всё, что на душе накипело. Жаль, раньше не приехал, а то бы показала, где раки зимуют. Если бы ты знал, как разболелась Танечка, когда ты сбежал отсюда, – неожиданно прошамкала старуха и утёрла тёмной заскорузлой ладошкой впалый рот и, повторяясь, принялась рассказывать. – Мы уж опасались, что она руки на себя наложит. Она долго ждала тебя. Думала, что вернёшься, а потом кто-то приехал в деревню и сообщил, что ты собрался на другой девке жениться. И Танечка сломалась, очень сильно разболелась, в горячке заметалась. Я дни и ночи возле неё сидела, ни на секундочку глаза не смыкала, с ложки поила-кормила, её берегла. Выхаживала, словно ребёночка нянчила, ни на минуточку не оставляла одну. А потом прозевала, и Танечка, бедняжка, в сильном жару вскочила и помчалась на склон горы. Показалось ей, будто ты позвал, и она побежала, чтобы встретиться с тобой, и всё кружилась и смеялась на обрыве, как мне рыбаки рассказывали, а потом сорвалась с кручи. Когда наши мужики отыскали её в кустарнике под обрывом, она чуть живая была. На руках притащили ко мне. Я думала, Богу душу отдаст, до того плохая была, ан нет, всё же смогла её выходить, но опосля, когда поставила на ноги, никто не узнал девчонку-то, совсем не узнали. И лицом изменилась, и душенька умерла. Была-то худющей, а стала вообще как тростиночка, одни глаза остались. Все дни и вечера просиживала на обрыве, ни с кем не хотела разговаривать, всё молчала и на других смотрела, словно что-то хотела спросить, но не решалась. Эх, глаза бы не смотрели на тебя, бесстыдник! – не удержавшись, погрозила скрюченным пальцем старуха. – Это твоя вина, что наша Танечка чуть не померла, что жизнь её сломал. Попользовался, наобещал и сбежал, аки трус последний. Взять бы и выгнать тебя взашей. Кликнуть мужиков и пущай кольями гонят до остановки, до автобуса, чтобы никогда не появлялся в нашей жизни, чтобы никогда о себе не напоминал. Эх, ты, паскудник!
И, махнув рукой, она замолчала.
Виктор закрутил башкой, взъерошил шевелюру, нахмурил густые брови и взглянул исподлобья на старуху, хотел было ответить, но поник. Он пошкрябал подбородок, протяжно вздохнул, поплотнее запахнул лёгонькую куртку на рыбьем меху – холодно и сыро в доме, исподлобья взглянул на разбушевавшуюся бабу Дуню и поёрзал на скрипучей табуретке.
– Хватит, баб Дунь, – сдвинув густые брови к переносице, буркнул Виктор. – Молодой же был, несмышлёный. Может, испугался, что жениться придётся. Может, не понимал, но сейчас-то я приехал, всё же вернулся…
– Ишь ты, он вернулся! – перебивая его, притопнула баба Дуня, ткнула пальцем в дужку, поправляя очки, и посмотрела на него. – Вроде бы взрослый мужик, а всё легко принимаешь, словно в игрушки играешь, и до сей поры не хочешь понять, что человеку жизнюшку сломал, в душу наплевал и растоптал её, шкодник. Ишь ты, а сейчас заявился как ни в чём не бывало и плачет – сердце у него захолонуло! Что же сердце не подсказало тебе, что с Танечкой творилось, когда сбежал, как последний трус? Что она столько времени в жару металась, в горячке рвалась, лишь тебя найти и к себе вернуть, что с кручи упала, еле живая осталась – это ты не почуял, сердечко не ёкнуло, что беда приключилась. А потому сердце не подсказало, что ты, паскудник, просто трудностей испугался и не захотел с сироткой жить, потому что у неё за душой ни кола, ни двора не было, струсил, что родители начнут ругать за нищенку. Вы же привыкли брать в жёны таких же, как сами, чтобы одного поля ягодка была, а кто беднее живёт, тот не человек. Вы не замечаете таких, боитесь испачкаться, а у самих-то души темнее чёрного. Поэтому умызнул и скрылся за отцовской спиной, и душенька успокоилась. А про Танечку-то не подумал, что с ней будет. Эх, трус! – старуха махнула рукой, присела на табуретку, загремела стаканами, блюдцами да ложками, долго молчала, о чём-то думая, а потом ткнула пальцем в него, словно точку поставила. – Паршивец!
Покачиваясь на скрипучей табуретке, Виктор молчал. Изредка пожимал плечами, поёживался от сквозняка, не отвечая, слушал, как ругалась старуха, и посматривал в мутное оконце. Проводил взглядом пастуха, который неторопливо шёл по обочине в длинном мокром плаще и с кнутом в руках. Рядом бежала огромная рыжая собака. Следом появилось стадо, медленно бредущее по раскисшей деревенской улице. Странно, как ещё пасут в такую погоду. Наверное, последние дни выгоняют и всё. Холодно, и трава пожухлая. Несколько овечек закрутились на месте, разноголосо заблеяли, а потом быстро исчезли в узком переулке. Старик, сосед, распахнул скрипучую калитку, покликал рыжую бурёнку и ласково провёл ладонью по спине – кормилица вернулась. Где-то в стороне протяжно крикнула старуха, подзывая корову, в ответ громко мыкнула пеструха и, помахивая грязным хвостом, скрылась на соседней улице. Ничего не изменилось. Всё, как было раньше, в те времена, когда он приехал на отработку, так и сейчас осталось, лишь сама деревня постарела, ежели взглянуть на дома.
…Скрипнув тормозами, замызганный, запылённый автобус остановился. Лязгнула расхлябанная дверца. Неторопливо спустился дедок, придерживаясь за ободранный поручень, выволок из автобуса мешок с яркой оранжевой заплатой на боковине, закряхтел, вскидывая на плечо и, пригибаясь, медленно побрёл к дому, стоявшему на краю деревни. Приостановившись на последней ступеньке, высокий темноволосый парень в расстёгнутой осенней куртке, где была видна клетчатая рубашка, в потёртых джинсах и в новеньких кедах, выглянул, посмотрел по сторонам и спрыгнул, поправляя за спиной большой туристический рюкзак со шнуровкой по бокам. Не удержавшись, парень громко чихнул от пыли, что облаком нависла над дорогой, и услышал, как засмеялись девчонки в автобусе. Смутившись, он торопливо шагнул на обочину, стараясь не наступить на коровьи лепёшки, и снова поправил тяжёлый рюкзак.
Приглаживая короткие волосы, Виктор помахал вдогонку автобусу и, пошмыгивая носом, стал осматриваться, не зная, в какую сторону податься. С обеих сторон две деревни, разделённые остановкой, позади которой стоял, как он понял, деревенский клуб, а дальше виднелось поле и сломанные ворота без верхней перекладины, а может, просто два столба вкопали и всё на этом. На поле, громко перекликаясь, стайка мальчишек играли в футбол. Виктор повернулся, взглянул на ребятишек, что носились по деревенской улице, тоже затеяли какую-то игру, а вон старуха, тепло одетая, опираясь на клюку, направилась к колонке, держа в руке пустое ведро. Добралась, налила, потом погрозила скрюченным пальцем маленькой девчонке, которая возилась в холодном ручейке, что бежал от колонки, прикрикнула на неё. Девчушка вскочила. С опаской взглянула на старуху и, забывшись, торопливо вытерла грязные руки об подол нарядного платьишка. Громко заплакала, что ей попадёт и, спотыкаясь, медленно пошла к дому.
Неожиданно загорланил петух. Витька вздрогнул. Следом отозвался второй, третий, пятый – и началась деревенская перекличка. Где-то протарахтел трактор и, чихнув несколько раз, умолк. А вон в том двухэтажном сером здании с полукруглыми, арочными окнами, наверное, магазин. На окошках толстенные, кованые решётки и большущие тяжёлые ставни. Возле магазина высилась большая куча пустых ящиков и несколько бочек. Из одной бочки выскочил чёрный лохматый щенок, забавно гавкнул и, не удержавшись, завалился набок – малыш ещё, неуклюжий. Прислонившись к стене, стояли два мужика, видать местные, в больших галошах, в пузырястых штанах, один в расстёгнутой рубахе до пупа, а второй, наоборот, в пиджачке, наглухо застёгнутом, и в фуражке, сдвинутой на затылок. Они, отгораживаясь от всех, нетерпеливо пересчитали мелочь и принялись проверять карманы, в надежде, что ещё найдут деньги. Видать, на бутылку соображали. А возле массивной двери с большим навесным замком, на широких выщербленных ступенях судачат несколько старух, придерживая сумки, и рядом крутятся ребятишки. И, пока магазин закрыт, они занимались своими ребячьими делами, шумно играли в какую-то игру, но затихали от окриков старух, а потом опять начиналось веселье, не обращая внимания на оплеухи и тычки.
Мимо, натужно взревев, промчался грузовик, обдав пыльным облаком и мелкими камушками из-под колёс. Повернул возле магазина и, кому-то громко просигналив, рывками стал забираться на гору, где стояли длинные, тёмные здания, а вдалеке тянулся сплошной лес. Вон ещё одна машина вывернула из кустов и быстро промчалась вдоль опушки. Рабочий день в разгаре.
Виктор поправил тяжёлый рюкзак. В нём свёртки с едой, что мать собрала в дорогу, тёплые вещи на всякий случай, смена белья, да несколько толстых книг, чтобы не скучать в этом захолустье. Взъерошив короткие волосы, Виктор посмотрел по сторонам, не зная, в какую сторону направиться. Заметил, возле доски объявлений, которая висела на боковой стенке остановки, появилась худенькая голенастая девчушка в простеньком ситцевом платьишке. Она стояла и внимательно читала пожелтевшее, выцветшее под солнцем и дождями, большое объявление, а потом принялась срывать старые, потрёпанные листки, очищая стенд, и бросать в урну, стоявшую рядышком с ней. Виктор подошёл, поправляя рюкзак, и нетерпеливо дёрнул девчушку за тоненькую косичку с простеньким бантиком.
– Эй, малявка, не подскажешь, где находится ваше деревенское или колхозное начальство? – сказал он, продолжая осматриваться. – Где ваша контора, чтобы оформить документы, или ты ещё этого не знаешь?
– Ай, мне же больно! – она вскрикнула и отдёрнулась, а Виктор увидел, что перед ним стоит не малявка, а его ровесница, может, чуточку помладше, и, насупив светлые брови, с удивлением рассматривает его. – Зачем драться-то? Взрослый, а дёргает за косички, словно мальчишка, – она опять взглянула на него и на его большой рюкзак. – А вы откуда приехали и для чего ищите нашего председателя? – раздался тихий, протяжный говорок и тут же рассыпался мелкий, дробный смешок, и она затеребила бантик. – Уборочная начинается. Ох, добрый урожай в этом году, как сказал председатель! Успеть бы собрать, пока дожди не начались. Вот Сергей Лукьяныч мотается день и ночь, ни на минуточку не присядет, чтобы отдохнуть. Страсть, как исхудал! Одни глаза остались. Но думаю, скоро должен подъехать. Его ждут в правлении. Из района прислали механизаторов. Вовремя приехали, помощники, – она подробно принялась рассказывать ему, а потом внимательно посмотрела на Виктора и запнулась, невольно поправила прядку светлых волос и, внезапно вспыхнув лицом, потупилась и, торопливо отвернувшись, опять принялась отдирать старые присохшие листки с объявлениями. – Извините, мне нужно работать.
– Это… – растерянно сказал Виктор, взглянув на худенькую светловолосую девушку, и почувствовал, как неожиданно и непривычно для него вдруг ёкнуло сердце и гулко заколотилось, когда он перехватил чистый, доверчивый взгляд и улыбку, едва заметную, мимолётную, но такую добрую, и такую родную, словно много лет знал её – эту девчонку, что задохнулся, натужно прокашлялся и, запнувшись, стал торопливо говорить, словно оправдывался. – Это… ну, как его… А меня на отработку прислали. Правда! Вот направление, взгляните, – и засуетился, из глубокого кармана доставая документы, словно перед ним было деревенское начальство. – Возьмите, возьмите, – настойчиво протягивал девчонке. – Вот они, посмотрите. Я же не обманываю. Правда!
Опять раздался мелкий, заливистый смешок. Девчонка вспыхнула, покраснела и исподлобья взглянула на него.
– Ну, если правда, что практикант, тогда идите за мной, – она махнула рукой, дотронулась до рукава, а потом не удержалась, фыркнула и быстро помчалась по узкой тропке к небольшому одноэтажному зданию, которое стояло неподалеку от деревенского клуба, и крикнула: – Не отставайте, студент, а то у нас можно в трёх соснах заблудиться, что вы уже умудрились сделать! – и опять рассыпался звонкий смешок.
Она взбежала на крыльцо, где несколько человек в грязной робе стояли и курили, что-то обсуждая, а потом спустились и, размахивая руками, направились к машинам, стоявшим неподалёку. Девушка приоткрыла дверь, обитую жестью, дождалась, когда он подойдёт, и ткнула, показывая кабинет председателя, едва слышно засмеялась, когда Виктор споткнулся об высокий порог, и быстро захлопнула дверь.
Виктор сбросил рюкзак и уселся на старый стул, стоявший возле двери. Долго сидел, дожидаясь председателя. Успел прочитать на стене все приказы, распоряжения, просмотрел брошюрки, стопкой лежавшие на подоконнике. Потом, когда приехал Сергей Лукьяныч, с ним засиделся, разговаривая в кабинете. Затем дожидался, пока оформили в соседнем кабинете, и едва появился в коридоре, как опять столкнулся с председателем и вышел с ним на крыльцо. На ступеньках сидела светловолосая девчушка и, не обращая ни на кого внимания, медленно покачивалась, словно танцевала, и еле слышно напевала, похлопывая узенькой ладошкой по коленке.
– Думаю, вы успели познакомиться с нашей Танечкой, – вдруг непривычно ласково произнёс председатель и неловко погладил заскорузлой ладонью по худенькому плечу. – Помощница! Незаменимая. Даже не представляю, что бы без неё делал. Умница, одним словом. Танюша, покажи избу своей бабы Дуни. Вот, постояльца к ней отведи. Скажи, я попросил. А продукты завезу, как немного освобожусь, пусть кормит и ни о чём не беспокоится, – и опять провёл ладонью по светлым, словно выгоревшим волосам, потом нахмурил густые чернущие брови и кивнул Виктору. – Столоваться будешь у бабы Дуни. Понятно?
– Да, всё понял, – сказал Виктор и поправил широкие лямки рюкзака. – Голодным не останусь. Завтра выйду на работу. Ничего, найду мастерские.
Кивнув, Виктор проводил взглядом председателя, который запрыгнул в машину, и шофёр, газуя, быстро рванул с места, скрывшись в густом облаке пыли. Поправив рюкзак, спустился с крыльца и взглянул на деревню. Да уж, это далеко не город, даже не посёлок, а деревня, где-то у чёрта на куличках. Он вздохнул, взъерошив жёсткие волосы.
Украдкой посматривая друг на друга, Виктор и Танечка медленно шли по деревенским улочкам. Вздрагивали, когда неожиданно гавкали собаки, бросаясь на шаткие заборы, или, как оглашенные, горланили петухи. Случайно задевая друг друга, густо краснели. Виктор с любопытством поглядывал по сторонам и расспрашивал про деревню. Всё было в диковинку, словно в другой мир попал. Танечка рассказывала, махала рукой, что-нибудь показывая, и звонко смеялась, перехватывая удивлённые взгляды, а потом запнулась, помолчала и, словно решившись, взглянула на него.
– А у тебя есть девчонка, с которой дружишь? – она спросила и вспыхнула, полыхнула румянцем. – В городе, наверное, все дружат, потому что там много мальчишек и девчонок, да? – и сразу же потупилась, чтобы он не заметил. – И в школе вместе, и в кино или в театры можете сходить, а у нас этого нет, только клуб, куда по выходным привозят кино, и библиотека – и всё. – Она снова взглянула на него. – А у нас мальчишек мало, раз-два и обчёлся, как учительница говорила.
И засмеялась, а потом потупилась.
И Виктор растерялся, не знал, что ответить. Да, у них принято дружить. И он дружил с девчонкой. Хорошая, умная и начитанная, а ещё – красивая. И родители постоянно говорили, если они женятся, то будущее будет обеспечено, а вот про любовь разговоры не заводили. Никто, ни родители, ни они. Зачем нужна эта любовь, если всё было расписано для них. Зачем самим думать, если родители позаботились о будущей жизни. Так проще жилось, не напрягаясь, не задумываясь о завтрашнем дне. Да, они дружили со школы. Наверное – это была привычка, была обычная многолетняя дружба и не более того, а может, этого хотели родители, чтобы они были вместе… Всё может быть. Задумавшись, Виктор пожал плечами.
– Понимаешь, в городе все дружат, – наморщив лоб, как-то очень спокойно сказал он. – Нельзя без этого, и не получится. Скучно. А так, хоть поговоришь и повеселишься, вместе праздники встречаем, гуляем вместе и друг к другу в гости ходим, или собираемся и куда-нибудь уезжаем на природу, в походы ходим, а зимой на лыжах катаемся и на каток ходим. Да мало ли развлечений, – сказал и не заметил, что Танечка нахмурилась, потом снова улыбнулась и, не дослушав его, приоткрыла калитку и побежала по тропке к дому.
– Баб Дунь, иди сюда, баба Дуня, – тонко, протяжно крикнула Танечка, поднялась на высокое крыльцо и распахнула дверь. – Я постояльца привела, – она прислонилась к косяку и затеребила простенькую ленточку в тонкой косичке. – Иди, встречай нового жильца. Председатель попросил. Сказал, что попозже завезёт продукты. Будешь кормить бедного, худенького и голодного студента, – глянула на его крепкую фигуру, и опять рассыпался смешок, и снова полыхнуло её лицо, а у Виктора, что было непривычно для него, неровно, тягуче заколотилось сердце, когда взглянул в эти чистые и доверчивые глаза.
Донёсся протяжный скрип половиц. На просторной веранде, увешанной вязанками чеснока и лука, где густо пахло разнотравьем и берёзовыми вениками, и тут же на стене, на больших вбитых гвоздях висели две старые фуфайки, пальто с облезлым воротником, рядом грязная керосиновая лампа без стекла и неожиданно – яркий цветастый зонт, а под ними в рядок стояли галоши, грязные сапоги и валялся чилиговый веник. Дверь приоткрылась, и на пороге появилась высокая сухопарая старуха в тёмной длинной юбке, глухой кофте с латками на локтях, в платке до бровей и в очках, поверх которых сначала долго и хмуро смотрела на Виктора, словно в душу хотела заглянуть, потом перевела взгляд на девчушку и улыбнулась.
– Танечка пришла, здравствуй, моя хорошая, – сказала она и погладила по светлым волосам. – Здравствуй, моё солнышко. Проходи в горницу, проходи. Не стой возле порога. Загонял тебя председатель. Совсем как тростиночка стала. Ничего, поговорю с ним, вправлю мозги! – повернулась к Виктору и ткнула пальцем в дужку, поправляя очки. – Откуда прибыл, постоялец? – взглянула на него и опять нахмурилась. – Что забыл в нашей глухомани? Ну-ка, докладывай! – и встала перед ним, уперев руки в бока.
– Это… Из города приехал, – запнувшись, сказал Виктор, с опаской посмотрев на серьёзную старуху, и торопливо стал рассказывать. – Прислали на отработку. Я учился на механика. Диплом получил. Думал, в городе останусь, а мой отец не успел договориться, и меня отправили сюда. Распределили, так сказать. Сказали, что буду поднимать сельское хозяйство. Одному пришлось добираться. Меня Виктором Ерохиным зовут, а отчество – Алексеевич.
Танечка звонко закатилась, услышав про сельское хозяйство. Вслед за ней, не удержавшись, прыснула старуха, но тут же осеклась и опять насупилась.
– По имени называют, а по отчеству величают. Надо ещё заслужить, чтобы тебя по отчеству окликали. Уразумел? – Она хмуро посмотрела на него. – Студент, говоришь? Ага, понятно, ещё один лодырь прибыл. К нам каждый год приезжают практиканты, чтобы поднимать наше хозяйство. Наверное, давно бы пропали без студентов. Правда, многие в город сбегают, всё легкую жизнь норовят найти. А чего её искать, ежли человек сам себе жизнь строит? А ты надолго прикатил?
И взглянула поверх очков.
– Надеюсь, что всю отработку пробуду в колхозе, а может, останусь навсегда, если понравится деревенская жизнь – это время покажет, – пожимая плечами, сказал Виктор. – Ваша деревня красивая и большая, и работа хорошая будет, как председатель пообещал. В общем, время покажет, сколько проживу здесь, – повторил он и покосился на Танечку.
– Ну ладно, потом поговорим, – поправляя платок, буркнула старуха и посторонилась. – Чать, устал с дороги, пока добрался до деревни. Ну, проходи в избу, раздевайся. Танечка, покажи ему комнату, а я на стол соберу. Постояльца покормлю, как приказал председатель, да сами повечеряем.
И она загремела чугунком, разогревая ужин и доставая посуду, и всё бормотала, что от этих самых приезжих практикантов, ну, вообще никакого проку – один вред колхозу и бесполезный перевод продуктов.
Ударившись головой о низкую притолоку, Виктор охнул, схватившись за лоб, и перешагнул порог. Сбросил возле него тяжёлый рюкзак и с любопытством стал осматриваться. Он впервые попал в простой деревенский дом, и всё было интересно. Небольшая полутёмная комнатушка. Низкий, неровно покрашенный грязно-голубой потолок. В углу заметил паутину. Видать, редко убираются в этой нежилой комнате. Оранжевый абажур с кистями и запылённая тусклая лампочка, засиженная мухами. На подоконнике вовсю цвели гераньки в жестяных детских ведёрках. Возле стены, рядом с оконцем, где висели простенькие занавески, раскорячился щелястый стол – можно палец засунуть между досками. А рядом тумбочка, сверху лежала стопка газет, какая-то книга и колода старых затёртых карт. В углу, между цветастыми занавесками, виднелась старая кровать с высокими спинками и под тюлевой накидкой – горка подушек. И ещё несколько тусклых фотографий на стенах. Вот и всё убранство: ни радио, ни телевизора, ни транзистора – ничего из цивилизации. Вздохнув, Виктор взъерошил волосы, удивляясь, как люди живут в деревне, как он будет жить в этом захолустье. Сбросив новенькие кеды, прошёлся по холодным скрипучим половицам, которые были застелены полосатыми половичками. Осмотрелся и, не найдя, на что присесть, подошёл к окну, прислонился к стене, стараясь не задеть гераньку на подоконнике, и уставился в мутное оконце, наблюдая за размеренной деревенской жизнью.
– Эй, практикант, гляди, цветок не сломай, – поджав губы, в комнате появилась старуха и, громыхнув, поставила табуретку. – Вот, возьми. Какая-никакая, а всё же мебель. Можешь отдыхать. Покличу, когда будем вечерять, – опять ушла на кухоньку и, разговаривая с Танечкой, загремела посудой.
Ужинали вчерашним вермишелевым супом, где плавали тоненькие прожилки мяса, и холодной картошкой в мундирах, обмакивая в блюдечко с пахучим подсолнечным маслом, и затем долго сидели, неторопливо пили жиденький чай с карамельками, и Виктор принялся расспрашивать про деревню, что-нибудь показывая в оконце. Старуха неохотно отвечала, а то и просто отмахивалась и сама начинала выспрашивать Танечку, какие новости в правлении колхоза – это было интереснее. Танечка искоса поглядывала на недовольную бабу Дуню. Смущаясь, перевела взгляд на Виктора. И, вспыхнув, тихо сказала, что покажет ему и деревню, и старенькую церковь, которой лет двести, а может, и того больше. А ещё они побывают на речке и посидят на большом обрыве, откуда всё-всё видно до самого горизонта, где ей нравилось бывать, куда всегда уходила, чтобы поглядеть на воду, на старый скрипучий паром с таким же старым паромщиком в его круглогодичном жестяно-гремящем плаще, и послушать перекличку рыбаков да почитать книжки – это всё обещала показать. Взглянув на покрасневшую девчонку, которая сидела и, опустив голову, теребила тоненькую косичку, Виктор кивнул головой. Поймал её взгляд, когда она искоса посмотрела на него и снова потупилась, и что-то внутри зажгло, и так полыхнуло, аж дыхание перехватило. И Виктор, не задумываясь ни секунды, напрочь выбросил из головы всё, что связывало с городом, с его девушкой, с которой дружил ещё со школьной скамьи и на которой хотел жениться. Он решил вычеркнуть всё, что связывало с прошлым, когда встретился с чистым и доверчивым взглядом Танечки. Казалось, он нашёл то, чего ему так не хватало в этой жизни. И Виктор напрочь выбросил всё, что связывало его с городом, и пошёл… Нет, он помчался сломя голову за худенькой, голенастой девчонкой, которая неожиданно для него ярким огоньком, светлячком вспыхнула в его жизни. И Виктор потянулся к этому лучику счастья, к Танечке, чтобы остаться с ней навсегда.
Едва проснувшись, уже не мог дождаться, чтобы побыстрее прошёл день и наступил вечер, и тогда они с Танечкой пойдут гулять. Днём были мимолётные встречи на улице или в правлении, а бывало, что она забегала в мастерские, и Виктор, чумазый, выходил и подолгу стоял, смотрел, как она, изредка оборачиваясь, махала ему рукой, а потом скрывалась за поворотом, снова появлялась и опять исчезала, но всегда поворачивалась, чтобы взглянуть на него и улыбнуться. И мужики в мастерской посмеивались – женихом обзывали, а он не обижался, наоборот – радовался. А если Виктор бывал в правлении, тогда они вели торопливые разговоры ни о чём, но в то же время о многом. Взгляды, лёгкие касания и сердце начинало колотиться, места в груди не хватало, и они замолкали на мгновение, а затем опять говорили и говорили, пока не приходилось бежать или ехать по делам. Но наступал вечер, и они, куда бы ни шли, где бы ни были, потом всё же приходили на высокий обрыв реки. Виктор скидывал куртку, они присаживались и молча смотрели на тёмную воду, на яркий огонёк костра, светивший где-нибудь неподалеку на берегу, слушали, как разговаривали приезжие рыбаки, уставшие за долгий день, вон их машина стоит возле кустов, а рядом палатка темнеет, а вон там, если прислушаться, доносится скрип старого парома, перевозивший трактор. Уткнувшись в берег, паром недолго отдыхал, но, услышав сигнал машины или протяжный крик с противоположного берега, паромщик, дедка Артём, размахивая фонарём, зычно кричал в ответ – и снова паром отправлялся в свой привычный путь.
Они всегда уходили на любимое место, на высокий речной обрыв. За поворотом тропинки, если забраться на вершину, открывалось широкое пространство, окаймленное кромкой леса на противоположном берегу, а с их стороны, под лунным светом или фонарём паромщика серебрилась гладь реки.
– Прислушайся… – тихо сказал Виктор.
– К чему? – также шёпотом спросила Танечка и застыла, стараясь не шуметь.
– Послушай, как звучит ночь… – Виктор медленно обвёл рукой и притих.
У каждой ночи свои звуки, разнообразные, где-то резкие, а где-то приглушённые, но в то же время всё равно хорошо различимые. Вон там, возле берега, плеснула сонная рыба, а неподалёку глухо звякнул котелок или кружка. Наверное, рыбак поднимался, чтобы воды попить. В общем, какое-то завораживающее спокойствие было возле реки и над рекой. Время для них проходило незаметно. Они сидели, изредка шептались, ловили взгляды и, потупившись, краснели. И так просиживали до тех пор, пока не начинало светать, а трава покрывалась холодной росой. И тогда Танечка поднималась и, что-то тихо напевая, начинала кружиться в лёгком танце, не обращая внимания, что намокает лёгкая обувь и подол простенького платьишка. А он сидел и смотрел на неё: на худенькую и невысокую, на её тонкие и светлые косички с простенькими бантиками. Ловил доверчивый взгляд светлых глаз, и у неё такая радость, такое счастье было на лице, что Виктору хотелось обнять Танечку, такую маленькую и беззащитную, милую и родную, прижать крепко-крепко и никуда не отпускать…
И он не отпустил Танечку, когда поужинали и сидели в комнате, пили чай, а на улице загромыхал порывистый ветер, пробежав по старой крыше, и начался проливной дождь. Бабы Дуни не было, ещё с утра уехала погостить к родственникам в соседнее село и попросила, чтобы Танечка присмотрела за хозяйством и практикантом, как привыкла называть Виктора. И вместо того, чтобы пойти гулять, они остались дома.
Они сидели за колченогим столом, тихо шептались, посматривали на окна, за которыми порывистый ветер грохотал железным листом над головами, и прислушивались к неумолкаемому шуму дождя. Дождь хлестал в окно, и ручейки стекали по мутному стеклу, а затем порывы ослабли, и полетела медленная и мелкая морось, скрывая округу в туманной дымке.
А они сидели, пили чай из большущего самовара, который ловко вскипятила Танечка. Дули чай с баранками, с печеньками, с простенькими карамельками, но которые казались Виктору самыми вкусными конфетами, какие он пробовал в жизни. А потом уселись на кровать, где, бывало, вслух читали книги, а сейчас, не включая свет, шептались в темноте, касаясь друг друга, краснели, благо, что не видно было в тёмных сумерках. Неумело отозвалась на поцелуй Танечка – и тут же спрятала смущённое лицо. И снова потянулись друг к другу, всё крепче и жарче обнимаясь и целуясь, а потом всё и произошло, и Танечка осталась с ним до утра.
Наступило утро, и Танечка, оглянувшись на Виктора, потянулась к нему, хотела поцеловать, но передумала, опасаясь разбудить, едва касаясь, дотронулась до его губ и поднялась. Набросила платьице, на цыпочках вышла из комнаты и захлопотала на кухне. Тихо напевала, гремела чашками, ойкала, оглядываясь на дверь, и звякала ложками. А потом, когда всё приготовила и расставила на столе, позвала Виктора завтракать. И кружилась возле стола такая счастливая, такая яркая, что, казалось бы, вот оно, пришло настоящее счастье, о котором столько времени мечтал и ждал. Мечтал и наконец-то дождался и получил, но Виктор сидел на скрипучей табуретке, долго и задумчиво смотрел на Танечку и не мог понять, что с ним произошло ночью. Казалось бы, первая и настоящая любовь, первая девушка и женщина, нужно было гордиться, радоваться и беречь её, любить ещё крепче, но что-то щёлкнуло в душе и отключилось, оставляя какую-то пустоту. Непонятная пустота. Он глядел, но перед ним была не Танечка, на которую не только насмотреться, надышаться не мог с той поры, как приехал в деревню, как с ней встретился и пошёл за этим лучиком счастья. Не Танечка, к которой тянуло, за которой хотелось бежать сломя голову, догнав, обнять её и остаться с ней навсегда. Нет, это была не она… Сейчас, утром, как показалось Виктору, перед ним стояла ничем не примечательная, обычная деревенская девчонка. Он не мог понять, что с ним случилось, что произошло ночью, почему Танечка, за которой готов был пойти на край земли, вдруг превратилась в неприметную девчонку, какие постоянно встречаются в жизни на каждом шагу, мимо которых проходишь и не замечаешь. И уже нет той единственной, о которой мечтал, потух огонёк и исчез светлячок, нет единственной, ради которой нужно совершать безрассудства, можно горы свернуть, лишь бы она была рядом. И вот наступило утро, и сказка закончилась…
А Танечка продолжала напевать. Ничего не замечая, порхала вокруг стола. Старалась подсунуть ему лучшие кусочки или просто притронуться к нему: едва касаясь, едва задевая, провести по коротким упрямым волосам, а потом стереть пальцами лёгкую насупинку, что пролегла на переносице и едва заметно, всего лишь на мгновение, прильнуть к нему – это и есть счастье, ради которого нужно жить. Счастье, которое она искала и наконец-то дождалась.
После работы, едва наступал вечер, Танечка приходила к бабе Дуне. Если моросил дождь, сидели с Виктором в комнатушке, читали книгу или просто разговаривали. Изредка заходила баба Дуня, и тогда засиживались допоздна. Ну, а если была хорошая погода, уходили на гору. Сидели на краю обрыва, шептались, а то просто молчали и всё прислушивались к ночным звукам. Танечка не замечала, что с каждым днём, с каждой вечерней прогулкой или дневной встречей на улице Виктор не отталкивал её, но в то же время он становился более холодным, всё чаще отворачивался от неё и хмурился, тогда взгляд становился острым, колючим и чужим. Всё чаще находил причину, чтобы задержаться на работе, или подолгу сидел возле конторы, о чём-то думал, посматривая на дорогу, на проезжающий автобус, или собирался и уезжал с агрономом в поля и возвращался поздно, приезжал так, чтобы никуда не выходить. И тогда Танечка, немного посидев, уходила, чтобы ему не мешать, чтобы он отдохнул. Прошёл месяц, другой, и Виктор, не отпрашиваясь, ничего и никому не объясняя, торопливо собрал вещи и затолкал в рюкзак, пока старухи не было дома, и словно воришка, скрываясь за заборами и кустами, переулками добрался до автобусной остановки и уехал. Смылся, как последний трус. Сбежал, чтобы напрочь забыть Танечку, забыть эту деревню, выбросить и вычеркнуть всё, что связано с ней, и побыстрее вернуться в ту жизнь, к которой привык, где ждали его, где всё было приготовлено для счастливой жизни на многие годы вперёд…
Он сбежал в счастливую жизнь, какую пообещали родители. «Сынок, одной любовью сыт не будешь. Точно не помню, но кто-то сказал, что любовь слепа и нас лишает глаз. Поэтому советую – не будь слепцом, – так сказал отец, когда Виктор признался ему про Танечку, о том, что произошло в деревне. – Взгляни на нас с матерью. Мы прожили без любви, но наш дом превратился в полную чашу – это и есть настоящее счастье, а не ваша детская любовь, которая в жизни никому не нужна». Виктор понимал, что будущее будет обеспечено, если послушается родителей. И он пошёл по стопам родителей. Вскоре была свадьба. А потом началась жизнь, и рядом была красавица-жена. Дом – полная чаша. Было всё, что душе угодно, но любви не было. Не было того, что он испытал с Танечкой. И сын родился, и второй через год, а за ними дочка, и подрастали такими же, каким раньше был Виктор и его жена. Родители радовались, глядя на них, и жена ни слова не говорила, всё для дома, всё для Виктора делала. Казалось бы, если взглянуть со стороны, всё славно в семье, даже очень хорошо. И продолжалось бы дальше, но ему случайно повстречалась на улице голенастая девчонка, танцующая на остановке. И чем-то задела Виктора, то ли чистым взглядом, то ли увидел светлые тоненькие косички с простенькими бантиками, как у Танечки, или звонким смехом, а может, просто напомнила ему первую любовь, которую он бросил ради счастливой жизни, какую обещали и сделали ему родители. И Виктор словно очнулся от долгого сна. Взглянув со стороны, как прожил эти годы, как было всё, но в душе была пустота, не было главного – тепла и любви, и тогда он бросил всё и, не раздумывая ни секунды, помчался в деревню. Уехал, чтобы опять вернуться в своё прошлое, где, как казалось, он по-настоящему был счастлив. Помчался, чтобы снова повстречать свою Танечку и наконец-то после долгих лет разлуки остаться с ней навсегда. С ней, с той Танечкой, какую он помнил, какую всегда любил, как ему показалось в тот момент…
– Что молчишь-то? Хватит ворон ловить, – и Виктор вздрогнул, услышав голос бабы Дуни. – Я говорю и говорю, а он, как об стенку горох – не слышит.
– Что говоришь? – перебивая, непонимающе взглянул Виктор. – Какой горох, где? – он тряхнул головой и растёр лицо. – А, извини, баб Дуня. Сижу, в окошко смотрю и ничего не вижу и не слышу – задумался.
– Да я рассказывала, что Танечка ждала тебя, долго ждала, – поджав тонкие морщинистые губы, сказала баба Дуня. – Ждала, что ты вернёшься. Всё на остановку бегала, каждый автобус встречала и провожала. Потом Танечка узнала, что ты женился на другой. Она сломалась, пружинка внутри не выдержала, хрупнула и всё. Твоя вина – это ты сломал Танечку. И она поблёкла, в тень превратилась. Танечка ходила по деревне, ни с кем не разговаривала, никого видеть не хотела. Да и сейчас всех сторонится. Только и признаёт, что меня да ребятишек – и всё. Она, бедняжка, так и живёт одна-одинёшенька. Никого не захотела видеть рядом с собой, хотя многие звали её замуж. Всем давала от ворот поворот. Тебя не могла забыть. Потом, видать, свыклась. Хотя, кто знает, чужая душа – потёмки. До сих пор работает в клубе, в нашей библиотеке. Все дни и годы с книгами просидела. Что в них хорошего – не понимаю. А вот она из рук не выпускает. Говорит, что в книгах живёт. А вечерами приходит с ребятишками на гору, – баба Дуня махнула рукой, и у Виктора ёкнуло сердце. – Вон туда уходят, и она читает книжки, а детишки сгрудятся вокруг и слушают. Так и сидят, а зима наступает, в библиотеке собираются. Любят её, души не чают и не знают, что с ней произошло, – и неожиданно сказала: – Знаешь, не стало нашей прежней Танечки. Враз постарела она, увяла словно цветок полевой, и снаружи, и внутри. Сгорела, когда ты сбежал. Из лучика в уголёк превратилась наша Танечка. Вот так! – Она замолчала, покачивая головой, поправила платок, а потом снова ткнула пальцем, словно припечатала. – Это твоя работа – паскудник!











