Читать онлайн Феминизация истории в культуре XIX века. Русское искусство и польский вектор
- Автор: Мария Чернышева
- Жанр: Культурология, История искусства
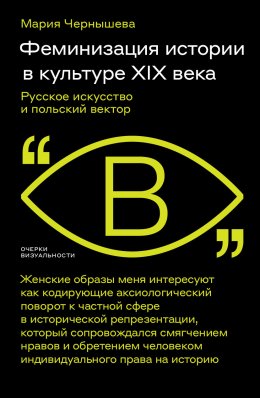
Очерки визуальности
Мария Чернышева
Феминизация истории в культуре XIX века
Русское искусство и польский вектор
Новое литературное обозрение
Москва
2024
УДК [7.041-055.2](091)(47)«18»
ББК 85.03(2)52-3
Ч-49
Редактор серии Г. Ельшевская
Рецензенты: А. А. Бобриков, кандидат искусствоведения, доцент СПбГУ, старший научный сотрудник РИИИ; Г. Ю. Ершов, кандидат искусствоведения, профессор ЕУСПб
Мария Чернышева
Феминизация истории в культуре XIX века. Русское искусство и польский вектор / Мария Чернышева. – М.: Новое литературное обозрение, 2024. – (Серия «Очерки визуальности»).
Что может рассказать о европейской культуре XIX века возрастающая значимость женских образов из национального прошлого? В своей книге Мария Чернышева условно называет эту тенденцию феминизацией истории и рассматривает ее как важную составляющую процесса приближения истории к частному человеку. Исследуя связи живописи и графики с историческим романом, драмой и оперой, а также уделяя внимание эго-документам, автор показывает, каким был вклад в этот процесс художников Российской империи и особенно Царства Польского. Периферийное по отношению к имперскому центру положение Польши вкупе с ее европейским прошлым обусловили контекст, в котором активно разрабатывались новые трактовки женских персонажей и новые модели художественной репрезентации истории. Мария Чернышева – историк искусства, специалист по русской и французской визуальной культуре XIX века.
ISBN 978-5-4448-2430-6
© М. Чернышева, 2024
© Д. Черногаев, дизайн серии, 2024
© ООО «Новое литературное обозрение», 2024
Предисловие
Настоящая книга – исследование возрастающей значимости женских образов из национального прошлого в художественной культуре XIX века. Для риторической выразительности я буду называть это явление «феминизацией истории», хотя понимаю, что историю по-прежнему воспринимали как поле, по существу, мужского действия.
Женские образы меня интересуют не в эссенциалистском гендерном измерении, а как кодирующие аксиологический поворот к частной сфере в исторической репрезентации, который сопровождался смягчением нравов и обретением человеком индивидуального права на историю. Об этом повороте свидетельствуют, разумеется, не только женские образы, но они – с особой наглядностью. Главный вопрос для меня заключается не в том, что говорят нам образы женщин о женщинах, а в том, что говорят нам эти образы об установках исторического и национального сознания, с одной стороны, в западноевропейской и прежде всего французской культуре XIX столетия, а с другой – в культуре Российской империи, где художественная продукция Царства Польского очень заметно отличалась от продукции имперского центра с точки зрения обозначенного вопроса.
Линда Нохлин, родоначальница феминистского искусствоведения, специализировавшаяся на XIX веке, перечисляет и осуждает устойчивые стереотипные представления о женщинах:
Они слабы и пассивны; они сексуально доступны для мужчин; они призваны заниматься домом и воспитанием детей; они приближены к природе, естественны; … очевидно нелепы их попытки активно вписаться в историческое пространство…1
Нельзя не согласиться с тем, что «женственное» – это такой же культурный конструкт, как и отображения женщин в искусствах. Под женственным я подразумеваю здесь набор клишированных черт, во многом совпадающий с теми, которые перечисляет Нохлин (привлекательность, чувствительность, приватность, слабость, трогательность), но, в отличие от Нохлин, я стремлюсь показать, что такая женственность успешно входит в представления об истории, причем не изменяя себе, не превращаясь во что-то иное, и это выступает важным достижением европейской культуры XIX столетия в направлении не только женских прав, но и гуманности в целом. Женственное в репрезентации истории я рассматриваю как признак распространения ценностей частной жизни, терпимости, отзывчивости.
Укоренению этих ценностей в Европе способствовали в области идей – Просвещение, в области переживаний – сентиментализм. Сентименталистская культура закрепляет предрассудок, отождествляющий женственное с естественным и чувствительным, но одновременно возводит чувствительность, тонкость в важнейшие достоинства цивилизованного человека вообще. Мелисса Хайд, занимающаяся феноменом женщины и женственного в визуальной культуре XVIII века, сосредоточена, в отличие от Нохлин, на изучении не столько гендерного неравенства, сколько активной роли женщин в развитии культуры и выражения этой роли на языке их времени. Хайд раскрывает коннотации и метафорику «женственного», пропитывающие искусства XVIII века и там, где дело касается творчества, меценатства женщин, их портретирования, и там, где речь идет о внегендерных вопросах художественной поэтики и риторики, о конструировании культурных моделей2. В новой эмоциональности XVIII столетия, с акцентом на сердечной мягкости и отзывчивости, носителями которых часто предстают женские персонажи, Марта Нуссбаум и Линн Хант видят один из источников либерализма и озабоченности правами человека3.
Но распространение женственных образов в живописи на сюжеты из национальной истории – это то, что становится возможным только в XIX столетии в рамках исторической картины нового типа, в создании которой решающий вклад принадлежит французским мастерам.
Сентиментализм чужд поклонению силе, будь ее носители мужчины или женщины, и воспитывает сочувствие к слабым, будь то женщины или мужчины, а также эстетизирует слабость. Предельно упрощая, можно сформулировать так: проблема слабого решается двумя основными способами, не исключающими друг друга. Первый: слабый превращается в сильного, отстаивает свое достоинство в его глазах и неизбежно в какой-то степени по его меркам. Второй: сильный идет навстречу слабому, признает его достоинство, неизбежно принимая в какой-то степени его критерии, проявляет толерантность, эмпатию, гуманность.
Радикальная линия внутри феминизма, к которой тяготеет Нохлин, делает ставку на первый принцип борьбы с гендерной дискриминацией. Поэтому Нохлин замечает в изображении женщин слабыми только демонстрацию мужского доминирования, подавления и подчинения женщин. Но изображение слабых – и женщин, и детей, и мужчин – может свидетельствовать и о другом – о развитии внимания и участливости к слабым. И это тоже способствует борьбе с дискриминацией – и гендерной, и социальной, и политической, и национальной.
Нохлин не учитывает тот контекст, в котором обилие женственных образов в культуре становится признаком не патриархальности, а, наоборот, цивилизованности и прогрессивности. Сравнительное изучение предмета высвечивает этот контекст. Для меня отправной точкой было наблюдение, что в русском искусстве XIX века на удивление мало женственных и трогательных образов из национального прошлого, в то время как ими заполнена западноевропейская и польская графика и живопись. Означает ли это, что русская культура менее патриархальна? Конечно, нет, это означает ровно противоположное.
Вместе с тем в русской литературе XIX века дело обстоит по-другому. С одной стороны, с проблемой изображения женственного, лирического, приватного в истории (особенно допетровской) сталкивались, как мы увидим, и русские литераторы, с другой, достаточно вспомнить два шедевра – «Капитанскую дочку» Александра Пушкина и «Войну и мир» Льва Толстого, – чтобы убедиться, каких высот в раскрытии этой темы могли достигать отечественные писатели, правда, повествуя о недавнем прошлом. Нельзя сказать, что русские художники широко откликнулись на это достижение Пушкина и Толстого.
Трудно поддается анализу незаконченная картина Яна Матейко «Закованная Польша» (1864), написанная им после подавления Январского восстания за национальную независимость в Царстве Польском и западных губерниях Российской империи. В окружении обескровленного польско-литовского народа – женщин, детей, стариков, раненых – молодая женщина с распущенными волосами, в черном порванном платье4 гордо поднимает голову, стоя на коленях с протянутыми на наковальню руками. Почти вплотную к ней развязно и угрожающе по-господски подошли два высокопоставленных русских офицера, отдающие приказ заковать красавицу в кандалы. Это генералы Федор Берг и Михаил Муравьев, руководившие разгромом восстания. Перед нами не только плененная, но едва ли не изнасилованная Польша. В этой «реальной аллегории» Польшу олицетворяет женщина, парадоксально соединяющая в себе слабость, угнетенность, униженность, чувственную прелесть и внутреннее достоинство. Россию же олицетворяет казарменный дух, одновременно и милитаристский, и мужланский, лишенный галантности, не ведающий ценности женственного, а следовательно – блага цивилизованности5. Расправу имперских властей с Польшей Матейко трактует через метафору грубого мужского насилия над женщиной. И хотя он делает это ради обличения насилия, левая точка зрения (включая крайнюю феминистскую) может спровоцировать вопрос: не безответственное ли это эксплуатирование стереотипа женщины как объекта принуждения, стереотипа, порожденного миром мужского господства? А правая точка зрения может спровоцировать другой вопрос: патриотично ли апеллировать к трагедии Польши сквозь призму этого стереотипа, сравнивать родину с изнасилованной женщиной?
В своей исторической живописи Матейко не боялся изображать наряду с победами и силой польской нации ее ошибки, потери и слабость, за что не раз навлекал на себя еще при жизни обвинения в недостаточном патриотизме. Я согласна с Алейдой Ассман, которая на материале XX века размышляет о важности коммеморативного опыта такого рода, не обходящего национальные травмы прошлого, не сводящегося к его героизации, глорификации и сакрализации6. Ассман ратует за европейскую «мемориальную культуру», порывающую с монологичным самовозвеличиванием наций, строящуюся на самокритике и выслушивании «другого», а также того, кто не попал на авансцену истории. Она же замечает, что до сих пор «историков больше интересуют государственные деятели, генералы и солдаты», нежели история гражданская, а также женская7. Ассман указывает, что начавшееся в XIX столетии конструирование имиджа наций основывалось на героическом и триумфальном историческом нарративе8. Моя книга посвящена альтернативной тенденции исторического воображения, которой мы тоже обязаны XIX веку, – раскрытию историками, романистами, художниками, композиторами негероической истории частной жизни и частного человека.
«Закованная Польша» Матейко не лишена героичности, так как показывает самоотверженную борьбу поляков за свободу, но не становится образцовым воплощением того героизма, который возвеличивает нацию, т. к. делает слишком горький акцент не только на доблестной готовности народа принести огромную жертву, но и на его ужасающих потерях и поражении в борьбе тогда, когда будущий успех еще не предрешен. Однако полотно Матейко не является и примером интересующей меня образности, связанной с прошлым, а не настоящим, и с частным человеческим, а не народным. Эта образность помогает человеку ощутить и осознать свою принадлежность к истории не в качестве представителя нации, а в качестве индивида.
Вместе с тем было бы неверно полагать, что эта частная, чувствительная, женственная историческая образность не может быть вовлечена в моделирование имиджа нации. Как мы увидим, изучение истории частной жизни было тесно связано с изучением истории культуры и искусств, так как во многом вырастало из анализа художественных источников. А созданные на основе и этой историографии, и этих источников произведения могли становиться актуальными и эффективными инструментами культурной манифестации нации, иными словами, культурной дипломатии, прибегающей к «мягкой силе». В Польше в этом отношении особую роль сыграла картина Йозефа Зимлера «Смерть Варвары Радзивилл» (1860). Она запечатлела трагический финал знаменитой любви между королем польским и великим князем литовским Сигизмундом II Августом и его избранницей Варварой, которую он сделал королевой и тем самым, возможно, погубил. Но в течение какого-то времени эта картина занимала исключительное место в польском искусстве не только как памятник трогательным человеческим чувствам, но и как эмблема национальной живописи. В одной из глав книги я старюсь объяснить, почему и как это произошло. В отличие от Матейко, уроженца Вольного города Кракова, Зимлер был жителем Варшавы и российским подданным. В 1867 году в русском отделе парижской Всемирной выставки развернулось соревнование за зрительские симпатии между его «Варварой Радзивилл» и «Княжной Таракановой» (1864) Константина Флавицкого9, который представил «княжну» не как самозванку и преступницу против российской власти, а как несчастную, слабую, беспомощную и все еще прелестную женщину, гибнущую в тюрьме и вызывающую сочувствие. Соревнование картина Флавицкого выиграла, хотя и с небольшим отрывом. Об этом рассказано в заключительной главе книги.
1867‑й, год Всемирной выставки, взят мною за смысловую и хронологическую точку отсчета: я сосредоточусь на русской и польской живописи10, созданной в период, начиная около 15 лет до и заканчивая около 15 лет после этой даты, в период формирования и развития в Польше и России исторической картины нового типа. Что же касается графики, а также европейских мировоззренческих, литературных, историографических, визуальных истоков нового «исторического жанра» в живописи, необходимо охватить материал и более раннего времени.
• «Княжна Тараканова» Флавицкого занимает на удивление особенное место в русской живописи XIX века. С одной стороны, это одно из лучших ее творений, быстро полюбившееся публике и прекрасно отвечавшее общеевропейскому спросу на женственные и чувствительные образы из национального прошлого. С другой стороны, мы не находим почти ничего сопоставимого с этой картиной в искусстве петербургских и московских художников XIX столетия. Рядом с «Княжной Таракановой» можно поставить разве что образ Марии Меншиковой в композиции Василия Сурикова «Меншиков в Березове» (1883) и образ Елизаветы Петровны на картоне Валентина Серова «Петр II и цесаревна Елизавета на псовой охоте» (1900). Отдельно озадачивает то, что самым очаровательным и трогательным персонажем из русской истории в живописи выпало стать «княжне» Таракановой – не только иностранке, но и самозванке.
• Польское искусство, начиная с художественной продукции Царства Польского, напротив, очень богато женственными образами из польско-литовского прошлого. Их не только много, они играют важную роль в польском историческом и национальном самосознании. Царство Польское при всем контроле и ущемлении польских прав со стороны Петербурга на протяжении XIX столетия сохраняет в Российской империи относительную самостоятельность (в сравнении с другими западными губерниями) и отчетливую культурную «инаковость» по отношению к имперскому центру. Поляки рано, ярко и настойчиво заявляют о себе как об отдельной нации изнутри Российской империи и через противостояние ей. И это делает польский опыт национальной рефлексии особенно значимым для русских, немало стимулируя в них осознание собственной национальной идентичности11. Оставаясь главным российским «окном на Запад», Польша успешно конкурирует с метрополией в «европейскости», то есть по многим направлениям цивилизационного прогресса12. Несмотря на то, что многие польские мастера получают образование или как минимум числятся учениками в петербургской Императорской Академии художеств, польский пантеон женственной образности складывается под очевидным влиянием французской исторической картины и существует довольно незаметно для петербургских и московских живописцев, по крайней мере до Всемирной выставки 1867 года, когда в русском отделе рядом оказываются «Варвара Радзивилл» Зимлера и «Княжна Тараканова» Флавицкого, привлекающие внимание посетителей.
• Еще до этой Всемирной выставки, на рубеже 1850–1860‑х, польские художники стали первыми в России, кто представил на регулярных экспозициях Академии художеств картины, вполне соответствующие французскому «историческому жанру» и посвященные при этом русской истории. Это «Ассамблея при Петре I» (1858) Станислава Хлебовского и «Сцена из „Капитанской дочки“» (1861) Ивана Миодушевского. В обеих работах важны женские персонажи.
• Одним из главных польских лиц русской истории была Марина Мнишек, супруга самозванцев, двух Лжедмитриев. Сочетание в ней женской природы с публичностью и политической активностью, хорошо задокументированными, делало ее уникальной фигурой во всем допетровском прошлом, содержащем крайне редкие и скупые сведения о женщинах. Однако в России до XIX века о Марине Мнишек упоминали немного и неохотно, и только с наступлением этого столетия Марина как необычный и чрезвычайно примечательный для российской истории персонаж была вполне оценена. Теперь она стала настоящим подарком для русских историков и литераторов, чем они прекрасно воспользовались. И хотя с той же уверенностью этого нельзя сказать о русских художниках, образы Марины, созданные в России XIX века, составили, пожалуй, наиболее интересную часть ее исторической иконографии. Не исключено, что самозванка Тараканова, выдававшая себя за дочь императрицы Елизаветы, тоже имела польские корни, во всяком случае среди ее наиболее влиятельных европейских покровителей были представители польско-литовской знати, недовольные разделом Речи Посполитой между Россией, Пруссией и Австрией.
Учитывая изложенные выше наблюдения, можно говорить о польском векторе феминизации истории в искусстве Российской империи. Он выступает ярким маркером гуманизации культуры, причастности ее к современным европейским ценностям, восходящим к эпохе Просвещения и сентименталистскому ее тренду. С одной стороны, перед нами важный вклад польских художников и польской исторической тематики в культурную европеизацию и модернизацию Российской империи13, с другой – пример преимущества польской визуальной культуры над русской в достижении современной европейскости. Это преимущество обеспечивается и самим польским прошлым, при всех своих национальных особенностях несомненно европейским, в отличие от допетровской Руси; и современным польским искусством, быстро и успешно осваивающим новейшую модель художественной репрезентации истории, французскую по своим истокам, но превратившуюся в панъевропейскую. С Францией у Польши были исторически тесные связи, начиная, по крайней мере, с Анжуйской династии на польском престоле. В XIX веке эти связи усилились тем, что Париж стал главным центром польской «великой эмиграции» из Российской империи. И надо подчеркнуть, что речь идет о том преимуществе, демонстрировать которое – как свидетельствует подготовка российской экспозиции Всемирной выставки 1867 года – польской культуре было дозволено имперскими властями, вероятно, потому что они недооценивали потенциал женственных исторических образов, иными словами, «мягкой силы» в формировании имиджа современной европейской нации.
Глава 1
Феминизация истории в европейской культуре XIX века
В «Письмах русского путешественника» Николая Карамзина, заново открывших русскому читателю одновременно и западную культуру, и потенциал культуры русской, есть такая запись, помеченная маем 1790 года:
Шесть дней сряду, в десять часов утра, хожу я в улицу св. Якова, в кармелитский монастырь… «Зачем? – спросите вы. – Затем ли, чтобы рассматривать тамошнюю церковь, древнейшую в Париже и некогда окруженную густым, мрачным лесом, где св. Дионисий в подземной глубине укрывался от врагов своих, то есть врагов христианства, благочестия и добродетели? Затем ли, чтобы решить спор историков, – из которых одни приписывают строение сего храма язычникам, а другие королю Роберту <…>». Нет, я хожу в кармелитский монастырь для того, чтобы видеть милую, трогательную Магдалину живописца Лебрюна, таять сердцем и даже плакать!.. <…> Я видел много славных произведений живописи, хвалил, удивлялся искусству, но эту картину желал бы иметь, был бы счастливее с нею, одним словом, люблю ее! Она стояла бы в моем уединенном кабинете, всегда перед моими глазами…
Но открыть ли вам тайную прелесть ее для моего сердца? Лебрюнь в виде Магдалины изобразил нежную, прекрасную герцогиню Лавальер, которая в Лудовике XIV любила не царя, а человека и всем ему пожертвовала: своим сердцем, невинностию, спокойствием, светом14.
В разгар Французской революции, сокрушившей монархию и церковь, Карамзин изо дня в день посещает монастырь кармелиток, который при старом режиме был привилегированной обителью для представительниц высшей знати. Революционные власти закрыли монастырь и национализировали его имущество, но Карамзин как будто еще застает все, включая картину Лебрена, на своем месте. Вскоре со множеством других монархических памятников она попадет в хранилище секуляризированного аббатства Малых Августинцев, где стараниями Александра Ленуара в 1795 году откроется первый в Европе собственно исторический музей – Музей французских памятников. Революция превратила прошлое в безвозвратно утраченное и тем самым непреднамеренно ревалоризировала его, заставила дорожить им как никогда раньше.
Карамзин дает понять, что его не занимают ни святая древность, ни заботы ученых (датировки и атрибуции). Кармелитский монастырь притягивает его как место и среда обитания Луизы де Лавальер, хранящие эфемерную, но осязаемую память о ней и помогающие воскресить ее образ. Ощущение прошлого через подлинные, материальные его следы, оживление его чувствительных струн захватывает Карамзина. Опыт оживления, приближения к современному индивиду и исторических лиц, и литературных персонажей вошел в культурный репертуар образованных европейцев. Карамзин испытывал подобное не раз во время своего путешествия по Европе. Самый известный пример – его прогулка к берегам Женевского озера для созерцания пейзажей, в которые вдохновленный ими Жан-Жак Руссо поселил влюбленных из своего романа «Юлия, или Новая Элоиза». Этот литературный маршрут стал одним из самых популярных у сентиментальных путешественников. Здесь Карамзин оживляет в своем воображении персонажей Руссо и его самого. В России он дал толчок к развитию подобного опыта своей повестью «Бедная Лиза» (1792), действие которой поместил в окрестности Симонова монастыря в Москве, тщательно их описав. Поклонники Карамзина и его Лизы приходили к монастырю, чтобы проникнуться средой, где она любила, страдала и утопилась в пруду; и порой они забывали, что Лиза была вымышленной девушкой15.
Любители истории воскрешали прошедшее не столько через ландшафт, как читатели «Новой Элоизы» и «Бедной Лизы», сколько через архитектуру и артефакты. Но эти механизмы переживания исторического и литературного были родственны и складывались одновременно в просветительской и сентименталистской культуре. Музей французских памятников, созданный Ленуаром из демонтированных монументов, а также иных ценностей, конфискованных революционным правительством из дворцов, церквей и монастырей, оказал огромное влияние на развитие исторического воображения во всей Европе. Жюль Мишле в своей «Истории Французской революции» вспоминал детские (начала XIX века) впечатления от него:
Я до сих пор помню чувство, … которое заставляло биться мое сердце, когда я маленьким ребенком входил под эти темные своды и созерцал эти бледные лица, когда я шел и искал, пылкий, любопытный, робкий, из комнаты в комнату и из века в век. Что же я искал? Не знаю; жизнь прошлого, несомненно, и дух времен. Я не совсем был уверен, что они неживые, все эти мраморные спящие, распростертые на своих надгробиях; и когда от роскошных монументов XVI века, сверкающих алебастром, я проходил в нижний зал Меровингов, где находился крест Дагоберта, я не знал, не увижу ли Хильперика и Фредегонду, поднимающихся передо мной16.
На протяжении XIX столетия повторялись утверждения, что визуальные свидетельства «наделяют историю плотью и субстанцией, являя нам то, что трудно описать словами»17. Такие суждения высказывали не только антиквары и археологи, но и историки, специализирующиеся на создании текстов:
Шпага великого воина, регалии прославленного монарха, драгоценности великой и несчастной королевы, книги c несколькими пометками, сделанными рукой писателя, – сколько реликвий, которые люди хотят увидеть и которые формируют совсем иное впечатление, нежели мертвые буквы какого-нибудь тома, знакомящего нас с историей18.
В аббатстве кармелиток для Карамзина отправной точкой путешествия в историю тоже были монастырские стены и артефакт, алтарный образ Марии Магдалины, написанный Шарлем Лебреном, главным художником Людовика XIV. Живопись Лебрена, представителя академического классицизма, должна была быть чужда сентименталистским вкусам Карамзина. Хотя он хвалит картину Лебрена, сосредоточен он не на ней как произведении искусства, а на тех вольных ассоциациях, которые она у него вызывает. Картина важна для Карамзина как документ эпохи Лавальер, отсылающий к ее персоне не столько благодаря сходству (сомнительному) изображенной Магдалины с Луизой, сколько потому, что она была создана для монастыря, куда Луиза удалилась после разрыва с королем. Карамзин видит на полотне Лебрена то, что совершенно не соответствует ни принципам живописи XVII столетия, ни культуре французского абсолютизма. Его описание Магдалины-Луизы – это декларация новых ценностей, которые отрицают и вытесняют старые. Вместе с тем Карамзин в кармелитском монастыре оказывается отчасти в положении Ленуара: он восхищается картиной Лебрена как принадлежностью того времени, которое вместе с веками монархии, словно гигантский айсберг, откололось от настоящего. Если бы не революция, его восхищение, вероятно, было бы слабее. Карамзин смотрит на картину Лебрена словно в последний раз. Отчасти так и вышло: она уцелела, но монастырь, в церкви которого она висела, который обеспечивал ее ауру, вскоре был снесен.
В работе Лебрена Карамзин видит ее сентиментальную альтернативу. Его предпочтения предвосхищают некоторые ключевые черты той женской образности, которая станет востребована в исторической живописи нового типа, утвердившейся в Европе первой трети XIX столетия. Вместо запечатленной Лебреном Марии Магдалины, легендарной фигуры из Евангелия, святой, почитаемой во всем христианском мире, Карамзин думает о персоне из относительно недавнего прошлого, известной лишь как любовница французского короля, одна из многих. Это предпочтение локального и конкретного общезначимому и легендарному, малого – великому. Карамзин рисует Луизу притягательной, но скорее прелестной и милой, чем прекрасной; чувствительной и скромной, но не образцом добродетели. Он предпочитает не образцовое и не совершенное. Обычный человек, не лишенный недостатков, слабостей, противоречий, привлекательнее для Карамзина, чем герой-сверхчеловек19. Людовика XIV, при котором французская монархия достигла наивысшей политической силы и театрализованной аранжировки, Карамзин вслед за Луизой представляет не «королем-солнцем», а просто человеком, тоже весьма чувствительным, но непостоянным. Карамзин пишет, что хотел бы иметь картину Лебрена в своем уединенном кабинете и, если не знать, о чем речь, можно подумать о небольшом портрете, а то и о миниатюре. Между тем алтарный холст Лебрена более двух с половиной метров высотой, это совсем не камерная живопись – ни по формату, ни по духу. Но Карамзин воспринимает ее как камерную, он ожидает от художественного образа приватности и близости к зрителю как частному человеку. Наконец, Карамзин подчеркивает в Луизе жертвенность и сочувствует ей. Он ценит в художественном произведении трогательность. Перечисленные черты женского образа в различных преломлениях и сочетаниях мы найдем в исторических картинах, которые будут рассмотрены в этой книге.
Фрагмент из «Писем русского путешественника» Карамзина предвещает не только общую тенденцию трактовки исторических персонажей в искусстве XIX века, но и то, что Луиза де Лавальер станет одной из самых популярных фигур в исторической галерее прелестных и трогательных женщин, созданной художниками этого столетия (наряду с Валентиной Миланской, Ядвигой Анжуйской, Варварой Радзивилл, Джейн Грей, Анной Болейн, Марией Стюарт…). Среди первых мастеров этой «галереи» был Флери-Франсуа Ришар. В парижском Салоне 1806 года он выставил две работы камерного, лирического характера, посвященные Луизе: «Мадмуазель де Лавальер в момент неожиданного появления Людовика XIV» и «Мадам де Лавальер, кармелитка». Они были выполнены вскоре после издания романа графини Фелисите де Жанлис «Герцогиня де Лавальер» (1804), который сильно подогрел интерес публики к персоне Луизы. Произведения Ришара сопровождались в Салоне такими пояснениями: Луиза «читала письмо короля, когда он проник в ее комнату через окно и бросился к ее ногам»; «уединившись в своей келье, [Луиза] смотрит на лилию, символ ее любви, и позволяет молитвеннику выскользнуть из рук»20. Здесь на стене кельи Луизы висит гравюра, изображающая Марию Магдалину.
«Мадам де Лавальер, кармелитка» (1805, ил. 1) Ришара была куплена Евгением Богарне, герцогом Лейхтенбергским, а после женитьбы герцога Максимилиана Лейхтенбергского на дочери Николая I попала в Россию21. В этом можно усмотреть некоторую иронию судьбы, так как в русском искусстве XIX столетия ощущается острая нехватка женственных и чувствительных образов из национального прошлого, в создании и развитии которых безусловно лидировали французские художники, начиная с поколения Ришара. Эта лакуна достойна серьезного изучения, поскольку она наглядно отражает некоторые фундаментальные установки русского исторического и художественного менталитета. И эта лакуна не распространялась на искусство польское.
В какую общую новую модель изображения прошлого вписывалось увлечение мастеров XIX века женственными, чувствительными образами? Контекст формирования этой модели определяли восходящие к эпохе Просвещения идеи о том, что история не должна сводиться к истории монархов, полководцев, государственных и церковных деятелей, что ее лица не должны мифологизироваться, что в ней должно быть место не только событийному, но и повседневному, частному, обычному человеческому, каковое может быть обнаружено и в монархах22.
Ил. 1. Флери-Франсуа Ришар. Мадам де Лавальер, кармелитка. 1805. Москва, Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина
С точки зрения внутренних законов искусства эта модель основывалась на принципиальных изменениях жанровой природы исторической картины, ее поэтики. В традиционном, классическом понимании «историческая живопись» на вершине жанровой иерархии – это живопись на религиозные и мифологические сюжеты, реже на сюжеты из античной истории. Эпитет «историческая» тут отсылает к истории как повествованию. Это рассказ в высоком регистре трагедии – о великом и общезначимом, о богах и героях, о больших и, как правило, легендарных событиях. Это также рассказ-поучение, сопровождающийся воплощением нравственных понятий. Греко-римская античность мыслится общим лоном европейской истории и поэтому получает преимущество перед историями отдельных стран и периодов, которыми до конца XVIII века живопись в целом не занимается, но которые в XIX веке обеспечивают главный репертуар исторической картины. С этого времени она становится исторической в привычном нам сейчас смысле слова и сосредоточенной на изображении Средневековья и раннего Нового времени в их национальных вариациях. Легендарное, всеобщее, героическое уступают реальному и локальному (и в территориальном, и в хронологическом отношении), конкретному, особенному, а также обыкновенному и частному. По классическим художественным меркам это означает жанровое снижение исторической картины, отдаление ее от трагедии и сближение с бытовой картиной, а также с романом, историографией и книжно-журнальной иллюстрацией.
Ключевой вклад в формирование и развитие исторической картины нового типа вносят французские художники. Она заявляет о себе уже в первые годы XIX века в искусстве мастеров круга Флери Ришара, позже прозванных «трубадурами». В 1830‑х за ней в парижском Салоне закрепляется наименование «исторический жанр»23 как компромиссное между номинациями «историческая живопись» и «бытовой жанр»24. В это время главным авторитетом в области исторического жанра становится Поль Деларош, приобретающий широкую популярность в разных странах. К середине XIX столетия исторический жанр распространяется с большим успехом в искусстве всей Европы. В пределах Российской империи его осваивают сначала, в 1850‑е, художники Царства Польского, чуть позже, в 1860‑е, – художники имперского центра25.
Рамочный признак интересующей нас новой исторической образности можно определить как наличие в ней очеловечивающей частной специфики. «Частное» здесь раскрывается в разных ракурсах: 1) как повседневное, хозяйственное, домашнее; 2) как приватное, личное, чувствительное; 3) как нетипичное, но не выдающееся или исключительное, а неприметно единичное, а также второстепенное и случайное. Противоположность частному составляет в первую очередь государственное, событийное, героическое и только потом (и не всегда) публичное, тем более что оппозиция «частное/публичное» складывается и утверждается в европейской культуре только в XVIII веке26. Например, как мы увидим ниже, к частной сфере относят монаршью и придворную повседневность с ее увеселениями, праздниками, балами, хотя такая жизнь протекает не только не приватно, но словно на сцене, демонстративно публично, а также наделена политическим значением.
1. В XIX веке под частным нередко понимают повседневное, хозяйственное, домашнее. Тут для новой исторической картины важным образцом становится жанровая живопись XVII века, особенно произведения голландских мастеров Геррита Доу, Габриэля Метсю, Франса ван Мириса, Питера де Хоха…27 На временнóм расстоянии они воспринимаются как ценные исторические свидетельства человеческой повседневности и сами приобретают исторический флер, каковым исконно не обладали. Новые художники истории охотно усваивают вкус старых голландцев к подробно и тщательно выписанным реальным деталям одежды, обихода и обстановки, а также к эффектам мягкого естественного света, проникающего в интерьеры. То, что для старых голландцев было привязанностью к простым вещам в окружающей жизни, легко соединяется с антикварным фетишизмом XIX столетия, с увлеченностью материальными атрибутами истории.
Голландская бытовая картина XVII века важна для новых художников истории не только как исторический документ, но и как целостное художественное построение. В поисках же исторического реквизита и аксессуаров они обращаются к широкому кругу старого искусства, в той или иной степени фиксирующего реалии прошлого, а также к частным и музейным коллекциям старинных предметов. Полезные для художников сведения предоставляют быстро множащиеся публикации памятников и исследования исторической повседневности. В этих направлениях собирательской и издательской деятельности, тесно переплетающихся между собой, решающие шаги делают антиквары XVIII столетия. На их опыте хорошо видно, что открытие истории частной жизни есть одновременно открытие истории искусств и культуры, так как обе задачи требуют изучения не столько хроник, традиционного исторического материала, сколько художественных произведений, вербальных и визуальных.
К первым антикварным изданиям, ценным прежде всего своим богатым иллюстративным рядом и посвященным не античности, а национальному Средневековью, принадлежит пятитомник Бернара де Монфокона «Памятники французской монархии» (1729–1733). Он содержит гравированные повторения миниатюр, портретов, витражей, настенных росписей, скульптур и среди прочего ковра из Байе, который Монфокон прославил. Ковер как исторический артефакт прокомментирован им очень подробно. Многие другие произведения, репродуцированные целиком или фрагментарно, приводятся просто как дополнения к известным жизнеописаниям королей, как отражения знаменитых персон, а также костюмов, снаряжения, обычаев и художественных манер различных эпох. «Читатель заметит, – пишет Монфокон, – что эти эстампы сообщают нам о многих особенностях, о которых историки не говорят»28.
В интересе к Средневековью Монфокон опережал свое поколение, у его современников «Памятники французской монархии» не пользовались успехом, стилистика воспроизведенных там вещей (которой Монфокон дорожил как историческим свидетельством и которую считал важным точно передать) казалась им варварской и отталкивающей. Но вскоре этот труд превратился в один из главных визуальных справочников для историков, романистов и особенно художников, занимающихся прошлым Франции. Сильное влияние он оказал среди прочих на Ленуара, создателя Музея французских памятников29.
В 1782 году французский антиквар Пьер-Жан-Батист Легран д’Осси публикует без иллюстраций трехтомник «История частной жизни французов от зарождения нации до наших дней», где начинает со следующего заявления:
То, что я написал, – это не история Франции. Мои намерения и подходы не те, что у историка. Наши материалы тоже совершенно разные; я использую в своей работе только те, что историк отвергает. Призванный рассказывать о великих событиях, он отбрасывает все, что не представляется ему важным, он выводит на сцену только Королей, Министров и Генералов, всю это когорту прославленных людей, чьи таланты или ошибки, дела или интриги обеспечивают несчастье или процветание государства. Но буржуа в своем доме, крестьянин в своей хижине, дворянин в своем шато, наконец, француз за работой и на досуге среди своей семьи и детей – вот то, о чем историк умалчивает30.
Львиная доля труда Леграна – исторический обзор французской агрокультуры, производства вин и других алкогольных напитков, сыров… Он подробно останавливается на французской кухне, охоте, уделяет внимание мебели, посуде, изделиям из золота и серебра… Выделяется финальная часть о досуге и праздниках, в основном придворных. Здесь наиболее заметно затронуты нравы и манеры.
В Англии последней четверти XVIII века первопроходцем на пути одновременно и Монфокона и Леграна стал гравер и эрудит Джозеф Стратт, автор книг «Королевские и церковные древности Англии» (1773), «Полный обзор нравов, обычаев, оружия, привычек и пр. жителей Англии» (1774–1776), «Полный обзор одежды и привычек народа Англии» (1796–1799), «Спорт и развлечения народа Англии с древнейших времен…» (1801). Эти обширные издания включают ценный изобразительный материал, извлеченный из иллюминированных манускриптов. Но, в отличие от Монфокона и подобно Леграну, Стратт уделяет внимание повседневной жизни разных сословий.
В XIX веке предмет, выбранный Леграном и Страттом, полноправно входит в сферу историографии. В Российской империи первые опыты в этом роде – очерки декабриста Александра Корниловича «О частной жизни русских при Петре I», «О частной жизни императора Петра I», «Об увеселениях русского двора при Петре I», «О первых балах в России», «Частная жизнь Донцев в конце XVII и первой половине XVIII века» (1824)31; брошюра Алексея Оленина «Опыт об одежде, оружии, нравах, обычаях и степени просвещения славян… и русских… » (1832)32. Надо также назвать книги графа Александра Нарциза Пшездзецкого («Домашняя жизнь Ядвиги и Ягайло из расходных реестров: 1388–1417», 1854)33, Ивана Забелина («Домашний быт русских царей в XVI и XVII столетиях», 1862; «Домашний быт русских цариц в XVI и XVII столетиях», 1869)34, Александра Терещенко («Быт русского народа», 1848)35 и Николая Костомарова («Очерки домашней жизни и нравов великорусского народа XVI–XVII столетий», 1860)36.
В этих очень информативных публикациях иллюстрации либо отсутствуют, либо крайне малочисленны и играют второстепенную роль. Параллельно нарастает поток изданий, нацеленных на визуальное воспроизведение национальных памятников. В России среди первых самых масштабных и дорогих таких проектов был многотомник «Древности Российского государства»37, запечатлевший в цветных литографиях по рисункам Федора Солнцева38 одежды, доспехи, оружие, знамена, кареты, церковную и светскую утварь, иконы, парсуны, интерьеры, архитектурные фрагменты. От изданий Монфокона и Стратта этот сборник отличает, помимо прочего, то, что в нем репродуцированы в основном изделия, а не изображения, а среди последних преобладают религиозные39. Существенная часть отобранных для сборника Солнцева вещей происходила из Оружейной палаты Московского кремля, главного российского музея национальных древностей, который одновременно являлся музеем российской монархии, так как в нем хранились великокняжеские и царские сокровища и регалии.
К преобразованию Оружейной палаты в музей приступили в 1806 году по распоряжению Александра I. Этот процесс оказался растянут во времени, но его начало пришлось на десятилетие, когда в Европе были основаны два других, очень важных для развития исторического сознания, музея – Музей французских памятников в Париже (1795) и музей в Пулавах (1801), недалеко от Варшавы. В первом, созданном по инициативе Ленуара и с санкции революционного правительства, средневековые монументы экспонировались под монастырскими сводами, в пространстве, затемненном вставленными в окна старинными витражами, что поддерживало то завораживающее, почти магическое воздействие музея на посетителей, которое описано в процитированных выше воспоминаниях Мишле. Для музея Оружейной палаты на территории Кремля сначала, при Александре I, построили здание в классицистическом стиле, потом при Николае I, – другое, в русско-византийском стиле. Экспонаты размещались там в просторных, светлых залах с современными витринами, акцент был сделан на атрибутах монаршей власти и военной славы. Кроме того, в отличие от музея Ленуара, доступного для народа, музей Оружейной палаты до середины XIX века могли посещать только люди из дворянского и купеческого сословий. Сын бедного типографа Мишле, живи он в России, не смог бы туда просто так попасть. Но, возможно, самое существенное отличие музея Оружейной палаты от музея Ленуара заключалось в том, что в революционной Франции историческая и художественная ценность древних памятников приобрела независимость от их прежнего монархического и церковного символического статуса, а в Оружейной палате она оставалась неотделима от их положения в системе самодержавных и православных символов. Музей Ленуара был музеем средневековой Франции, Оружейная палата – музеем Российского государства.
При восшествии на престол Александра II и по его указанию в 1856–1859 годах музей Оружейной палаты дополнили исторической экспозицией в отреставрированных московских палатах бояр Романовых, где, по легенде, родился Михаил Федорович, родоначальник новой царской династии. Палатам, насколько было возможно, возвратили облик XVI–XVII веков, в них реконструировали интерьеры и домашнюю обстановку семьи Михаила Федоровича, отчасти благодаря подлинным личным вещам Романовых (в том числе женским и детским) из собрания Оружейной палаты, отчасти благодаря повторениям старинных образцов. Палаты бояр Романовых стали уникальным для России музеем допетровского домашнего быта. И хотя своим возникновением музей был обязан причастностью к истории российской монархии, это не отменяет того факта, что эта история была трактована здесь с приватной, а не официальной стороны.
Александр I повелел превратить древлехранилище Оружейной палаты в музей через год после того, как в 1805‑м посетил Пулавы, резиденцию князей Чарторыйских, богатейших и влиятельнейших польских магнатов. Адам Ежи Чарторыйский входил в ближайший круг Александра. На рубеже XVIII–XIX веков Изабелла Чарторыйская, мать Адама, устроила в Пулавах выдающийся историко-художественный музей, открытый для публики и бесплатный40. Сначала для коллекции был построен храм Сивиллы (1801) в форме древнеримского храма-ротонды, затем Готический домик (1809). Замысел Изабеллы был ярко патриотическим в своих истоках: музей воплощал память о прошлом величии Польши, которая с конца XVIII столетия, после ее разделов между Россией, Пруссией и Австрией, перестала существовать как государство. Подобно Ленуару, Изабелла спасала национальные памятники. В музее важное место занимали польские королевские реликвии, польские доспехи, оружие и трофеи, захваченные в сражениях с немцами, австрийцами, московитами и турками, а также экспонаты, связанные с именами великих представителей польской культуры – Николая Коперника и Яна Кохановского41. Вниманием к поэтам и ученым как протагонистам национальной истории, то есть к немонархическим, нерелигиозным, невоенным ее аспектам, музей в Пулавах принципиально отличался от Оружейной палаты, но не от Музея французских памятников, который оказал на Чарторыйскую неизгладимое впечатление и на концепцию которого она ориентировалась, контактируя и лично с Ленуаром42. В его музее рядом с королевскими надгробиями были установлены памятники Пьеру Абеляру, Рене Декарту, Мольеру и другим великим поэтам и ученым, включая антиквара Монфокона. Эти немонархические монументы размещались в музейном дворе, «Элизиуме», под сенью сосен, кипарисов и тополей. Там выделялся и притягивал посетителей мавзолей Абеляра и его возлюбленной Элоизы43, который стал данью сентименталистской культуре, делая чувствительность предметом и проводником исторической памяти. Эту лирическую мемориальную тему Изабелла Чарторыйская тоже подхватила, уделив в пулавском музее место почитанию знаменитых влюбленных, тех же Абеляра и Элоизы, а также Сида и Химены, Петрарки и Лауры…
Пулавы пополнялись экспонатами, связанными не только с польским прошлым. Изабелла коллекционировала средневековые витражи, фламандские иллюминированные манускрипты, шедевры итальянской ренессансной живописи, личные вещи французских королей, королев и королевских фавориток…44 В итоге ее собрание выросло в беспрецедентный панъевропейский историко-художественный музей, предвосхищающий по своему смешанному жанровому составу знаменитый музей Клюни, открытый в Париже в 1843 году как музей Средних веков на основе коллекции Александра дю Соммерара и фрагментов коллекции музея Ленуара, закрытого в 1816‑м.
Музей в Пулавах процветал до 1830 года, когда в Царстве Польском в составе Российской империи вспыхнуло Ноябрьское восстание за национальную независимость. Среди его лидеров был Адам Чарторыйский, с поражением восстания эмигрировавший за границу; в России он был заочно приговорен к казни, которую Николай I заменил на изгнание. Пулавы были захвачены русскими войсками и разорены. К счастью, большую часть музейного собрания удалось сначала вывезти в отель Ламбер, парижский особняк Чарторыйских, а позже вернуть в Польшу, в Краков (на который не распространялась российская власть), где музей Чарторыйских был заново учрежден в 1870‑е.
2. С частным как повседневным, бытовым может сосуществовать и вместе и врозь частное как приватное, личное, чувствительное. Тут для новых художников истории незаменимым источников выступает роман. Прежде всего это, конечно, исторический роман, образцами которого в начале XIX века стали сочинения Вальтера Скотта45. Но и роман как таковой, расцветший в Англии предыдущего столетия, подготовил почву для того жанрового сдвига, на котором строится новая историческая картина. Английские просветительско-сентиментальные романы показывали частную жизнь, частных людей, их приватные чувства с таким волнующим и убедительным драматизмом, что в глазах читателей современность наделялась историческим весом. И отсюда был один шаг до того, чтобы открыть ценность приватного и чувствительного в самой истории. А эпистолярный роман, вошедший тогда в моду, моделировал тип документа (частное письмо), правдиво фиксирующего приватную и чувствительную современность для истории. Дени Дидро в своем панегирике Сэмюэлю Ричардсону писал:
Под романом мы до сих пор понимали текст, сплетенный из фантастических и легкомысленных событий, чтение которого было опасно для вкуса и нравственности. Я хотел бы найти другое название для произведений Ричардсона, которые возвышают дух, трогают душу <…> О Ричардсон, я осмеливаюсь сказать, что самая правдивая история полна лжи, а твой роман полон правды <…> Я осмелюсь сказать, что история часто бывает плохим романом; а роман, как ты его сотворил, – хорошая история46.
С одной стороны, Дидро исходит из того, что исторические сочинения принято было считать более серьезным и благородным родом литературы, более важным для воспитания и образования, чем романы, предназначенные скорее для развлечения. Поэтому сравнение романа с историей должно быть лестно для его автора. С другой стороны, Дидро готов поставить произведения Ричардсона, особенно его «Клариссу, или Историю молодой леди», выше повествований об истории и призвать историков подражать романистам, по крайней мере лучшим из них47. Руссо тоже ожидал от историков, что они начнут уделять внимание тому, что успешно изучают романисты, – частной жизни и частному человеку, будь он одновременно выдающейся исторической личностью:
История вообще страдает изъяном в том отношении, что регистрирует только … заметные факты, которые можно фиксировать с помощью имен, мест, дат; <…> история показывает главным образом действия, а не людей, так как захватывает этих последних лишь в известные избранные моменты, в их парадном костюме; выводит напоказ только общественного человека, принарядившегося для публики: не наблюдает его дома, в кабинете, в семье, среди друзей; изображает его лишь в такие моменты, когда он играет роль…48
Руссо имеет в виду более тонкие материи, чем те, которые вскоре осветит Легран в своей «Истории частной жизни французов». Для Руссо «частное» – это не столько бытовое, сколько приватное, непубличное, неролевое, лишенное маски. Частный человек для Руссо – наиболее подлинный человек. И в приватной обстановке внутренний человек раскрывается наиболее полно. Руссо и Дидро совпадают во мнении, что, в отличие от романистов, историки не рассказывают правдиво о человеке и его чувствах.
Роман и историю, а также частное-повседневное и частное-приватное-чувствительное скрещивает «шотландский чародей» Вальтер Скотт. Подробным изображением частной жизни людей различных сословий, состояний, обычаев и нравов он наполняет свои произведения, не упуская при этом конкретную историческую канву и богатую «антикварную» фактуру, что обеспечило ему высочайшую репутацию и писателя и историка. Он с беспрецедентной естественностью и правдоподобием соединяет большую историю эпох, народов, громких имен с малой историей житейского уклада, индивидуального пути, личного выбора, любви… И хотя материальным атрибутам истории Скотт, страстный их коллекционер, отдает должное и отводит их описанию много места, его романы как никакие другие предшествующие тексты оспаривают преимущества исторических артефактов и музеев в оживлении прошлого. Скотт внушает читателям ощущение свидетелей истории, если не участников.
В его романах реальные, знаменитые исторические фигуры, монархи и государственные деятели, остаются на втором плане и часто показывают себя не в блеске своего величия, а с частной человеческой стороны. Протагонист Скотта влюблен, честен и, как правило, пребывает в вынужденном положении между двумя враждующими лагерями, не отождествляя себя вполне ни с одним, но умея понять оба и следуя в выборе друзей внутренним нравственным критериям. Например, в «Айвенго» главный герой, сакс и сын Седрика, ненавистника завоевателей норманнов, становится другом Ричарда Львиное Сердце, норманнского короля. Протагонист Скотта не делит мир на черное и белое, улавливает его полутона, принимает его несовершенство, чужд фанатизму и не подчиняет свои личные чувства диктату традиции, идеологии, политики49. Иными словами, в водовороте истории он, во-первых, сохраняет себя как частного человека, а во-вторых, проявляет терпимость. Толерантностью, нейтральностью или, если угодно, объективностью окрашена и авторская позиция самого Скотта. Он воздерживается от безоговорочной солидарности с какой-либо из изображаемых партий. Эта нейтральность бывает двуслойна, так как Скотт не только долгое время успешно скрывал свое авторство, но иногда представлялся всего лишь издателем попавших ему чужих рукописей, всего лишь посредником и комментатором.
Одним из первых исторических романов в польско-литовской культуре становится роман «Варвара Радзивилл», написанный по-французски графиней Софьей Шуазель-Гуфье, урожденной Тизенгауз, появившейся на свет в Речи Посполитой за пять лет до ее окончательного уничтожения Третьим разделом Польши. Шуазель-Гуфье была фрейлиной Елизаветы Алексеевны, супруги Александра I, и находилась в дружеских отношениях с самим царем. Ее роман «Варвара Радзивилл» вышел в 1820‑м50, на волне увлечения польских литераторов Варварой, предметом великой любви короля Сигизмунда II Августа в эпоху политического могущества и культурного расцвета Речи Посполитой. Как мы увидим в четвертой главе, в польском историческом и художественном сознании XIX века образ Варвары Радзивилл скрепляет беспрецедентное, трудно достижимое единство лирической и патриотической тем.
Русские писатели осваивают жанр исторического романа на рубеже 1820–1830‑х. Ниже мы коснемся некоторых примеров. Сейчас отметим, что самым ранним и долгое время самым популярным из них был роман Михаила Загоскина «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году» (1829), посвященный Смутному времени, борьбе русского народа с поляками. Несмотря на то, что это произведение создано умело и талантливо под очевидным влиянием Вальтера Скотта (особенно его «Айвенго»), в нем ясно дают о себе знать отступления от скоттовских образцов, ставшие типичными для большинства последующих русских исторических романов, что позволяет говорить о некой национальной тенденции исторического воображения. Герой Загоскина, боярин Юрий, не столько существует между двумя лагерями, подобно протагонистам Скотта, сколько переходит со службы у польского королевича Владислава на сторону русских ополченцев, противостоящих польским завоевателям. Этот переход Загоскин, не соблюдая толерантности Скотта, однозначно оценивает как предпочтение добра злу. Хотя в романе изредка мелькают поляки, не лишенные достоинств, в целом польская нация представлена предвзято уничижительно, не без гротеска51. Любовь же Юрия и боярышни Анастасии – наиболее бледная и условная сюжетная линия романа52. А в «Айвенго» «прекрасная нежная» еврейка Ревекка, самоотверженно полюбившая протагониста и возбудившая жгучую и несчастную страсть в Бриане де Буагильбере, затмевает не только избранницу Айвенго леди Ровену, но порою чуть ли не его самого.
Тенденциями редуцированной, принижающей трактовки «чужой» для автора стороны действия, нивелирования личных чувств и частного пространства персонажей совершенно не захвачена «Капитанская дочка» (1836) Александра Пушкина, тоже вдохновленная романами Скотта. Отклики на нее в изобразительном искусстве будут рассмотрены в третьей главе.
Большое число исторических картин XIX столетия основывалось на романах, а не на историографии. Среди иллюстрируемых в живописи (как и в графике) исторических романов лидировали произведения Вальтера Скотта. Если картины посвящены реальным, а не вымышленным историческим персонажам, часто очень трудно понять, какой текст был главным для живописца – художественный или нефикциональный, тем более что работы историков нередко облекались в форму беллетристики, а сочинения писателей бывали переложением достоверных исторических сведений. Иногда художники указывали среди своих источников Скотта, даже если не обращались к его сюжетам53. Ясно, что в создании приватных, чувствительных и особенно любовных образов из национального прошлого художники по преимуществу руководствовались историческим романом если не как тематическим ресурсом, то как жанровым образцом. Ниже мы увидим, что русские живописцы, в отличие от западноевропейских и польских, оставались к историческому роману и к другим родам исторической художественной литературы довольно равнодушны.
Говоря о приватной исторической образности в литературе и живописи, нельзя не сказать о волне публикаций частных исторических свидетельств, поднявшейся в первой половине XIX века. Если Вальтер Скотт лишь играет роль издателя, историки активно практикуют издания рукописей, иногда в факсимильном повторении. Среди них заметное место занимает персональная их категория, эго-документы54 – письма, дневники55, мемуары. Часто это тексты, написанные женщинами56.
В эпистолярных публикациях выделялась корреспонденция маркизы Мари де Севинье, современницы герцогини Луизы де Лавальер. И сами ее письма, и их многочисленные издания, которые начались уже в XVIII столетии, были существенным импульсом в развитии культуры приватности и чувствительности. В эпоху сентиментализма они стали созвучны набирающему популярность жанру эпистолярного романа, к каковому относились упомянутые выше «Новая Элоиза» Руссо и «Кларисса» Ричардсона. В первых изданиях письма мадам де Севинье воспринимались скорее как актуальное литературное явление, чем как историческое свидетельство. К эпистолярному кругу художественных сочинений XVIII века принадлежала и поэма «Письмо герцогини де Лавальер Людовику XIV» Адриена-Мишеля-Гиацинта Блена де Сенмора. Вероятно, именно по ее мотивам Карамзин составил свое письмо об образе Луизы в монастыре кармелиток57, с которого мы начинали.
В XIX столетии среди первых исторических публикаций женского эпистолярного и мемуарного наследия надо назвать издания писем Джейн Грей58, писем Варвары Радзивилл и корреспонденции, с ней связанной59, обширной корреспонденции Марии Стюарт и документов, близко к ней относящихся60, сборника «Письма королев и знаменитых леди», включающего письма Анны Болейн61, писем Марины Мнишек62, писем Софьи Алексеевны63, воспоминаний Натальи Долгорукой64, мемуаров Екатерины II65 и Екатерины Дашковой66.
3. Частное может восприниматься как нетипичное, но не выдающееся, исключительное, а незаметно единичное, а также второстепенное и случайное. С одной стороны, частный человек мыслится как индивид, самостоятельное, уникальное явление. С другой, если не каждый может быть монархом, святым, героем и даже просто публичным человеком, каждый, включая монарха, бывает частным человеком. Поэтому за «частным» проступает «общечеловеческое», «подлинно человеческое», толерантно и либерально примиряющее разные культурные, социальные, экономические, политические и гендерные идентичности. Такое понимание частного близко к пониманию личности как субъектности, персональности, присущей не отдельному, а любому индивиду, всем людям. Это принципиально отличается от доминирующего в русской культуре начиная с XIX века понимания личности как неповторимой индивидуальности, противостоящей обществу, толпе, массе67.
Новая историческая картина склонна трактовать известных персон как частных людей не только в том смысле, что показывает их в повседневной и приватной обстановке, но и в том, что показывает их как не обладающих исключительностью, держащих себя так, как многие другие держали бы себя в сходной ситуации, ординарной или чрезвычайной, комфортной или трагической. Это дало основания Александру Декану (который сам работал в историческом жанре) написать о своем знаменитом коллеге:
В тот момент все, чего желала публика, все, чего она требовала от искусства, – это узнавания в нем себя… в этом секрет колоссального успеха г-на Делароша68.
Здесь имеется в виду не коллективное, а субъектное узнавание себя каждой человеческой единицей общества.
И в изображаемом действии историческая картина нередко выбирает частный, то есть второстепенный или случайный его момент, а также некую паузу. Это, пожалуй, наиболее наглядно роднит ее с жанром иллюстрации. Сейчас речь идет об оригинальных сюжетных иллюстрациях, отталкивающихся от современного исторического нарратива, а не о воспроизведении старинных артефактов, о которых говорилось выше. Практика иллюстрирования изданий художественной, просветительской, научной литературы стремительно распространяется в XIX веке69. Как мы увидим дальше, новые исторические сюжеты часто сначала визуализируются в книжной и журнальной графике и только потом – в живописи70. Но кроме того, живопись перенимает некоторые приемы иллюстративной графики. Иллюстратор может себе позволить передавать не суть и не панораму событий, и так подробно описанных вербально, а отдельные, иногда мелкие, побочные штрихи к ним, а иногда и то, что остается между строк. С одной стороны, это как будто усиливает зависимость иллюстрации от текста71, вне которого она рискует остаться непонятной. С другой стороны, это переносит зависимость образа от слова в пространство вне образа и поэтому парадоксально освобождает его от повествовательности, а некоторая возникающая при этом смысловая неясность иллюстрации и подражающей ей картины превращается в художественный принцип, не вынужденный, а намеренный эффект, поддерживающий иллюзию естественной, неартикулированной жизни и нейтрального, не регламентирующего ее отображения в искусстве. Наконец, картина, похожая на иллюстрацию, должна легко поддаваться переводу в репродукционную графику72, спрос на которую бурно растет в XIX столетии. В гравированном, позже фотографическом воспроизведении историческая живопись нового типа наводняет частные дома.
Вопреки своей пространственной природе, живопись, особенно историческая, на протяжении столетий полагала повествование важнейшей своей задачей и способностью. Уже было упомянуто, что сам эпитет «историческая» в наименование высшего жанра живописи подразумевал историю как рассказ. Старые мастера рассказывали о великих, широко известных и уже поэтому хорошо узнаваемых событиях, используя конвенциональный язык экспрессий (мимики, жестов, поз, движений), служащих репрезентации характеров и действия, вынесению моральных оценок и поучению зрителя. Новая историческая картина тяготеет к дистанцированию и от событийности, и от повествовательности, и от говорящих, «театральных» экспрессий, и от дидактики73. Эмоции персонажей она нередко изображает сдержанными, неопределенными, в соответствии с укоренившимся в XIX веке представлением о том, что подлинная внутренняя жизнь остается во многом скрыта и невидима74. Отказываясь от морализаторства, художники истории соблюдают нейтралитет, сопоставимый с авторской позицией Вальтера Скотта. Зрителю предоставляется свобода распределять свои симпатии и антипатии.
Все обозначенные частные грани исторической образности, с одной стороны, приближают историю к обычному современному человеку, а с другой, приближают его самого к истории, вселяют в него ощущение исторического субъекта, уверенность в своем праве принадлежать истории. Иными словами, новая историческая картина проявляет к зрителю нетребовательность, терпимость, позволяет ему оставаться самим собой. Подобный эффект в литературе подразумевал Пушкин, когда писал:
Главная прелесть романов Walter Scott состоит в том, что мы знакомимся с прошедшим временем, не с enflure [напыщенностью] французских трагедий, – не с чопорностью чувствительных романов, не с dignité [величавым достоинством] истории, но современно, но домашним образом75.
Позже Михаил Салтыков-Щедрин выразился радикальнее об аналогичном эффекте в живописи Николая Ге:
Я, с своей стороны, очень рад, что нашелся наконец добрый человек, который написал картину собственно для меня… а не для знатоков-педантов <…> Я рад этому … и требую, чтоб художник относился ко мне доступным для меня образом, чтоб он если желает сделать меня участником изображаемого им мира, то не заставлял бы меня лазить для этого на колокольню, а вводил бы в этот мир так же просто и естественно, как я вхожу в мою собственную квартиру76.
Итак, новая историческая картина расширяет традиционное для живописи историческое поле в сторону национальной и эпохальной специфики, бытовой конкретики, повседневных мелочей и случайностей, приватности чувств, человеческого противоречивого несовершенства. Она воздерживается от дидактики, а иногда и от ясного повествования, освещая скорее не действия, а состояния персонажей77, а также предметный антураж, достоверный или кажущийся таковым. Насколько он предстает конкретным и детализированным, настолько человеческие состояния остаются порой смутными, но это делает их только более правдоподобными. В целом «исторический жанр» показывает прошлое с большой убедительностью, словно история разыгрывается вблизи от зрителя, словно он наблюдает ее так же, как окружающую действительность. Это побуждает зрителей проникаться к изображаемому доверием и эмпатией.
Женственные образы, на которых сосредоточено наше внимание, должны быть поняты не только в гендерном измерении, но и как кодирующие описанный выше аксиологический поворот к частной сфере в исторической репрезентации, который способствует развитию толерантности, эмпатии и признанию права неглавного и несильного на историю78. Да, частное как повседневное охватывает и женские, и мужские персонажи, и последние даже в большей степени, так как они продолжают количественно преобладать в художественной историографии. Но присутствие в ней женских фигур на протяжении XIX века очень заметно возрастает и численно и суггестивно, и именно они в первую очередь наполняют исторические сцены чувствительной жизнью и трогают зрителей. Что может быть трогательнее образа юной Джейн Грей, неловко пошатнувшейся на эшафоте и словно нащупывающей рукой плаху (Поль Деларош, ил. 2)? Только образ двух маленьких принцев, детей Эдуарда, прислушивающихся к шагам своих убийц за дверью (Поль Деларош, ил. 3). Что может быть трогательнее образа Варвары Радзивилл, умирающей на глазах любящего ее короля Августа (Йозеф Зимлер, ил. 36, c. 174)? Только образ Яна Кохановского, оплакивающего свою крошечную дочь Уршулу (Ян Матейко, ил. 44, c. 188). Что может быть трогательнее образа хрупкой «княжны» Таракановой, гибнущей в тюрьме (Константин Флавицкий, ил. 46, c. 203)? В русской живописи исторического жанра, пожалуй, ничего.
Ил. 2. Поль Деларош. Казнь Джейн Грей. 1833. Лондон, Национальная галерея
Ил. 3. Поль Деларош. Дети Эдуарда. 1830. Париж, Лувр
«Женственное» далее будет иметь следующие коннотации. Прежде всего это «неофициальное», свободное от миссии олицетворения власти – по существу, миссии мужественной. Женственны могут быть женщины или не облеченные властью, или как бы забывшие о ней, или ее потерявшие. В продолжение альтернативы мужественному женственное будет не милитаристским, а пацифистским и в целом, скорее, не героическим, а иногда даже откровенно слабым, уязвимым, беззащитным. Женственное поддерживается эмоциональным, часто – любовными чувствами, но также материнскими, дочерними, семейными.
Это то женственное, которое заявило о себе в эпоху, когда приобрели ценность для исторического сознания и стали доступны публике такие, например, чувствительные следы прошлого, как надгробие со скульптурным изображением Валентины Миланской79 в таинственной атмосфере Музея французских памятников; портрет Марии Стюарт работы Франсуа Кенеля, клавикорд Габриэль д’Эстре и подаренные ей Генрихом IV серебряные часы (музей Чарторыйской в Пулавах); факсимиле письма с мелкими помарками Варвары Радзивилл к Сигизмунду II Августу; письма Марины Мнишек отцу из Тушинского лагеря под Москвой с жалобой на нехватку средств и просьбой прислать бархата на платье; донесение Алексея Орлова Екатерине II, упоминающее о том, что на лице дерзкой и очаровательной самозванки Таракановой есть веснушки.
В живописи XIX века все чаще встречаются подобные сцены: Жанна д’Арк не отважная воительница, а измученная, больная девушка, с трудом приподнимающаяся на тюремной соломе; Ядвига Анжуйская, насильно разлученная с женихом (ил. 33, c. 163); Валентина Миланская, угасающая от печали по убитому супругу (ил. 4); Маргарита Наваррская c братом Франциском I, который, шутя, показывает ей стишок, только что нацарапанный бриллиантом на окне в замке Шамбор: «Женщины изменчивы / Глупец, кто им доверяет»; Варвара Радзивилл, околдовавшая сердце и душу Сигизмунда II Августа; Катерина Ягеллонка, заключенная в замке Грипсхольм вместе с мужем и маленьким сыном (ил. 37, c. 175); Анна Болейн в Тауэре сразу же после ареста, бессильно поникшая и замершая в полуобмороке; Джейн Грей за несколько минут до казни, беспомощная, растерянная, с завязанными глазами; Мария Стюарт – девочка, воспитываемая при французском дворе; Елизавета I, не великая королева, а приятная дама, принимающая графа Лестера в изящной и приватной обстановке дворца; Луиза де Лавальер, покинутая «королем-солнцем» и скромно уединившаяся в уютной монастырской келье… Распространены были куртуазные и эротические изображения фавориток королей (особенно французских), а также возлюбленных знаменитых поэтов и художников (особенно итальянских).
Ил. 4. Флери-Франсуа Ришар. Валентина Миланская, оплакивающая смерть своего супруга. 1802. Санкт-Петербург, Государственный Эрмитаж
Женственное в искусстве могло восприниматься не только как то, что связано с репрезентацией женщин, но и как то, что ориентировано на них, нравится и приятно им, а также шире – как то, что внушает публике любовь, притягивает и трогает сердца или просто занимает, не требуя напряжения мысли. Этот «женственный» художественный эффект получал контрастные прочтения: с одной стороны, как признак смягчения нравов, гуманизации и демократизации культуры; с другой, как симптом побочного продукта этой демократизации – популяризации культуры.
Иллюстрацией первому служит галантный афоризм Генриха Гейне о беспрецедентно широкой славе исторических романов Вальтера Скотта:
От графини до швеи, от графа до рассыльного, – все зачитываются романами великого шотландца, особенно наши чувствительные дамы <…> Прекрасная нежная Ревекка не могла попасть в более прекрасные, более нежные руки80.
На другом полюсе находится мизогинный отзыв Владимира Стасова на очень популярную когда-то историческую оперу Александра Серова «Рогнеда»:
Публика влюблена теперь в Рогнеду, как бывала влюблена то в Фенеллу, то в Деву Дуная, то в Монте-Кристо, то в верченье столов, то в стуколку, то во многое тому подобное. Но публика как женщина: чем недостойнее предмет ее обожания, тем крепче к нему привязывается, а если он уже совершенно ничтожен или пошл, тогда возгорается у ней такая страсть, которая надолго вытесняет все остальное81.
Как видим, для Гейне женственное – это чувствительное, нежное, прекрасное; для Стасова – неразумное, неразборчивое, поверхностное, ветреное, бестолковое.
Надо сказать, что способность вызывать симпатии, пленять сердца широкой, смешанной в своем классовом, гендерном, национальном составе публики была исконным общим свойством тех новых художественных форм, которые в культуре XIX века обеспечили и поддерживали одержимость историей и которые, в частности, специализировались на создании женственных образов. Это исторический роман, историческая опера и исторический жанр в живописи. Исторический роман, основоположником которого на заре XIX столетия выступил Вальтер Скотт, стал возвышением романа как такового через обогащение его серьезным и подробным историческим знанием, если и не всегда вполне точным и верным, то всегда убедительным. То же касается исторической оперы, главным мэтром которой был признан Джакомо Мейербер. Заявив о себе на рубеже 1820–1830‑х годов на сцене парижской Оперы, она получила название большой оперы (grand opéra) и поражала воображение театральной публики размахом и вместе с тем детальностью исторических реконструкций. С «историческим жанром» дело обстояло несколько иначе. Выше уже было отмечено, что он представал снижением «исторической живописи», понимаемой как поле трагедии с преобладанием религиозной и мифологической тематики, в сторону живописи бытовой, а также историографии и исторического романа, незаменимого источника женственных, чувствительных и любовных образов. Для традиционного художественного сознания подобное снижение само по себе ассоциировалось с феминизацией, так как историческая живопись на вершине классической жанровой иерархии противопоставлялась нижестоящим жанрам не только через социальную метафору, как «благородное» – «плебейскому», но и через метафору гендерную, как «мужественное» – «женственному»82.
Когда в России первой трети XIX века начали появляться отечественные исторические романы, многие авторы отмечали острую нехватку исторического материала для изображения частной и особенно эмоциональной жизни предков. Князь Петр Вяземский писал:
…сомневаемся в богатстве наших материалов для романов в роде Вальтера Скотта. В нашей истории, по крайней мере до Петра Великого, встречаются, разумеется, лица, события и страсти, но нет нравов, общежития, гражданственного и домашнего быта: источников необходимых для наблюдателя-романиста83.
Об этом говорил и Виссарион Белинский:
Изобразить в романе Россию <…> совсем не то, что изобразить ее в истории: долг романиста – заглянуть в частную, домашнюю жизнь народа, показать, как в эту эпоху он и думал, и чувствовал, и пил, и ел, и спал. А какие у нас для этого факты… Где литература, где мемуары <…>?.. Остаются летописи – но с ними далеко не уедешь84.
Это понимал и Николай Устрялов: мы
не знаем подробностей, столь занимательных в Истории Французской или Английской, не знаем, какое участие в делах и спорах Князей принимали наши Ксении и Евдокии85.
Крайне редкое и скупое упоминание о женщинах в источниках допетровского периода Устрялов рассматривал в единстве с другими пробелами русской истории: крайней ограниченностью свидетельств о нравах и обычаях, а также недостатком непосредственного, индивидуального свидетельского взгляда, не пренебрегающего житейскими, человеческими деталями, не скованного условностями летописной традиции и духовным саном летописцев. Сам Устрялов приложил немало усилий для того, чтобы позволить соотечественникам «услышать выразительный голос старины, увидеть жизнь и деяния предков в неподдельной картине»86: в 1830‑е он начал активно публиковать исторические документы, которые рассказывали о том, о чем молчали летописи, касались не только событий, но и быта и нравов Руси. Это записки побывавших здесь иностранцев, записки самих русских, а также эпистолярные источники. Но это существенно не меняло общего положения дел: в России подобных текстов и порождалось, и сохранилось гораздо меньше, чем на Западе.
В передаче частной и эмоциональной жизни национального прошлого русская живопись испытывала трудности еще большие, чем литература. И если в Западной Европе исторический роман и новая историческая картина развивались одновременно, в России последняя запаздывала относительно романа примерно на поколение, заявив о себе, как отмечалось выше, только в 1860‑е. Что же касается Царства Польского, бывшего частью Российской империи, здесь ситуация была иной: в художественной продукции не наблюдалось недостатка в приватных, трогательных, женственных образах из польско-литовской истории.
Общая и очевидная причина затрудненной и сдержанной феминизации истории в русском искусстве XIX века – разрыв между допетровским прошлым и европеизированной культурой. В социальной и политической реальности Древней Руси женское присутствие было гораздо менее заметно, чем в западноевропейской и польской истории. В отличие от Европы, Россия не могла похвастаться богатой и непрерывной на протяжении многих столетий традицией светской литературы и искусства, начиная с рыцарских романов и поэзии трубадуров. На Руси не знали куртуазного поклонения прекрасной даме, заложившего в Европе фундамент для возвышения общественного положения женщины и лирической художественной образности, а также ставшего наследием, определившим одну из главных отличительных черт европейской цивилизации87.
Другое, что высвечивает разрыв русской национальной традиции с современными европейскими ценностями и объясняет рассматриваемую здесь проблему, – ослабленность в русской культуре частного начала в его не столько бытовом, сколько субъектном и рефлексивном аспектах. Это было связано с господствующей в Московском царстве патриархальной моделью общества и патерналистской моделью государства, подавляющего независимость и самосознание индивида. Даже в европеизированной России XIX столетия эти модели в значительной степени сохраняют свое влияние. В Речи Посполитой с ее выборной монархией и шляхетской республикой это было не так. Величайшим благом здесь стала личная и политическая шляхетская свобода88. И после разделов Польши шляхта не утратила принадлежность к политической культуре, составляющей противоположность абсолютизму89. Как было показано выше, новая историческая картина, уделяющая повышенное внимание женственным и чувствительным образам, имеет тенденцию трактовать исторических персонажей как частных людей и ориентирована на зрителя как частного человека. Тем самым она внушает ему ощущение исторического субъекта, предоставляет ему индивидуальное право на историю. Концепция этой картины либеральна в своей основе.
Глава 2
Марина Мнишек в русском искусстве
Полька Марина Мнишек (1588–1614) стала важным действующим лицом Смутного времени, одного из самых сложных и решающих периодов российской истории. Шляхтенка, дочь сандомирского воеводы Юрия Мнишека, она в 1606 году сочеталась браком с Лжедмитрием I, поддержанным поляками, а также стала первой на Руси царицей, удостоившейся процедуры коронования, венчания на царство, что ранее было прерогативой только царей. Всего несколько дней сохраняла она благополучно этот статус. В Москве вспыхнул бунт против Лжедмитрия и поляков, самозванец был растерзан толпой, Марина чудом избежала позора и расправы, новый царь Василий Шуйский выслал ее в Ярославль. Через какое-то время при условии отказа от притязаний на московский престол Марину отпустили на родину, в Речь Посполитую, но по дороге она приняла роковое решение: признала своим мужем второго Лжедмитрия, выдававшего себя за спасшегося первого, и присоединилась к его военному лагерю, разбитому под Москвой. Затем последовало несколько лет авантюр с переменной удачей, скитаний и мытарств. Наконец после избрания на царство Михаила Романова московские стрельцы захватили Марину вместе с ее последним фаворитом, казачьим атаманом Иваном Заруцким, и она то ли была казнена, то ли умерла в заточении.
О Марине Мнишек сохранилось множество свидетельств в официальных и частных, вербальных и визуальных источниках. Большой корпус этих документов, включая так называемый Дневник Марины (составленный поляками из ее свиты), был издан в русском переводе ведущим российским историком Николаем Устряловым в первой трети XIX века90. Тогда же Александр Пушкин в драме «Борис Годунов» создал лаконичный, но непревзойденный портрет Марины. К середине XIX столетия ее судьба была всесторонне освещена в сочинениях русских историков и писателей. Не в последнюю очередь благодаря Марине в русской культуре утвердился образ «прекрасной и гордой польки», который как устойчивый стереотип восприятия Польши превзошел по яркости мужские образы, что редко случается с клишированными представлениями о «чужой» нации91.
До XIX века в русской исторической и художественной литературе о Марине если и упоминали, то вскользь и неохотно, причем как о фигуре, лишенной самостоятельности, подчиняющейся указаниям своего отца92. В XIX столетии на авансцену исторических реконструкций Марину выдвигает тот набор качеств, который раньше побуждал безоговорочно и сурово ее осуждать, оставлять в тени или вовсе игнорировать: 1) Марина как жена самозванцев (Лжедмитрия I и Лжедмитрия II) и, следовательно, незаконная претендентка на российский трон93, то есть преступница против российской государственности; 2) Марина как чужая в русской культурной традиции – иностранка-католичка, по-европейски воспитанная, ошеломительно явившая западную свободу нравов и смелую политическую волю, неслыханную для женщины в домостроевской, теремной России; 3) Марина как конкретный человек и очаровательная женщина, не лишенная недостатков и слабостей, но также и достоинств, колеблющаяся и оступающаяся, о которой известно много противоречивого, много живых и приватных деталей.
Научная и художественная историография XIX века отклоняется от мифологизированного, дидактического нарратива, в котором герои и события трактованы сквозь призму вневременных контрастных понятий добра и зла в различных их ипостасях и который служит прославлению великого, затмевающего недостойное. Раньше восприятие Марины в России определяло закрепленное за ней амплуа бесстыдницы, безбожницы94, злодейки. Теперь историков и писателей все больше интересует не место Марины в системе моральных и символических координат, а то, какой она действительно была и что с ней действительно происходило. И если как «злодейка» Марина оказывалась обречена не только на презрение, но и на дискриминацию, требующую некоторых умалчиваний и частичного забвения, то как реальная фигура она получала огромные преимущества перед своими добродетельными современницами и предшественницами по той причине, что о ее личности и авантюрах дошло множество достоверных сведений и занимательных подробностей, чего нельзя сказать ни о какой другой женщине из допетровского прошлого. Марина стала подарком для историков-позитивистов и романистов. Отдельно надо подчеркнуть, что западное происхождение Марины, делающее ее чужой или даже враждебной для русских, предоставляло русским литераторам и художникам дополнительные вольности в ее репрезентации. Марина могла быть показана небезупречной, а также обладающей свойствами обычного человека и обычной женщины в большей степени, чем те персоны, на кого была возложена высокая миссия олицетворять отечественное прошлое.
В предыдущей главе речь шла об особом значении в Европе XIX века эпистолярных и дневниковых исторических свидетельств. Именно тогда их начали широко издавать, и они становились образцом и источником для воссоздания повседневной, приватной, эмоциональной жизни прошлого, притягательность которой открывала европейская культура этого времени. Примечательно, что в России XIX столетия письма Марины Мнишек, а не российских царей, духовных и должностных лиц первыми удостоились публикации как исторические документы95. Марина вела переписку с польским королем Сигизмундом III, Ватиканом, гетманом Жолкевским, гетманом Сапегой… Но в первую часть корреспонденции Марины, изданную в 1819 году, вошли по преимуществу ее письма к отцу, отправленные из подмосковного Тушинского лагеря зимой и весной 1609 года, когда она уже стала супругой Лжедмитрия II. Они содержат личные интонации и бытовые детали, в частности, такие фрагменты:
Не знаю, что писать к вам в печали, которую имею, как по причине отъезда вашего отсюда, что я осталась в такое время без вас, милостивого государя моего и благодетеля, так и потому, что с вами не так простилась, как проститься хотела, а паче я надеялась и весьма желала, чтобы из уст государя моего батюшки благословение получить, но, видно, того я была не достойна <…> Прошу вас, милостивый государь мой батюшка, чтоб я, по милости вашей, могла получить черного бархату узорчатого на летнее платье для поста, двадцать локтей, прошу усильно;
О делах моих не знаю, что писать, кроме того, что только отлагательство со дня на день, нет ни в чем исполнения, со мною поступают так же, как и при вас, не так, как было обещано при отъезде вашем родительском; о чем я хотела более к вам писать, только господин коморник очень спешит, для того вкратце пишу, своих людей не могу послать, ибо надобно дать на пищу, а я не имею. Помню, милостивый государь мой батюшка, как вы с нами кушали лучших лососей и старое вино пить изволили, а здесь того нет; ежели имеете, покорно прошу прислать96.
В 1824 году большую статью о Марине Мнишек напечатал выходец из Речи Посполитой Фаддей Булгарин, когда-то воевавший на стороне Наполеона в польских легионах. Опираясь на многочисленные свидетельства о Марине, цитируя ее письма, Булгарин первый развернуто обрисовал яркую, незаурядную, противоречивую личность Марины, отчасти, разумеется, с осуждением, но отчасти с восхищенным удивлением. Он называет Марину прелестной, умной, смелой, не раз пишет о ее гордости97 и твердости, а в период Лжедмитрия II представляет ее самостоятельным и активным политическим игроком. Вот несколько фрагментов из статьи Булгарина:
Нельзя не удивляться твердости Марины. Оставленная войском и супругом [Лжедмитрием II], друзьями и родными, без денег, без всяких способов, одна в земле чужой, наполненной ея врагами, – она не покорилась бедственным обстоятельствам, но умом своим и постоянством успела не только избегнуть гибели, но даже переменить течение дела, направление умов и обратить их в свою пользу.
В глухую полночь она переоделась в платье воина, привесила за плеча лук и колчан и в сопровождении двух служительниц, верхом, в самый жестокий мороз поскакала в Калугу.
Гордость ея, высокомерие, пронырливость, разврат возбуждают омерзение, но необыкновенное красноречие, вовсе не женское бесстрашие, ничем не преклонная твердость, или, лучше сказать, упрямство, приводят в удивление. История предоставляет немного женских характеров, подобных Марине…98
Именно статья Булгарина, вероятно, послужила главным источником для Пушкина, когда он работал над образом Марины в своей драме «Борис Годунов»99, законченной в 1825 году. В известном письме к Николаю Раевскому Пушкин вспоминает о замысле «Бориса Годунова»:
Меня прельщала мысль о трагедии без любовной интриги. Но, не говоря уже о том, что любовь весьма подходит к романическому и страстному характеру моего авантюриста, я заставил Дмитрия влюбиться в Марину, чтобы лучше оттенить ее необычный характер. У Карамзина100 он лишь бегло очерчен. Но, конечно, это была странная красавица. У нее была только одна страсть: честолюбие, но до такой степени сильное и бешеное, что трудно себе представить. Посмотрите, как она, вкусив царской власти, опьяненная несбыточной мечтой, отдается одному проходимцу за другим, деля то отвратительное ложе жида, то палатку казака, всегда готовая отдаться каждому, кто только может дать ей слабую надежду на более уже не существующий трон. Посмотрите, как она смело переносит войну, нищету, позор, в то же время ведет переговоры с польским королем как коронованная особа с равным себе, и жалко кончает свое столь бурное и необычайное существование. Я уделил ей только одну сцену, но я еще вернусь к ней, если бог продлит мою жизнь. Она волнует меня как страсть…101
Какая же еще женщина из допетровского прошлого могла бы вызвать такой живой оклик в воображении русского европейца XIX века?
Как и в статье Булгарина, в «Борисе Годунове» Марина Мнишек обладает сильным характером. Однако Пушкин первый представляет Марину не просто умной, властной, но и великолепной красавицей, а Лжедмитрия I – воспылавшим к ней страстью, которая не только неподдельна, но мгновениями почти возвышенна:
- Твоя любовь… что без нее мне жизнь,
- И славы блеск, и русская держава?102
Это объяснение ночью у фонтана в саду самборского замка103 воеводы Мнишека сопровождается внутри Самозванца борьбой мужского честолюбия с политическим (т. к. он понимает, что Марина выбирает не его, а его царский титул), а внутри Марины – борьбой сословного честолюбия с политическим (т. к. она понимает, что отдается беглому монаху). И в этом кратком, но драматургически чрезвычайно насыщенном эпизоде Марина одерживает победу дважды: сначала ее красота заставляет Дмитрия чуть не забыть о политике, затем ее воля побуждает его о политике вспомнить:
- Встань, бедный самозванец.
- Не мнишь ли ты коленопреклоненьем,
- Как девочки доверчивой и слабой
- Тщеславное мне сердце умилить?
- Ошибся, друг: у ног своих видала
- Я рыцарей и графов благородных…104
Итак, воображению Пушкина мы обязаны сюжетом любовного признания Лжедмитрия Марине. Но впервые этот сюжет стал доступен публике – и в словесном описании, и в гравюре – в 1830 году в романе Булгарина «Дмитрий Самозванец», сочиненном в подражание Вальтеру Скотту и Пушкину. В качестве тайного консультанта Третьего отделения Булгарин получил доступ к рукописи «Бориса Годунова» Пушкина, и она подтолкнула его к созданию собственного произведения о той же эпохе105, которое он успел написать и опубликовать, пока высочайшего разрешения на публикацию ожидал «Борис Годунов», напечатанный только в 1831‑м106. В романе Булгарина образ Марины гораздо бледнее, чем в его более ранней статье. Вслед за Пушкиным Булгарин включает в свой роман эпизод любовного объяснения Самозванца с Мариной в Самборе. Но, в отличие от Пушкина и согласно Карамзину, а также более ранним авторам, начиная с очевидцев Смуты, Булгарин видит в отношениях Самозванца и Марины холодный политический расчет. Булгаринский Дмитрий лишь разыгрывает перед Мариной любовь, она это понимает, и ее саму влечет к нему только царский ореол. Рисунок к роману Булгарина, гравированный Степаном Галактионовым107 (ил. 5), этих нюансов не передает и мог бы с не меньшим успехом иллюстрировать «Бориса Годунова», разве что на рисунке не хватает фонтана, пушкинского атрибута этой сцены. У Булгарина и Галактионова ее «декорации» составляют только аллея, цветник, скамья и в отдалении дом воеводы. Наличие иллюстраций было редкостью в российских изданиях первой трети XIX века и повышало привлекательность книги. Эстамп Галактионова внес дополнительный штрих в соперничество Булгарина с Пушкиным, чей «Борис Годунов» вышел с виньетками на титульном листе и последней странице, но без сюжетных иллюстраций. Однако последующие изображения любовной пары Марины и Лжедмитрия иллюстрировали, конечно, уже «Бориса Годунова» Пушкина. Ближайший тому пример – литография по рисунку Карла Шрейдера из альбома 1842 года «Очерки к Борису Годунову Александра Пушкина»108 (ил. 6).
Ил. 5. Самозванец и Марина Мнишек в саду Самборского замка. Ил. в книге: Булгарин Ф. Димитрий Самозванец. 1830
Любопытно, что романом «Дмитрий Самозванец» Булгарин навлек на себя обвинения в недостаточном патриотизме. Поводом было то, что Булгарин не стал принижать польскую нацию и показал ее на равных с русской, с редкой для русских писателей толерантностью109, которая, как было отмечено в первой главе, являлась важнейшей чертой литературного подхода Вальтера Скотта. Подозрения в полонофильстве могла вызвать среди прочих такая ремарка Булгарина в предисловии к «Дмитрию Самозванцу»:
…я не ввел в роман любви, такой, как изображают ее иностранные романисты, почерпая предметы из истории Средних веков. Введением любви в русский роман XVII‑го века разрушается вся основа правдоподобности! Русские того времени не знали любви, по нынешним об ней понятиям, не знали отвлеченных нежностей, женились и любили, как нынешние Азиятцы <…> В Польше любовь существовала тогда со всеми утонченностями110.
Ил. 6. Сцена у фонтана. Лист из альбома: Очерки к Борису Годунову… 1842
В 1831 году, почти одновременно с трагедией Пушкина «Борис Годунов» и романом Булгарина «Дмитрий Самозванец», вышел роман Ивана Гурьянова «Марина Мнишек княжна Сендомирская, жена Димитрия Самозванца». Гурьянов выводит Марину прелестной женщиной, природой и воспитанием наделенной тонкой эмоциональностью, проницательным умом и благородством. Она много рефлексирует, часто грустит и плачет. Перспектива царствовать в Москве ее не столько радует, сколько тревожит и пугает. Но она становится жертвой тщеславия и недальновидности своего отца, который сильно уступает ей в достоинстве. Затем потрясения и потери опустошают, ожесточают Марину и лишают воли противостоять дальнейшему падению. Первое издание романа Гурьянова включает две иллюстрации по рисункам Николая Чичагова. Одна показывает беседу Марины с отцом в интерьере родового замка, украшенном портретами предков, когда спесивый Юрий Мнишек произносит:
Тогда галерея фамильных портретов Мнишеков будет полна и знаменита, – в ней будет портрет твой, дочь моя, увенчанный Короною Московскою111 (ил. 7).
Ил. 7. Марина с отцом в своем замке. Ил. в книге: Гурьянов И. Г. Марина Мнишек… 1831
Другая гравюра запечатлевает драматические мгновения, предшествующие окончательной гибели Марины. Вместе с атаманом Заруцким и малолетним сыном Марина спасается в лодке по реке Яик, но стрельцы их настигают:
Марина! Марина! – вскричал Заруцкий, выстрелив из пистолета и обнажив саблю. – Нет спасения! Погоня догнала нас112 (ил. 8).
Рядом с бравым и лихим Заруцким простоволосая Марина изящна и печальна.
Эти эстампы, как и иллюстрация к «Дмитрию Самозванцу» Булгарина, позволяют констатировать, что Марина Мнишек стала первой женщиной из русской истории, которую русские художники начали изображать в духе романов, с акцентом на ее свободной личной жизни и приключениях. Второй рисунок Чичагова особенно интересен тем, что романная авантюрность сочетается в нем с мягкой сентиментальностью. Марина здесь не только женственно-привлекательна, но и трогательна, вызывает и любование и сочувствие. Надо также подчеркнуть, что долгое время в русской словесности было допустимо большее, чем в графике и тем более в живописи. И показать политические и любовные испытания Марины в визуальных искусствах было более смелым и редким шагом, чем рассказать о них в литературе.
Ил. 8. Марина спасается с Заруцким по реке Яик. Ил. в книге: Гурьянов И. Г. Марина Мнишек… 1831
Мы помним, что Пушкин сначала задумывал «Бориса Годунова» как трагедию без любовной интриги, но потом все-таки отказался от такого плана. Модест Мусоргский, вдохновившись пушкинской трагедией, в 1869 году закончил первую редакцию одноименной оперы, в которой не нашел места для Марины и любовной коллизии. Это было радикальным отклонением от традиционной структуры оперы, предполагающей наличие романтической темы и, следовательно, заметной женской роли, то есть партии для prima donna, и вызвало недовольство дирекции Императорских театров, куда Мусоргский представил на рассмотрение свое сочинение113. Тогда композитор включил в оперу сцены с Мариной (третье действие, или польский акт), и только в такой версии его «Борис Годунов» был одобрен в 1872‑м и поставлен в Мариинском в 1874‑м114.
В польском акте второй редакции «Бориса Годунова» Мусоргского Лжедмитрий, как и у Пушкина, страстно влюблен в Марину и вполне соответствует оперному романтическому герою. Марина же далась Мусоргскому труднее. У Пушкина циничная расчетливость Марины не заслоняет ее гордого великолепия, у Мусоргского Марина простовата, тщеславна и взбалмошна. Когда же Самозванец в отчаянии от равнодушия Марины грозит отказаться от нее, она бросается уверять его в своей любви и только в эти последние минуты третьего действия безусловно входит в романтическое амплуа, при этом остается не совсем ясно, притворяется она или нет, не является ли ее порыв пародией на оперную страсть115. Пушкина, Булгарина, Гурьянова Марина интересовала как личность, характер, Мусоргского – нет, у него существование Марины определяется волей музыкальной формы.
В России XIX века сценическое воплощение произведений проходило более строгую цензуру, чем их публикация. Изданный в 1831 году «Борис Годунов» Пушкина ожидал театральной постановки гораздо дольше, чем опера Мусоргского. Лишь в частном порядке, в любительских спектаклях и концертах иногда исполняли отдельные картины из трагедии (чаще всего картину у фонтана)116. Цензурный запрет на ее инсценировку сняли только в 1866‑м, и в 1870‑м она была, наконец, показана на большой сцене. Премьеры драмы Пушкина и оперы Мусоргского состоялись с небольшой дистанцией в четыре года (1870 и 1874), обе в Мариинском театре, и для обеих постановок были использованы с некоторыми вариациями одни и те же декорации117, созданные по эскизам Матвея Шишкова с участием Михаила Бочарова.
Сценическая судьба «Бориса Годунова» и Пушкина и Мусоргского не была гладкой. Трагедия Пушкина плохо поддавалась инсценировке по театральным нормам XIX века: в ней было мало действия и много внутреннего мира царя Бориса, хронологический и географический охват был широкий, короткие эпизоды часто сменялись. Эти драматургические особенности отчасти неизбежно унаследовала и опера Мусоргского. Кроме того, само ее музыкальное решение не встретило безоговорочного одобрения у публики и критиков, в то время как собственно литературные качества трагедии Пушкина были общепризнаны. До конца XIX столетия оба сочинения не сохраняли устойчивого места в российском театральном репертуаре118











