Читать онлайн Волшебство для Мэриголд
- Автор: Люси Монтгомери
- Жанр: Литература 20 века, Детские приключения
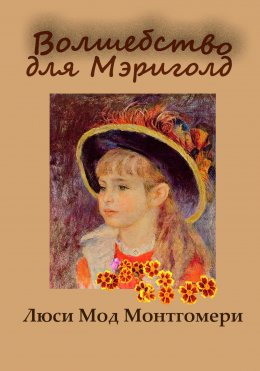
Норе, в память о мире, который ушел навсегда
Глава 1. Что в имени?
1
Давным-давно – а ведь если подумать, эти слова на самом деле единственно правильные, чтобы начать историю, единственные с настоящим привкусом романтики и сказки – все жители Хармони из клана Лесли собрались в Еловом Облаке, чтобы по традиции отпраздновать день рождения Старшей бабушки. А также, чтобы дать имя ребенку Лорейн. Стыд и позор, как патетически заявила тетя Нина, что малышка живет на свете полных четыре месяца без имени. Но что поделать, если бедняжка Линдер умер за две недели до рождения дочери, столь ужасно и внезапно, а несчастная Лорейн тяжело проболела несколько недель после этого. Честно говоря, она и сейчас не слишком окрепла. В ее семье бывал туберкулез, знаете ли.
Тетя Нина вовсе не была тетей, по крайней мере, кому-то из Лесли. Просто кузиной. У Лесли принято называть тетями и дядями всех, кто становился настолько стар, что было неприличным позволять молодой мелюзге называть их по именам. В этой истории будут появляться и исчезать бесконечное множество таких «тетей» и «дядей», так же, как и несколько настоящих. Я не стану прерываться, чтобы объяснить, к какому разряду те или иные относятся. Это неважно. Они все либо Лесли, либо состоят в браке с Лесли. Только это имеет значение. Если вы Лесли, вы рождены среди знати. Они помнят даже родословные своих кошек.
Все Лесли обожали ребенка Лорейн. И все хором любили Линдера – вероятно, это было единственным, в чем они соглашались друг с другом. Прошло уже тридцать лет с тех пор, как в Еловом Облаке в последний раз появился ребёнок. Старшая бабушка не раз мрачно замечала, что добрый старый род подходит к концу. Поэтому сие маленькое дамское приключение приветствовалось бы с безумной радостью, если бы не смерть Линдера и долгая болезнь Лорейн. Ныне же, когда наступил день рождения Старшей бабушки, у всех Лесли появилось оправдание для столь долго откладываемой радости. Что же касается имени, то ни один из детей Лесли не мог быть назван, пока все находящиеся на доступном расстоянии родственники не высказывали свое мнение по этому вопросу. Выбор подходящего имени, на их взгляд, был более важным, чем простое крещение. И в сто раз важнее для лишившегося отца ребенка, чья мать была хоть и вполне доброй душой, но, заметьте, всего лишь какой-то Уинтроп!
Еловое Облако, исконное родовое гнездо Лесли, где проживали Старшая бабушка и Младшая бабушка, миссис Линдер и дитя, и Саломея Сильверсайдс, располагалось на берегу гавани, достаточно далеко от деревни Хармони, чтобы считаться находящимся на острове – дом из светлого кирпича – красивый полнощекий старый дом – столь увитый виноградной зеленью, что более походил на ворох плюща, чем на дом; дом, который сложил руки и сказал: «Я буду отдыхать». Перед ним расстилалась прекрасная бухта Хармони с ее мурлыкающими волнами, так близко, что в осенние шторма брызги долетали до самых ступеней крыльца и покрывали каплями окна Саломеи Сильверсайдс. За домом по склону карабкался сад. А еще выше на холме виднелся смутный контур большого елового леса.
Именинный ужин поглощался в комнате Старшей бабушки, которая была «садовой комнатой», пока два года назад Старшая бабушка не заявила спокойно и весело, что устала вставать до завтрака и работать меж трапезами.
«Пусть меня обслуживают во все дни, что мне остались, – заявила она. – Девяносто лет я обслуживала других…» – и управляла ими, добавили Лесли про себя. Но не вслух, потому что временами казалось, уши Старшей бабушки способны услышать сказанное на расстоянии не одной мили. Однажды дядя Эбенезер сказал что-то о ней, сам себе, в своем подвале, в полночь, в уверенности, что один в доме. В следующее воскресенье Старшая бабушка вернула ему эти слова. Она сказала, что Люцифер, её кот, передал их. И дядя Эбенезер вдруг вспомнил, что, когда он их произнес, его кот сидел на ящике с картофелем.
Надежнее всего было вообще ничего не говорить о Старшей бабушке.
Комната Старшей бабушки, длинная, темно-зеленая, находилась в южном крыле дома, застекленная дверь вела из нее прямо в сад. Стены комнаты были увешаны фотографиями невест Лесли за последние шестьдесят лет, почти все из них были с огромными букетами и прекрасными вуалями и шлейфами. Здесь имелась и фотография Клементины, первой жены Линдера, которая умерла шесть лет назад вместе с её маленькой неназванной дочерью. Старшая бабушка поместила эту карточку на стене в ногах своей кровати, так чтобы все время видеть её. Старшая бабушка очень любила Клементину. По крайней мере, Лорейн всегда так казалось.
Фотография радовала глаз – Клементина Лесли была очень красивой. Не в подвенечном платье – фотография была сделана перед свадьбой и значилась в клане под названием «Клементина с лилией». Она позировала, стоя возле пьедестала, ее прекрасные руки покоились на нем, в одной, изящной и совершенной – руки Клементины стали образцом красоты, – она держала лилию, серьезно взирая на нее. Старшая бабушка однажды сказала Лорейн, что некий выдающийся гость Елового Облака, художник международного значения, воскликнул, увидев эту фотографию:
«Совершенные руки! Руки, в которые мужчина мог бы без боязни вложить свою душу!»
Лорейн вздохнула и взглянула на свои довольно тонкие маленькие руки. Не красивые – едва ли даже милые; но все же Линдер однажды поцеловал её пальчики и сказал… Лорейн не сообщила Старшей бабушке, что сказал Линдер. Возможно, Старшая бабушка больше любила бы её, поделись она этими словами.
В углу возле кровати Старшая бабушка держала часы – часы, что били в честь похорон и венчаний, приходов и уходов, встреч и расставаний пяти поколений; дедовские часы, которые отец её мужа сто сорок лет назад привез из Шотландии; Лесли увенчали себя, став одними из первых поселенцев острова Принца Эдуарда. Часы до сих пор показывали точное время, и Старшая бабушка каждый вечер вставала с кровати, чтобы завести их. Она сделала бы это даже будучи при смерти.
Другое её великое сокровище располагалось в противоположном углу. Большой стеклянный футляр, в котором хранилась знаменитая кукла Скиннеров. Мать Старшей бабушки была урожденной Скиннер, и эта кукла не входила в состав традиций Лесли, но каждый ребенок в семействе рос в страхе и трепете перед нею и зная её историю. Сестра матери Старшей бабушки лишилась своей единственной трехлетней дочери, да так и не оправилась после этого. У неё имелась восковая фигурка её ребенка, которую она всегда держала при себе и разговаривала с нею, словно та была живой. Фигурка была одета в красивое вышитое платье, принадлежавшее умершей девочке, а на ножке – одна из её туфелек. Другую туфельку фигурка держала в руке, собираясь надеть на босую ножку, что выглядывала из-под муслиновых воланов. Кукла была настолько похожа на живую, что Лорейн всегда вздрагивала, проходя мимо, а Саломея Сильверсайдс высказывала сомнения, прилично ли держать в доме подобную вещь, особенно после того, как узнала, что Лазарь, наемный работник-француз, считал и всем рассказывал, что эта кукла – Святая старой леди, и она регулярно молится перед нею. Но все Лесли неким образом гордились этой вещью. Ни одно семейство с острова Принца Эдуарда не могло похвастаться такой куклой. Это давало им некий знак качества, а туристы писали о ней в своих местных газетах, когда возвращались домой.
И конечно же, на торжестве присутствовали кошки. Люцифер и Аэндорская Ведьма. Обе – бархатно-черные с огромными круглыми глазами. Еловое Облако славилось породой черных кошек с топазовыми глазами. Их котята не раздавались кому попало, а вручались ограниченному числу просителей.
Люцифер был любимцем Старшей бабушки. Самостоятельный, утонченный кот. Загадочный кот, столь наполненный тайной, что она чуть ли не сочилась из него. Аэндорская Ведьма, несмотря на свое имя, по сравнению в Люцифером выглядела простушкой. Саломея в тайне гадала, не побаивалась ли Старшая бабушка суда за то, что назвала кота в честь Сатаны. Саломее «нравилось, когда кошки находятся там, где им положено», но она рассердилась, когда однажды дядя Клон сказал ей:
«Саломея Сильверсайдс! Почему бы тебе самой не родиться кошкой с таким именем. Холеной урчащей бархатной мальтийкой».
«Уверена, что не похожа на кошку», – ответила сильно оскорбленная Саломея. И дядя Клон согласился с нею.
Старшая бабушка являла собой гномоподобную даму девяносто двух лет, намеревающуюся дожить до ста. Крошечная, сморщенная, морщинистая со сверкающими черными глазами. Почти во всем, что она говорила или делала, присутствовал плутовской налет ехидства. Она управляла всем кланом Лесли и знала всё, о чём в нем судачили и что делали. Если она отказалась «прислуживать», то определенно не отказалась «повелевать». Сегодня она расположилась на малиновых подушках, в свежем, украшенном оборками белом чепце, завязанном под подбородком, с аппетитом поедала свой ужин и думала о вещах, которые вряд ли прилично рассказывать её невесткам, невесткам её детей и невесткам её внуков.
2
Младшая бабушка, просто девушка для своих шестидесяти пяти, сидела во главе длинного стола – высокая красивая леди с яркими серо-голубыми глазами и седыми волосами. Старшая бабушка считала её цветущей молодкой. В ней не было ни капли от традиционной старушки в чепце, с вязальными спицами. В пурпурном бархатном платье с изумительным кружевным воротником она скорее походила на величавую пожилую принцессу. Платье было сшито восемь лет назад, но любая вещь, которую надевала Младшая бабушка, казалась на вершине моды. Большинство из присутствующих Лесли считали, что ей не следовало отказываться от черного даже ради именинного ужина. Но Младшую бабушку их мнение заботило не больше, чем Старшую. Она была Блейсделл – одной из «тех упрямых Блейсделлов» – а традиции Блейсделлов ничуть не хуже, чем традиции Лесли.
Лорейн сидела за столом справа от Младшей бабушки, рядом с нею стояла колыбель с малышкой. Благодаря ребенку Лорейн обрела некую неоспоримую значительность, каковой прежде не обладала. Все Лесли, больше или меньше, но были против «второго выбора» Линдера. Лишь тот факт, что она являлась дочерью священника, примирял их с ним. Лорейн была маленьким, скромным, симпатичным существом, почти неприметным, если бы не пышная масса блестящих бледно-золотистых волос. Ее милое личико походило на цветок, украшенный ласковыми серо-голубыми глазами под длинными ресницами. В черном платье она казалась особенно юной и хрупкой. Но Лорейн уже встала на путь ощущения, хоть малого, но счастья. Вновь наполнились её руки, что обнимали лишь пустоту в тишине ночей. Поля и холмы вокруг Елового Облака, голые и окоченелые в те дни, когда родилась её маленькая леди, зазеленели, зазолотились, утопая в цветении, а сад превратился в изысканно-ароматный мир. Невозможно быть совсем несчастной весной, имея столь невероятно чудесного ребенка.
Малышка лежала в старой колыбельке, исполненной в хэпплуайтовском1 стиле, в которой прежде лежали и её отец, и дед – вполне восхитительный ребенок с маленьким подвижным подбородком, крошечными ручками, изящными, словно яблоневый цвет, светло-голубыми глазами и надменной улыбкой превосходства, характерной для младенцев, пока они не позабыли все те удивительные вещи, что бывают известны лишь в самом начале жизни. Лорейн почти не ела, любуясь своей малышкой и… гадая. Неужели это крошечное создание когда-нибудь станет танцующей мечтательной девушкой… белоснежной невестой… матерью? Лорейн вздрогнула. Не стоит заглядывать так далеко вперед. Тетя Энни встала, принесла шаль и заботливо накинула ей на плечи. Лорейн почти растаяла, поскольку июньский день был жарок, но не снимала шали весь ужин, не желая задеть чувства тети Энни. Обычный поступок для Лорейн.
Слева от Младшей бабушки сидел дядя Клондайк, красивый, загадочный, еще один из неисчисляемых членов клана Лесли. Его густые прямые брови, сверкающие голубые глаза, грива каштановых волос и золотисто-рыжая борода однажды побудили некую неопределенного возраста сентиментальную леди из Хармони заявить, что он наводит её на мысли о прекрасных древних викингах.
На самом деле дядю Клондайка звали Горацием, но с тех пор, как он вернулся с Юкона с карманами полными золота, он стал известен как Клондайк Лесли. Его кумиром был бог всех скитальцев, и именно ему Гораций Лесли посвятил прекрасные бурные годы приключений.
Когда дядя Клондайк учился в школе, он имел привычку рассматривать разные места на карте и заявлять: «Я поеду туда». Так он и сделал. Он стоял на самом южном валуне Цейлона и сидел на буддийском могильнике на краю Тибета. Южный Крест стал ему приятелем, он слушал пение соловьев в садах Альгамбры. Индийские и Китайские моря были для него прочитанной книгой, и он в одиночку под северным сиянием прошёл великие арктические просторы. Он жил во многих местах, но никогда ни одно из них не считал своим домом. Это слово подспудно и священно относилось лишь к длинной зеленой, выходящей к морю долине, где он родился.
В конце концов, насытившись, он вернулся домой, чтобы прожить остаток жизни достойным законопослушным членом клана, и в знак этого подстриг усы и бороду до приличествующего размера. Его усы были особенно устрашающими. Их концы почти достигали низа бороды. Когда тётя Энн в отчаянии спросила, зачем он, ради всего святого, носит такие усы, дядя Клондайк ответил, что обматывал их вокруг ушей, чтобы те не замерзали. В клане весьма опасались, что он намерен оставить их в таком виде, поскольку дядя Клондайк был как урожденным Лесли, так и Блейсделлом. В итоге он подстриг их, хотя ничто не смогло склонить его к решению чисто выбрить лицо, модно это или не модно. Но, хоть он, по крайней мере, раз в неделю и ложился спать рано, он все ещё с удовольствием смаковал жизнь, и клан в тайне постоянно побаивался его саркастических подмигиваний и циничных речей. Тетя Нина, в частности, жила в страхе с того дня, когда гордо заявила ему, что её муж никогда не лгал ей.
«Ах, ты бедняжка», – с искренним сочувствием заметил дядя Клондайк.
Нина предположила, что здесь имелась какая-то шутка, но так и не смогла найти, где. Она являлась Ж. С. Х. У. и М. О. О. по О. И.2 и еще многими другими буквами алфавита, но почему-то ей было трудно понять шутки Клондайка.
Клондайк Лесли был известен, как женоненавистник. Он глумился над всеми разновидностями любви, а особенно, над сверхабсурдностью любви с первого взгляда. Но это не мешало клану год от года пытаться женить его. Разве не помогло бы Клондайку, женись он на хорошей женщине, которая бы серьезно относилась к жизни. Лесли не сомневались в этом и со всей своей широко известной семейной прямотой рекомендовали ему несколько отличных невест. Но Клондайку Лесли было нелегко угодить.
«Кэтрин Николз?»
«Взгляните на её толстые лодыжки».
Эмма Гудфеллоу?»
«Её мать «мяукала» в церкви, когда священник говорил то, что ей не нравилось. Не могу рисковать потомством».
«Роуз Осборн?»
«Терпеть не могу женщин с пухлыми ручками».
«Сара Дженнет?»
«Яйцо без соли».
«Лотти Паркс?»
«Я бы желал её как приправу, а не как основное блюдо».
«Руфь Рассел?» – триумфально, как последний аргумент: в этой женщине ни один разумный мужчина не смог бы найти изъяна.
«Слишком особенная. Когда ей нечего сказать, она молчит. Это довольно странно для женщины, не так ли».
«Дороти Портер?»
«Декоративна при свечах. Но не верится, что она будет столь же хорошо выглядеть за завтраком».
«Эми Рей?»
«Вечно мурлычет, жмурится, крадется и царапается. Милая кошечка, но я не мышь».
«Агнес Барр?»
«Женщина, которая твердит формулы Куэ3 вместо молитв!»
«Олив Перди?»
«Язык, вспыльчивость и слёзы. Только в малых дозах, спасибо».
Даже Старшая бабушка приложила к этому руку, но безуспешно. Она поступила мудрее, чем просто указывать на какую-то девушку – мужчины клана Лесли никогда не женились на женщинах, которых для них подбирали. Но у нее имелся свой способ достигать желаемого.
«Тот путешествует быстрее, кто путешествует в одиночку», – это было всё, чего она добилась от Клондайка.
«Очень умно с твоей стороны, – сказала Старшая бабушка, – но в случае, если путешествовать быстро – это вся твоя жизнь».
«Не с моей. Вы не знаете нашего Киплинга, бабушка?»
«Что такое Киплинг?» – спросила Старшая бабушка.
Дядя Клондайк не объяснил ей. Он просто сказал, что обречен умереть холостяком и не может избежать своей судьбы.
Старшая бабушка не была глупой женщиной, хоть и не знала, что такое Киплинг.
«Ты ждал слишком долго… и потерял аппетит», – проницательно заметила она.
Лесли сдались. Бесполезно пытаться подобрать жену такому несносному родственнику. Клон остался холостяком с ужасной привычкой выражать «искреннее сочувствие», когда женились его друзья. Возможно, оно так и было. Его же племянникам и племянницам это, вероятно, пошло на пользу, а особенно – малышке Лорейн, которую он явно боготворил. Итак, он сидел здесь, за столом, неженатый, беззаботный и довольный, глядя на всех с веселой улыбкой.
Люцифер запрыгнул к нему на колени, едва он сел на стул. Люцифер удостаивал такой чести немногих, но, как он поведал Аэндорской Ведьме, Клондайк Лесли имел к нему подход. Дядя Клон кормил Люцифера кусочками со своей тарелки, а Саломея, которая ела с семьей, потому что была четвертой кузиной Джейн Лайл, вышедшей замуж за сводного брата какого-то Лесли, считала, что это отвратительно.
3
Но следовало поговорить о младенце, и дядя Уильям-с-того-берега покрыл себя неизгладимой неприязнью, заявив с сомнением:
«Она не… гм… слишком симпатичное дитя, как вы считаете?»
«Тем лучше для её будущей внешности», – едко ответила Старшая бабушка. Словно насторожившаяся кошка, она выжидала момент, чтобы нанести точный удар. «Ты, – зло добавила она, – был очень симпатичным ребенком… хотя волос на голове у тебя имелось не больше, чем сейчас».
«Красота – роковой дар. Ей будет лучше без неё», – вздохнула тетя Нина.
«Тогда зачем ты каждый вечер мажешь лицо кольдкремом, ешь сырую морковь, чтобы сохранить его цвет, и красишь волосы?» – спросила Старшая бабушка.
Тетя Нина не могла и представить, откуда Старшая бабушка узнала про морковь. У неё не было кошки, которая разболтала бы Люциферу.
«Мы все такие, какими нас создал Бог», – благочестиво заметил дядя Эбенезер.
«Но некоторых Бог сотворил небрежно», – отрезала Старшая бабушка, со значением взглянув на огромные уши дяди Эбенезера и клок седой бороды на его горле, придававший ему странное сходство с бараном. Более того, добавила про себя Старшая бабушка, кто бы ни был ответственным за этот нос, вряд ли справедливо обвинять Бога за усы Эбенезера.
«У неё особенная форма рук, не так ли?» – настаивал дядя Уильям-с-того-берега.
Тётя Энн наклонилась и поцеловала одну из маленьких ручек.
«Рука художника», – сказала она.
Лорейн с благодарностью взглянула на нее и, спрятавшись под золотистыми волосами, целых десять минут жестоко ненавидела дядю Уильяма-с-того-берега.
«Красив тот, кто красиво поступает», – заявил дядя Арчибальд, который открывал рот лишь для того, чтобы изречь пословицу.
«Не будешь ли любезен, Арчибальд, сообщить мне, – произнесла Старшая бабушка, – выглядишь ли ты столь же величественно, когда спишь».
Никто ей не ответил. Тётя Мэри Марта -с-того-берега, единственная, кто мог бы рассказать об этом, уже десять лет как умерла.
«Симпатичная она или нет, но у неё будут длинные ресницы, – сказала тетя Энн, возвращаясь к младенцу, как к более безопасному предмету разговора. Неразумно доставить Старшей бабушке удовольствие начать семейную ссору так скоро после ухода бедного Линдера.
«Значит, Боже, сохрани мужчин», – скорбно заметил дядя Клон.
Тетя Энн не могла понять, отчего Старшая бабушка захохотала про себя так, что затряслась кровать. Тетя Энн отметила, что было бы неплохо, если бы Клондайк со своим неуместным чувством юмора не появлялся бы на столь серьёзном собрании, как это.
«В любом случае мы должны дать ей красивое имя, – оживленно продолжила тетя Флора. – Просто позор, что это так долго откладывалось. У Лесли никогда такого не бывало. Давайте, бабушка, вы должны дать ей имя. Что вы предлагаете?»
Старшая бабушка прикинулась безучастной. У неё уже имелись три тезки, поэтому она знала, что ребенок Линдера не будет назван в её честь.
«Назовите, как хотите, – сказала она. – Я слишком стара, чтобы беспокоиться об этом. Обсудите меж собой».
«Но нам нужен ваш совет, бабушка, – с сожалением заметила тетя Ли, которую Старшая бабушка только что невзлюбила, потому что, когда Ли пожимала ей руку, заметила маникюр на ее ногтях.
«У меня нет никакого совета. У меня осталось лишь немного мудрости, но я не могу отдать её вам. Как не могу помочь, если у женщины дешёвый вкус».
«Вы имеете в виду меня», – отважно поинтересовалась тетя Ли. Она часто говорила, что единственная из клана не боится Старшей бабушки.
«Свинья сама себя выдаёт», – отвечала Старшая бабушка, надменно откинувшись на подушках и мстительно прихлёбывая чай. Она рассчиталась с Ли за её маникюр.
Старшая бабушка настояла на том, чтобы поужинать первой, поэтому могла наблюдать, как едят другие. Она знала, что это, до некоторой степени, смущает их. О, как приятно вновь стать неприятной. Ей пришлось быть такой хорошей и доброжелательной целых четыре месяца. Четыре месяца – слишком долго, чтобы скорбеть по кому бы то ни было. Четыре месяца не осмеливаться устроить кому-нибудь взбучку. Они показались ей четырьмя столетиями.
Лорейн вздохнула. Она знала, как сама хочет назвать своё дитя. Как знала и то, что никогда не осмелится высказать это вслух. И даже если бы осмелилась, они никогда не согласились бы с нею. Если вы выходите замуж в семейство, подобное Лесли, то должны принять все последствия. Очень тяжело, когда не можешь дать имя собственному ребенку – когда тебя даже не спрашивают, как бы ты хотела его назвать. Если бы Ли был жив, всё было бы иначе. Ли, который совсем не похож на остальных Лесли, кроме, разве что, дяди Клона – Ли, который любил чудеса и красоту, и смех – смех, что умолк так внезапно. Вероятно, небесные шуточки стали намного острее, с тех пор как он попал туда. Как бы поиздевался он над этим августовским конклавом по поводу имени его ребенка! Как бы отмахнулся от них! Лорейн была уверена, он бы позволил ей назвать свое дитя…
«Я считаю, – сказала миссис Дэвид Лесли, и её слова взорвались тяжёлым скорбным снарядом, – что единственно правильно и благовольно назвать её в честь первой жены Линдера».
Миссис Дэвид и Клементина были близкими подругами. Но Клементина! Лорейн снова вздрогнула и тотчас посетовала на себя, поскольку для глаз тёти Энн это выглядело поводом для второй шали.
Все посмотрели на фотографию Клементины.
«Бедная маленькая Клементина», – вздохнула тетя Стейша так, что Лорейн почувствовала: ей не следовало занимать место бедной маленькой Клементины.
«Вы помните, какие у неё были прекрасные черные волосы?» – спросила тетя Марша.
«А какие прекрасные руки», – добавила двоюродная бабушка Матильда.
«Она была слишком молода, чтобы умереть», – вздохнула тётя Джозефина.
«Она была такой милой девушкой», – сказала двоюродная бабушка Элизабет.
«Милой девушкой, верно, – согласился дядя Клон, – но зачем приговаривать невинное дитя всю жизнь носить подобное имя? Это было бы грешно».
Все, за исключением миссис Дэвид, ощутили благодарность к нему и согласились, особенно Младшая бабушка. Об этом имени и речи быть не могло, неважно, насколько мила Клементина. Вспомнить, хотя бы, ту кошмарную старую песню, – О, моя дорогая Клементина, которую парни, бывало, вопили, гуляя по ночам. Нет, нет, только не для Лесли. Но миссис Дэвид рассердилась. И не только потому, что Клондайк не согласился с нею, но потому что передразнил её пришепётывание, так давно пережитое, что было слишком подло с его стороны напоминать о нём подобным образом.
“Вам добавить соуса?» – любезно спросила её Младшая бабушка.
«Нет, спасибо». Миссис Дэвид не пожелала ещё соуса, тем самым выразив свое неудовольствие. Она отомстила ещё ужасней, оставив несъеденными две трети своей порции пудинга и зная, что его стряпала Младшая бабушка. Младшая бабушка проснулась ночью от мысли, на самом ли деле что-то было не так с пудингом. Возможно, остальные съели его из вежливости.
«Если бы имя Линдера было бы немножко другим, её можно было бы назвать в честь отца, – сказал двоюродный дед Уолтер. – Роберта – Джорджина – Джоанна – Андреа – Стефани – Вильгельмина…».
«Или Дэвидена», – сказал дядя Клон. Но двоюродный дед Уолтер проигнорировал его.
«Из такого имени как Линдер ничего не сотворишь. Почему ты так назвала его, Мэриан?»
«Его дед назвал его в честь того, кто переплыл Геллеспонт»4, – сказала Младшая бабушка с таким упреком, будто не она тридцать пять лет назад рыдала всю ночь из-за того, что Старший дед дал её ребенку такое ужасное имя.
«Может, назвать её Хироу», – предложил дядя Клон.
«У нас когда-то была собака с таким именем», – сказала Старшая бабушка.
«Линдер не говорил тебе перед тем, как умер, что хотел бы какое-то особое имя, а, Лорейн?» – поинтересовалась тетя Нина.
«Нет, – пробормотала Лорейн. – Он… у него было слишком мало времени сказать мне… хоть что-то».
Клан обратил к Нине нахмуренные взгляды. Все посчитали, что она бестактна. Но что ещё можно ожидать от женщины, которая пишет стихи и продает их по всей стране? С писательством можно мириться и.… скрывать его. В конце концов, Лесли не столь нетерпимы, и у каждого есть свои недостатки. Но торговать им в открытую!
«Мне бы хотелось, чтобы малышку назвали Габриэлла», – упорствовала Нина.
«Среди Лесли никогда не бывало такого имени», – сказала Старшая бабушка. И добавить было нечего.
«Я думаю, пришло время давать новые имена, – упрямо заявила поэтесса. Но все молчали, словно камни, и тетя Нина принялась рыдать. Она плакала из-за малейшей провокации. Лорейн вспомнила, что Линдер всегда называл её миссис Гаммидж5.
«Думайте, думайте, – сказала Старшая бабушка. – Конечно, мы можем назвать эту малютку хорошо и не очень. Ты ошибаешься, Нина, считая, что поможешь делу, изображая из себя мученицу».
«А что вы думаете, мисс Сильверсайдс?» – спросил дядя Чарли, который посчитал, что Саломею полностью игнорируют и был недоволен этим.
«О, неважно, что я думаю. Я не имею влияния», – сказала Саломея, нарочито угощаясь соленьями.
«Нет, нет, ты же из нашей семьи», – уговаривал ее дядя Чарли, который знал – по его мнению – как обращаться с женщинами.
«Хорошо, – Саломея смягчилась, потому что на самом деле ей до смерти хотелось высказаться. – Я всегда считала, что имена, которые заканчиваются на «ин», очень элегантны. Мой выбор был бы Розалин».
«Или Эванджелин», – сказал двоюродный дед Уолтер.
«Или Эглентин», – пылко добавила тетя Марсия.
«Или Желатин», – сказал дядя Клон.
Наступило молчание.
«Юнона – было бы очень красиво», – сказала кузина Тереза.
«Но мы пресвитерианцы», – возразила Старшая бабушка.
«Или Робинетт», – предложил дядя Чарли.
«Мы – англичане», – сказала Младшая бабушка.
«Я думаю, Ивонн – очень романтичное имя», – произнесла тетя Флора.
«На самом деле, имена не имеют ничего общего с романтикой, – сказал дядя Клон. – Самая волнующая и трагическая любовная история, которую мне довелось наблюдать, случилась между мужчиной по имени Сайлес Твинглтоу и женщиной по имени Кезия Бертуисл. По моему мнению, детей вовсе не следует как-то называть. Их можно нумеровать, пока не вырастут и не выберут себе имена сами».
«Но ты же не мать, мой дорогой Гораций», – мягко возразила Младшая бабушка.
«Кроме того, в Шарлоттауне есть Ивонн Клубин, она содержит бельевой магазин», – сказала тетя Джозефина.
«Бельевой? Если ты имеешь в виду нижнее белье, то так и скажи, ради бога», – рявкнула Старшая бабушка.
«Хуанита – довольно приятное и необычное имя, – предложил Джон Эдди Лесли-с-того-берега. – Х-у-а-н-и-т-а».
«Никто не сумеет написать или произнести его правильно», – сказала тетя Марша.
«Я думаю», – начал дядя Клон, но тетя Джозефина перебила его.
«Я считаю…»
«Place aux dames»6, – пробормотал дядя Клон. Тетя Джозефина подумала, что он бранится, но проигнорировала это.
«Я считаю, что ребенок должен быть назван в честь одной из наших миссионерок. Позор, что у нас в семье есть три иностранные миссионерки, и ни у одной из них нет тёзки, пусть даже они и троюродные сестры. Я предлагаю назвать её Гарриет в честь самой старшей».
«Но, – сказала тетя Энн, – это будет неуважительно по отношению к Эллин и Луизе».
«Хорошо, – надменно сказала Младшая бабушка – она изобразила надменность, потому что никто не предложил назвать малышку в её честь, – дадим ей все три имени, Гарриет Эллин Луиза Лесли. Тогда ни одна из троюродных сестер не будет обижена».
Казалось, что предложение найдет поддержку. Лорейн нервно вздохнула и взглянула на дядю Клона. Но спасение пришло с другой стороны.
«А вы не обратили внимание, – поинтересовалась Старшая бабушка, зло хихикнув, – как читаются инициалы7?»
Они не обратили. Но задумались. Больше к миссионеркам не возвращались.
4
«Сильвия – красивое имя», – отважился дядя Говард, чью первую любовь звали Сильвией.
«Нельзя так называть ее, – шокировано произнесла тетя Милисент. – Неужели вы не помните, что Сильвия, жена двоюродного деда Маршалла, сошла с ума? Она умерла, издавая вопли. Я считаю, имя Берта более подходящее».
«Между прочим, в семье Джона Си Лесли-с-того-берега есть Берта», – заметила Младшая бабушка.
Джон Си был дальним родственником, который не ладил с кланом. Так что Берту отклонили раз и навсегда.
«Разве не славно было бы назвать ее Аделой? – сказала тетя Энн. – Помните, Адела – единственная выдающаяся особа, состоящая с нами в родстве. Знаменитая писательница…».
«Мне бы хотелось прояснить тайну смерти её мужа, прежде чем кто-либо из моих внучат будет назван в её честь», – сурово заявила Младшая бабушка.
«Глупости, мама! Ты же не подозреваешь Аделу».
«В каше был мышьяк», – мрачно ответила Младшая бабушка.
«Я скажу вам, как следует назвать это дитя, – объявила тетя Сибилла, дождавшаяся подходящего мистического момента. – Теодора! Оно явилось ко мне этой ночью, видением. Меня разбудило ощущение леденящего холода на лице. Я вся покрылась мурашками. И услышала голос, произнесший имя – Теодора. Я записала его в дневнике, едва проснулась».
Джон Эдди Лесли-с-того-берега рассмеялся. Сибилла возненавидела его за это на несколько недель.
«Я желаю, – сказала добрая старая двоюродная тетя Матильда, – чтобы ее назвали в честь моей маленькой умершей девочки».
Голос тети Матильды задрожал. Её маленькая девочка умерла пятьдесят лет назад, но все ещё не была забыта. Лорейн любила тетю Матильду. Ей хотелось порадовать её. Но она не могла… не могла… назвать своего любимого ребенка Эммалинзой.
«Не к добру называть дитя в честь умершей», – отрезала тётя Энн.
«Почему бы не назвать малышку Джейн, – весело предложил дядя Питер. – Это имя моей матери… хорошее, простое, разумное имя. Прозвища уместны в любом возрасте. Дженни – Джени – Дженет – Жаннет – Жан… и Джейн после семидесяти».
«О, дождитесь, пока я умру… пожалуйста, – простонала Старшая бабушка. – Оно всегда будет напоминать мне о Джейн Путкаммер».
Никто не знал, кто такая Джейн Путкаммер, и почему Старшая бабушка не хочет вспоминать о ней. И так как никто не поинтересовался причиной – все только что приступили к десерту – Старшая бабушка рассказала.
«Когда умер мой муж, она прислала письмо с соболезнованиями, написанное красными чернилами. Джейн, подумать только!»
Итак, дитя избежало участи называться Джейн. Лорейн была благодарна Старшей бабушке. Она боялась, что Джейн может одержать победу. Как полезна бывает такая вещь, как красные чернила.
«Забавно насчет прозвищ, – сказал дядя Клон. – Интересно, были ли таковые в библейские времена. Сокращали ли Джонатана до Джо? Звали ли когда-нибудь царя Давида Дейвом? А мать Мельхиседека все время так и называла его?»
«У Мельхиседека не было матери», – важно заявила миссис Дэвид и.… простила дядю Клона. Но не Младшую бабушку. Пудинг остался несъеденным.
«Двадцать лет назад Джонатан Лесли подарил мне книгу «На том свете», – ностальгически произнесла Старшая бабушка. – Он уже восемнадцать лет там, а я все ещё здесь».
«Подумать только, вы собираетесь жить вечно», – сказал дядя Джарвис, впервые открывший рот. Он сидел молча, мрачно надеясь, что ребенок Линдера – избранный. Какое значение имеет имя в сравнении с этим?
«Собираюсь», – хихикнула Старшая бабушка. Лично для Джарвиса, величественного старого осла.
«Мы так ничего и не решим насчет имени», – в отчаянии сказал дядя Пол.
«Почему бы не позволить Лорейн самой назвать свою малышку? – вдруг спросил дядя Клон. – У тебя есть на уме имя, каким ты хотела бы её назвать, милая?»
И снова Лорейн задержала дыхание. Есть ли у неё! Она хотела назвать свою дочку Мэриголд. В детстве у неё была любимая подруга по имени Мэриголд. Единственная подруга в её жизни. Милая, замечательная, очаровательная, симпатичная девочка. Она наполнила скудное детство Лорейн красотой, тайной и привязанностью. Но она умерла. Если бы только она могла назвать свою малышку Мэриголд! Но она знала, в каком негодовании будет клан при упоминании столь глупого, замысловатого, чужеземного имени. Старшая бабушка, Младшая бабушка… нет, они никогда не согласятся. Она знала это. Все её мужество упорхнуло со вздохом капитуляции.
«Н-е-ет», – тихо и безнадежно молвила она. О, если бы она не была такой жалкой трусихой.
Но эта ужасная Старшая бабушка знала всё.
«Она врет, – подумала она. – У неё есть имя, но она слишком боится назвать его. Клементина, та бы стояла на собственных ногах и показала бы им, что есть что».
Старшая бабушка смотрела на Клементину, вечно созерцающую свою лилию, и уже не помнила, что способность той стоять на собственных ногах и говорить людям правду – даже ей, Старшей бабушке – когда-то не особенно её прельщала. Ей нравились люди с собственным мнением… когда их уже не было в живых.
Она заскучала из-за всей этой кутерьмы. Что за суета с именем. Как будто и правда имеет значение, как эта крошка с золотистым беспорядком на головке, лежащая в колыбели, будет названа. Старшая бабушка с любопытством взглянула на крошечное лицо спящей. Волосы – Лорейн, но подбородок, брови и нос – Линдера. Ребёнок без отца, а мать – глупенькая девица Уинтроп.
«Я должна прожить подольше, чтобы она запомнила меня, – подумала Старшая бабушка. – Весь вопрос именно в этом. У Мэриан нет воображения, а у Лорейн его слишком много. Кто-то должен дать ребенку несколько советов для жизни, иначе ей придется стать либо распутницей, либо мадонной».
«Был бы мальчик, подобрать ему имя было бы нетрудно», – сказал дядя Пол.
Затем они пререкались минут десять, как бы назвали ребёнка, будь он мальчиком. Они успели разгорячиться по этому поводу, когда тётя Мира почувствовала пульсацию в затылке.
«Боюсь, подступает одна из моих мигреней», – пробормотала она.
«Что бы делали женщины, не будь изобретены головные боли? – поинтересовалась Старшая бабушка. – Самая удобная болезнь на свете. Подступает так внезапно, а уходит так своевременно. И никто не может доказать, есть ли она на самом деле».
«Уверена, никто никогда не страдал так как я», – вздохнула тетя Мира.
«Мы все так и думаем, – сказала Старшая бабушка, узрев возможность выпустить следующую ядовитую стрелу. – Я объясню, что с тобой не так. Утомление глаз. В твоём возрасте тебе бы следовало носить очки, Мира».
«Почему эти головные боли не лечатся? – спросил дядя Пол. – Почему бы тебе не поменять врача?»
«И на кого менять сейчас, когда бедняжка Линдер в могиле? – простонала Мира. – Не представляю, что мы, Лесли, будем без него делать. Мы все просто поумираем. Доктор Мурхаус – пьяница, а Стакли – дарвинист. Ты ведь не заставишь меня посещать эту женщину-врача, нет?»
Нет, разумеется, нет. Никто из Лесли никогда не пойдет к врачу-женщине. Доктор М. Вудрафф Ричардс практиковала в Хармони два года, но никто из Лесли не обратился бы к ней, даже будучи при смерти. Это сродни самоубийству. Кроме того, женщина-врач – вопиюще дурной знак, с этим невозможно ни смириться, ни признать. Как негодующе заметил двоюродный дедушка Роберт: «Женщины становятся слишком умными».
Клондайк Лесли был особенно саркастичен по её поводу. «Бесполое существо», – называл он её. Лишённые женственности подражательницы мужчинам не существовали для Клондайка. «Ни рыба, ни мясо, ни копчёная селедка», – как говаривала Младшая бабушка. Но они принялись обсуждать докторшу, попивая кофе, и больше не возвращались к теме имени. Все были немного уязвлены. Им показалось, что и Старшая, и Младшая бабушки, и Лорейн нарочно не удосужились вернуться к этому вопросу. В результате гости отправились по домам, оставив неразрешенной самую важную проблему.
«Всё, как я и ожидала. Одно кудахтанье, ничего, кроме кудахтанья, как обычно», – сказала Старшая бабушка.
«Мы могли предполагать, что так будет, ещё в пятницу», – отметила Саломея, моя посуду.
«Итак, великое собрание закончилось, – сообщил Люцифер Аэндорской Ведьме на задней веранде, где они обсуждали тарелку куриных косточек и гузок, – а у малышки так и нет имени. Но такие сборища – праздники для нас. Послушай, как я мурлыкаю».
Глава 2. Печать племени
1
В последующие несколько недель в клане Лесли царило возбуждение. Как сказал дядя Чарли, все задрали хвосты. Сообщалось, что кузина Сибилла по этому поводу объявила голодовку, которую назвала постом. Стейша и Тереза, две любящие сестры, поссорились и не разговаривали друг с другом. Дядя Томас и тетя Кэтрин разорвали супружеские отношения из-за того, что тетя собиралась проконсультироваться об имени на спиритическом сеансе. Авдий Лесли, который за тридцать лет не сказал ни единого резкого слова своей жене, так грубо оскорбил её за то, что она хотела назвать дитя Консуэлой, что она ушла к своей матери на целых три дня. Соглашение теряло равновесие. Пульсации в затылке Миры повторялись чаще, чем обычно. Дядя Уильям-с-того-берега поклялся, что не станет играть в шашки, пока ребёнку не дадут имя. Все знали, что тётя Джозефина молилась об этом каждый день в определенный час. Нина рыдала почти беспрерывно и забросила торговать стихами, на что дядя Пол заметил, что нет худа без добра. Младшая бабушка хранила оскорблённое молчание. Старшая бабушка смеялась про себя до сотрясения кровати. Саломея и кошки хранили мир, хотя Люцифер держал хвост приспущенным. Все были больше или меньше холодны с Лорейн за то, что она не приняла предложение того или другого. Казалось, что ребенок Линдера так и останется без имени.
Затем… сгустились тучи. Однажды маленькая леди из Елового Облака закапризничала и забеспокоилась. На следующий день ещё больше. На третий день вызвали доктора Мурхауса – впервые за все годы Лесли пришлось вызвать стороннего врача. Для трех поколений в Еловом Облаке имелся свой доктор Лесли. Теперь, когда Линдер ушёл, все растерялись. Доктор Мурхаус был бодр и весел. Ха-ха! Нет причины для беспокойства, ни малейшей. Ребенок оправится через день или два.
Этого не случилось. В конце недели клан Лесли забил тревогу. Доктор Мурхаус забросил свои «ха-ха». Он обеспокоенно приходил по два раза в день. День за днём тучи сгущались. Ребенок таял на глазах. Все отводили глаза, боясь встретиться взглядом со страдающей Лорейн, склонившейся над колыбелью. Предлагали разные средства, но никто не обижался, если их советами не пользовались. Не до обид, всё слишком серьёзно. Лишь тётю Нину почти бойкотировали за то, что она спросила у Лорейн, не так ли и начинается детский паралич, а тётю Маршу – за рассказ о собаке, воющей в ночи. А когда Флора сообщила, что нашла ромбовидную складку на чистой скатерти – явный знак смерти в этом году – Клондайк оскорбил её. Но его простили, потому что сам он был почти в том же состоянии, что и ребёнок.
Доктор Мурхаус вызвал доктора Стакли, который, возможно, и был дарвинистом, но имел репутацию хорошего детского врача. После долгого осмотра они изменили лечение, но улучшений у маленькой пациентки не наступило. Клондайк привёз специалиста из Шарлоттауна, который принял глубокомысленный вид, потирал руки и объявил, что доктор Мурхаус сделал всё, что могло быть сделано, и, что пока есть жизнь, есть надежда, особенно в случае с детьми.
«Чья жизненная сила иногда бывает удивительной», – сказал он мрачно, словно провозгласил некое собственное глубокое открытие.
В данных обстоятельствах прадед дядя Уолтер, который тридцать лет не посещал церковь, заключил сделку с богом, что пойдет туда, если ребенок уцелеет, а прадед дядя Уильям-с-того-берега снова начал играть в шашки. Лучше нарушить клятву до смерти, чем после неё. Тереза и Стейша помирились, как только дитя заболело, но лишь сейчас холодность между Томасом и Кэтрин полностью исчезла. Томас согласился, чтобы жена обратилась хоть к спиритизму, хоть к любой другой чертовщине, лишь бы это помогло. Даже старый кузен Джеймс Ти, паршивая овца в клане, кого даже самые терпимые никогда не называли дядей, явился к Саломее как-то вечером.
«Ты веришь в молитву?» – грубо спросил он.
«Конечно», – возмущенно отвечала Саломея.
«Тогда молись. Я не буду, от моей молитвы мало толку. Но твоя чертовски полезна».
2
И наступил ужасный день, когда доктор Мурхаус мягко сказал Лорейн, что больше ничего сделать не может. После его ухода Младшая бабушка посмотрела на Старшую бабушку.
«Полагаю, – сказала она тихо, – лучше перенести кроватку в гостевую комнату».
Лорейн издала горестный стон. Это было равносильно смертному приговору. В Еловом Облаке, так же, как и у Мюрреев из Блэр Уотер8, существовала традиция, что умирающие должны быть переселены в комнату для гостей.
«Сделаешь ещё одно, прежде чем перенесешь её туда, – резко ответила Старшая бабушка. – Мурхаус и Стакли отказались от неё. У них одни мозги на двоих. Пошли за доктором-женщиной».
Младшая бабушка ошеломлённо уставилась на неё. Она повернулась к дяде Клону, который сидел возле колыбели, закрыв руками измученное лицо.
«Ты думаешь… я слышала, что она очень умная… говорят, ей предлагали прекрасное место в детской больнице в Монреале, но она предпочла общую практику…».
«О, веди её, веди её, – сказал Клондайк – свирепо из-за мучительной надежды на чудо. – Любой порт в шторм. Она уже не сможет навредить».
«Ты съездишь за ней, Гораций», – довольно кротко попросила Младшая бабушка.
Клондайк Лесли с трудом поднялся и ушёл. До сих пор он видел доктора Ричардс лишь издалека или проезжающую мимо в своей шикарном малолитражке. Она была у себя в приёмной и вышла, чтобы очень любезно встретить его.
У неё было маленькое, похожее на мальчишеское, квадратное лицо с широкими губами и прямыми бровями. Некрасивое, но запоминающееся. Волнистые каштановые волосы с одной упрямой маленькой прядью, которая всё время падала на лоб, придавая юный вид, несмотря на её тридцать пять. Какое милое лицо! Эти широкие скулы, эти тёмно-серые глаза. И приятный, улыбающийся, благородный рот. Давние строки из дней воскресной школы пролетели в одурманенной голове Клондайка Лесли:
«Она воздаёт ему добром, а не злом во все дни жизни своей».9
Лишь на секунду их взгляды встретились и задержались. Лишь на секунду. Но дело было сделано. Неодолимая женщина встретила непоколебимого мужчину, и неминуемое произошло. Возможно, у неё были толстые лодыжки… хотя, нет… возможно, её мать мяукала в церкви. Ничто не имело значения для Клондайка Лесли. Она заставила его вспомнить о таких приятных вещах, как сочувствие, доброта, благородство и женщинах, которые не боятся стареть. Он вдруг почувствовал, что хотел бы положить голову ей на грудь и заплакать, как маленький мальчик, который поранился, а она погладит его по волосам, приговаривая:
«Ничего… будь смелым… скоро всё пройдет, милый».
«Вы придёте посмотреть мою маленькую племянницу?» – он услышал свой умоляющий голос. – Доктор Мурхаус отказался от неё. Мы все так её любим. Её мать умрет, если она не выживет. Придете ли вы?»
«Конечно, приду», – ответила доктор Ричардс.
Она пришла. Мало говорила, но дала несколько кардинальных рекомендаций по кормлению и сну. Старшая и Младшая бабушки завздыхали, когда она приказала вынести кроватку на веранду. В течение двух недель её легкие уверенные шаги звучали на ступеньках Елового Облака. Лорейн, Саломея и Младшая бабушка, затаив дыхание, слушали её короткие советы.
Старшая бабушка видела её лишь один раз. Она попросила Саломею привести к ней «доктора-женщину» и несколько минут они в молчании смотрели друг на друга. Уверенные красивые серые глаза смело встретили взгляд пронзительно-чёрных.
«Если бы мой сын встретил вас, я бы приказала ему жениться на вас», – наконец сказала Старшая бабушка с усмешкой.
Легкая усмешка доктора Ричардс переросла в улыбку. Она посмотрела вокруг на всех стародавних улыбающихся в волнах вуалеток невест.
«Но я бы не вышла замуж, если бы не захотела», – сказала она.
Старшая бабушка снова усмехнулась.
«Уважаю вас за это».
Больше она никогда не называла её «доктор-женщина». До конца дней она с уважением говорила о «докторе Ричардс».
Клондайк привозил доктора Ричардс в Еловое Облако и отвозил обратно. Её собственная машина стояла в ремонте. Но в эти дни никто не обращал внимания на Клондайка.
В конце второй недели Лорейн показалось, что облако перестало сгущаться над измученным личиком.
Ещё через несколько дней… не поверите… облегчение, улучшение? Через три недели доктор Ричардс сообщила, что ребёнок вне опасности. Лорейн потеряла сознание, Младшая бабушка задрожала, а Клондайк рухнул на стул и, как школьник, постыдно разрыдался.
3
Несколько дней спустя клан собрался на очередной конклав, более тесный и домашний. Все присутствующие тёти и дяди были настоящие. И состоялся этот сбор, как удовлетворённо отметила Саломея, не в пятницу.
«Ребенку необходимо сейчас же дать имя, – авторитетно объявила Младшая бабушка. – Вы понимаете, что она могла умереть безымянной?»
Ужас осознания этого погрузил всех Лесли в молчание. Более того, они боялись, что снова, так скоро после этих ужасных недель, начнется спор. Кто знает, но возможно то, что произошло, было наказанием за их ссору?
«Но как мы её назовем?» – тихо спросила тетя Энн.
«Есть только одно имя, которые вы можете дать ей, – сказала Старшая бабушка, – и было бы чернейшей неблагодарностью, если бы вы этого не сделали. Назовите её в честь женщины, которая спасла ей жизнь».
Лесли посмотрели друг на друга. Простое, изящное, естественное решение проблемы… если только…
«Но Вудрафф!» – вздохнула тетя Марсия.
«У неё есть второе имя, не так ли? – рявкнула Старшая бабушка. – Спросите Горация, что означает М? Он сможет сказать, или я сильно ошибаюсь».
Все посмотрели на Клондайка. В тревогах последних недель никто не замечал его передвижений, кроме, разве что, Старшей бабушки.
Клондайк расправил плечи и откинул назад свою гриву. Настал самый подходящий момент, чтобы сообщить то, что вскоре должно быть сказано.
«Её полное имя Мэриголд Вудрафф Ричардс, но через несколько недель оно станет Мэриголд Вудрафф Лесли».
«Вот так-то», – сказал Аэндорской Ведьме Люцифер с выражением кота, принимающего решение о неизбежном, когда они сидели под скамьей на закате.
«Что ты о ней думаешь?» – слегка надменно спросила Ведьма.
«О, в ней что-то есть, – заключил Люцифер. – Достаточно мила»
Аэндорская Ведьма, будучи достаточно мудрой, облизала черные лапки и ничего не сказала, но осталась при своём мнении.
Глава 3. Апрельское обещание
1
Вечером девяносто восьмого дня рождения Старшей бабушки на тёмной лестнице Елового Облака раздался смех, что означало, что Мэриголд Лесли, которая прожила шесть лет и считала, что мир – очаровательное место, танцевала, спускаясь по лестнице. Мэриголд всегда можно было услышать раньше, чем увидеть. Она редко просто ходила. Это радостное создание либо бегало, либо танцевало. «Ребенок с поющим сердцем», – так называла её тётя Мэриголд. Казалось, что её смех всегда бежит впереди неё. И Младшая бабушка, и мама, не говоря о Саломее и Лазаре, считали, что эта золотая трель смеха, эхом рассыпающаяся по величественным чопорным комнатам Елового Облака, лучший звук на свете. Мама часто говорила так. Младшая бабушка – никогда. В этом и состояло различие между Младшей бабушкой и мамой.
Мэриголд присела на корточки у входной двери на широкой бугристой ступеньке из песчаника и продолжила размышлять или, как говорила тетя Мэриголд – а она была очень доброй и восхитительной женщиной – «творить волшебство». Мэриголд всегда творила какое-то волшебство.
Даже в свои шесть, Мэриголд находила это увлекательное занятие «заманительным», как она говорила, используя своё собственное словечко. Она позаимствовала его у тёти Мэриголд, и с тех пор и до конца жизни все вокруг было для Мэриголд либо занимательным, либо нет. Некоторые люди, вероятно, требуют от жизни, чтобы она была счастливой, беззаботной или успешной. Мэриголд Лесли просила лишь одного: чтобы она была интересной. Уже сейчас она жадными глазами наблюдала за перипетиями жизненной драмы.
В тот день праздновали рождение Старшей бабушки, и Мэриголд наслаждалась праздником – особенно той его частью в кладовке, о которой не знал никто, кроме неё и Саломеи. Младшая бабушка умерла бы от ужаса, если бы знала, сколько пирожных со взбитыми сливками съела Мэриголд.
Но сейчас она была рада побыть в одиночестве и подумать обо всём. По мнению Младшей бабушки, Мэриголд думала слишком много для такого маленького существа. Даже мама, которая обычно все понимала, иногда соглашалась с этим. Разве полезно для ребенка, чтобы его разум блуждал по разным закоулкам? Но этим вечером все слишком устали от праздника, чтобы волноваться о Мэриголд и её мыслях, поэтому она была вольна предаться своим долгожданным восхитительным грёзам. Мэриголд, как она торжественно сообщила бы вам, «думала о прошлом». Разумеется, самая подходящая тема для дня рождения, даже если он не твой. Трудно сказать, насколько её мысли порадовали бы Младшую бабушку или даже маму, узнай они, о чем она размышляла. Но они не знали. Давным-давно, когда ей было лишь пять с половиной, Мэриголд напугала семью, по крайней мере, её старейшую часть, заявив в вечерней молитве: «Спасибо, дорогой Бог, что ты устроил так, что никто не знает, о чём я думаю». С тех пор Мэриголд стала мудрее и больше не говорила в молитвах вслух таких вещей. Но она продолжала тайком думать, что Бог очень мудр и добр, сделав мысли недоступными для других. Мэриголд ненавидела, когда люди вторгались, как говаривал дядя Клон, «в её маленькую душу».
Но зато, как сказала бы, да и сказала Младшая бабушка, Мэриголд всегда находила лазейки, о которых обычный ребенок Лесли и не подумал бы – «Уинтропы лезут из неё», – бормотала Младшая бабушка. Все хорошее в Мэриголд происходило от Лесли или Блейсделлов. Все плохое или озадачивающее – от Уинтропов. Например, эта её привычка смотреть в пространство восторженным взглядом. Что она видит? И какое право имеет видеть это что-то? А когда вы спрашивали, о чём она думает, Мэриголд смотрела на вас и отвечала: «Ни о чём». Или, хуже того, задавала странный безответный вопрос, вроде: «Где я была до того, как стала мною?»
Небеса над нею лежали восхитительно-мягким глубоким бархатом. Ветер, что недавно гулял над клеверным лугом, свернул за укутанный девичьим виноградом угол дома, издавая лёгкие мурлыкающие звуки, которые очень любила Мэриголд. Для неё любые ветра на земле были друзьями, даже те зимние, что свирепо ревели над гаванью.
За дорогой громоотводные шары на крыше сарая мистера Донкина казались серебряными сказочными планетами, плывущими в полумраке на фоне тёмных деревьев. Огни гавани мерцали вдоль погружённого в тени берега. Мэриголд любила смотреть на эти огни. Они подкармливали некий источник восхищения внутри неё. Большие спиреи по обеим сторонам лестницы – Старшая бабушка всегда называла их Невестиными венками, с презрительным фырканьем по поводу бессмысленного перечня названий – напоминали в сумерках два сугроба. За яблочным амбаром старая изгородь из терновника, корни которого привезли из Шотландии когда-то в прошлом, незапамятно древнем для Мэриголд, была столь же бела, как спиреи, и благоухала ароматом. Еловое Облако славилось сладкими чистыми ароматами. Говорили, что здесь навсегда осталось что-то медоносное. В тени кустов сирени белым золотом светились восхитительные лилии, а вдоль старой дорожки, выложенной кирпичом и выглаженной многими шагами, цвели гордые белые ирисы. А далеко внизу, Мэриголд знала об этом, туманное море нежно плескалось по ветренным пескам дюн. Пастбище мистера Донкина, полное голубоглазых трав, окруженное берёзами, было весьма приятным полем. Она всегда завидовала мистеру Донкину из-за этого поля. Казалось, думала Мэриголд, ему очень нравится быть полем и ничем иным на свете. Прямо над ним висело милейшее серое облачко, которое медленно поднималось, разворачиваясь, словно смущённая квакерша. И деревья шептались в сумерках, как старые друзья – все, кроме старых неразговорчивых тополей.
Саломея энергично распевала в кладовке, моя посуду. Саломея не умела петь, но всегда пела, и Мэриголд нравилось слушать её, особенно в сумерках. «Мы со-о-о-бёремся у реки… у кра-си-и-вой реки», – заливалась Саломея. И Мэриголд видела эту красивую реку, похожую на гавань возле Елового Облака. Лазарь играл на скрипке за рощицей молодых ёлочек позади яблочного сарая – на своей старой коричневой скрипке, которую его пра-пра-пра-прадед привез из Гран Пре. Эванджелин наверно танцевала под его музыку. Тётя Мэриголд рассказала Мэриголд историю Эванджелин. Младшая бабушка, мама, тётя Мэриголд и дядя Клон сидели в комнате Старшей бабушки и болтали о всяких семейных делах. Немножко сплетен, как всегда констатировала Старшая бабушка, способствуют пищеварению. Все, кого любила Мэриголд, были рядом. Она обхватила загорелые коленки и подумала, как это здорово.
2
Мэриголд прожила шесть лет, зная лишь бухту Хармони и Еловое Облако. Всё семейство любило и баловало её, хотя некоторые иногда воспитывали, ради её же собственной пользы. А Мэриголд любила их всех – даже тех, кого ненавидела, любила, как часть своего клана. И она любила Еловое Облако. Как же ей посчастливилось родиться именно здесь. В Еловом Облаке она любила всё и всех. Казалось, сегодня мечты и радости, большие и маленькие, прошлые и настоящие, смешавшись, текли в её голове восхитительной рекой.
Она любила голубей, кружащихся над старым яблочным амбаром, и сам амбар, такой старый с башней и эркерным окном, словно церковь, и компанию веселых маленьких болиголовов позади него. «Посмотри на них, – как-то сказал дядя Клон. – Разве они не похожи на команду старых дев – школьных учительниц, грозящих пальцами классу непослушных мальчишек». После этих слов Мэриголд всегда думала о них именно так и проходила мимо с настоящим, почти восхитительным страхом. А что, если они вдруг погрозят своими пальцами ей? Тогда она бы умерла, это точно. Но было бы заманительно.
Болиголовы были не единственными волшебными растениями в Еловом Облаке. Например, куст сирени за колодцем. Иногда он был просто кустом сирени. А иногда, особенно в сумерках – склонившейся над вязанием старушкой. Таким он был. И ель на берегу, которая в сумерках или в штормовые зимние дни казалась ведьмой, наклонившейся над берегом, её волосы развевались за спиной. А некоторые деревья разговаривали, Мэриголд слышала их. «Идём, идём», – всегда звали сосны, растущие справа от сада. «Мы что-то расскажем тебе», – шептали клёны у ворот. «Разве есть что-то лучше, чем любоваться нами?» – напевали белые берёзы вдоль дороги – их посадила Младшая бабушка, когда приехала в Еловое Облако невестой. А тополя, что стояли на страже у старого дома. Ночью ветер шумел меж ними, словно скорбящий дух. Смех эльфов и прерывистые стоны звучали в их ветвях. Можете говорить, что угодно, но Мэриголд ни за что бы не поверила, что эти тополя были просто деревьями.
Старый сад смотрел на светло-голубую гавань, с белой калиткой на полпути, где росли чудесные цветы и бегали котята, проживая свои короткие милые жизни, прежде чем обрести хозяев или таинственно исчезнуть. Он собрал всю красоту старых садов, в которых когда-то смеялись и плакали прелестные женщины. Каждый куст или тропинка хранили частицу истории старого клана, и Мэриголд уже знала большинство из них. Если о каких-то событиях ей не поведали Младшая бабушка и мама, о них рассказала Саломея, а то, что не рассказала Саломея, рассказал Лазарь.
Дорога за воротами – одна из самых прекрасных красных дорог «Острова». Для Мэриголд это была длинная красная дорога, ведущая к тайне. Направо, мимо ветренных берегов она стремится к устью гавани и заканчивается там, как будто море откусило её. Налево тянется вдоль папоротниковой долины к тенистому гребню крутого склона, по которому бегут нетерпеливые ёлочки, словно пытаясь догнать большие, растущие наверху. И дальше в новый мир, где есть церковь, и школа, и деревня Хармони. Мэриголд любила дорогу на холм, потому что там было полным-полно кроликов. Невозможно пройти по ней, не встретившись с парой-тройкой этих симпатяг. В сердце Мэриголд имелось место для кроликов всего мира. Её терзали ужасные подозрения, что Люцифер ловит их и ест. Лазарь случайно выдал эту тайну, бушуя в огороде над испорченными кочанами капусты. «Проклять кролик, – возмущался он, – пусть Люцифер съесть их все». Мэриголд уже не могла по-прежнему относиться к Люциферу после этого, хотя, конечно же, продолжала его любить. Однажды начав, Мэриголд никогда не переставала любить или ненавидеть. «В ней так много Лесли», – говорил дядя Клон.
Гавань с молчаливыми таинственными кораблями, которые приходили и уходили; Мэриголд любила её больше всего, даже больше, чем прекрасный зелёный еловый лес на восточном склоне холма, который дал название её дому. Мэриголд любила гавань, когда она покрывалась мелкой танцующей рябью, словно песенками. Она любила её, когда вода становилась гладкой, словно голубой шелк. Она любила, когда летние ливни спускали свои сияющие дождевые нити с облаков на западе; любила, когда расцветали огни в летних голубых сумерках, и колокол англиканской церкви звенел над заливом тихо и сладко. Она любила гавань, когда туманный мираж превращал её в загадочное заколдованное пристанище «далёких волшебных земель»; любила, когда под осенним закатом гавань покрывалась багряной рябью; когда серебряные паруса таяли в таинственном белом чуде рассвета, но больше всего она любила её в тихие дни ближе к вечеру, когда гавань лежала словно большое мерцающее зеркало, её краски медленно бледнели, словно мир тонул в мыльной пене. Как чудесно и страшно стоять на краю причала и видеть перевёрнутые деревья и огромное голубое небо под ногами. А что, если не удержаться и упасть в это небо? Пролетишь ли сквозь него?
А ещё она любила холмы с лиловыми макушками, они баюкали гавань, эти длинные тёмные холмы, улыбались и манили, но никогда не раскрывали свои секреты.
«Что там за холмами, мама?» – однажды спросила Мэриголд.
«Много всего, замечательного и потрясающего», – со вздохом отвечала мать.
«Однажды я пойду и всё узнаю», – решительно заявила Мэриголд.
А мама снова вздохнула.
Но другой берег бухты, «тот берег», оставался для Мэриголд соблазнительным. Она была уверена, что там всё другое. Даже люди, которые там жили, назывались удивительным словом «с-того-берега», которое Мэриголд, когда была совсем маленькой, понимала как «стогоберк».
Мэриголд однажды побывала на том берегу мечты с дядей Клоном и тетей Мэриголд. Они бродили по песчаному берегу до самых сумерек, пока тонущее солнце не выпило весь розовый свет из огромной голубой чаши небес и не рухнуло в белую сумятицу бурунов. Прилив был высок, ветер силен, и море громыхало величественным победным маршем. Мэриголд было бы очень страшно, не держись она за худощавую загорелую руку дяди Клона. Но справляться с дрожью ужаса, стоя рядом с ним, было совершенным восторгом.
Вторым после гавани Мэриголд любила большой еловый лес на холме, хотя побывала там всего лишь два раза. С тех пор как она помнила себя, этот еловый холм обладал для нее неотразимым очарованием. Она могла сидеть на ступеньках в комнату Старшей бабушки и смотреть на холм так долго и так внимательно, что Младшая бабушка однажды встревоженно спросила, все ли «в порядке» с ребенком. В семействе Уинтропов два поколения назад имелся слабоумный.
Холм был очень высок. Когда-то давно она считала, что, если добраться до его вершины, можно дотронуться до неба. Даже сейчас она думала, что, если бы оказалась там на вершине и слегка подпрыгнула, то, возможно, приземлилась бы прямо на небо. Там никто не жил, кроме кроликов и белок, и ещё, может быть, «маленкий зелёный народец», о котором ей рассказывал Лазарь. Но дальше, да-да, дальше, скрывалась Таинственная Земля. Мэриголд казалось, что она всегда называла её так, всегда знала о ней. Красивая удивительная Таинственная Земля. Ах, вот бы увидеть её, забраться на самую вершину холма и заглянуть оттуда. Но когда мама однажды спросила, хочет ли она прогуляться на холм, Мэриголд отпрянула и воскликнула:
«Ах, мама, холм такой высокий. Если бы мы забрались наверх, то оказались бы выше всего. Лучше я останусь здесь, внизу, рядом со всем».
Мама засмеялась и согласилась. Но однажды вечером, два месяца спустя, Мэриголд отважно совершила это сама. Соблазн вдруг оказался сильнее страха. Никого не было рядом, чтобы запретить или позвать вернуться. Она смело поднималась по длинной заросшей травой лестнице из плоских известняковых ступеней, которая шла прямо к центру сада. Мэриголд задержалась на первой ступеньке, чтобы поцеловать на ночь только что распустившийся нарцисс, потому что повсюду в саду цвели нарциссы. Далеко впереди чудесные, покрашенные в розовый облака повисли над елями. Они отражали закат, но Мэриголд думала, что они так светятся, потому что смотрят на Таинственную Землю, которую она увидит через мгновение, если её не покинет мужество. Она могла быть вполне храброй при свете дня. Нужно подняться на холм и спуститься, пока не стемнело. Хрупкая маленькая фигурка побежала по ступенькам к поросшему мхом забору и покосившейся зелёной калитке, где росли семь стройных маков. Но она не открыла её. Отчего-то она не смогла пойти прямо в еловый лес. Лазарь однажды рассказал ей историю про этот или какой-то другой лес. Старый Фидель-конопатчик рубил там дерево, его топор затупился, и он выругался. «Чёрт меня побери, – сказал он, – если я не бросать эт чёртоф топор в пруд. И чёрт его взял». Лазарь был ужасно серьезен.
«Кто-нибудь видел это?» – спросила Мэриголд, округлив глаза.
«Нет, но они видеть следы, – убежденно ответил Лазарь, – и яма в земле около дерево. Ты послушать… куда ушел Фидель, если чёрт не брать его? Никто не видел его с тех пора».
Поэтому никакого елового леса для Мэриголд. Днём она никогда не верила в чёрта, который забрал Фиделя, но кто может остаться неверующим, после того как сядет солнце. А Мэриголд не очень-то хотелось встретить чёрта, хотя про себя она думала, что это было бы заманительно.
Она побежала вдоль забора до угла сада, туда, где заканчивались ели. Какой прохладной и бархатистой была молодая трава. Она ощущала её зелень. Но в Таинственной Земле она, наверное, намного зеленее, «живая зелёная», как вещал один из гимнов Саломеи. Она пролезла через удобную дыру в заборе, взбежала на пшеничное жнивьё мистера Донкина, и жадно и решительно огляделась в поисках Таинственной Земли.
И в то же мгновение глаза её наполнились слезами, губы задрожали, она чуть не зарыдала в голос от горечи.
Там не было никакой Таинственной Земли!
Ничего, кроме полей и ферм, амбаров и рощиц, всего того же самого, что можно увидеть вдоль дороги на Хармони. Никакой замечательной секретной земли её мечтаний. Мэриголд отвернулась, нужно бежать домой, найти маму и плакать, плакать, плакать! Но она замерла, потрясённо глядя на закат над бухтой Хармони.
Никогда прежде она не видела всю бухту целиком, да и такой закат был редкостью даже на этом острове чудесных закатов. Глаза Мэриголд утонули в озёрах трепещущего золотого и божественного красного, небесного яблочно-зелёного, в потоках розового, в пурпурах далёких морей. В каком-то упоении она погрузилась в это очарование. Таинственная Земля, она была там, за этими светящимися холмами, за тем широким берегом, что разрезает лучезарное море в устье гавани, там, в том городе мечты, башен, шпилей и ворот из жемчуга. Таинственная Земля не была потеряна. Как глупо было считать, что эта земля просто за холмом. Конечно, её не могло там быть, так близко от дома. Но теперь Мэриголд знала, где она. Ужасное разочарование и чувство горькой потери, которое было ещё хуже разочарования, полностью исчезли в этот миг абсолютного восторга перед миром. Теперь она знала.
Темнело. Она видела огни Елового Облака, расцветающие внизу в закате. А ночь подползала к ней из елей. Она робко взглянула туда и там, прямо в гуще папоротника на краю леса, маня её из зарослей, стояла Маленькая Белая Девочка. Мэриголд махнула ей в ответ, прежде чем увидела, что это просто ветка дикой цветущей груши, качающаяся на ветру. Она побежала в сад и вниз по ступенькам, чтобы встретить маму около двери в комнату Старшей бабушки.
«Ах, мама, как же хорошо вернуться домой и лечь спать», – прошептала она, сжимая дорогую тёплую руку.
«Где ты была, дитя?» – сурово спросила Младшая бабушка.
«На холме».
«Ты не должна ходить туда одна в такое время», – сказала Младшая бабушка.
Но она там всё же побывала. И видела Таинственную Землю.
Этой весной она поднималась на холм вместе с мамой, всего несколько недель назад – искать земляничник. Они прекрасно провели время, нашли нетронутый родник, прячущийся в гуще папоротников – изысканное местечко в тени, полное очарования. Мэриголд раздвинула папоротники и заглянула в него, увидев отражение своего лица. Нет, не своего. Маленькой девочки, которая, конечно же, жила в роднике и выходила оттуда лунными ночами, чтобы потанцевать вокруг. Мэриголд не знала никаких греческих мифов или англо-саксонских легенд, но детское сердце дает собственные милые объяснения природным явлениям в любом возрасте и любой стране, а Мэриголд родилась, зная те секреты, что навсегда скрыты от разумных, рассудительных и скептичных.
Они с мамой бродили по чудесным тропинкам среди шишковатых корней. Они нашли красивый гладкоствольный бук или даже два. Они гуляли по бархатистым зелёным покрывалам мха, достойным ножек королевы. Мама сказала ей, что позже, если поискать, здесь зацветут колокольчики, триллиумы, дикие орхидеи и венерины башмачки. А еще позже на расчищенных участках появится земляника.
«Когда я стану большой, я буду приходить сюда каждый день», – сказала Мэриголд. Она думала о том вечере, таком давнем – целый год назад – когда на мгновение увидела Маленькую Белую Девочку. Это не могло быть веткой цветущей сливы. Возможно, однажды она снова увидит её.
3
Люцифер шнырял по клумбе полосатого канареечника, время от времени зачем-то ныряя в него. Аэндорская Ведьма творила черную магию на белом столбе ворот. Оба были старше Мэриголд, которой иногда казалось, что они зловеще стары. Лазарь как-то поделился с ней по секрету, что они живут столь же долго, как и Старая леди. «Они рассказать ей всё, всё-всё, – сказал Лазарь. – Разве я не видеть их сидеть на её постель, их хвосты висеть, и они говорить с ней как будто они христьян? А каждый раз поймать мышь, Ведьм нести её Старая леди смотреть. Будь осторожная с эти кошка. Я бы не хотеть быть парень, который поранить их. Кто знать, что знать эти тварь».
Мэриголд любила их, но боялась. Она обожала их всегда безупречное потомство. Маленькие пушистые существа дремали на нагретой солнцем траве или резвились во дворе и в саду. Чёрные шарики пуха. Хотя, не все чёрные, увы. Количество пятнистых и полосатых котят вызывало у дяди Клона серьезные сомнения по поводу моральных устоев Ведьмы. Но из чувства приличия он хранил эти сомнения в тайне, а Мэриголд, которую не тревожила мысль о дурной наследственности, больше всего любила полосатых котят. Она твердо верила, что существа с такими милыми мордашками не могут иметь ничего общего с дьяволом, какими бы ни были их родители.
Лазарь отложил скрипку и ушёл домой, в свой маленький коттедж в «лощине», где жила его черноглазая жена и полдюжины черноглазых детей. Мэриголд видела, как он идёт через поле, с каким-то узелком в загорелой руке, весело насвистывая, как он всегда делал, если не играл на скрипке; опустив голову и плечи, потому что постоянно так спешил, что они всегда оказывались в нескольких дюймах впереди его ног. Мэриголд очень любила Лазаря, который был поденщиком в Еловом Облаке еще до того, как она родилась, и поэтому стал частью её мира, который всегда был и всегда будет. Ей нравились быстрые добрые огоньки в его чёрных глазах и сияние белых зубов на коричневом лице. Он совсем не похож на Фидима Готье, огромного кузнеца из Лощины, со страшными чёрными усами, на которые, наверно, можно было бы повесить шляпу. Мэриголд ужасно боялась его. Про него рассказывали бездоказательную историю, что он съедает по ребенку через день. Но Лазарь был не таким. Он – добрый, мягкий и весёлый.
Она не сомневалась, что Лазарь не мог никого обидеть. Сомнительной была ужасная история о том, что он убивает свиней. Но Мэриголд не верила в это. Она знала, что Лазарь не мог убивать свиней, по крайней мере, не тех, с которыми он был знаком.
Он умел вырезать чудесные корзиночки из сливовых косточек, делать сказочные дудки из бересты и всегда знал правильное лунное время, когда можно выполнять то или другое. Она любила беседовать с ним, хотя, если бы мама или бабушки узнали, о чём они иногда говорят, то строго-настрого запретили бы эти беседы. Потому что Лазарь, который твердо верил в существование фей, ведьм и привидений всех сортов, жил в каком-то своём романтическом мире, приводя Мэриголд в восхитительное содрогание своими небылицами. Она не верила в них, но приходится же верить в то, что произошло с самим Лазарем. Он видел свою бабушку в полночь, стоящей возле его кровати, в то время как она находилась в сорока милях отсюда. А на следующий день пришло известие, что пожилая леди «померла».
Ночью Мэриголд рыдала от страха, когда мама забрала лампу из её комнаты.
«Ах, мамочка, не пускай сюда темноту… не пускай темноту. Ах, мамочка, я боюсь этой большой темноты!»
Прежде она никогда не боялась спать в темноте, мама и Младшая бабушка не могли понять, что произошло. В конце концов они пришли к компромиссу, оставляя свет в маминой комнате и не закрывая дверь. Чтобы попасть в комнату Мэриголд, нужно было пройти через мамину комнату. Смутный, золотой полусвет был уютен. Если бы какие-то люди пришли и встали возле кровати в полночь – люди, что живут в сорока милях отсюда – можно было, по крайней мере, разглядеть их.
Иногда лунными вечерами Лазарь играл на скрипке в саду, и Мэриголд танцевала под его музыку. Никто не умел играть на скрипке лучше Лазаря. Даже Саломея завистливо признавала это.
«Словно ангел, мэм, именно так», – говорила она с торжественной неприязнью, слушая волшебные мелодии в исполнении невидимого музыканта в саду. – И только подумать, что этот безалаберный французишка умеет так играть. Мой хороший трудолюбивый брат всю жизнь учился играть на скрипке, да так и не научился. А Лазарь делает это безо всяких усилий. Почему мне почти всегда хочется танцевать под его музыку?»
«Должно быть, это чудо», – сказал дядя Клон.
А Младшая бабушка попеняла, что Мэриголд слишком много времени проводит с Лазарем.
«Но мне он очень нравится, и я хочу видеть его в этом мире так много, сколько смогу, – объяснила Мэриголд. – Саломея говорит, что он не попадет на небеса, потому что он француз».
«Саломея слишком злая и глупая, когда говорит такие вещи, – сурово сказала Младшая бабушка, – Конечно, французы попадают на небеса, если ведут себя хорошо». Однако, сама она была не слишком в этом уверена.
4
Саломея прошла через прихожую в садовую комнату с чашкой чаю для Старшей бабушки. Едва отворилась дверь, как Мэриголд услышала слова тети Мэриголд:
«Лучше мы пойдем на кладбище в следующее воскресенье».
Мэриголд радостно поздравила себя. Каждую весну в одно из воскресений обитатели Елового Облака посещали маленькое кладбище на западном склоне холма, приносили цветы на тамошние могилы. Никто из семейства не ходил с ними, кроме дяди Клона и тети Мэриголд. А Мэриголд обожала эти визиты на кладбище, особенно посещение могилы отца. Её тревожило убеждение, что она должна горевать, как мама и Младшая бабушка, а ей никогда не удавалось.
Это было восхитительное место. Гладкий серый камень меж двух милых молодых ёлочек, зеленеющих новенькими весенними верхушками, огромный куст спиреи, почти скрывающий могилу, приветствующий вас сотнями белых рук, и ветер, шевелящий длинную траву. На кладбище было полным-полно спиреи. Саломее была довольна этим. «Так здесь веселей», – говорила она. Мэриголд не знала, весёлое ли кладбище или нет, но ей там очень нравилось. Особенно, когда рядом был дядя Клон. Она очень любила дядю Клона. Он такой забавный. Всё, сказанное им, было заманительным. Он так славно произносил «Когда я был на Цейлоне» или «Когда я был на Борнео», как будто говорил «Когда я был в Шарлоттауне» или «Когда я был в бухте». А иногда давал изумительные клятвы – во всяком случае, Саломея говорила, что это клятвы – хотя, они вовсе не звучали как клятвы. «Клянусь тремя мудрыми обезьянами!» – была одна из них. Так загадочно. Что это за три мудрые обезьяны? Никто и никогда не разговаривал с ней так, как дядя Клон. Он рассказывал ей чудесные истории о добрых старых днях и о своих собственных приключениях. Например, как однажды ночью заблудился на перешейке между долинами Золотого ручья и реки Сульфур в Клондайке. Или ту, про костяной остров где-то в далёком северном море, остров, покрытый моржовыми клыками, словно брёвнами на сплаве, как будто все моржи на свете собрались там, чтобы умереть. Он шутил. Он всегда смешил её, даже на кладбище, рассказывая забавные истории об именах на могильных плитах, и заставляя чувствовать, что все эти люди где-то до сих пор живут. Папа и все остальные, такие же славные, какими они были в этом мире. Поэтому зачем скорбеть о них? Зачем вздыхать, как всегда делает Саломея, остановившись возле могилы миссис Амос Рики со словами:
«Ах, сколько чашек чаю я выпила с нею!»
«Разве вы не выпьете с нею ещё больше чашек на небесах?» – однажды поинтересовалась Мэриголд, весьма безрассудно, послушав одну из россказней дяди Клона.
«Боже, нет, дитя». Саломея была страшно шокирована. Хотя, в глубине души она подумывала, что на небесах было бы намного веселее, если бы там можно было выпить добрую чашку чаю со старой подругой.
«Там же пьют вино, да? – настаивала Мэриголд. – В Библии так написано. Вы не считаете, что чашка чаю была бы приличнее, чем вино?»
Саломея именно так и думала, но она скорее умерла бы до смерти, чем развратила бы юный разум Мэриголд подобными идеями.
«Существуют тайны, которые мы, несчастные смертные, не можем постичь», – торжественно объявила она.
Дядя Клон стал третьим из любимых Мэриголд. Первой, разумеется, была мама, затем тётя Мэриголд, с ее милым широким ртом с изгибами в уголках, отчего всегда, даже когда она грустила, казалось, что она улыбается. Эти трое занимали тайное святилище в её сердце, особенное святилище, куда не допускались многие, кто считал, что имеет право быть там.
Мэриголд иногда задумывалась, на кого хотела бы походить, когда вырастет. С одной стороны, она хотела быть как мама. Но мама была «затюканной». Чаще Мэриголд думала, что хочет быть похожей на тётю Мэриголд, которая обо все высказывалась по-своему. Больше никто не умел бы так сказать. Мэриголд подозревала, что узнает любое из слов тёти Мэриголд, где бы с ними не столкнулась. Она говорила: «Хороший день» таким уверенным тоном, что казалось, никто больше не знает, что день хорош, – этим милым секретом она делилась только с вами. А если вы ужинали у тёти Мэриголд, она заставляла вас съесть третью порцию.
5
Мэриголд совсем не понимала, откуда взялись все эти бабушки. Она знала, что обязана любить их, но любила ли? Даже в свои шесть лет Мэриголд обнаружила, что невозможно любить по правилам.
Младшая бабушка не так уж плоха. Конечно, она была старой, но её славно замороженная невозмутимая зрелость по-своему столь же прекрасна, как и молодость. Мэриголд почувствовала это задолго до того, как смогла сформулировать, что и расположило её к восхищению Младшей бабушкой.
Но Старшая бабушка. Мэриголд всегда казалось, что в Старшей бабушке, невероятно древней, не было ничего человеческого. Она не могла родиться и столь же маловероятно – умереть. Мэриголд радовалась, что ей не приходится слишком часто заходить в её комнату. Дети не должны беспокоить Старшую бабушку – «неотшлёпанные помехи» – так она называла их.
Но иногда Мэриголд приходилось ходить туда. Когда она шалила или капризничала, в наказание её отправляли посидеть на маленькой табуретке в комнате Старшей бабушки. Это было самое ужасное наказание – мама и Младшая бабушка, которые считали его достаточно мягким, просто не понимали, насколько они было страшным. Мэриголд сидела там, как ей казалось, часами, а Старшая бабушка со своих подушек смотрела на неё в упор, не мигая. Ничего не говоря. Именно это делало наказание столь ужасным.
Хотя, когда она начинала говорить, было столь же неприятно. Какой высокомерной могла быть Старшая бабушка. Однажды она так рассердила Мэриголд дразнилкой: «Хойти-тойти, маленький горшочек скоро закипит!», что та несколько дней страдала от унижения. Маленький горшочек, подумать только!
Бесполезно было пытаться что-то скрыть от жуткой старухи, она видела всё насквозь. Однажды Мэриголд попыталась обмануть ее маленькой полу-выдумкой.
«Ты не настоящая Лесли. Лесли никогда не лгут», – сказала Старшая бабушка.
«О, неужели!» – воскликнула Мэриголд, уже знавшая, как обстоит дело.
И вдруг Старшая бабушка рассмеялась. Иногда она преподносила сюрпризы. Как-то Мэриголд зашла в комнату для гостей и перемерила все их шляпы, и тем же вечером в садовой комнате собрался совет. Мама и Младшая бабушка пришли в ужас. Но Старшая бабушка не позволила наказать Мэриголд.
«Однажды я сама сделала то же самое», – сказала она. «Но меня не поймали», – со смешком шепнула она Мэриголд. Она также хихикнула в тот день, когда Младшая бабушка задала Мэриголд глупый вопрос, на который невозможно было ответить: «Почему ты такая плохая?» Но Мэриголд ответила, мрачно: «Это заманительней, чем быть хорошей».
Старшая бабушка позвала Мэриголд, когда та выходила из комнаты вслед за взбешенной Младшей бабушкой, и положила ей на плечо испещрённую голубыми венами руку.
«Возможно, это интересней, – прошептала она, – но ты не можешь быть такой, потому что ты – Лесли. Лесли никогда не могли быть плохими, не страдая от этого. Слишком совестливы. Нет смысла уничижать себя просто ради того, чтобы стать плохой».
Мэриголд всегда приходила в садовую комнату по воскресным утрам, чтобы декламировать Старшей бабушке Библию и вопросы катехизиса. Горе было ей, если она пропускала хоть слово. Волнуясь, она обязательно пропускала, неважно, насколько хорошо произносила их прежде. И её всегда отправляли туда, чтобы выпить лекарство. Никто в Еловом Облаке, кроме Старшей бабушки, не мог заставить Мэриголд принять таблетки. У неё не было с этим проблем. «Не кривись так. Ненавижу злых детей. Открой рот». Мэриголд открывала. «Возьми таблетку». Таблетка была взята. «Глотай». Проглочена, кое-как. А затем Старшая бабушка запускала руку куда-то возле кровати и доставала горсть больших жирных сочных синих изюмин.
Она не всегда бывала неприветливой. Иногда показывала Мэриголд большую семейную Библию, одну из тех Золотых книг, в которых записаны все имена клана, и где хранились старые пожелтевшие вырезки. А иногда рассказывала истории о невестах со стен и венках из волос, в которых каштановые, золотые и чёрные локоны бесчисленных умерших Лесли расцветали причудливыми неувядающими бутонами.
Старшая бабушка всегда выражалась очень… странно, её необычные, с остротой, речи нравились Мэриголд. Они всегда шокировали Младшую бабушку и маму, но Мэриголд запоминала и размышляла над ними, хотя редко понимала до конца. В них не было ничего, что относилось бы к её маленькому жизненному опыту. Позже они вернулись к ней. В критические моменты слова Старшей бабушки вдруг возникали в её голове и спасали от совершения ошибок.
Но, в целом, Мэриголд всегда облегченно вздыхала, когда дверь садовой комнаты закрывалась за её спиной.
6
Мэриголд в свои шесть лет уже испытала большинство чувств, что делают жизнь яркой, ужасной и удивительной, – чувств не менее ярких и ужасных, чем в шестнадцать или шестьдесят. Вероятно, она родилась, зная, что, будучи Лесли, рождена почти королевским отпрыском. Но её родовая гордость полноценно расцвела после одного разговора с маленькой Мей Кемп из Низины.
«Ты умываешься каждый день?» – недоверчиво спросила её Мей.
«Да», – отвечала Мэриголд.
«Разве это нужно?»
«Конечно. А ты разве нет?»
«Я нет, – презрительно сказала Мей. – Я умываюсь, если лицо грязное».
И тут Мэриголд поняла разницу между кастой Лесли и прочими лучше, чем из всех проповедей Младшей бабушки.
Стыд? О, она испила эту чашу до дна. Разве можно забыть тот кошмарный ужин, когда она пробралась, красная и запыхавшаяся, на свое место, извиняясь за опоздание? Непростительный поступок, когда за столом присутствуют гости – два министра и их жёны.
«Я никак не могла, мама. Я помогала Кейт Блэквайер поить коров мистера Донкина и нам пришлось гоняться за той чёртовой телкой».
Мэриголд тотчас же поняла, что сказала нечто жуткое. Ужас, застывший на лицах домашних, сообщил ей об этом. Один из министров вытаращил глаза, второй усмехнулся.
Что такого она сказала?
«Мэриголд, ты можешь выйти из-за стола и пойти в свою комнату, – казалось, чуть не плача, сказала мама. Мэриголд обиженно подчинилась, не понимая, что произошло. Она узнала это позже.
«Но Кейт так говорит, – запричитала она. – Кейт сказала, что переломала бы все чёртовы кости этому чёртовому теленку. Я не знала, что «чёртовый» – это ругательство, хотя это и некрасивое слово».
Она выругалась перед министром – перед двумя министрами. И их жёнами! Мэриголд не думала, что доживет до такого. Горячая волна стыда охватывала её, когда она вспоминала об этом. Неважно, что ей больше не разрешили дружить с Кейт; она никогда особо и не любила её. Но опозорить себя и маму, и имя Лесли! А она-то считала, что хуже быть не может после того, как с благоволением и почтением спросила мистера мэра Шарлоттауна: «Пожалуйста, скажите, вы – Бог?» Сколько насмешек и страданий от унижения она тогда пережила. Но это! Но она так и не поняла, почему слово «чёртовый» – ругательство. Даже Старшая бабушка, которая до слез смеялась над этим случаем, не смогла объяснить.
Зависть также была ей не чужда. Она тайно завидовала Клементине – девушке, которая когда-то была папиной женой, чья могила находилась рядом с его могилой – на холме под спиреями, – завидовала из-за мамы. Когда-то папа принадлежал Клементине. Возможно, сейчас он снова принадлежит ей. Временами Мэриголд просто тонула в этой глупой зависти. Когда она заходила в комнату Старшей бабушки и видела на стене красивую фотографию Клементины, она ненавидела её. Она хотела подпрыгнуть, сорвать и затоптать её. Лорейн бы ужаснулась, узнай о чувствах Мэриголд. Но Мэриголд твердо хранила тайну и продолжала ненавидеть Клементину, особенно её красивые руки. Мэриголд считала, что мама почти такая же красивая как Клементина. Она всегда жалела девочек, у которых были некрасивые мамы. И у мамы – чудеснейшие ноги. Дядя Клон не раз повторял, что у Лорейн самые изящные ножки и лодыжки среди женщин, которых он знал. Но такое не слишком ценилось у Лесли. Лодыжки были запретной темой, даже если современная мода на юбки бесстыдно показывала их. Но мамины руки не были красивыми – слишком тонкими, слишком маленькими – и Мэриголд иногда просто не могла выносить руки Клементины. Особенно, когда кто-то из клана хвалил их. Старшая бабушка постоянно говорила об этом, словно чувствовала ревность Мэриголд и дразнила её.
«Я не считаю, что она такая уж красивая», – однажды не вытерпела Мэриголд.
Старшая бабушка улыбнулась.
«Клементина Лоуренс была красавицей, моя милая. Вовсе не невзрачной малышкой, как… как её сестра из Хармони».
Но Мэриголд почувствовала, что Старшая бабушка хотела сказать «как твоя мать», и возненавидела Клементину и её руки, и её неувядающую белую лилию еще сильнее, чем прежде.
Скорбь? Горе? Конечно, её сердце почти разбилось, когда умер любимый серый котёнок. До этого момента она и не представляла, что кто-то, кого она любила, может умереть. «Вчера уходит на небеса, мама?» – скорбела она на следующий день.
«Я… я думаю, да», – ответила мама.
«Тогда я не хочу отправляться на небеса, – зарыдала Мэриголд. – Не хочу снова встретить этот ужасный день».
«Вероятно, тебе придется встретить еще более ужасные дни, чем этот», – последовало успокоительное замечание Младшей бабушки.
Что касается страха, разве не всегда она была с ним знакома? Однажды её заперли в тёмной, закрытой ставнями гостиной за то, что она закапала сладким пудингом лучшую скатерть Младшей бабушки. Она не могла понять, как такая маленькая капля пудинга могла заполнить такую большую территорию. Но она вошла в ту комнату – страшную, с жуткими полосами света и тени. Прижалась к двери и в полумраке увидела ужасную картину. До своего последнего дня Мэриголд верила, что так всё и было. Стулья в комнате вдруг пустились в пляс вокруг стола вслед за большим плетёным из конского волоса креслом-качалкой. И каждый раз, когда это кресло галопировало мимо, оно кланялось ей с ужасающе преувеличенной вежливостью. Мэриголд так дико завопила, что к ней тотчас примчались домочадцы и увели её – возмущённые, что она не способна вынести столь лёгкое наказание.
«В ней заговорили Уинтропы», – едко заметила Младшая бабушка.
Лесли и Блейсделлы обладали большей бодростью духа. Мэриголд никогда никому не рассказывала, что так напугало её. Она знала, что ей не поверят. Но прошли годы, прежде чем она смогла входить в ту гостиную без дрожи, и скорей бы умерла, чем села в то плетёное кресло-качалку.
Она не была злопамятной, кроме, разве что, случая с куклой Скиннеров. Это произошло в конце августа. Мать Мей Кемп пришла убирать яблочный амбар, а Мей пришла вместе с ней. Мей и Мэриголд какое-то время дружно играли в домике для игр среди смородиновых кустов – в прекрасном домике, в котором можно было сидеть и есть рубиновые ягоды прямо со стен – а затем Мей сказала, что ей хотелось бы хоть одним глазком взглянуть на куклу Скиннеров. Мэриголд отважно отправилась в садовую комнату спросить Старшую бабушку, можно ли Мей посмотреть на куклу. Она обнаружила Старшую бабушку спящей, на самом деле спящей, а не притворяющейся, что спит, как она иногда делала. Мэриголд повернулась, чтобы уйти, когда её взгляд упал на Алисию. Почему-то та выглядела так мило и привлекательно – как будто просила чуть-чуть развлечь её. Мэриголд в порыве подбежала к стеклянному ящику, открыла дверь и достала Алисию. Она даже вытащила туфлю, которую та столько лет держала в руке, и надела на давно ожидающую ножку.
«Какая ты смелая!» – восхищенно сказала Мей, когда Мэриголд появилась среди красной смородины с Алисией в руках.
Но Мэриголд вовсе не чувствовала себя смелой, когда Саломея, грозная и величественная, в новом фиолетовом платье, подпоясанном белым фартуком, появилась перед ними и потащила её в комнату Старшей бабушки.
«Мне следовало догадаться, отчего они затихли, – сказала Саломея, – Эти двое с Нею на стуле, как на троне, подающие Ей красную смородину на листьях салата и целующие Её руки. А на Её голове корона из цветов. И обе Её туфельки надеты. Хоть стой, хоть падай. Её, которую никогда не вынимали из этого стеклянного ящика за всё время, что я живу в Еловом Облаке».
«Почему ты так поступила?» – спросила Старшая бабушка.
«Ей очень хотелось, чтобы ее полюбили, – всхлипнула Мэриголд. – Её так давно никто не любил».
«Ты могла подождать, пока я умру, прежде чем соваться к ней. Она будет твоей, тогда и люби её, сколько захочешь».
«Но ты будешь жить вечно, – вскричала Мэриголд. – Лазарь так сказал. А я ничем ей не навредила».
«Ты могла разбить её вдребезги».
«О, нет, нет. Как я могла навредить ей, я ведь люблю её».
«Я в этом не уверена», – пробормотала Старшая бабушка, она всегда говорила такие вещи, которые Мэриголд должна была понять лишь двадцать лет спустя.
Но Старшая бабушка очень рассердилась и постановила, что Мэриголд будет три дня завтракать, обедать и ужинать на кухне. Мэриголд горько обиделась. В этом было что-то особенно унизительное. Как раз один из тех случаем, когда Бог всё устраивает так, что никто не знает, что ты думаешь.
Тем вечером, когда Мэриголд ложилась спать, она намеревалась произнести не все свои молитвы. Исключить ту часть, где она благословляла Старшую бабушку. «Благослови маму и Младшую бабушку, и Саломею». Мэриголд сказала это и легла в постель, старательно поставив под кровать свои туфельки рядом друг с другом, чтобы им не было одиноко. Она делала так каждый вечер. Она не могла сомкнуть глаз, если туфли стояли отдельно, скучая друг о друге всю ночь.
Но она не смогла заснуть. Тщетно пыталась. Тщетно считала овец, прыгающих через изгородь. Они не хотели прыгать. Они отворачивались от изгороди и корчили ей гримасы – плохой девчонке, которая не помолилась о своей старой бабушке. Целый час Мэриголд упрямо боролась с родовой совестью, затем встала, преклонила колени и сказала: «Пожалуйста, благослови маму и Младшую бабушку, и Саломею и всех, кому нужно благословение».
Конечно, это относилось и к Старшей бабушке. И конечно, теперь она могла заснуть. Но конечно же, не смогла. На этот раз она сдалась через полчаса. «Пожалуйста, благослови маму и Младшую бабушку, и Саломею… и можешь благословить Старшую бабушку, если захочешь».
Какая досада. Она не продвинулась ни на дюйм.
Пятнадцать минут спустя Мэриголд снова стояла на коленях.
«Пожалуйста, благослови маму и Младшую бабушку, и Саломею, и Старшую бабушку, во имя Иисуса, аминь».
Овечки запрыгали. Все быстрей, быстрей и быстрей – словно длинный белый поток – Мэриголд заснула.
7
В небе зажглись звёзды. Мэриголд обожала смотреть на них – хотя, когда увидела их впервые в жизни, очень испугалась. Однажды она проснулась в машине, когда дядя Клон привез их с мамой домой после визита в Южный Хармони. Она увидела над собой тьму небес и взвизгнула.
«Ой, мамочка, небо сгорело, остались только искорки».
Как все они тогда смеялись, и как ей было стыдно. Но с тех пор дядя Клон рассказал ей кое-что о звездах, и теперь она знала их имена, Бетельгейзе и Ригель, Саиф и Алнита, хотя и не умела их произносить. Ах, весна была чудесным временем, когда гавань трепетала и мерцала всеми оттенками синевы, и сад сверкал фиалками, а ночи казались звёздной паутиной.
Но и другие времена года были хороши. Лето, когда на склонах краснела земляника, капли дождя в чашах диких роз были так сладки, повсюду царил слабый аромат скошенной на лужайке травы, и полная луна красиво расчерчивала тени в саду, а за гаванью огромные поля маргариток белели как снег.
Но больше всего Мэриголд любила осень. Дедушка Ветер из её любимой сказки дул в свою трубу над гаванью, блестящие чёрные вороны сидели рядами на заборах, жёлтые листья падали с осин на зелёные ворота, а по утрам в саду на траве шелковилась изморозь. По вечерам так вкусно пахло горелыми листьями, что сжигал в кострах Лазарь, а на холме на фоне тёмных сосен краснели вспаханные поля. И однажды, уснув среди тусклого скучного мира, вы просыпаетесь в чудесно-белом. Прикоснувшись в ночной темноте, зима преображала мир.
Мэриголд любила и зиму с её загадочной тишиной залитых лунным светом полей и колдовством ветреных небес. Огромные таинственные чёрные кошки пробирались через сумрачные прогалины, где тени от деревьев были прекрасней, чем сами деревья, а стога во дворе мистера Донкина походили на седых горбатых стариков. Пастбища, что зеленели и золотились в июне, становились холодно-белыми, а над снегом торчали цветы-призраки. Мэриголд всегда жалела эти мёртвые стебельки. Она хотела шепнуть им: «Весна придет».
Утренние часы зимой были интересными, потому что завтрак проходил при свечах. Хороши были и зимние вечера, когда ветер завывал снаружи, намереваясь пробраться в Еловое Облако. Он царапался в двери – визжал в окна, даря Мэриголд маленькие чудесные страхи. Но никогда не проникал внутрь. Как приятно сидеть в тёплой светлой комнате, с кошками, греющими меховые бока у камина, слушая милое урчание прялки Саломеи из кухни. А затем свернуться в постели под мягким нежным одеялом в маленькой комнате рядом с маминой, со сладкими сонными поцелуями, и слушать ветер снаружи. Да, мир был прекрасным местом для жизни, даже если дьявол иногда похищал людей, которые бранились.
Глава 4. Мэриголд наносит первый визит
1
Впервые за свою короткую жизнь Мэриголд собиралась нанести «настоящий», как она его называла, визит. То есть, она отправлялась с ночёвкой к дяде Полу, без мамы или Младшей бабушки. В этом для Мэриголд и заключалась «настоящность». Визиты с бабушкой были заманительными, и визиты с мамой тоже заманительными и приятными, но поездка куда-то вот так, одной, давала ощущение взрослости и приключения.
Кроме того, она никогда не бывала у дяди Пола, а там было на что посмотреть. «Водяной сад» – увлечение дяди Пола, о котором много судачили в клане. Мэриголд совершенно не понимала, что это такое, «водяной сад». А еще – чучела колибри. И самое заманительное из всего, конечно же, скелет в шкафу. Она слышала, как дядя Пол говорил о нём, и очень надеялась, что ей удастся хоть одним глазком взглянуть на него.
Дядя Пол не являлся с-того-бергом, поэтому не был облечен той романтикой, как те, что обитали в Таинственной Земле. Он просто жил на берегу залива, но в шести милях от Елового Облака, так что поездка туда становилась настоящим «путешествием». Мэриголд нравился дядя Пол, хотя она немного побаивалась тетю Флору, и ей нравился Фрэнк.
Фрэнк являлся младшим сводным братом дяди Пола. У него были кудрявые чёрные волосы и «романтичные» серые глаза. Мэриголд слышала, как тетя Нина так говорила о нём. Она не знала, что означает романтичные, но ей нравились глаза Фрэнка. У него была приятная ленивая улыбка и мягкий тягучий голос. Мэриголд слышала, что он собирается жениться на Хильде Райт. А позже слышала, что не собирается. А еще позже, что он продал свою ферму и собрался уехать куда-то в загадочную страну под названием «Запад». Лазарь говорил Саломее, что он уезжает, потому что Хильда бросила его.
Мэриголд не знала, что означает «бросила», но ненавидела Хильду за то, что она сделала это с Фрэнком. Впрочем, Хильда ей никогда не нравилась, пусть и, будучи Блейсделл, являлась какой-то дальней родственницей со стороны прабабушки. Хильда была бледной симпатичной девушкой с каштановыми волосами и ртом, который совсем не нравился Мэриголд. Упрямый и злой рот. Хотя очень милый, когда она смеялась. Мэриголд почти нравилась Хильда, когда та смеялась.
«Оне слишком упрямые, эта парочка, – сказал Лазарь Саломее. – Хильда говорить Фрэнк должен сказать первым, а Фрэнк говорить, чёрт с два он так делать».
Мэриголд жалела, что Фрэнк собирается на Запад, который, как она представляла, был чем-то «за пределами времени и пространства», и с нетерпением ждала встречи с ним. Он покажет ей чучела колибри и водяной сад, и она надеялась, что сможет уговорить его, чтобы он позволил взглянуть на скелет в шкафу. И посадит её на колени и расскажет смешные истории; а может даже покатает в своем новом экипаже, в который запряжена маленькая чёрная кобыла Дженни. Мэриголд считала, что это намного веселей, чем кататься в машине.
Конечно, ей было жаль оставлять маму даже на одну ночь, и жаль покидать своего нового котёнка. Но настоящий визит! Целую неделю Мэриголд с восторгом и нетерпением ждала его и мысленно переживала.
2
Всё оказалось ужасным-ужасным. Ничего хорошего с самого начала, кроме, разве что, подъёма на гору с дядей Клоном и тетей Мэриголд по лесной дороге в папоротниковых ароматах тёплого летнего дня. Но как только они оставили её там, всё стало ужасным. Мэриголд не подозревала, что скучает по дому, но чувствовала себя несчастной с головы до ног, а всё вокруг приносило только разочарование. Что хорошего в чучелах колибри, если не с кем о них поговорить? Даже водяной сад был ей неинТерезен, и нигде не находилось никаких признаков скелета. Что касается Фрэнка, то он оказался наихудшим разочарованием. Он едва обратил на неё внимание. А как он изменился – стал таким грубым и неулыбчивым. И у него были ужасные маленькие усики, как пятно сажи над верхней губой. Именно из-за этих усиков он поссорился с Хильдой, хотя никто, кроме них самих, не знал об этом.
Мэриголд почти ничего не съела за ужином. Она давилась каждым глотком. Она лишь откусила два кусочка орехового пирога со взбитыми сливками, и тетя Флора, которая испекла пирог специально для Мэриголд, так и не простила ей этого. После ужина она вышла на улицу и одиноко прислонилась к калитке, задумчиво глядя на длинную таинственную красную дорогу, что вела обратно домой. Ах, если бы она была дома, с мамой. Западный ветер, шелестящий в травах – вечерняя песня малиновки – длинные тени деревьев, пересекающие пшеничное поле – всё горестно напоминало ей, что мамы нет рядом.
«Всё всегда не такое, каким его представляешь», – мрачно думала она.
Дома бы тоже закончился ужин. Бабушка ткала бы наверху, а Саломея поила бы кошек молоком, а мама… Мэриголд побежала к тёте Флоре.
«Тётя Флора, мне нужно домой, прямо сейчас, пожалуйста, пожалуйста!»
«Ерунда, дитя мое, – сухо ответила тетя Флора, – не нужно волноваться понапрасну».
Мэриголд удивлённо подумала, отчего прежде не замечала, что у тети Флоры нос похож на клюв.
«О, пожалуйста, отвезите меня домой», – в отчаянии умоляла она.
«Ты не можешь поехать домой сейчас, – раздраженно сказала тётя Флора. – Машина неисправна. Не расстраивайся. Думаю, ты устала. Тебе лучше пойти спать. Фрэнк отвезет тебя домой завтра, если не будет дождя. Давай-ка, дома ты же ложишься спать в семь, не так ли?»
«Дома ложишься спать в семь». Дома… в свою кровать, когда из маминой комнаты светит лампа, а милый золотой пушистый комочек устраивается и урчит рядом, пока не засыпает в ногах. Без всего этого было невыносимо.
«О, я хочу домой. Я хочу домой», – зарыдала она.
«Терпеть не могу слушать такую чушь», – отрезала тетя Флора. Она была известна своей строгостью с детьми.
«Ты что, хочешь прослыть ревой? Я отведу тебя в спальню и помогу раздеться».
3
Мэриголд лежала одна в огромной комнате на огромной, слишком высокой кровати. Она сходила с ума от страха и невыносимого одиночества. Было темно и эту темноту можно было почувствовать. Прежде она никогда не ложилась спать в темноте. Всегда с дружеским светом из маминой спальни, а иногда мама оставалась с нею, пока она не заснет, хотя Младшая бабушка не одобряла этого. Мэриголд побоялась попросить тетю Флору не гасить свет. Тетя Флора уложила её и пожелала быть хорошей девочкой.
«Закрой глаза и засыпай, и не заметишь, как настанет утро, и ты можешь поехать домой».
Затем она вышла и закрыла дверь. Тетя Флора льстила себе, когда утверждала, что знает, как обращаться с детьми.
Мэриголд не могла заснуть в темноте. Пройдут годы и годы, пока наступит утро – если вообще наступит.
«Никто здесь не любит меня», – в отчаянии думала она.
Медленно тянулись мрачные бесконечные часы, хотя для Мэриголд они казались веками. Должно же когда-нибудь наступить утро.
Как же завывал ветер снаружи! Дома Мэриголд любила ветер, особенно в такое время года, когда её уютная кроватка казалась ещё уютнее. Но это был какой-то страшный ветер, который Лазарь называл «ветром призраков».
«Он дует в такой время, когда мертвяки выходить из могила на чуть-чуть погулять», – говорил он ей.
Наверно, сейчас именно такое время? А люк в потолке, который увидела Мэриголд перед тем, как тетя Флора погасила свет? Лазарь рассказывал ей жуткую историю про страшное лицо «с длинный волосатый ухо», смотрящее на него из люка.
В комнате был шкаф. Не тот ли шкаф, в котором спрятан скелет? Вдруг дверь откроется, и он выпадает оттуда. Или выйдет. Наверно, загремят кости – дядя Пол говорил, что они иногда гремят. А ещё она слышала, что у дяди Пола в амбаре живет домашняя мышь! Вдруг он принес её в дом на ночь? И она бродит вокруг! Не она ли там что-то грызет?
Увидит ли Мэриголд когда-нибудь свой дом? А если мама умрёт до утра? Или дождь будет лить всю неделю, и они не смогут отвезти её домой? Она знала, как тётя Флора ненавидит пачкать грязью свою новую машину. Кажется, загремел гром?
По длинному мосту через Ист-Ривер прошёл товарный поезд, но Мэриголд не знала этого. Она знала, что сейчас закричит – знала, что не вынесет больше ни минуты в этой чужой кровати в тёмной комнате, полной призраков. Что там такое? Кто-то скребётся в окно. Ах, да, история Лазаря о чёрте, который пришел забрать плохого ребёнка и царапает по оконному стеклу, чтобы его впустили. Потому что этот ребёнок не прочитал молитву. А Мэриголд не прочитала свою. Она слишком скучала по дому и страдала, чтобы вспомнить об этом. Она не могла произнести её сейчас, но могла сесть на кровати и завопить как сумасшедшая. Так она и сделала.
4
Дядя Пол и тётя Флора, едва заснув после тяжелого трудового дня, проснулись и побежали вниз. Увидев их, Мэриголд замолчала.
«Девчонка дрожит, наверно, замерзла», – сказал дядя Пол.
«Я не замерзла, – сказала Мэриголд, стуча зубами. – Но мне нужно домой».
«Мэриголд, будь разумной девочкой, – строго сказала тетя Флора, – Сейчас одиннадцать часов. Ты не можешь ехать домой. Может быть, ты хочешь изюма?»
«Я хочу домой», – повторила Мэриголд.
«Кто здесь тревожит чёрта?» – спросил Фрэнк, входя. Он услышал вопли Мэриголд, когда собирался лечь спать. «Вот тебе, сестрица, шоколадная мышка. Съешь её и замолчи».
Чудесная коричневая шоколадная мышка с мягкой молочной начинкой, одна из любимых сладостей в обычное время. Но сейчас она напоминала о мифической крысе дяди Пола.
«Я не хочу её – я хочу домой».
«Может быть, ей принести котёнка», – в отчаянии предложил дядя Пол.
«Я не хочу котёнка, – завопила Мэриголд. – Я хочу домой».
«Я дам тебе разноцветное блюдо для яиц, если будешь вести себя тихо до утра», – взмолилась тётя Флора, теряя свою строгость.
«Я не хочу разноцветное блюдо. Я хочу домой».
«Хорошо, иди, – сказал дядя Пол, потеряв терпение с этим несносным ребёнком. – Дорога открыта».
Но тётя Флора поняла, что Мэриголд находится на грани истерики, и её строгость спасовала перед перспективой успокаивать рыдающее дитя. Она и так не одобряла прихоть дяди Пола привезти к ним ребёнка. Так мог поступить только Уинтроп.
«Я думаю, пусть лучше Фрэнк запряжёт повозку и отвезёт её домой. Она может заболеть от плача».
«Она большая девочка, и мне стыдно за неё», – сказал дядя Пол, сдаваясь. Эта фраза должна была бы терзать душу Мэриголд, но сейчас она думала лишь о том, что дядя Пол отправил Фрэнка идти и запрягать.
«Что ж, приехали», – проворчал Фрэнк.
Тётя Флора помогла рыдающей Мэриголд одеться. Дядя Пол был так рассержен, что даже не попрощался с нею. Тетя Флора попрощалась очень сухо. Когда мама целовала Мэриголд на прощание, она прошептала: «Когда поедешь домой, не забудь поблагодарить тетю Флору за прекрасное время, что ты провела у неё». Но сейчас это не казалось правильным, и Мэриголд не сказала ничего.
«Прекрати реветь, – приказал Фрэнк, усаживая Мэриголд в повозку. – Ей-богу, я восхищаюсь Иродом».
Фрэнк был ужасно зол. Он целый день работал в поле, и не планировал поездку длиной в двенадцать миль ради прихоти глупого ребёнка. Боже, сколько хлопот с этими детьми. Он был рад, что у него нет детей. Мэриголд с трудом справилась с рыданиями. Она ехала домой. Все прочее не имело значения. Фрэнк тронул свою чёрную кобылу и не сказал больше ни слова, но Мэриголд было все равно. Она ехала домой.
На полпути они свернули на углу у школы, и впереди показался дом Мартина Ричарда, маленький старый белый дом с высокими тополями, стражами, стоящими на каждом углу, и изгородью из розовых кустов вдоль короткой дорожки.
«Смотри, Фрэнк, – воскликнула Мэриголд, – что там, с этим домом?»
Фрэнк взглянул, закричал «Боже мой!», остановил кобылу, спрыгнул с повозки, забежал во двор и принялся стучать в дверь. Окно наверху открылось, Мэриголд увидела девушку, выглянувшую из него. Это была Хильда Райт, она, должно быть, осталась ночевать у своей кузины Джин Ричардс. Фрэнк тоже увидел её.
«Дом горит, – закричал он. – Поднимай всех, быстро. Не теряй времени!»
Прошли сумасшедшие полчаса – самые заманительные полчаса. К счастью, кобыла Фрэнка была приучена стоять на месте, и Мэриголд сидела в повозке, жадно взирая на происходящее. Дом вдруг вспыхнул огнями. Люди выскочили за ведрами и лестницами. Гигантские причудливые тени заметались по двору в свете фонаря. Собаки надрывались от лая. Все было очень «заманительно». Пожар скоро потушили. Крыша кухни загорелась от искры. Но когда все закончилось, Мэриголд увидела Фрэнка и Хильду, стоящих рядом под одним из тополей.
Мэриголд сидела в повозке и радовалась внезапному порыву ветра. Вечер не был ветреным, но прохладным и звездным. Какими яркими были звёзды. Мэриголд хотела было посчитать их, но не осмелилась. Лазарь говорил ей, что, если пытаться сосчитать звезды, то можно упасть замертво. Возможно, где-то, звезда падала к вашим ногам. Возможно, много звёзд. Возможно, вы гонялись за звёздами по лугам, по холмам, по дюнам. Пока не набирали полные пригоршни.
Фрэнк и Хильда сели вместе в повозку. Хильда держала в руках маленький фонарь, и красный шёлковый шарф пылал у её лица, словно алое пламя. Она больше не злилась и улыбалась. И Фрэнк тоже.
«И ты всё это время сидела здесь одна и молчала. А Дженни даже не сдвинулась. Да ты, оказывается, смелая девочка. Не удивляюсь, что ты скучала по дому и боялась в этом огромном сарае, который Флора называет комнатой для гостей. Доставлю тебя домой в один миг. Спокойной ночи, милая».
«Милая» относилось к Хильде, которая, после поцелуя Фрэнка, наклонилась и пожала руку Мэриголд.
«Я рада, что ты скучала по дому, – прошептала она, – Но, надеюсь, ты больше не будешь скучать».
«Мне кажется, Фрэнк теперь не поедет на Запад», – прошептала Мэриголд.
«А если поедет, то я поеду вместе с ним, – прошептала Хильда. – С ним я поеду хоть на край света».
«Давай-ка, дорогая, ты простудишься, – решительно прервал их Фрэнк. – Беги в дом и ложись спать. Я приду завтра вечером. А теперь мне нужно доставить эту куколку домой. Сегодня она своими капризами спасла дом твоего дяди».
Фрэнк был так мил, так весел и забавен всю дорогу, что Мэриголд почти жалела, когда они приехали. В Еловом Облаке все спали, кроме мамы. Она сразу же вышла и обняла Мэриголд, слушая рассказ Фрэнка, по крайней мере, ту часть, которую он решил рассказать. Он ничего не сказал о Хильде, но крепко обнял Мэриголд на прощание и вложил ей в руку две шоколадных мышки.
«Могу поспорить, ты съешь этих ребят в один присест», – сказал он.
Мэриголд, в уюте своей милой кроватки, с котёнком в ногах, съела своих мышей и заснула, гадая, оказался ли Фрэнк «чёрт с два», ведь он, в конце концов, заговорил первым.
Глава 5. Дверь, которую люди зовут Смерть
1
В конце концов Старшая бабушка так и не прожила свои сто лет – к большому разочарованию всего клана, который всегда мечтал о возможности похвастаться, что один из них «отмерил целый век». У МакАллистеров с-того-берега имелась столетняя тетушка, и они кичились этим. Было невыносимо думать, что они, будучи здесь почти новичками – всего каких-то три поколения после отъезда из Шотландии, – хоть в чем-то превзошли Лесли, которые покинули те земли уже пять поколений назад.
Но Смерть не волновало соперничество кланов, и так или иначе, но даже «воля к жизни» Старшей бабушки не могла бесконечно поддерживать её. Она слегла после своего девяносто восьмого дня рождения, и все считали, что вряд ли дотянет до следующей весны, все, кроме Мэриголд, которая не сомневалась, что Старшая бабушка будет жить вечно. Но, ко всеобщему удивлению, к весне Старшая бабушка окрепла.
«Может быть, она еще оправится», – сказала миссис Кемп Саломее.
Та покачала головой.
«Нет, она уходит. Это последняя вспышка свечи. Жаль, что она не доживет до ста. Обидно, что старая Кристин МакАллистер, глухая и слепая, с рассудком десятилетнего дитя, прожила сто лет, в то время как наша Лесли, сохранив все способности, умирает в девяносто девять».
Мэриголд, стоя возле двери в прачечную, затаила дыхание. Неужели Старшая бабушка собирается умирать – разве такое возможно? Не может быть. Этого не может быть. Мэриголд показалось, что земля уходит из-под ног. Не то, чтобы она чувствовала какую-то особенную любовь к Старшей бабушке. Просто бабушка принадлежала к тем Вещам, Которые Существуют Всегда. Страшно, когда одна из Вещей, Которые Существуют Всегда, исчезает. Это заставляет думать, что нет ничего, на что можно положиться.
К следующей субботе, попривыкнув к этой мысли, Мэриголд отправилась почитать стихи Старшей бабушке. Бабушка возлежала на своих розовых подушках, яростно вывязывая голубую кофту для новорожденного правнука с Берега. Взгляд её был как всегда ясен и пронзителен.
«Садись. Я не могу слушать твои стихи, пока не закончу считать».
Мэриголд села и уставилась на невест. Она не хотела смотреть на портрет Клементины, но пришлось. Она не могла оторвать от неё глаз. Мэриголд сжала кулаки и стиснула зубы. Ненавистная, ненавистная Клементина, чьи руки красивей, чем руки её мамы. И эта бесконечная мечтательная улыбка, обращенная к лилии, словно всё остальное неважно. Будь у неё хотя бы такая же, смущенная, как у прочих невест, улыбка, Мэриголд, возможно, ненавидела бы её не так сильно. Их волновало, что другие люди думают о них. Клементину – нет. Она была слишком уверена в себе, в том, что у неё есть отец, в том, что идеально красива, ни на секунду не задумываясь о чьём-либо мнении. Она знала, что никто не сможет удержаться, чтобы не взглянуть на неё и восхититься ею, даже если и ненавидит её. Мэриголд оторвала взгляд от Клементины и пристегнула его к картинке ангела над бабушкиной кроватью – лучезарное существо с длинными белыми крыльями и ореолом золотых кудрей, свободно парящее в закатных небесах. Неужели Старшая бабушка собирается умирать? А если умрёт, будет ли она такой же? Мэриголд имела смелое маленькое воображение, но и оно споткнулось на этой мысли.
«О чем ты думаешь?» – спросила Старшая бабушка так внезапно и резко, что Мэриголд озвучила свой мысленный вопрос прежде, чем успела остановиться.
«Вы станете ангелом, когда умрёте, мэм?»
Старшая бабушка вздохнула.
«Полагаю, что да. Как это угнетает меня. Кто сказал тебе, что я собираюсь умирать?»
«Никто, – промямлила Мэриголд, понимая, что натворила. – Только… только…»
«Рассказывай», – приказала бабушка.
«Миссис Кемп сказала, что ей жаль, что вы не сможете дожить до ста лет, а старая Крис МакАллистер смогла».
«С каких это пор, – сурово поинтересовалась Старшая бабушка, – Лесли стали соперниками МакАллистерам? МакАллистерам! И кто же это полагает, что Крис МакАллистер жила эти десять лет? Да она была мертвее, чем буду я, пролежав под землей целую сотню! По правде говоря, она никогда живой и не была. А что касается меня, я не собираюсь умирать, пока не буду полностью готова. Во-первых, я намерена закончить эту кофточку. Что там ещё сказала миссис Кемп? Не то, чтобы это меня волновало. Мне больше не любопытна жизнь. Сейчас мне интересна только смерть. Однако, она всегда была забавной старой чертовкой».
«Она больше ничего не говорила, только, что малыш Лоусон не жилец, у миссис Грей с-того-берега – рак, а у молодого Сэма Марра – аппендицит».
«Забавная сплетница. Прошлой ночью мне приснилось, что я отправилась на небеса и увидела там старого Сэма Марра. Это так взбесило меня, что я проснулась. Не хватало только старого Сэма Марра на небесах».
Старшая бабушка яростно потрясла вязальной спицей перед съёжившейся маленькой невестой, которая, казалось, почти исчезла в облаках тюля и атласа, что обвивались вокруг неё.
«Почему вы не хотите, чтобы он оказался на небесах?» – спросила Мэриголд.
«Сама не знаю. Я всегда неплохо к нему относилась. Разве что, он не может принадлежать небесам. Ему там нечего делать».
Мэриголд с трудом представляла и саму Старшую бабушку «принадлежащей» небесам.
«Вы бы не хотели, чтобы он попал в… другое место».
«Конечно, нет. Бедный безобидный глупый старина Сэм. Вечно всюду плюющий табачной слюной. Единственное, чем он мог бы гордиться, так это умением плеваться. Там должно быть какое-нибудь среднее место, ни то ни се… Разве что, – добавила бабушка с усмешкой, – если бы такое место существовало, большинство из нас попало бы именно туда».
Она провязала целый ряд рукава кофточки, прежде чем продолжила свою речь. Мэриголд провела это время, ненавидя Клементину.
«Мне было жаль, когда старина Сэм Марр умер, – вдруг сказала бабушка. – Знаешь почему? Он был последним из живых, кто помнил меня молодой и красивой».
Мэриголд посмотрела на Старшую бабушку. Неужели эта безобразная старушка когда-то была молодой и красивой? Старшая бабушка поймала скепсис в её взгляде.
«Ты не веришь в это. Так знай же, дитя, у меня были золотисто-рыжие волосы, а моим рукам завидовал весь клан. Мужчины из семьи Лесли никогда не женятся на некрасивых женщинах. Некоторые из нас были дурами, другие – мегерами, но мы никогда не уклонялись от главной женской обязанности – радовать мужской взгляд. Не сомневайся, мужчины Лесли знали, как выбрать жену. Иди сюда и дай посмотреть на тебя».
Мэриголд подошла и остановилась возле кровати. Старшая бабушка взяла её за подбородок костлявой рукой, подняла её лицо и внимательно осмотрела.
«Гм-м. Волосы Уинтропов, слишком светлые, но могут потемнеть… голубые глаза Лесли, уши Блейсделлов… пока рано говорить, чей у тебя нос… мой цвет кожи. Ладно, слава Богу, не думаю, что на тебя будет жутко смотреть».
Старшая бабушка хихикнула, как она всегда делала, когда могла сказать что-нибудь по-современному. Мэриголд ушла, повеселев. Она была уверена, что Старшая бабушка не собирается умирать.
2
Бабушке становилось всё лучше и лучше. Она сидела на кровати и вязала. Она встречала каждого, кто приходил к ней и разговаривала со всеми. Она вела долгие беседы с Люцифером. Она не разрешила Младшей бабушке сшить новое шёлковое платье без высокого воротника. Она вызвала Лазаря и отчитала его за то, что тот напился и поставил жене синяк под глазом.
«Она не помрёт еще двадцать лет, – сказал обиженный Лазарь. – Там ей нет свободный место».
Тетя Гарриет в Шарлоттауне устроила вечеринку в честь сестры своего мужа, и Младшая бабушка и мама отправлялись туда на машине дяди Клона. Поездка могла затянуться до трёх часов ночи, но Саломея оставалась дома, и Старшая бабушка чувствовала себя удивительно хорошо и бодро. Но в последний момент Саломею вызвали к умирающей тёте в Южный Хармони. Младшая бабушка, облаченная в шёлковое великолепие, и мама, похожая на тонкую лилию в зелёном крепе, с румянцем на лице, пришли в садовую комнату.
«Конечно, теперь мы не можем ехать», – с сожалением сказала Младшая бабушка. Она хотела поехать, упомянутая сестра мужа была её подругой детства.
«Почему не можете? – спросила Старшая бабушка. – Я закончила кофточку и собираюсь умереть сегодня в три часа утра, но это не причина, отказаться от поездки на вечеринку, правда? Конечно, поезжайте. Не думайте оставаться дома из-за меня».
Младшая бабушка не очень-то обеспокоилась по поводу предсказания Старшей бабушки. Просто это была одна из её характерных фраз.
«Ты хорошо себя чувствуешь?» – спросила она для порядка.
«Когда я совершенно здорова, со мной ничего не случится, – загадочно объявила Старшая бабушка. – Нет никакого резона оставаться дома из-за меня. Если мне что-то понадобится, Мэриголд может принести мне. Надеюсь, вы хорошо поужинаете. Не ждите многого от Гарриет. Она считает, что оставлять своих гостей голодными – значит жить простой жизнью. И она всегда наполняет чашки до краев, чтобы не было места для сливок. Гарриет может растянуть один кувшин сливок дольше, чем любая хозяйка, из тех, кого я знаю».
«Мы едем туда не для того, чтобы наесться», – торжественно заявила Младшая бабушка.
Старшая бабушка хихикнула.
«Разумеется, нет. Во что бы то ни стало, поезжайте. Я хочу услышать всё об этой вечеринке. Это будет забавно. Сейчас я предпочитаю, чтобы меня забавляли, чем любили. Обратите внимание, будут ли Грейс и Марджори разговаривать друг с другом. И выщипала ли брови Кэтлин Лесли. Я слышала, она собиралась это сделать, когда ездила в Нью-Йорк. И если Луиза наденет то жуткое розовое жоржетовое платье с зелёными червяками, как-нибудь попытайтесь пролить на него кофе».
«Если ты считаешь, что нам лучше не ехать…» – начала Младшая бабушка.
«Мэриан Блейсделл, если вы немедленно не покинете эту комнату, я брошу в вас чем-нибудь. Клон уже сигналит. Вы же знаете, что он не любит ждать. Идите отсюда, обе, и пришлите сюда Мэриголд. Она посидит здесь и составит мне компанию, пока не пойдет спать».
Старшая бабушка проводила Младшую бабушку и маму пытливым взглядом.
«Ей ненавистна мысль, что я умираю, потому что она больше не будет Младшей бабушкой. Это повышение, к которому она вовсе не стремится, – сказала она Мэриголд, которая с неохотой вошла в комнату. – Возьми свою книжку с картинками, дитя, и садись. Я хочу немного подумать. Мне нужно кое-что рассказать тебе попозже».
«Да, мэм». Мэриголд всегда говорила: «Да, мэм» Старшей бабушке и «Да, бабушка» – Младшей. Она села покорно, но нехотя. Был чудесный весенний вечер, и Сильвия ждала её у Зелёной калитки. Сегодня вечером они планировали новое особенное волшебство у Белого фонтана. А теперь придется провести весь вечер, сидя здесь со Старшей бабушкой, которая даже не разговаривает, а лежит там с закрытыми глазами. Не уснула ли она? Если бы так, нельзя ли ей, Мэриголд, на минутку сбегать в сад к зелёной калитке, чтобы сообщить Сильвии, почему она не сможет прийти. Иначе Сильвия может не понять. Волшебная дверь была открыта прямо возле её стула – она могла проскользнуть через неё и тотчас вернуться.
«Вы спите, мэм?» – осторожно прошептала она.
«Замолчи. Конечно, я сплю», – отрезала Старшая бабушка.
Мэриголд вздохнула и смирилась. Кто знает, что теперь сделает Сильвия. Возможно, больше не придёт. Мэриголд ещё никогда не пропускала встреч с нею. Она тихо повернула стул так, чтобы сидеть спиной к Клементине, и стала смотреть на других невест в кринолинах и украшенных цветами шляпках шестидесятых, турнюрах и полонезах восьмидесятых, пышных рукавах и юбках-колоколах девяностых, узких юбках и огромных шляпах десятых. Разумеется, Мэриголд ничего не знала о соответствующих датах. Они все принадлежали тому легендарному времени, когда её ещё не было, когда люди носили всякие дурацкие наряды. Единственной, кто не был смешон, оставалась Клементина с её плечами в кружевах, гладкой прической и неувядаемой, всегда уместной лилией. Каждый раз Мэриголд возвращалась к Клементине, почему-то не в силах удержаться от этого. Это было как больной зуб, которым приходится кусать. Но она не повернётся, чтобы посмотреть на неё. Ни за что.
3
«Почему ты так смотришь на Клементину? – Старшая бабушка выпрямилась на кровати. – Хороша, не так ли? Самая красивая из всех невест Лесли. Каков цвет лица, выразительность, и очаровательный жест чудесных рук! Как было жаль…», – Старшая бабушка резко замолчала. Мэриголд была уверена, что она хотела сказать: «Как было жаль, что она умерла».
Старшая бабушка откинула одеяло и спустила тонкие ноги с кровати.
«Принеси мне бельё и чулки, – приказала она. – Они на верхней полке комода. И чёрное шёлковое платье, которое висит в шкафу. И прюнелевые туфли в голубой коробке. Быстрей».
«Вы же не собираетесь вставать?» – изумленно спросила Мэриголд. Она никогда в жизни не видела, чтобы Старшая бабушка вставала. Она и не предполагала, что она может встать.
«Я собираюсь встать и пойти на прогулку в сад, – сказала Старшая бабушка. – А ты просто делаешь то, что я говорю, и ни о чём не спрашиваешь. Я делала, что хотела, ещё до твоего рождения или думала об этом, и я буду делать то, что хочу сегодня. Поэтому я отправила их на вечеринку. Вперед!».
Мэриголд подпрыгнула. Она принесла бельё и чёрное платье, и прюнелевые туфли и помогла Старшей бабушке одеться. Не то, чтобы Старшая бабушка очень нуждалась в помощи. Она стояла триумфально, держась за стойку кровати.
«Принеси мой чёрный шёлковый шарф и одну из тросточек, что хранятся в старых часах. Я ходила по этой комнате каждый вечер после того, как все ложились спать – чтобы поддерживать ноги в рабочем состоянии – но я не выходила из дома уже девять лет».
Мэриголд, чувствуя себя словно во сне, принесла палку и пошла за Старшей бабушкой через Волшебную дверь по плоским ступеням. Старшая бабушка остановилась и огляделась. Луна еще не взошла, хотя, небо за соснами на холме светилось серебром. На западе за берёзами ещё виднелся тонкий меркнущий золотой росчерк. Трава покрылась холодной чистой росой. Позади яблочного амбара на кого-то оскорбленно вопила Аэндорская Ведьма.
Старшая бабушка фыркнула.
«О, этот солёный запах моря! Как приятно снова ощутить его. И яблоневый цвет. Я позабыла, какой бывает весна. Та старая каменная скамья всё ещё стоит в саду под кедром? Отведи меня туда. Я хочу увидеть еще один восход луны над соснами».
Мэриголд взяла Старшую бабушку за руку, и они пошли в сад, который Мэриголд очень любила. Это был чудесный необычный старый сад, где яблони, сосны и ели дружно росли по соседству. Между деревьями на открытых местах цвели цветы. Заросли сладкого клевера, белого и душистого; группы колокольчиков, розовых и пурпурных. Купы мяты и полыни. Большие румяные розы. Здесь витали ароматные ветра. В смородиновых кустах обитали эльфы. В старом буке устроился маленький зелёный народ.
Странное затишье ожидания было здесь, в саду, когда Мэриголд со Старшей бабушкой шли туда, где среди цветущей спиреи дрейфовал огромный раскидистый кедр. Мэриголд решила, что, видимо, цветы ждут, когда взойдет луна.
4
Старшая бабушка, кряхтя, опустилась на каменную скамью. Она сидела молча и неподвижно, слишком долго, как показалось Мэриголд. Луна взошла над соснами, и сад преобразился. Сад с цветами в лунном свете превращается в таинственное заколдованное место с чуточкой чертовщины, и Мэриголд с её впечатлительностью долгие годы ощущала это очарование, прежде чем смогла дать ему определение. Ничего такого не бывало днём. Она никогда ещё не была в саду в столь позднее время. Июньские лилии подняли свои снежные шапки. Лунный свет посеребрил каменные ступени. Запах сирени парил в чистом воздухе; за садом лежали поля, которые она знала и любила, теперь же они казались загадочными туманными пространствами лунного света. Где-то вдали мурлыкало море.
А Старшая бабушка всё ещё дремала. Видела ли она давно окаменевшие лица вновь яркими и живыми? Звучали ли в лунном саду лёгкие шаги, призывные голоса, которые лишь она могла слышать? Чьи голоса звали её из-за елей? Холодок пробежал по спине Мэриголд. Она ведь была абсолютно уверена, что они с бабушкой одни в саду.
«Итак, как ты себя чувствуешь здесь?» – наконец спросила Старшая бабушка.
«Вполне уютно», – испуганно сказала Мэриголд.











