Читать онлайн Природа зла. Сырье и государство
- Автор: Александр Эткинд
- Жанр: Популярно об истории, Публицистика
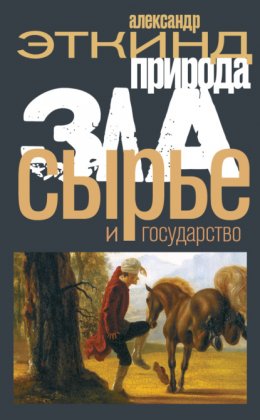
Благодарности
Я писал эту книгу среди множества других дел и благодарен им за то, что они все же дали мне ее закончить. Мне очень помогла щедрость Европейского Университетского Института во Флоренции; он хоть и не дает обычных академических отпусков, но предоставляет другие возможности и стимулы для работы. Книга росла благодаря аспирантским семинарам «Культурная история природных ресурсов» и «Демодернизация в сравнительной перспективе», а также работе над внутренним грантом ЕУИ «Ресурсы для демодернизации: Ископаемое топливо и человеческий капитал в странах Восточной Европы». Несколько когорт наших замечательных аспирантов внесли свой вклад многими вопросами и сомнениями. За поддержку моих начинаний и критику моих идей я искренне благодарен Федерико Ромеро, Регине Графе, Павлу Колажу, Дирку Мозесу и Анн Томпсон.
Эта книга начинается историей, которую я узнал от одного из самых близких и давних своих друзей Дмитрия Панченко. Менее заметен, но очень важен многолетний диалог с Олегом Хархординым. Из разных концов Европы Лиф Венар, Михаил Минаков, Каспар Шулецки и Сергей Медведев помогали мне вниманием и советом. За умелое разъяснение одного сюжета из петровских времен я благодарен Евгению Анисимову. Клим Колосов помог мне с немецкой этимологией. Для многих страниц этой книги Тимоти Митчелл был источником вдохновения, и полученное от него напутствие сыграло свою роль. Первым читателем и редактором рукописи была Мария Братищева; все пропущенные ею ошибки остаются на моей совести. В более широком плане, я навсегда благодарен Светлане Бойм, Леониду Гозману, Джею Уинтеру, Саймону Франклину, Илаю Зарецки, Нэнси Фрейзер, Максин Берг, Алайде Ассманн и Стивену Коткину: вместе с личным светом и теплом, зерна их идей проросли неисповедимыми путями. Но главные мои благодарности в самом конце книги: помещенный там короткий список литературы – это длинный перечень моих интеллектуальных долгов.
«Природа зла», моя шестая книга, которую издает «Новое литературное обозрение» – плод настоящего соавторства с издательством, которое продолжается десятилетиями. За это и многое другое я приношу глубокую благодарность моим друзьям Ирине Прохоровой и Илье Калинину, а также всему коллективу НЛО и, конечно, нашим общим читателям.
Обсуждая эти главы с моими юными сыновьями, Марком и Микой, я понял, что раньше писал о проблемах ровесников и предков, но эта книга о заботах совсем нового поколения. Ему она, значит, и посвящается.
Предисловие
Шел 33 год новой эры, хотя об этом не знал никто. В империи был неурожай, в столице финансовый кризис, в колониях беспокойство. Император Тиберий выдал банкам 100 миллионов сестерциев, чтобы те раздали ссуды землевладельцам. Хлеб только вырос в цене. «Дороговизна съестных припасов едва не привела к мятежу» в столице, – писал критически настроенный Тацит. В Иерусалиме был казнен Иисус, поднявший восстание против местных финансистов; один из его сторонников, Матвей, был сборщиком налогов. В том же году беда случилась и с богатейшим человеком империи, Секстом Марием. На его рудниках в Испании добывали серебро, золото и медь, а из них делали деньги и оружие. Секст был осужден за кровосмесительную связь с дочерью; за это его сбросили со скалы. «И чтобы ни в ком не вызывало сомнения, что его погубило богатство, Тиберий присвоил себе принадлежавшие ему серебряные и золотые рудники, хотя они подлежали передаче в собственность государства», – объяснял Тацит. В знак протеста один приближенный Тиберия даже покончил с собой. Через несколько лет в аналогичном кризисе оказался новый император, Калигула. Испанские рудники уже были конфискованы, зерновые склады Рима истощались, и гвардия предпочла убить императора, чем драться с разъяренным народом за остатки хлебных запасов. Новый император, Веспасиан, обложил налогом сортиры. «Деньги не пахнут», – сказал он.
У этой книги необычные герои: торф и конопля, сахар и железо, треска и нефть. Разные виды сырья – части природы, элементы экономики, двигатели культуры. Из них создана цивилизованная жизнь; их особенности объясняют поведение и опыт исторических обществ; они находятся в особенных отношениях с государством. В этом и состоит мой главный сюжет. Следуя за ним, мы увидим много бумов и еще больше кризисов: одни кончались катастрофами, после других жизнь продолжалась как прежде, но бывали и события, которые начинали новую эру. Ни один из этих кризисов не пропадал впустую; они вели к драматическим изменениям в отношениях между человеческим трудом и разными видами природных ресурсов.
Каждый сырьевой кризис ведет к разорению одних и обогащению других – к смене элит, войнам и революциям, а потом снова к росту неравенства. Государство собирает запасы зерна, оправдывая это тем, что в случае голода отдаст их народу; люди копят золото, надеясь укрыть свои доходы от государства; и все полагаются на планы, мир и стабильность. Но в случае голода или восстания накопленные ресурсы перераспределяются по новым, никем не предсказанным правилам. Так Тиберий убил владельца рудников, чтобы раздать ссуды землевладельцам. Спасая одни права собственности, Тиберий нарушил другие. Так поступали многие правители – они слишком хорошо знали то, чего не знали менялы: что разные капиталы не равны между собой, даже если их обменная стоимость одинакова.
У владельца серебряных шахт могло быть больше сестерциев, чем у всех землевладельцев империи. Но производителя серебра можно объявить врагом, отнять его шахты и присвоить его капитал; а производителей зерна так много, что сделать их врагами – самоубийство. Серебро – точечный ресурс, создающий богатство при сравнительно малом применении труда; напротив, зерно – диффузный ресурс, в котором велика часть вложенного труда. Суммы, исчисленные в денежных единицах, могут быть сравнимы; но серебро не равно зерну так же, как оно не равно воздуху. От нехватки серебра страдают богатые; от нехватки зерна страдают бедные; от нехватки воздуха страдают все. Менялы считают деньги, будто это всеобщий эквивалент; правители опираются на качественные различия между ресурсами. Разные природные ресурсы имеют разные политические свойства. Может быть, серебряные сестерции и не пахли. Но понюхайте доллар или рубль, как нюхают цветы: они пахнут нефтью.
Национальное хозяйство, занятое металлами, складывается иначе, чем хозяйство, сосредоточенное на текстиле, а последнее устроено иначе, чем хозяйство, зависящее от нефти. Исторические цивилизации часто сосредотачивались на определенном типе отношений с природой, что не мешало им добирать недостающее торговлей или колониями. Замкнутость сырьевых парадигм вела к состоянию, которое французский социолог и философ Бруно Латур обозначил как мононатурное. Противоположное мультикультурное состояние отражает внутреннюю сложность и разнообразие культуры; мононатурность или, точнее, моноресурсность выражает склонность цивилизации упрощать свои отношения с природой.
Экономисты давно пишут о том, что ресурсы, находящиеся в земле, больше похожи на активы, чем на товары. К примеру, цена золотого слитка не зависит от стоимости его добычи, как стоимость актива не зависит от банковских служащих. Цену золотого слитка определяют другие факторы: скорость инфляции, праздники в Индии, ожидания войны. Цена природного ресурса принадлежит к другому миру, чем цена товара, отражающая труд ученых, инженеров, дизайнеров, рабочих и продавцов. Но стоит ли настаивать на противоположности сырья и товара в нашем мире, смешивающем оппозиции? Дело здесь не в метафизической бинарности, а в непрерывности количественных различий. Любой товар – зерно, стол или смартфон – состоит из природного сырья и вложенного труда. Сырьевая составляющая в свою очередь состоит из двух компонентов – материи, из которой сделан товар, и энергии, которая пошла на его изготовление. Стол состоит из дерева или пластика; в смартфоне задействовано больше ста разных сплавов и пластмасс. Будь то стол или девайс, для их создания требуется энергия, которую дает сжигание угля или газа. В отличие от труда, который подчиняется правилам и поддается обобщениям, сырье всегда было делом случайных открытий, дальних путешествий, удачных авантюр или, напротив, катастроф. Амбиции правителей, причуды природы, ошибки ученых, корысть менеджеров – все это вело к тому, что суверен вновь оказывался наедине со своими шахтами, приисками, скважинами, а посредники приносились в жертву.
Первым теоретиком сырьевой экономики был Ричард Кантильон, франко-ирландский финансист, разбогатевший и потом разорившийся на инвестициях в американские колонии. Это он понял, почему труд приносит больше прибыли, чем сырье, и почему метрополии богатеют, а колонии нет. Еще одним сквозным героем этой книги является русский экономист и писатель Александр Чаянов, автор идеи моральной экономики. В эпоху антропоцена такие концепции переходят в критику глобализации и поиск ее альтернативы «с человеческим лицом». Я тоже верю в пересмотр классической традиции: неолиберальный канон на деле не новый и не либеральный. Центральная роль сырья и энергии в политической жизни современных обществ требует новых идей. Близость климатической катастрофы меняет понимание прошлого и настоящего.
Одно из следствий – материальный поворот, критически важный для гуманитарных и социальных наук. Материальный поворот в 2010-х годах сменил прежний интерес к институтам и более раннее увлечение языком и дискурсом, характерное для прошедшего века. О материальном повороте или новом материализме говорят антропологи, социологи и философы, но более всего историки; экономисты пока, кажется, до этого поворота не дошли. Вопрос не в том, что первично и что вторично, ресурсы или институты; связи между ними не причинно-следственные, а те, что основаны на длительном сожительстве, которое ведет к общим привычкам, даже симбиозу. Пшеница с ее родовыми особенностями не была причиной становления ранних государств Месопотамии или крепостного права в России; но особенности этих политических институтов соответствовали особенностям злаков, например их удивительной способности к одновременному созреванию. Такое же избирательное сродство надо научиться видеть между сахарным тростником и британским меркантилизмом, коноплей и русской опричниной, хлопком и рабовладельческими плантациями, углем и Промышленной революцией, нефтью и глобализацией. Нечеловеческие факторы истории перекрещиваются и иногда сливаются с живыми, работающими людьми. Латур много говорил о «нечеловеческой субъектности», non-human agency. Это парадоксальное понятие работает в обе стороны: освоение людьми природы то наделяет природные явления независимой субъектностью, то лишает этой субъектности самих работающих людей. В этом смысле шелк породил государства Великого шелкового пути; серебро и шерсть определили особенности Испанской империи; сахарный тростник создал рабовладельческие плантации британской Вест-Индии, а хлопок – американского Юга; зерно породило крепостное право; уголь открыл путь промышленной революции; и наконец, нефть создала петрогосударства. В течение XIX века потребление энергии на душу населения выросло вдвое, в ХХ веке – в сотни раз. Но этот рост ограничен сверху. Нефть не кончится – кончится воздух.
Я постараюсь показать это сырьевое разнообразие снизу вверх, от земли к государству. Для разных ресурсов в этом движении всякий раз есть четыре этапа. Первый начинается с природных особенностей сырья. На втором этапе мы узнаем способы его обработки, которые определяют специфику востребованного труда. На третьем этапе мы перейдем к институтам, организующим этот труд и извлекающим сырьевую ренту. На четвертом займемся политическими особенностями государства, которое зависит от данного сырья.
Нечеловеческие факторы истории взаимодействуют со страждущими, надеющимися или, наоборот, разочарованными людьми. Хорошая история всегда переплетает разных людей, страны и дисциплины; самый глубокий уровень такого переплетения – связь между ресурсами и институтами, между сырьем и трудом и, наконец, между природой и моралью. Так материальная история соединяется с интеллектуальной: людей не понять без того, что они сами так хорошо знали в своем мире, – без шелка и зерна, золота и угля. И обе – история материалов и история идей – переплетаются с историей нравов. Если в междисциплинарной истории есть своя царица наук, то это моральная история. Ни происхождение государства, ни империи и революции, ни глобальное потепление не понять, игнорируя политическое зло – его разновидности, изменения и источники. Политическое зло выражается во внутреннем и международном насилии, публичной несвободе и экономическом неравенстве; это давно известно. Новость в том, что политическое зло совпало с экологическим злом. Слияние четырех осей истории – политики, экономики, экологии и морали – является особенной чертой современности. Ранее неравноправные – одни были важнее других – или независимые, они соединяются в одно целое. И чем дальше несется вперед этот ромб истории, тем яснее участвующим наблюдателям, что экономика уступает позицию лидера экологии, а политика станет неотличима от морали.
Эта книга евроцентрична и, более того, сосредоточена на историческом опыте Северной Евразии, от Англии и Голландии до России. Опыт глобального Юга приобрел доминирующее значение в нашу постмодернистскую, постколониальную и постсоциалистическую эпоху. С глобальным потеплением, меняющим самый фундамент мировой истории, пришло время уравновесить и этот дисбаланс. Север столь же глобален, как и Юг; реки и бездорожье Евразии столь же романтичны, как тропические моря; болота не менее важны, чем пустыни.
Новые проблемы вынуждают по-новому прочесть древние рассуждения – и признать господствующие идеи скороспелыми и старомодными, а забытые учения остро актуальными. Экономисты и социологи большей частью верят в презентизм: понимание современности надо искать только в современности. Не вполне разделяя эту веру, я не согласен и с таким историзмом, который считает сегодняшние новости продолжением вчерашних тенденций. Главные новости ничего не продолжают – они начинают. Моя позиция соединяет морализм с натурализмом. Зло коренится в природе, и она же его ограничивает. Но выбор зависит только от человека, и он делает его здесь и сейчас. Исторический опыт важен для политического выбора именно как опыт – не набор ролевых моделей, но многообразие удивительных ситуаций, которые уже тем отличаются от нынешней, что исходы их известны. Полезно здесь и понимание ранних эпох европейской истории, в которых Маркс видел первоначальное накопление, Поланьи – великую трансформацию, а я вижу в них действие меркантильного насоса (см. главу 9, центральную в этой книге). Как писал Маркс, «первоначальное накопление играет в политической экономии приблизительно такую же роль, как грехопадение в теологии». Действительно, первородный грех и первоначальное накопление одинаково важны для понимания зла.
Смысл моей книги не в том, чтобы дать редуцирующее объяснение человеческому опыту; наоборот, он в том, чтобы научиться различать партнеров в пшеничном зерне, конопляном волокне или куске угля. Эти частицы освоенной природы сложнее и разнообразнее, чем своенравие замечательных людей или унылая предсказуемость власти. Мир – это уникальное единство человека и природы; и раз уж изменить его не удалось, надо понять, как он устроен. В нашу мрачную эпоху это и есть задача Нового Просвещения.
Эпоха Просвещения началась с катастрофы. Лиссабонское землетрясение 1755 года потрясло мир, заставив задуматься о природе зла. Среди выживших был герой романа Вольтера «Кандид, или Оптимизм». Милый юноша, он верил своему учителю Панглосу, лучшему философу Германии: «Доказано, что все таково, каким должно быть… Камни сотворены для того, чтобы строить из них замки… Свиньи созданы, чтобы их ели… Отдельные несчастья создают общее благо, так что чем больше таких несчастий, тем лучше», – говорил ему Панглос. Но тут учитель заболел сифилисом; хуже того, вместе с учеником он бежит в Лиссабон, где видит гибель 30 000 человек и сам попадает на эшафот. Потом Кандид очутился в заокеанской стране Эльдорадо: телеги там сделаны из золота, а из фонтанов течет ром. Вечный странник, Кандид бежит и оттуда, чтобы попасть в Суринам, голландскую колонию. Тут он знакомится с черным рабом с сахарной плантации: тот потерял руку, когда она попала в жернова, а потом пытался бежать и ему отрезали ногу, – «вот цена, которую мы платим за то, чтобы у вас в Европе был сахар». Он не знал слова «оптимизм», и Кандид объяснил ему: «Оптимизм – это страсть утверждать, что все хорошо, когда в действительности все плохо».
Часть 1.
Материальная история
Глава 1.
Пожар в лесу
Население Европы – такой же плод миграции, как и население Америки, только началась она раньше. Наши предки начали мигрировать из африканских саванн около 70 000 лет назад. Голая кожа и редкая способность потеть всем телом приспособили человека к жизни в субтропиках. Он не особенно быстр, но вынослив: на длинной дистанции человек может догнать почти любое млекопитающее. Заселив болота и пляжи Северной Африки, человек научился пользоваться палкой и камнем, приручать животных. Изменение климата или перенаселение заставило людей мигрировать в поисках новых просторов. Они рано приобрели способность пересекать водные пространства – делать плоты, ловить рыбу и искать лучшую жизнь.
Возможность миграции на север была следствием революционной технологии – владения огнем. Освободив свои руки, прямоходящий человек сумел высечь искру из камня и поджечь сухую траву; этот особо успешный примат стал общим предком людей и неандертальцев. Собирая и сжигая первые непищевые ресурсы – хворост, тростник, – они регулировали температуру в лежбищах или пещерах. Поджигая лес, они формировали свое окружение более эффективно, чем могли делать каменными орудиями. Готовя пищу на огне, человек потреблял многое – семена, бобы, кости, – что не мог переварить в сыром виде. Почти все материалы, которые потом создал человек, – керамику и кирпич, бронзу и железо, соль и сахар, бензин и пластик – он сделал в соавторстве с огнем. В мифе о Прометее герой крадет огонь у богов и, пряча его в тростнике, дарит его людям. Боги мстят долго и жестоко: так человек пойдет слишком далеко. Здесь все полно значения – и герой на грани двух миров, и скромный тростник, с которого все начиналось.
Власть над огнем была первым практическим делом, в котором интеллект давал преимущество над силой. После пожара лес становится продуктивнее, в нем больше дичи, а хищники исчезают. Огонь в очаге одомашнил человека; теперь человек, вооруженный огнем, одомашнивал саму природу. Для пешего охотника, все вооружение которого состояло из дубины или клюки, лесостепь была лучшим местом; за тысячелетия огромные пространства этих природных гольф-клубов были созданы лесными пожарами. Так возникли американские прерии; таким же было, возможно, происхождение степей Евразии. Пожары были так велики, что привели к глобальному потеплению, первому в истории человечества. Позже капитан Кук открывал для белого человека острова Тихого океана; днем он везде видел дым, ночью огонь: туземцы жгли леса.
Человек научился рубить лес и пахать землю, когда сумел привязать каменный наконечник к деревянному основанию; это орудие можно было использовать как топор, мотыгу и нож. Дерево было в изобилии; но для наконечников нужен кремний. Замена грубых каменных топоров, которые делали из местных материалов, на кремниевые произошла около четвертого тысячелетия до нашей эры; находя их по всей Европе, археологи могут установить их происхождение по химическому составу камня. Топоров производилось много – около полумиллиона в год; но шахт, где их добывали, было мало. Наконечники из одного месторождения в Альпах находили по всей Западной Европе; наконечники из центральной Польши находили на расстоянии 800 километров от места их изготовления. Так одно из первых человеческих орудий, кремниевый топор, стало образцовым сочетанием двух типов сырья: общедоступная, легко заменяемая палка и редкий, как драгоценность, кремень, который передавался из поколения в поколение. На месторождения появлялись первые права собственности: сначала ими мог пользоваться любой, кто дошел до этих мест, но потом ими стали «владеть», то есть защищать их от чужаков, пользоваться в своих целях и располагать местным знанием, которое давал опыт. Торговля началась тогда, когда чужаки тоже смогли создать что-то ценное: это могли быть стада овец, например, или выделанные шкуры.
Для физического выживания человек должен потреблять от 2000 до 4000 килокалорий в день. Но происхождение этих калорий менялось с ходом истории: одна и та же энергия, необходимая человеку, становилась более дорогой по своему происхождению. Чтобы произвести одну килокалорию мяса, животные потребляют десять килокалорий травы. Поэтому для того, чтобы произвести дневную порцию современной диеты, богатой мясом, уходит примерно 10 000 килокалорий солнечной энергии. Сначала человек использовал только свои мускулы, чтобы перевести энергию еды в энергию работы. Использование огня, ветра, ископаемого топлива и сжигающих его машин многократно увеличило расход энергии человеком. В Древнем Риме освоение непищевой энергии доходило до 25 000 калорий на человека в день. В современном мире потребление энергии на человека составляет 50 000 килокалорий в день, а в развитых странах доходит до 230 000. Оно продолжает экспоненциально расти.
Как и последующие технологические революции, огонь дал людям свободу и уменьшил их зависимость от природы. Но, заключив симбиоз с огнем, двуногий человек впервые попал в ловушку сырьевой экономики: стремясь к счастью и свободе, как бы он тогда это ни называл, он уничтожал ресурсы, от которых зависел. Группы людей переходили с места на место в поиске дров. Ни карты, ни устного предания о северных лесах у этих людей не было. Найдя пригодный для использования лес, они жили в нем, пока не сжигали все, что горело. Тогда они переходили на новое место. Владевший огнем и нуждавшийся в дереве человек мигрировал на север, в лесистую Европу.
На новом континенте уже были похожие существа: потом их назвали неандертальцами. Ниже ростом, но тяжелее людей, неандертальцы были разумны и агрессивны. Они жили небольшими сообществами, были способны к коллективным действиям, пользовались огнем и каменными инструментами. Они легче людей переносили холодный климат; но без костров и шкур они не могли бы распространиться от Алтая до Уэльса. Мозг их был больше человеческого, зрение лучше, мышцы сильнее.
На протяжении пяти тысячелетий люди и неандертальцы жили в Европе, общаясь между собой. В начале ХХ века археологи заметили, что некоторые скелеты принадлежат гибридам между людьми и неандертальцами; в начале XXI века этот вывод подтвердили генетики. Вероятно, люди и неандертальцы могли и учиться друг от друга. Потом неандертальцы вымерли, возможно, от болезней, которые люди принесли с собой из Африки. Но кости, найденные археологами, несут на себе следы человеческих зубов: люди употребляли неандертальцев в пищу. Антрополог Пат Шипман полагает, что главным отличием между неандертальцами и предками современного человека были не трудовые навыки, во многом сходные, а симбиоз человека с волком. Люди и волки дополняли друг друга: одни могли выслеживать дичь, другие убивать; одни имели лучший нюх и быстрые ноги, другие больший мозг и орудия. Охота с собаками дала людям главное преимущество перед неандертальцами, которые и сами становились жертвами такой охоты.
Американские археологи обследовали стоянки людей и неандертальцев, соседствовавших в горах Южного Кавказа. Главным источником пищи здесь был кавказский тур. Охотники знали пути сезонной миграции этих животных и селились рядом с ними; в пищу употребляли только зрелых животных, детенышей оставляли расти, так что это было скорее скотоводство, чем охота. Группы неандертальцев были меньше по составу, чем группы людей, их каменные орудия были примитивнее. Неандертальцы делали свои скребки и топоры из местного камня, они были тяжелые и крошились. На стоянках людей нашли ножи из обсидиана, ближайшее месторождение которого располагалось за сто километров от этих стоянок, и костяные иглы, сделанные с помощью этих ножей. Эти инструменты высоко ценились и долго использовались, о чем можно судить по тому, как они стачивались и снова затачивались; благодаря им люди могли скрести шкуры и соединять их, делая одежду и обувь. Эти предметы роскоши, стоившие огромного труда, можно было использовать в торговле с другими общинами, выменивая их на далекий и столь же ценный обсидиан. Это первый в человеческой истории, но вполне развернутый случай дальней торговли: сырье обменивалось на товар; редкий природный ресурс, сосредоточенный в далеком месте, обменивался на продукты человеческого труда.
Голые перволюди могли выжить только в прибрежной колыбели человечества; как у Адама и Евы в райском саду, там не было холодных ночей и долгих зим. Изгнанные или ушедшие, люди оделись в меха и кожи; эти части убитых животных сохраняли природное тепло своих новых хозяев. У неандертальцев было больше подкожного жира и волос на теле, они легче переносили умеренный климат и меньше нуждались в меховой одежде. Они не занимались торговлей; обрабатывая шкуры, они использовали их для собственных нужд, как одеяла и подстилки. В отличие от людей-торговцев, менявшихся обсидианом, овцами и шкурами, неандертальцы жили так, как потом тысячелетиями будут жить крестьяне – натуральным хозяйством. Дальняя торговля дала человеку еще одно преимущество в его первой войне на выживание. Возможно, два отличия людей – их симбиоз с волками и способность к дальней торговле – были связаны между собой. Если охота на зверя предполагает координацию действий с другими людьми, которые разделят добычу, то охота с собакой основана на способности относиться к другому существу как партнеру, имеющему совсем другие нужды. На этом основана и торговля.
В 1943 году американский антрополог Лесли Уайт, специалист по индейцам Пуэбло, сформулировал задачу культуры как освоение энергии с помощью технологий. Освоение – точно подобранное слово. Придя в лучах божественной звезды, давно или недавно дошедших до грешной планеты, солнечная энергия принимает несколько форм, доступных людям. Это ветер, течение воды, горючее и еда. Энергия не производится человеком; вся она произведена Солнцем. Лишь ядерная энергия является исключением из этой простой истины; потому, возможно, ее освоение человеком оказалось смертельно опасным делом.
Почти всю свою историю люди прожили в автономных группах, общинах или племенах. Они кормили себя, обрабатывая землю, на которой жили; когда она истощалась, они переходили на другой участок, где снова сжигали лес. Огонь помогал выращивать хорошие урожаи. Антропологи, видевшие такое земледелие в действии, рассказывают, что для него достаточен низовой огонь. Большие деревья выживали в лесном пожаре, а зерна или овощи высаживали вокруг них. Корчевать пни имело смысл, только начав применение плуга; пока землю не начали пахать, поле жило вместе с лесом на одной и той же земле. В расчистке леса людям помогали все одомашненные животные – быки и лошади перетаскивали бревна, свиньи и овцы уничтожали траву и корни. Одна лошадиная сила в десять раз больше одной человеческой; но сельское хозяйство античной и средневековой Европы, в котором использовались лошади и быки, было не так уж отлично от хозяйства доколумбовой Америки, в котором использовалась только сила человека. На обоих континентах для выживания одного человека требовался примерно акр расчищенной от леса земли – оценка, в которой современные историки соглашаются с авторами эпохи Просвещения. Рост населения был ростом территории, доступной для поджога и засева.
Освоение энергии почти не менялось со времен великих восточных цивилизаций, достигнув временного пика в Древнем Риме. Потом оно драматически снизилось, подтверждая классическую идею упадка цивилизации. Уровень освоенной энергии коррелирует с такими показателями исторического прогресса, как степень урбанизации, количество кораблекрушений и отложения свинца (сохранившиеся в снегах Гренландии, они показывают рост или упадок европейской промышленности с точностью до десятилетий). Гарвардский историк Йен Моррис использует эту медленно менявшуюся цифру – количество килокалорий, освоенных на душу населения в день, – как «меру цивилизации». Чем больше потребление энергии, тем выше цивилизация. Те религии, которые поклонялись Солнцу как подлинному источнику жизни, – религии египетского фараона Эхнатона и персидского пророка Зороастра – понимали это лучше других. Окисляясь, куски дерева, принесенного из леса, или моря нефти, извлеченной из-под земли, отдают энергию, которая может согреть и возвысить человека, но может и сжечь его: это зависит только от него самого. От иудаизма до Просвещения миропонимание сосредотачивалось на уникальной способности субъекта – необязательно человека – выбирать между добром и злом.
Имея общее происхождение, еда и топливо очень отличны друг от друга: еда доставляет человеку свежую энергию только что убитых тел, которые общались с солнцем совсем недавно, несколько часов или месяцев назад; топливо доставляет человеку энергию, запасенную много лет или миллионов лет назад. Во глубине времен мириады живых существ воспринимали и запасали солнечную энергию для своей недолгой жизни. Их тела сохранились в толще неживой материи в странных и мертвых формах, не похожих на жизнь и все же хранящих ее энергию: это торф, уголь, нефть, газ. Извлеченные людьми из земли и наконец соединившись с кислородом, мириады мертвых тел дают энергию человеческому миру.
Для извлечения, очищения и переработки топлива тоже нужна энергия. Для производства и недалекой доставки килограмма дров нужно примерно пять мегаджоулей, и примерно столько же нужно для производства килограмма угля; при сгорании дров выделяется втрое больше энергии, чем пошло на их заготовку, при сгорании угля – в десять или даже в сто раз больше энергии, чем при его заготовке, при сгорании нефти – до тысячи раз больше. Не зная термодинамики, люди научились обменивать еду на топливо, волокна на металлы и вообще все виды сырья и товаров на другие с помощью искусственного эквивалента – золота. Интересно, что этот металл не имеет отношения к солнечной энергии, кроме символического: отражая солнце, золото похоже на него и, для любителей, служит его земным заменителем.
Разные формы запасенной солнечной энергии имеют очень разные свойства, и эти свойства тысячелетиями определяли особенности человеческих обществ. Города, отапливавшиеся дровами, например Санкт-Петербург, устроены иначе, чем города, отапливавшиеся торфом, например Амстердам, а те устроены иначе, чем города, отапливавшиеся углем, например Лондон. Властители в этих городах были разными, но все эти города в равной мере надо было кормить и отапливать. Исторически, в этот обмен пищевой и горючей энергий – зерна и дров, рыбы и торфа, мяса и угля – все больше включались волокна, тоже необходимые для обогрева тела и дома; в этой треугольной торговле состояла самая суть рынков. Государственная власть способствовала или мешала этому обмену энергий, но обычно имела свою долю с оборота. Цены на базовые ресурсы в мирные времена регулировались рыночными механизмами спроса и предложения, но чаще определялись политическими событиями – войнами, освоением новых земель, открытием рынков или, наоборот, блокадой торговых путей.
Человечество освоило возобновляемые источники энергии раньше, чем невозобновляемые. Реки доставляли грузы вниз по течению. С изобретением водяного колеса было механизировано множество тяжелых задач. Дувший почти всюду, хоть и не всегда в нужную сторону, ветер крутил мельницы, которые мололи зерно и осушали болота. Он раздувал паруса, направляя людей на поиск все новых видов сырья или их заменителя, золота. Передовой рубеж древних и новых технологий, кораблестроение возвращало человека в лес. Строительство кораблей требовало разнообразной древесины высшего качества, все более ценимой и все менее доступной: прямого дуба для обшивки, кривого дуба для шпангоутов, сосны для мачт, бука и ели для палубы. Еще корабли нуждались в экзотических продуктах северных земель – дегте для конопачения, пеньке для канатов и льне для парусов. Древние конфликты между морскими державами велись за доступ к исчезающей древесине, необходимой для военного и коммерческого флота. В Южной Европе строевые леса оставались только в самых малодоступных ее частях, на островах и в горах. За эти колонии – Кипр и Сицилию, Истрию и Македонию, позже Тироль – шли войны. По берегам Средиземного моря леса были давно уничтожены; с гор бревна можно было доставить только сплавом по рекам. В устьях надо было строить лесопилки и причалы, чтобы потом доставлять доски в метрополии, где их собирали в корабли. Для всего этого нужно мирное, покорное население на берегу; здесь начинались проблемы. По всему цивилизованному миру, строившему города и корабли, государственный интерес в лесе конкурировал с местными обычаями, одним из которых было сведение лесов.
Строительный бум в Риме требовал огромных количеств древесины. Повсеместный переход от дерева для стен и крыш на кирпич и керамику был вызван, видимо, истощением качественных лесов; но обжиг глины в нужных масштабах тоже требовал дров. Чтобы сделать один кубометр кирпича, нужно было 150 кубов сухих дров; чтобы сделать тонну цемента, обжигая известняк, нужно было 10 тонн дров. Для отопления Древнего Рима с его теплыми полами, огромными банями и кухонными плитами требовалось вырубать около 30 квадратных километров леса в год. Ресурсная экономика создавала необычную для античного мира занятость, требовавшую тяжелой физической работы, мобильности и автономности. Люди, трудившиеся на рубке, доставке и переработке леса, не были рабами; иногда это были солдаты, но чаще наемные работники из крестьян и варваров. Выплавка бронзы, железа и серебра требовала леса для укрепления шахт и древесного угля для топки плавильных котлов. Рим знал много попыток, как правило безуспешных, объявить леса государственной собственностью. Стремление Рима на север, в германские, галльские и даже британские леса, было связано именно с этим чувством энергетического заката привычной цивилизации. Остановить рубку леса значило подорвать благополучие империи; но продолжать ее тоже было невозможно.
Придя из лесов, варвары погасили этот огонь. К VII веку уровень освоенной человеком энергии упал почти вдвое. Свойственный всем аграрным культурам, новый уровень оставался стабильным вплоть до Промышленной революции. Только массовое использование голландского торфа и британского угля позволило перевалить через достигнутый римлянами энергетический пик. Этому предшествовали тысячелетнее развитие науки, политические изменения, реформы церкви, создание университетов и развитие технологий. Римляне мечтали о золоте, чудесных машинах и путешествиях в другие миры; никто из них не догадывался, что что презренная жижа болот и черный камень, который они применяли в далекой, холодной колонии, окажутся главными чудесами нового мира.
Вырубка лесов продолжалась все Средние века. Переходя через Альпы, люди переселялись из Южной Европы на новые земли, которые потом стали Австрией, Венгрией и Балканскими странами. Вместе с крестьянами расчисткой занялись монашеские ордена – бенедиктинцы, цистерцианцы и, наконец, Тевтонский орден, распространивший массовые вырубки на огромный Балтийский регион. Новые орудия, сочетавшие железо с деревом, – топоры, хомута и колеса, плуг с лемехом – увеличили продуктивность расчисток. Зимой обработанные бревна можно было по снегу довезти до реки, а там плоты дожидались весеннего сплава. К концу XV века на прусских и балтийских землях было около ста городов и полторы тысячи деревень; все они рубили лес и сеяли злаки. Те, что были недалеко от моря, продавали древесину и зерно могущественному Ганзейскому союзу, а тот экспортировал их в Голландию и Англию.
Государству был нужен лес для его самых главных оборонных нужд. Везде, где росли деревья, из них строились укрепления на суше и суда в море. Позднее деревянные частоколы и остроги не пережили распространения огнестрельного оружия; но плавающие крепости, сделанные из отборного дерева, заменить было нечем. Греческая трирема состояла их деревянного корпуса и палубы, около двухсот весел и двух мачт: это тысячи отборных деревьев нескольких редких пород. Корабли викингов были проще и легче, но более мореходны благодаря дегтю. Это вязкий, липучий, нерастворимый продукт сухой перегонки сосновой или березовой древесины; он предохранял ладьи от течи и гнили. Викинги вырывали в глине большую яму, клали в нее щепу, сверху засыпали дерном и поджигали; через несколько часов медленного горения деготь стекал в отверстие внизу. Его использовали на месте или брали с собой в бочонках; обмазку дегтем регулярно повторяли в путешествиях. Рецепт был известен и античным морякам, но он требовал сосны в количествах, которые вряд ли были им доступны. Викинги производили деготь в индустриальных масштабах, по 300 литров зараз; двух таких закладок хватало на обмазку одной ладьи. Дегтем пропитывали и паруса, которые викинги делали из шерсти. В Швеции большие ямы для перегонки дегтя нередко находят при дорожных работах. Такие ямы находят и по соседству с захоронениями викингов в России и Украине. Их датируют VIII–X веками: тогда и начиналась морская активность викингов, благодаря дегтю доминировавших по всей Северной Атлантике, грабивших и торговавших на огромных пространствах от Ньюфаундленда до Каспия, давших начало многим королевским домам Европы. Только благодаря этим ямам мы понимаем, почему викинги оказались лучшими мореплавателями, чем римляне или финикийцы.
Кораблей было все больше, а леса все меньше. Республики и империи были равно озабочены нехваткой дуба для корпусов, бука для палуб и сосен для мачт. Сначала им приходилось охранять леса от собственного народа; потом они искали и захватывали колонии с тем, чтобы импортировать нужную древесину. Первой испытала кризис Венеция, опустошившая леса по берегам сплавных рек. Особенно не хватало дуба, который растет на хорошей земле, пригодной для вспашки; а один большой военный корабль требовал до 2000 дубовых стволов, желательно столетнего возраста. Венецианцы были первыми, кто стал вкладывать средства в восстановление лесов на Адриатике. Безлесная Голландская республика вывозила древесину на ганзейских судах из Норвегии и балтийских стран, сплавляла огромные плоты по Рейну из германских княжеств и привозила ценные породы с Явы. Английская королева Елизавета запретила своим подданным вырубку лесов на расстоянии четырнадцати миль от берегов морей и рек; потом сходные указы издавал российский император Петр I. Португалия вывозила строевой лес из Бразилии, Испания – из Южной Италии, а во времена строительства Великой армады из Балтики. Огромные области Европы и мира становились сырьевыми колониями морских держав; как всегда, транспортные расходы и стоимость переработки оказывались гораздо выше стоимости добычи. Цена необработанного бревна, доставленного в английский порт, была в двадцать раз выше его закупочной цены в балтийском лесу.
В блестящем XVIII веке британский линейный корабль требовал четырех тысяч дубовых стволов, или сорока гектаров зрелого леса. Вопреки установившимся уже идеям меркантилизма оказалось, что строить корабли в колониях дешевле и безопаснее, чем везти бревна через океан и собирать корабли в метрополии. Почти половина португальского флота была построена в Бразилии, треть испанского флота – на Кубе, немалая часть кораблей британского флота строилась в Индии. Военная революция, вызванная распространением артиллерии, только усилила зависимость великих держав от их лесных богатств. Выплавка чугуна и железа, как и изготовление пороха, требовала огромных запасов дров или древесного угля. Например, для выплавки тонны железа, пригодного для ковки, в XVIII веке требовалось 50 кубометров дров, или годовой прирост десяти гектаров леса. Обилие дров было одной из причин успеха металлургии в Пруссии, Швеции и России; их дефицит был одной из причин упадка Венеции, а потом и Оттоманской империи. Вообще, поворот европейской цивилизации от Средиземного к Северному морю, произошедший на заре Нового времени, был больше всего связан с истощением южных лесов.
Распространяя римское право в северных землях, германские колонисты сталкивались с правовыми особенностями использования леса, которые с трудом поддавались описанию. Право охоты в лесу принадлежало исключительно аристократам, и они же контролировали вырубки; но местные жители сохраняли традиционные права проходить через лес, собирать в лесу хворост или снадобья, пасти свиней. Пока лес стоял, он оставался сложным объектом множественных владений, привилегий и прав пользования. Вырубленный лес сразу переходил в личную собственность; распаханную землю можно было заложить или продать. Средневековые законы германских и итальянских земель способствовали массовым рубкам. Невозможность приватизировать лес была пережитком древнего права; она сохранялась до тех пор, пока уцелевшие леса не стали превращаться в огороженные парки. Лес долго был синонимом дикости, варварства и конца цивилизации – а потом, по точному замечанию британского историка Кита Томаса, «деревья стали незаменимой частью окружения высших классов». Но это произошло нескоро, и то были уже не совсем лесные деревья.
По масштабу и значению германская колонизация Восточной Европы была сравнима с колонизацией Северной Америки. Смешиваясь со славянскими или финскими племенами, жившими в этих лесах почти первобытной жизнью, переселенцы с запада вовлекали их в пушную или рыбную торговлю, а потом и земледелие на расчищенных землях. Крещеные племена теряли язык и культурную идентичность, которые сохранились лишь в названиях основанных тогда городов и деревень. Лесные товары – меха, воск, деготь, пенька – вывозились по северным рекам в Балтийское море; корабли возвращались с серебром, железом, сладкими винами и огнестрельным оружием. Организуя эти обмены, немецкие солдаты, монахи и торговцы шли все дальше на восток, открывая новые земли, казавшиеся им дикими и незаселенными. Французский историк Фернан Бродель называл страны Балтии «внутренней Америкой»; ее открытие, заселение и эксплуатация подготовили европейцев к позднейшему открытию и заселению Америки за океаном.
Чем дальше расстояния, тем более легким и ценным должно быть сырье, чтобы оправдать расходы. Ганзейская колония в Бергене столетиями сушила, паковала и вывозила треску; немецкая колония в Новгороде специализировалась на мехе северной белки; викинги и поморы искали и обрабатывали болотное железо. За этими исключениями, вся огромная территория европейского северо-востока производила одно и то же – древесину и зерно. Северная экономика расточительна: в России и балтийских странах, чтобы построить один сельский дом с амбаром, надо было свести лес на полутора гектарах, а дом стоял в среднем пятнадцать лет – меньше, чем нужно этому лесу, чтобы вырасти. И большую часть этого времени дом нужно было отапливать дровами. Рост цен на зерно и древесину вел к новому закрепощению: польские и немецкие помещики силой заставляли крестьян летом работать на полях, а зимой рубить древесину в лесах. Крестьянин тут не превращался в фермера, потому что доход от его работы получали те, кто контролировал пути сообщения. Цена сырья зависела не от трудовых, а от транспортных издержек. Торговые прибыли делили местные землевладельцы, контролировавшие сухопутные дороги, и заморские купцы, которым принадлежали корабли. В течение полутора столетий до 1660-х годов, больше 200 000 кораблей вошло в Балтийское море, загрузилось и уплыло обратно; в следующие полтора столетия число таких кораблей почти утроилось. До 1760 года балтийский лес доминировал в поставках мачт по всей Европе, потом с ним стал успешно конкурировать мачтовый лес из Северной Америки. В 1533-м английские купцы открыли торговлю по Белому морю; их интересовали меха, воск и деготь, но главным предметом торговли стала пенька. Богатые лесом и зерном – диффузными, трудозатратными видами сырья, балтийские земли были колонизованы соседями, имевшими железо и серебро. Целью этой сухопутной колонизации оставалась внешняя торговля, средством – внутренняя эксплуатация.
Выгодная землевладельцам, торговля тормозила развитие этих земель. Ее ограничивали плохие пути сообщения, дурное качество управления и массовый вывоз капитала. Население росло медленнее, чем это произошло бы при натуральном хозяйстве. Не получавший прибыли со своего труда, крестьянин саботировал промыслы и мечтал о том, чтобы его оставили в покое, дав возможность жить своей землей, как делали предки. Рубка деревьев на вывоз развивалась только по течению сплавных рек, а массивы леса между ними долго оставались нетронутыми. Экспорт зерна и древесины осуществлялся на иностранных судах, и большая часть торговой прибыли доставалась голландцам и англичанам. Южная Европа долго, вплоть до Промышленной революции, пользовалась дорогами, которые построили римляне. Разветвлявшаяся как дерево по мере приближения к источникам колониальных ресурсов – зерна, древесины, металлов, – их дорожная сеть имела военное значение; опережая потребности торговли, она была построена как бы на вырост. В Северной Европе роль этой дендритной сети осуществляли реки. Экономя энергию, сплав сырья по северным рекам обогащал портовые города. В них жили землевладельцы, дистанционно управлявшие процессом, на них опирались государства, паразитировавшие на этой экономике. Вместо того чтобы строить дороги, собирать налоги и инвестировать в землю, эти государства удовлетворялись торговыми пошлинами, которые было легко собирать в устьях рек. У причалов Кенигсберга, Данцига, Риги и Нарвы строились лесопилки, работавшие на водной тяге, хлебные склады и дворцы знати. Поместья вверх по течению северных рек работали как колониальные фактории, использовавшие прямое насилие для того, чтобы принуждать крестьян к работе. Строительство Петербурга подвело итог этому развитию.
В доиндустриальную эпоху – так называют времена, не знавшие ископаемого топлива, – каждому европейскому городу требовался окружавший его массив леса, в сто раз превосходивший площадь самого города. Чем больше росли города, отапливавшиеся деревом и часто построенные из дерева, тем дальше они отодвигали от себя лес. С определенной дистанции перевозка дров требовала больше энергии, чем давало их сжигание. Тогда дерево стали заменять глиной или камнем, торфом или углем. Но глину надо было обжигать, камень перевозить, берега и шахты укреплять, и для всего этого все равно нужен был лес. Все же малая его часть вывозилась под дрова и строительство; большая часть сжигалась на месте, чтобы создать землю, пригодную к севу. Как сказал один историк, в Средние века вырубка леса для крестьянина была таким же святым делом, как крестовый поход для дворянина.
В Средние века площадь европейских лесов росла во время войн и эпидемий и сокращалась во время мира. В Новое время войны стали вести, напротив, к еще большим вырубкам. Никогда на Британских островах не оставалось так мало леса, как во время Первой мировой войны. Но так было и раньше: чем дальше ехал путешественник с юга и запада на север и восток Европы, тем больше видел он лесов. Леса вокруг Мадрида были истощены, но город нуждался в отоплении дворцов и хижин. С XVII века его топили древесным углем; тысячи тонн угля в год обжигали в провинциях и доставляли на быках за 50 километров. Древесный уголь отдает больше тепла на единицу веса, чем дрова, и переход на него всегда происходил по мере истощения ближних лесов. На протяжении XVIII–XIX веков леса покрывали 5–7 % территории Британских островов. Даже в северных департаментах Франции леса покрывали не более 15 %, но в Пруссии им принадлежало около 40 % земли. Эта цифра была еще больше в Польше и европейской России.
В елизаветинской Англии и предреволюционной Франции постоянно говорили о росте цен на дрова. В Париж их доставляли из северных департаментов по Сене, каналам и дорогам за 200 и более километров от города. Каждый парижанин в среднем нуждался в двух тоннах дров в год; это урожай одного акра хорошего леса. Если лес не восстанавливать, то радиус доставки увеличивается с каждым годом. В отличие от Парижа, рост цен на дрова в Лондоне оставался в пределах общей инфляции. Причиной этому было изобилие угля, который доставляли морем из Ньюкасла: Англия переходила от дерева к углю уже в XVII веке, а к концу XVIII века годовое потребление угля перевалило за миллион тонн. На континенте только Бельгия жгла уголь в таких количествах. Крепление шахт требовало качественных бревен, и их надо было часто менять; лишь некоторые породы, например каштановое дерево, были устойчивы к шахтной гнили. Еще больше дров нужно было для выплавки металлов; древесный уголь давал большую температуру горения, чем дрова. На него шли лучшие породы дерева, например дуб, а пережигали его на дровах низшего качества или даже на торфе. Плавильные печи ставили рядом с шахтами, но те часто оказывались в горах, и древесный уголь приходилось поднимать туда телегами. Приемлемой дистанцией считалось 5–8 километров; по мере вырубки леса в этом радиусе шахту приходилось закрывать, даже если там была руда. В тонне выплавленного железа стоимость древесного угля часто оказывалась выше стоимости самой руды. Ирония ресурсной истории состояла в том, что география железного века определялась лесом. Шахтное дело оказывалось прибыльным в альпийских и северных землях, где все еще стояли леса, – в Тироле, Швеции, Шотландии, России. В 1900 году люди все еще получали половину потребляемой ими энергии от сжигания дров и соломы; в 2015-м эта доля уменьшилась до 8 %, но это больше того, что люди получают от ядерных электростанций. Больше двух миллиардов людей все еще зависят от использования дров для тепла и приготовления пищи.
Вырубая леса в течение долгих тысячелетий, европейская цивилизация освоила гигантские пространства от Рима до Лондона и потом до Санкт-Петербурга. То была обреченная погоня за уничтожаемым сырьем – порочный круг, характерный для освоения всех невозобновляемых ресурсов: нельзя зависеть от того, что уничтожаешь. Уничтожив огромные лесные пространства в Южной Америке, Африке и Сибири, ХХ век видел и новые леса, посадка которых стала возможной благодаря новым технологиям и масштабам. После Первой мировой войны войны огромные леса были заново высажены в Восточной Англии. В Америке Новый курс начался с создания Гражданского корпуса сохранения, в котором было занято 250 000 человек; его еще называли «Лесной армией Рузвельта». Между 1933-м и 1942-м этот корпус посадил три миллиарда деревьев, остановив пыльные бури в нескольких штатах. Действительно, из всех способов борьбы с изменением климата посадить дерево – возможно, самый эффективный.
Почти везде, где люди жили городами и пользовались огнестрельным оружием, охота превратилась в хобби, а леса становились парками. Предметы роскоши, бывшие в частном владении, они были местами досуга и объектом ностальгии. Золотой век античных и ренессансных утопий было бы вернее назвать лесным веком. Страх и восторг европейца перед исчезнувшим и вновь обретенным лесом стал вновь очевиден в эпоху колониальных завоеваний: открывая новые острова и континенты, корабли плыли за золотом, но находили лес. Маленькие анклавы городских и пригородных парков, доставшиеся нам от предков, проявлявших завидную твердость в охране их от застройки, сегодня служат тому же комплексу ностальгической благодарности. Места, куда мы сегодня ходим работать, совсем не похожи на лес. Но места, где мы отдыхаем, все еще на него похожи.
Глава 2.
Путем зерна
Только на поздних стадиях истории человеческие хозяйства стали достаточно продуктивными для того, чтобы одни могли создавать излишки, а другие забирать их. Создание первых аграрных государств Месопотамии произошло за последние пять процентов истории человеческого вида. В самом конце ее началась эра ископаемого топлива. По длительности она составляет всего четверть процента человеческой истории.
Американский антрополог Джеймс Скотт рассказывает о том, как кочевые люди, владевшие только огнем и камнем, смогли осесть на земле, создав города и государства. Первые города возникли на болотистых почвах и заливных лугах Месопотамии примерно 6000 лет назад. Уровень моря тогда был выше; это плоское междуречье представляло собой не пустыню, как сегодня, а огромное болото, которое пересекали менявшиеся русла больших и малых рек, регулярно выходивших из берегов. Первые крестьяне были жителями болот, и главными их навыками были не пахота и полив, а отвод воды – строительство каналов, дамб и шлюзов. Регулярные наводнения смывали сорняки и доставляли ил, в котором можно было сеять злаки и бобы. Благодаря наводнениям почва не истощалась многолетними посевами. Тогда же началась селекция растений, одомашнивание скота, строительство тростниковых жилищ и лодок, создание деревень. Скорее всего, люди уже тогда научились добывать, сушить и жечь торф – важнейший навык выживания на болоте, где лес не доставить к жилью. Хотя они засевали доступные им участки и собирали с них урожай, у них не было особенного стремления к частной собственности: большую часть своего пропитания они получали с общей земли, смешанной с водой. Скорее всего, у них не было и врагов: болота защищали этих первых земледельцев от кочевников пустыни.
В описании Скотта, Месопотамия немало походит на Голландию в ее канун золотого века. На разных континентах цивилизация делала свои первые шаги именно на болотах: так начинались первые оседлые поселения на Иерихоне, Ниле, Нигере, Инде, Амазонке, а потом рисовые государства Африки и Китая; гораздо позже среди болот началась Новгородская Русь, а потом и петровская империя. Центральная роль болот в истории цивилизации оказалась забыта; но на всех континентах осушение болот было важной цивилизационной миссией. Воду и землю надо было разделить на чистые платоновские стихии, чтобы потом вновь их смешать под посев, и теперь уже под контролем человека. В письменной истории иудео-христианского мира пустыни заняли несоразмерно большое место. Но возможно, что болота ближе к первоначальному состоянию человека – золотому веку, потерянному раю, – чем пустыни. Скромные болотные цивилизации оставляли мало следов для историка. И все же письменная история началась тогда, когда на глине, поднятой из болота и обожженной на огне, который давал поднятый из этого болота торф, стали делать записи о мерах зерна, выросшего на том же болоте.
Историки долго верили, что крестьянские общины сменили мир диких охотников и воинственных кочевников – мир, не знавший закона, полный хаоса и насилия. Пересматривая давние, многие из них – библейские, представления о ранних государствах, антропологи рассказывают другую историю. Первые селяне питались хуже и однообразнее, чем кочевники пустыни, были ниже ростом и раньше умирали. Стены, ворота и башни не столько служили защитой от внешнего врага, сколько контролировали собственное население. Действительно, эти ранние селения были похожи на концентрационные лагеря. Кочевники грабили их или облагали данью; но причиной гибели этих ранних городов чаще были эпидемии. Люди и животные жили в городских стенах в условиях невыносимой скученности; овцы, крысы, вши и комары распространяли заразу. Эпидемия вела к голоду, бунтам, бегству – одним словом, к коллапсу.
Для появления государства понадобилось еще три тысячи лет. Первые города-государства, защищенные стенами, собиравшие налоги, имевшие внутреннюю иерархию, появились в долине Тигра и Евфрата в районе третьего тысячелетия до нашей эры. Позже государство появилось на Ниле, потом на Инде и в Андах. Все это, как объясняет антрополог Роберто Карнейро, были географически ограниченные территории плодородного земледелия. За такие места шли войны, они переходили из рук в руки. Контроль был основан на привычном насилии, сборе дани, изъятии излишков и рекрутов. Государство есть не только монополизация насилия, как говорил Лев Троцкий и за ним Макс Вебер; государство есть территориализация насилия. И, наоборот, там, где земли были одинаково плодородными, например в лесах Амазонки или Северной Европы, государства формировались позже. Географическая неоднородность определяла формирование и выживание государств.
Вне этих зон оседлости, земледелие оставалось подсечным, и там не было границы между лесом и полем. Повторяясь на протяжении столетий, низовые пожары формировали продуктивную среду, в которой между деревьями росли злаки, бобы и овощи, а также съедобные коренья, ягоды и грибы. Сюда приходили животные, которые в этой освоенной местности становились легкой добычей для людей, имевших только деревянные дротики и собак. Животных можно было запереть в загонах и дать им размножаться, убивая старых и негодных; так началось скотоводство. Но работа на земле не делала этих людей оседлыми; после поджогов почва быстро истощалась, и поля, засеянные между деревьями, перемещались вместе с жилищами. Оседлость приходила с ирригацией болот. Когда люди научились осушать землю, они смогли и орошать ее, хотя на этот шаг тоже понадобились тысячелетия.
Хотя потребности земледелия вели к оседлости и коллективной обороне, превращение деревни в город было очень дорогим проектом. Сельское хозяйство не было достаточно интенсивным, чтобы кормить кого-то кроме земледельца и его семьи. Тысячелетиями крестьяне добавляли недостающие части своего рациона, охотясь в лесу, пася скот или собирая моллюсков. Иначе говоря, эти потомки Адама долго совмещали все стадии: они были охотниками, собирателями, скотоводами и земледельцами. Без принуждения ни один крестьянин или крестьянка не отказывались от охоты, рыбалки или собирания плодов леса. Со временем, однако, появлялся внутренний хозяин или внешний кочевник, который стремился обложить эти семьи и деревни налогом. Он брал натурой, а потом хранил зерно на случай голода или менял его на то, чего не было на месте. У него были две проблемы. Получая 2–5 зерен с каждого посаженного зерна, люди и так находились на грани выживания; изъять у них десятину значило лишить их семян и обречь на голодную смерть, что было невыгодно хозяину. Другая проблема состояла в том, что, кроме зерна, добычу этих людей было невозможно посчитать и учесть; она была скоропортящейся, как дичь, или вовсе невидимой, как коренья или ягоды. По мере того как заезжий бандит становился местным властителем, он переводил свои деревни на зерновое земледелие, препятствуя другим видам промысла. Этому способствовало обезлесение, сопутствовавшее любому росту населения. Ранние государства совсем не были похожи на очаги культуры и гражданского мира. Люди, как писал потом Кант, мечтали о золотом веке, и их «тоска доказывала отвращение, испытываемое мыслящим человеком к цивилизованной жизни».
Зерно сухое, его можно хранить, перевозить, взвешивать. Но Джеймс Скотт задается интересным вопросом: что такого было в пшенице, что делало ее более полезной для государственного земледелия, чем, например, чечевица, которая тоже подлежала хранению? Бобы или овощи созревают в разное время на одном и том же поле, и крестьяне собирают их по мере готовности в течение долгого сезона; для натурального хозяйства это только полезно. Пшеницу тысячелетиями подвергали селекции, чтобы настроить ее биологические часы так, чтобы мириады одновременно посаженных колосьев созревали тоже одновременно; это одно из чудес природы, в те далекие времена охотнее сотрудничавшей с человеком. Поле злаков надо убрать в течение недели, так было уже в древней Месопотамии; это требует мобилизации труда, но зато урожай можно обозреть и посчитать «с точки зрения государства». Более всего в таком результате был заинтересован сборщик налогов: это ему было важно оценить урожай, объезжая поля, и собрать свою долю (обычно десятину, но бывало и две). Для записи и учета этих налоговых поступлений, а потом и крестьянских долгов формировалась первая письменность. Превращая людей в средства, государство заставляло крестьян пахать и предписывало им, что сеять. Живя натуральным хозяйством, люди вперемежку сеяли овощи, бобы и злаки, чтобы поддерживать продуктивность почвы и всегда иметь еду, которая не подлежит длительному хранению. С появлением государственного интереса все изменилось. Преодолевая сопротивление крестьян, власть заставляла их переходить на злаки. В Месопотамии предпочитали пшеницу; по мере засоления почв, неизбежного при ирригации, переходили на просо. Древние Афины зависели от египетского и сицилийского зерна, которое перевозили по морю. Китайские города нуждались в рисе; уже в VI веке к ним шли каналы, по которым рис перевозили на две тысячи километров. Пшеничный хлеб всегда ценился в Европе; но в огромных объемах балтийской торговли, которая в XVI и XVII веках снабжала продовольствием Голландию и Англию, преобладала рожь. Для торговли строились порты и зернохранилища; соревнуясь с храмами и дворцами, это были самые сложные постройки, какие мог создать человек. Собирая налоги и обеспечивая хранение зерна, государство брало на себя ответственность за снабжение населения в случае неурожая или войны. Многие революции, например Французская и Русская, начались в ответ на опустошение столичных складов.
Как бы крестьяне ни стремились разнообразить свои поля овощами, бобами и севооборотами, аграрные государства зависели только от зерна. Даже внедряя картофель, государства продолжали собирать налоги зерном – пшеницей, рисом, ячменем, кукурузой. Эти четыре вида зерна и сегодня дают больше половины калорий, которые потребляет человечество. Все они одновременно созревают и долго хранятся, что делает их пригодными для торговли и налогообложения. Но и различия между ними велики. В отличие от пшеницы или ржи, зерновой рис легко варится, а если его размолоть, то мука быстро портится. Поэтому в Китае почти не было мельниц, которые веками воплощали техническое превосходство Европы.
Продолжая миграцию безволосого человека из африканских саванн в леса и болота Евразии, движение человека на север продолжалось весь античный период, в Средние века и в Новое время. Тысячелетиями центром торговой жизни было Средиземное море; на заре Нового времени эта роль перешла Северному морю. Роскошные качества восточного сырья – шелка, сахара, хлопка – еще долго сохраняли привлекательность; но северные культуры, такие как шерсть, лен и конопля, готовили Новое время. В конце концов даже соль и сахар научились делать из северного сырья. В Европе перелом баланса между севером и югом случился в кризисном XVII веке; то было время религиозных войн, заката старых империй и становления новых. Протестантская реформация и Тридцатилетняя война были общеевропейским конфликтом между Севером и Югом; начиная с этого времени, Север обычно побеждал. В начале XVII века две трети населения Европы жило в Средиземноморье – в Испании, Италии, на Балканах; но уже в середине века население Северной Европы, от Англии до Польши, составило половину населения континента. Вену удалось защитить от турок, но Прага была взята шведами; эпидемии и войны разоряли всех, но страны Северной Европы оказались лучше защищены от голода. Секретом выживания были «призрачные акры» – продуктивные ресурсы, которые находились за пределами страны, но были доступны ей в результате колонизации или дальней торговли. Введенное американским историком Кеннетом Померанцем, исчисление импортного сырья в «призрачных акрах» показывает условную площадь земли, которая понадобилась бы материнской стране, чтобы произвести на ней столько же сырья, которое давал ей импорт. Первые океанские империи, Португальская и Испанская, искали колонии в южных морях; Голландия и Англия следовали этим примерам, но больше опирались на торговлю с огромными пространствами Севера – от Архангельска до Ньюфаундленда, от Данцига до Бергена. Ганзейская и потом голландская торговля северным сырьем – зерном, древесиной, мехом, пенькой, железом – имела большие объемы, чем колониальная торговля сахаром, чаем, хлопком и другими южными культурами.
Поджечь лес, остановить огонь и расчистить землю – все это требовало усилий, но давало немедленный результат. Потом земля уже никогда не бывала столь обильна, как после распашки гарей. Почва истощалась, и урожай резко падал на третий год. В XVIII веке агрономы назвали это законом убывающего плодородия, а экономисты – законом уменьшающейся отдачи. Натуральное хозяйство действует как саморегулирующий механизм типа термостата: оно производит столько, сколько нужно человеческой группе для ее физического выживания. Чтобы торговать, нужны излишки, но верно и обратное: нет торга – не будет и излишков. Если они получились в этом году, в следующем они исчезнут; для этого достаточно приложить меньше труда или обработать меньше земли. Это порядок самой природы, и главная забота здесь не в том, что делать с избытком, а в том, как избежать недостатка.
Обезлесение Евразии было прямым результатом зерновой экспансии; но между лесом и полем всегда оставалось третье пространство – пастбище, луг, болото. В течение двух тысячелетий от половины до трети всей земли, уже отнятой от леса, в каждый данный момент оставалась нераспаханной. Во владениях Древнего Рима треть земель лежала под паром, то есть незасеянной. Крестьяне к северу от Альп столетиями практиковали залежное земледелие, сея и убирая урожай, потом пуская туда скот, а через несколько лет бросая поле и углубляясь в лес. Для выживания таким способом нужны огромные пространства пустой земли. Даже вокруг Парижа крестьяне не трогали землю под паром до XII века. В начале XIX века четверть германских земель лежала под паром; даже в передовой Фландрии десятая часть пахотной земли оставалась неиспользованной. История земледелия была обучением крестьян тому, что делать с оставленной «под паром» землей, как дать ей альтернативную продуктивность.
В трехпольном хозяйстве Северной Европы землевладение разделялось на три части. Осенью поле засевалось пшеницей или рожью. Весной урожай убирали, и поле засевалось ячменем или овсом, которые потом шли на корм скоту. Потом поле год стояло под паром. Таким образом, треть земли оставалась непродуктивной, а на засеянной земле урожай был 4:1, то есть на каждое посеянное зерно вырастало четыре новых зерна. Такова была средняя продуктивность зернового земледелия по всей Европе, от Италии до Скандинавии. Больших урожаев удавалось добиться только удобрениями – навозом либо городскими отходами; все это требовало труда и было доступно лишь на окраинах городов, где развивалось интенсивное земледелие. Оно тоже подчинялось закону уменьшающейся прибыли: каждое новое усилие фермера давало все меньшие результаты. Более сложные севообороты с выпасами скота, восстанавливающими плодородие почвы, требовали планирования работ на 5 или даже 7 лет вперед; это было возможно лишь в больших поместьях и при условии политической стабильности. В итоге лишь в Англии и Голландии продуктивность полей достигала 1:10. В северном земледелии только злаки и технические культуры (лен, конопля, подсолнечник) давали сырье, пригодное для торгового использования; все остальное потребляли на месте. Так, во взаимодействии между товарным и натуральным хозяйством, формировались системы севооборота.
Увеличивая количество продовольствия и качественно его обогащая, севообороты были главным фактором роста продуктивности: в начале нашей эры один гектар кормил одного человека; в Западной Европе XIX века с гектара кормилось до семи человек. Но севообороты еще означали переориентацию хозяйства с зерна на волокна – шерсть, лен, пеньку. Крестьянин должен был из своего урожая кормить семью и еще отдавать всевозможные выплаты – аренду, оброк, подати – хозяину и государству. Это вынуждало его зарабатывать наличные деньги. Меркантилистское государство сводило натуральное хозяйство с его сырыми, скоропортящимися продуктами до минимума, нужного для выживания. В новой аграрной экономике хозяйства производили столько зерна, сколько было нужно для питания людей и скота; остальные земля и труд уходили на создание промышленного сырья, которое продавалось на рынке или перерабатывалось на месте. То был путь обогащения: «коттеджная индустрия» – например, производство шерстяных тканей и готовых изделий прямо в фермерских домах – оставляла крестьянским семьям часть прибыли, которая в других случаях доставалась купцам и приказчикам. Но эта новая экономика продолжала зависеть от массовых поставок зерна с востока Европы – из портов Пруссии, Польши и балтийских земель – в западные города.
Землевладельцы Восточной Европы сражались с теми же проблемами зерновой экономики, с которыми за тысячелетия до того столкнулись месопотамские властители: малая плотность населения, низкая продуктивность хозяйств, длинные пути сообщения и «ленивое» население, имевшее слабую мотивацию к труду и еще меньшую к накоплению. Но зерновому экспортеру не нужно было интенсивное хозяйство, как на сахарных или хлопковых плантациях. В отличие от рабовладельца, который снабжал рабов всем – продовольствием, одеждой и инструментами, – помещика устраивало выживание крестьян на основе натурального хозяйства. Приказчика интересовал только сбор урожая. Тысячелетняя селекция сделала свое дело: злаки созревали одновременно, их можно было сразу убрать и обработать. Это экономило труд, и в течение года крестьяне мало занимались помещичьим полем; у них были огороды, пастбища и промыслы. В эти дела помещик не вмешивался, что способствовало развитию. Домохозяйства все больше сосредотачивались на промыслах и отходничестве, которые давали им свободу и прибыль. Помещик не был заинтересован и в сложных севооборотах, нужных для роста продуктивности: они только затрудняли сбор ренты. Улучшения земли, требовавшие капитала, тоже не входили в круг его высоких интересов. Зерно давало элите идеальные возможности править, находясь в отсутствии.
Возможности зерновой торговли всецело зависели от системы рек, которые текли к морям, позволяя сплавлять баржи с зерном по течению. Даже небольшое, на десять – двадцать километров, удаление от реки делало товарное земледелие невозможным. Балтийским помещикам приходилось заботиться о доставке зерна на речные пристани, откуда местные купцы доставляли его в порты. Для этого нужна была физическая власть над крестьянами, чтобы принуждать их к работе так, как крестьяне принуждали к ней своих лошадей. Если зерно удавалось доставить в морской порт, дальнейшая логистика и транспортировка обеспечивались иностранными кораблями, а прибыль доставалась их владельцам. Рента, которую получал помещик, зависела не от продуктивности земли, а от ее близости к реке и морю. Деньги нужны были для строительства городских домов и приобретения предметов роскоши. Для деревни их капитал был потерян.
Сельское хозяйство давало всеобщую, хотя неполную и непостоянную занятость. Многие работы были сезонными; люди работали, подчиняясь годовому ритму подготовки земли, сева, уборки урожая и его переработки. Даже в начале ХХ века в русских деревнях мужчины были заняты не более половины времени, женщины и подростки – не более трети. Зато в страду, когда урожай надо было срочно убрать, в работах участвовали все – мужчины, женщины, дети. Главные моменты этого цикла были заданы древней селекцией, его мало меняли технологические новации. Важной была постепенная замена быков на лошадей; в Англии она произошла уже в XVI веке, в Европе много позже, и шла, как и многие подобные «улучшения», с запада на восток. Крестьяне везде сопротивлялись этой замене, которая часто исходила сверху, от землевладельцев. Низкорослые лошади на деревянных подковах не могли тянуть плуг; их вес и сила росли, но изменения происходили благодаря селекции, которая происходила в кавалерийских, а не крестьянских конюшнях. Потом у лошадей появились железные подковы, у плугов железный лемех, переворачивавший отвал земли; используя железные мотыги, поля стали выравнивать, отводя воду посредством канав. То была конверсия военных технологий в гражданские, характерная для Нового времени, – компенсация за бесконечные подати, реквизиции и постои, которыми гражданская жизнь расплачивалась за победы государства.
В течение веков многолетние системы севооборота усложнялись, но сталкивались с понятными трудностями. В 1742 году астраханский губернатор Василий Татищев, до того проведший несколько полезных для себя лет в Швеции, наставлял местных землевладельцев разделить «помещикову землю» на четыре части: «первая будет с рожью, вторая с яровым, третья под пар, четвертая с выгоном скота… дабы в короткое время вся земля чрез то удобрена навозом была, отчего невероятная прибыль быть может». Опробованная в Голландии, в XVIII веке четырехпольная система распространялась в Англии, Швеции и Пруссии. В Англии ее внедрял канцлер Чарльз Таунсхенд, более известный своими налогами, которые привели к Американской революции; он был таким энтузиастом четырехполья, что враги звали его «турнепсовым лордом». В английской экономике производство пшеницы с акра за XVII–XVIII века выросло вдвое. В начале этого периода 30 % сельской земли в каждый момент лежало под паром; в конце эта цифра уменьшилась почти вдвое. Овощи и бобы с оборотных полей не шли на продажу; люди и животные потребляли их прямо на фермах, экономя товарное зерно, которое приносило прибыль. Самым мощным стимулом для этих перемен было увеличение спроса: росшие города требовали все больше продовольствия, что вызывало специализацию пригородных хозяйств. То же происходило в Америке. Родившийся рабом и ставший профессором, агроном Джордж Вашингтон Карвер внедрил четырехпольную систему на американском Юге. Потом его систему экспортировали на африканские плантации. Позднее многопольная система еще больше дифференцировалась; некоторые агрономы проповедовали семи- и даже одиннадцатипольные севообороты. Но скачка продуктивности это не дало.
Если учесть трудности долгосрочного планирования, которые очевидны современному человеку, многолетние севообороты кажутся обреченным делом. Губернатор Астрахани Василий Татищев убеждал в пользе севооборотов местных латифундистов, пахавших только что завоеванную землю руками только что переселенных крестьян; он был отстранен от своей должности в 1745-м – через три года после того как написал свое наставление о четырехлетнем севообороте. Другой знаток севооборотов, Андрей Болотов, внедрял их как управляющий подмосковного имения, которое принадлежало царствующей особе. Болотов видел выгоды семипольной системы в Восточной Пруссии, где он служил в Семилетнюю войну; по его расчетам, она увеличивала прибыль с земли в полтора раза. Отмежевав семь полей и заставив крестьян разделить их рвами, Болотов был доволен первыми посевами. Но через два года он был переведен на более выгодную должность, и поля вернулись в первоначальное состояние. Многолетние циклы требовали развитых прав собственности, оседлого населения и традиций, которые сочетали бы память о прошлом с верой в будущее. Помещики и приказчики жаловались, что крестьяне стали ленивы, улучшения не приживались, земля лежала под паром, урожай гнил на корню, запасов было мало, а дорог и вовсе не было. В отсутствие дорог увеличивать производство зерна не было смысла. Главным способом использования излишков было винокурение. Получалось, что повышая производительность крестьянского труда, приказчик только снижал цену на водку в деревенском трактире.
Даже если рынки были доступны, севообороту мешали наборы рекрутов, реквизиции лошадей, проход или постой армий, модернизационные проекты государства. Наследники крестовых походов и религиозных войн, молодые агрессивные государства заботились о снабжении городов и пытались контролировать цены на зерно. Города были способны к бунту, столицы – к революции, а крестьяне – к саботажу. Зерновой базой Кастилии была далекая Сицилия; в 1539 году испанский король установил максимальные цены на хлеб, и Сицилия перестала поставлять зерно. Ответственностью государя были пути сообщения. Рост Мадрида был остановлен отсутствием путей, по которым можно было доставить зерно и дрова; корона переехала в Севилью. В середине XVII века Париж потреблял три миллиона бушелей зерна в год, Амстердам полтора миллиона, Рим нуждался в миллионе бушелей (бушель равен примерно трем ведрам). Завозить такие количества продовольствия телегами было невозможно; развивались только те города, которые находились на море или судоходной реке. Снабжение Амстердама шло из польских земель вокруг Данцига, снабжение Стокгольма зависело от полей Лифляндии и Эстляндии. Дефицит зерна был постоянной проблемой средиземноморских городов; уже в XVI веке голландские корабли завозили сюда зерно из балтийских стран. Снабжению Лондона помогло осушение болот Восточной Англии, осуществленное фламандскими гугенотами; там расположились огромные фермы, снабжавшие столицу. Снабжение Парижа шло по Сене и каналам, построенным Кольбером; законченная в 1734 году, эта изумительная система охватывала большую часть северной Франции. Но она лишала продовольствия провинции, и рост столицы сопровождался крестьянскими восстаниями. От Венеции до Санкт-Петербурга заполненные зернохранилища так же символизировали стабильность власти, как это было тысячи лет назад в городах Месопотамии.
В Англию сельскохозяйственные нововведения приходили из Нидерландов: оттуда было заимствовано строительство каналов и дамб для осушения полей, многолетние севообороты с участием кормовых культур, массовое использование навоза. В самих Нидерландах продуктивность земледелия в прибрежной полосе была вдвое выше, чем в более отдаленных частях страны. Появление сырья, годного для переработки или вывоза, меняло социальные отношения. Неравенство в таких случаях всегда росло, подчиняясь правилам экономической географии, открытым Кантильоном: богатели не те места, где добывали сырье, но те места, где его перерабатывали. Овцы, пасущиеся на лугах, делали то, что не могли пшеничные поля, – «превращали песок в золото», производя сухое, легкое и полезное сырье, которое можно перевезти и продать. Вместе с сельскими прядильщицами и вязальщицами английские овцы создали больше национального богатства, чем все заморские владения империи. Но шерсть подчинялась обычным законам ресурсного хозяйства: увеличивая пастбища, лорды получали все меньший рост прибыли, подавляя при этом другие сектора экономики. Шерсть требовала роста пастбищ, где могли бы пастись овцы, и роста городов, где ее перерабатывали в товар, а значит, и роста полей, которые кормили города. Такое развитие вело к продовольственному кризису: земля вдруг стала ограниченной.
Находясь на пересечении сырьевых потоков, следовавших из деревень и колоний, росли портовые города. В 1700 году в Лондоне и Амстердаме уже жила десятая часть населения обеих стран. Двигаясь от портов к деревням, рынок захватывал все большую часть страны. Все меньше крестьян жили натуральным хозяйством, все большая их часть занималась переделкой сырья в товар, его переработкой и сбытом. Прогресс промышленности требовал разделения труда; прогресс сельского хозяйства, наоборот, предполагал его совмещение. Новые режимы землепользования, чередовавшие поле и пастбище на одной земле, требовали соединить роли земледельца и скотовода, которые были разделены со времен Каина и Авеля. Сравнивая хозяйственную жизнь европейского крестьянина с тем, чем был занят в XIX и XX веках европейский рабочий, мы придем к неожиданному выводу: крестьянское хозяйство было более сложным, работа крестьянина более разнообразной, а его питание более качественным, чем пролетарские. Смена сезонов давала разнообразие крестьянской работе; пестроту и возможность уйти из-под контроля предоставляли севообороты. Занятый бесконечным повторением одних и тех же операций, рабочий в шахте или на конвейере мог только мечтать о таком режиме работы, при котором он мог бы, к примеру, сегодня быть токарем, завтра пастухом, послезавтра кучером, а потом наступят длинные праздники, когда можно заняться домом или развлечениями.
Разница в темпах технологического развития между городом и деревней была огромной. В городах трудились кузнецы и кораблестроители, астрономы и теологи; там было изобретено книгопечатание, работали банки, произошла Реформация, строились корабли. В деревнях крестьяне продолжали пахать землю деревянными плугами, запряженными быками. Просвещенные господа читали газеты в масонских клубах, наслаждались табаком и кофе, привезенными из колоний, и мечтали о революции, которая изменит мир. Крестьяне давали своей земле отдыхать под паром, сохраняя огромные земли необработанными, будто это были колонии. Скот замещал своей работой мускульную силу человека, создавал пищевую энергию и возвращал ее в почву; но он же отнимал огромное количество пахотной земли. В начале XIX века английская ферма с 20 акрами пахотной земли требовала еще 8 акров для четырех быков, без которых не собрать урожай. В начале ХХ века в Северной Америке было двадцать пять миллионов лошадей и мулов – по одному коню на трех человек; чтобы прокормить их, требовалась четверть всей сельскохозяйственной земли.
Медленное, с перерывами и отступлениями, развитие аграрной экономики – это не только история технологий, но и история собственности и сословий. Больше, чем любое другое, аграрное производство зависит от встречи между природой и трудом и, соответственно, от отношений между двумя ясно различимыми классами людей – собственниками земли и собственниками труда. Согласно идеям Роберта Бреннера, сельское хозяйство Европы прошло через две классовые войны. В позднем Средневековье, когда чума создала дефицит рабочей силы в деревне, крестьяне Западной Европы выиграли Первую классовую войну, утвердив свое право менять хозяина и работать по найму так же, как это делали горожане; крестьяне Восточной Европы, не прошедшей через чуму, проиграли ту войну и остались в крепостной зависимости. Помещики Востока были собственниками земли и труда; бароны Запада владели одной землей, и им приходилось покупать труд в обмен на землю. Поэтому западные землевладельцы стремились экономить труд, повышая эффективность земли. На свой проигрыш они ответили Второй классовой войной: теперь бароны и лорды хотели, чтобы свобода контрактов была двусторонней, так чтобы не только крестьяне могли уходить с земли, но и лорды могли выселять их оттуда. Без рынка земли капитализм был не полон; а земельный рынок нельзя создать, если не разорвать связь между землей и крестьянином. В Англии эту войну выиграла элита: при поддержке короны лорды могли огораживать поля, внедрять «улучшения» и выселять лишних крестьян, которые шли в города. Во Франции Вторую классовую войну выиграли крестьяне, и страна осталась зависеть от миллионов мелких землевладений, которым не нужны были инновации, потому что улучшенную землю все равно было трудно продать. На востоке Европы помещики добились земельного рынка, но у него были ограничения: землю можно было продать только с крестьянами, а потом и крестьян стало можно продать только с землей. Такую землю было трудно заложить, нельзя сдать или арендовать.
Крестьянский саботаж мог быть сознательным или нет; землевладельцы объясняли его ленью – словом, будто назначенным для крестьянской жизни. Английские лорды подозревали в лени ирландских крестьян; Мальтус объяснял ирландскую лень продуктивностью картофеля, которым было трудно торговать. Американские плантаторы считали лень непременным свойством черных рабов. Адам Смит объяснял крестьянскую лень недостатком специализации: «Привычка глазеть по сторонам и работать небрежно… приобретаемая каждым деревенским работником, который вынужден каждые полчаса менять инструменты и ежедневно приноравливаться к двадцати различным занятиям, почти всегда делает его ленивым и нерадивым». Русские помещики много жаловались на лень своих крепостных. Отважный генерал и богатый помещик XVIII века, Александр Суворов полагал, что крестьянская лень идет от изобилия земли и от легкого оброка; отсюда следовало, что большая эксплуатация ведет к большему трудолюбию.
В 1920-х годах русский экономист Александр Чаянов описал крестьянское хозяйство как «моральную экономию». Русский крестьянин был бы рад увеличить долю товарного производства в своем хозяйстве и заработать деньги на рынке; но он не готов был трудиться так, чтобы заработать больше, чем привык и считал необходимым. Интенсификация сельского хозяйства значила бы его специализацию, а крестьяне сопротивлялись ей. Причиной не был особенный характер русского крестьянина; напротив, Чаянов доказывал, что швейцарские и германские хозяйства тоже были устроены так, что крестьяне не гнались за прибылью, а избегали риска. У всякого крестьянина, писал Чаянов, «годовое напряжение труда» было крайне неравномерным, и этим крестьянская жизнь больше всего отличалась от городской и промышленной. Например, Чаянов видел, что крестьяне охотно держали в хозяйстве одну-две коровы, забота о которых обходилась им «почти даром». Но держать больше коров требовало труда, на который они не были готовы; впрочем, если сбыт был гарантирован, например в пригородах, коровники быстро росли. Большую часть года крестьяне оставались незанятыми: полевые работы в хозяйствах средней России занимали не более четверти их рабочего времени. Чтобы освоить товарное производство, например льна на экспорт, крестьяне шли на частичную специализацию; но даже богатея, они не отказывались от своих натуральных хозяйств. Для городских промыслов всегда есть некий минимум цен, близкий к себестоимости, по достижении которого хозяйство прекратит работать; крестьянское хозяйство продолжало собирать урожай и продавать излишки, какими бы ни были цены, – сегодня так работают нефтяные скважины. Крестьянин трудился не для того, чтобы зарабатывать, а для того, чтобы выживать; не для того, чтобы максимизировать прибыль, но чтобы сделать ее достаточной.
Хотя самым эффективным решением всегда была специализация, крестьянское хозяйство оставалось многокультурным: даже если основным его продуктом, например зерном или шерстью, удавалось торговать на рынке, такое хозяйство производило много другого – овощей, мяса, сена и прочего, что потреблялось на месте. И производство, и потребление этих продуктов не входило в бухгалтерские книги, и они не облагались налогами. Натуральное хозяйство не волновало государство и помещиков; но именно оно было основой крестьянского выживания. Даже если его продукты имели товарную часть, многокультурные хозяйства меньше зависели от снижения цен. Деревня не принимала технических новинок потому, что не доверяла городу и сопротивлялась государству. К примеру, если у фермера был выбор между быками и лошадьми, он выбирал быков не потому, что был ленив и инертен, а потому, что в случае войны лошади подлежали реквизиции, так что пахать на быках было медленным, но более надежным делом. Агрономы навязывали крестьянам продуктивные сорта, а те предпочитали пшеницу, дававшую меньший урожай, но дольше стоявшую в поле: ее было легче убрать доступными силами. В свободное от основного занятия время, а его было много, крестьянин занимался промыслами, то есть создавал или чинил все то, что ему было нужно для выживания. Это обеспечивало полную, хотя и неравномерную занятость. На уборке урожая работали все, включая детей. Зимой и летом занимаясь одним и тем же делом, городские люди нуждались в разнообразии; благодаря сезонным, циклическим работам у крестьянина разнообразия хватало. Сезонный характер многих важнейших работ препятствовал внедрению машин и технологий. Молотилка, к примеру, помогала бы быстрее обработать пшеницу; но крестьяне молотили зимой, когда им нечего было делать, поэтому они не проявляли интереса к дорогим молотилкам, которые увеличивали томительное зимнее безделье. Жизнь города требовала запасов зерна и дров, которые могли предоставить только крестьяне. Торгуя с дальними краями и странами, изобретая и промышляя, город создавал поступательное движение технического прогресса, которому сопротивлялась деревня. Занятый своей линейной жизнью, город был чужд циклической жизни природы, которой подчинялась деревня.
Доставка зерна в новую столицу превратилась в одну из главных проблем Российской империи. Заняв в 1703 году дельту судоходной Невы, Петр I столкнулся с экологическими проблемами. Нездоровый климат, болотистая почва и частые наводнения делали эту землю трудной для земледелия. Бухта была мелководной; она не годилась для морских кораблей. По Неве проходил ганзейский путь в Новгород, но он не использовался уже несколько столетий. Петербург должен был спрямить морские пути сообщения, созданные Иваном Грозным; шведы в XVII веке оценивали беломорский путь из Архангельска в европейские порты как втрое более длинный, чем балтийский путь к Финскому заливу. Строя в устье Невы сначала крепость, потом порт и наконец столицу, империя опиралась на долгий опыт торговли с Северной Европой. И она брала обязательства по снабжению многих тысяч людей всем необходимым для выживания – и прежде всего зерном.
Торгово-промышленные города – Венеция, Гданьск, Нью-Йорк, Калькутта – развивались там, где было сырье, пригодное к вывозу; если торговля шла успешно, продовольствие сюда можно было привезти за малую часть прибылей. Место Санкт-Петербурга в этом ряду проблематично. Кроме нетронутых сосновых лесов, вокруг не было товарного сырья, а древесина поглощалась нуждами столицы и флота. Плодородные земли лежали далеко на южных склонах Среднерусской возвышенности. Позже империя вышла к Черному морю, колонизовав черноземы Украины и Новороссии. Приняв несколько волн переселений из средней России и Центральной Европы, черноземные поля давали отличные урожаи. Проблема империи теперь была в том, что на юге зерно было некому продать, а на севере его было негде купить. Экспансия остановилась, и главной задачей стало создание водных путей между торговым Севером и земледельческим Югом.
С юга к Балтийскому морю течет система рек, которые впадают в полноводную Неву; но они все начинались севернее черноземных земель. Невысокая (200 метров), но очень широкая (500 километров) Среднерусская возвышенность отделяет бассейны Балтийского и Белого морей от бассейнов Черного и Каспийского. Ее холмы были сердцем Московской Руси; они стала проклятием Российской империи. Неутомимый путешественник, Петр понимал масштаб проблемы. Ее решило бы устройство судоходного канала между притоком Волги и бассейном Ладоги. Теперь именно тут решались судьбы Евразии. Судоходный канал связал бы военно-торговую столицу с ее сырьевой базой, Балтийское море с Каспийским, Неву с Волгой, рынки Европы с сокровищами Азии.
Каналы со шлюзами, соединявшие бассейны разных рек, тогда существовали только во Франции. Бриарский канал, соединивший Сену и Луару, был построен герцогом Сюлли; строительство его продолжалось почти сорок лет. Еще более длинный – 100 километров и 61 шлюз – Центральный канал соединял бассейны Атлантики и Средиземного моря. То были крупнейшие сооружения XVII века. Задача русского канала казалась проще. Сначала Петр поручил планирование англичанину. Канал длиной всего 2,8 километра открывал непрерывный водный путь между Волгой и Невой длиной почти в тысячу километров. Это было место, где грузы издавна перегружали волоком между Волгой и Волховым; это место так и называлось – Вышний Волочок. Новый канал построил голландец; но его опыт не годился для возвышенности, и каналу не хватало воды. Переделывать его пригласили мастеров из Флоренции, но и они не справились с задачей. Тогда местный купец Михаил Сердюков, знавший о каналах и шлюзах по французским книжкам, добился у Петра концессии на перестройку канала. Сердюков (1678–1754) был пленным монголом, крещенным в Енисейске; его потом обвинят в старообрядчестве. Он поставил новые плотины, водохранилища и шлюзы, подняв уровень воды в одних местах и осушив болота в других; на канале работали мельницы, трактиры и винокурня. Его сын женился на дочери Акинфия Демидова, богатейшего уральского промышленника (Иван Сердюков утонул в своем же водохранилище в 1761-м). Но Вышневолоцкий канал работал. Почти два столетия, вплоть до эпохи железных дорог, по нему возили зерно в столицу. Но по нему не удавалось возить грузы в обратную сторону. Их так и таскали волоком, так что цена импортного текстиля в русской провинции была в несколько раз выше, чем в Петербурге.
Получив свой канал, Петр установил запретительные пошлины на вывоз пеньки и кож из Архангельска; оправдывая расходы, он хотел сосредоточить северную торговлю в новой столице. Цель была достигнута: с 1718 года по конец XVIII века количество судов, прибывавших в Кронштадт и отбывавших оттуда, увеличилось в шестьдесят раз, а вес грузов, проходящих через Вышний Волочок, – в сто. Население новой столицы быстро росло, но только в 1790 году оно превысило население Москвы. Росло и потребление основного продукта питания – ржи: с 1725-го по 1811-й оно увеличилось в десять раз. Массовые переселения солдат и крестьян, нужных для строительства города, увеличивали дефицит хлеба. Несмотря на высокие цены, фермы вокруг столицы так и не начали сеять рожь; продавая в городе мясо, молоко, сено и дрова, крестьяне сами покупали хлеб.
Рожь доставлялась в Петербург в виде готовой муки; мельниц в городе было мало, зато сразу началось строительство мучных складов. Более дорогая пшеничная мука доставлялась в небольших количествах; она шла богачам и иностранцам. Кроме ржаной муки, в массовых количествах с юга завозили только овес для лошадей. Потребительские цены определялись транспортными расходами: во времена Петра ржаная мука в Петербурге стоила вчетверо дороже, чем в Москве. Соответственно, чиновникам и офицерам Петербурга приходилось платить более высокие оклады, чем в Москве и других городах. Зато импортные предметы роскоши были тут дешевле, чем в других городах. Петербург быстро превращался в город шокирующего неравенства, каким его и описали русские классики.
Государственные вложения покрывались новыми налогами в деньгах и зерне, которые люди всех состояний платили по всей стране. Правительство пыталось контролировать или даже фиксировать цены. Тогда хлеб пропадал, и цены снова росли. Несмотря на трудную логистику снабжения, вплоть до начала ХХ века Петербург избежал хлебных бунтов, какие происходили, например, в Париже.
Даже земледельческие провинции вокруг Москвы не могли кормить Петербург; продуктивность зерновых в них редко превышала два зерна с каждого посаженного в землю. Только крепостное право держало крестьян на этой земле; при первой возможности они переселялись на южные черноземы, еще дальше от новой столицы. Избытки зерна были вокруг Тулы, Тамбова, Нижнего Новгорода и далее на юг. Вверх по Волге бурлаки или лошади тянули баржи с зерном от Казани и даже Симбирска. Их путь был далеким: две тысячи километров. Плодородные поля дальше к западу совсем не имели рынков сбыта. Неспособное вывозить украинское зерно, еще до наполеоновских войн правительство расквартировало там четверть российской армии. В течение XVIII века, площади чернозема под распашкой увеличились вдвое, а цены на зерно были ничтожными. Новая земля была роздана столичным аристократам, которые управляли своими огромными поместьями из Петербурга; неурожай и другие беды они объясняли ленью крестьян. Донские и днепровские черноземы не имели доступа к снабжению Петербурга.
При удаче волжское зерно достигало столицы за шесть месяцев, при неудаче за год; оно могло и утонуть или сгнить в пути. Муку было легче транспортировать, чем зерно, поэтому ее мололи на месте. Ее паковали в кули; так назывались короба, сделанные из бересты. В каждом куле было 7–9 пудов, или 120–160 килограммов муки. Щели между кусками бересты постепенно забивались мукой, больше она не просыпалась и не впитывала влагу. В таких кулях мука могла храниться до трех лет. В Петербурге опустевшие кули просто шли в печь. Они были дешевы, но их изготовление давало работу тысячам крестьян.
Осенью или зимой кули с мукой на телегах или санях доставляли на зерновые пристани. Там местные мастера приготовляли баржи; для этого нужны были доски, пенька, лен, железо и еще тысячи работников. Самый популярный вид баржи назывался расшива; у нее был круглый трюм глубиной до двух метров, одна палуба, парус и якорь. Длиной в 20–30 метров, расшивы перевозили 300 тонн груза. Расшивы обмазывали дегтем, и они служили несколько лет. На борту была команда из 3–4 человек. Вверх по течению баржу тянули бурлаки из расчета 3 человека на 100 кулей муки – 60 человек на расшиву с 2000 кулей. Расшивы шли вверх по течению Волги до Рыбинска; там начиналось мелководье, и кули перегружали на небольшие лодки, которые называли барками. Барки были одноразовыми: в Петербурге их разбирали и продавали на топливо. Это были длинные плоты из еловых бревен с осадкой меньше метра, с мачтой и парусом; на них помещалось до тысячи кулей муки. Вверх по течению их тянули лошади, по 10 на барку. Такие барки делали по всей верхней Волге, истощая леса. Путь до Твери занимал две недели; потом начинались пороги и мели, шедшие до шлюзов Волочка.
Канал оставался узким местом всей системы. Через него проходили тысячи судов в год, и для каждой проходки нанимались рабочие команды: барка с мукой требовала двенадцать работников, более тяжелая барка с пенькой – вдвое больше. Выйдя из канала, барки шли по течению и управлялись веслами. Но им еще надо было пройти несколько порогов, бурное озеро Ильмень и длинный канал, выстроенный в обход Ладоги. Везде были очереди, толчея и аварии; барка, застрявшая на порогах, могла задержать движение на неделю. Местные власти улучшали водную систему, углубляя канал, разрушая пороги или даже доставляя воду акведуками; но сроки доставки от этого не изменялись. В начале XIX века в действие вступила новая Мариинская система; благодаря новым каналам расшивы могли без перегрузки плыть через Рыбинск и вернуться обратно в том же сезоне. Позже была устроена третья, Тихвинская система. Население столицы все росло, и, соответственно, росло ее снабжение.
К 1850 году Петербург стал вторым по населению городом Европы после Парижа, а Российская империя – самым большим экспортером зерна на континенте. Обустройство Одесского порта вывело украинский хлеб на европейский рынок. Железные дороги наконец создали национальный рынок зерна. Только тогда осуществился план Петра, вряд ли предвидевшего рельсы и паровозы: значительная часть зернового экспорта пошла через Петербург. Роль государственных усилий в этих успехах была решающей. Хотя зерно выращивалось не государством, а частными производителями и цены на хлеб большей частью были свободными, государство обеспечило развитие инфраструктуры, без которой зернового рынка просто не было бы; не было бы и петербургской империи, какой мы ее знаем. Когда цена сырья определяется не стоимостью производства, а стоимостью транспорта – роль государства как создателя и держателя путей сообщения была и будет определяющей.
В сельском хозяйстве тысячелетнее постоянство сырьевых пристрастий поразительно. Шелк давно сменился хлопком, а меха шерстью, но Северная Европа продолжала сеять рожь, Центральная и Южная Европа – пшеницу, Юго-Восточная Азия – рис. Севообороты и другие улучшения обогащали рацион и повышали продуктивность, не меняя сырьевой парадигмы. Революция в европейском земледелии произошла только с открытием Америки и важнейшего из ее плодов – картофеля. Инки знали картофель столетиями; испанцам он понадобился, чтобы кормить индейцев на серебряных шахтах Потоси, где из-за высокогорья не росли злаки. Из Перу испанские корабли везли картофель, чтобы кормить матросов на обратном пути в Европу; потом его стали высевать в северной Испании и в итальянских Альпах. Привыкшие к чистому зерну, европейские землевладельцы были в ужасе от грязного, неправильной формы картофеля: во Франции верили, что он вызывал проказу, но где-то его считали афродизиаком. В Ирландию картофель попал как раз во время английской колонизации XVI века; возможно, его привез туда сам Уолтер Ралей, знаменитый путешественник. В 1594 году он искал золото в Южной Америке и, не найдя его, написал книгу об Эльдорадо. Он получил от королевы табачные плантации в Вирджинии и имения в Ирландии, которые тоже назвал плантациями. В 1602-м он продал свои ирландские владения Ричарду Бойлу, отцу великого химика; там уже шли массовые посевы картофеля. Католики бунтовали, англичане подавляли восстания. Тогда ирландцы и обнаружили стратегическое превосходство картофеля: неприятель вытаптывал поля и грабил амбары с зерном, но картофель оставался в земле и ждал хозяина. Им трудно торговать, но он кормил крестьянина с меньшего участка земли, чем пшеница; считалось, что акр картофеля может кормить десять человек, а не двух-трех, как акр пшеницы. Воды в картофеле в 7 раз больше, чем в пшеничном зерне, и поэтому он гниет много быстрее. Это спасло миллионы бедняков, выживавших тем, что не нужно казне и торговле.
Фридрих II, тогда еще наследный принц Пруссии, открыл картофель в хозяйствах собственных крестьян, реквизируя у них зерно. Крестьяне считали, что картофель не подлежал налогам и реквизиции: его нельзя долго хранить и далеко перевозить. Но и Фридрих знал свое дело. Став королем, он стал внедрять картофель, заставляя хозяйства засевать им поля, лежавшие под паром. Благодаря этому крестьяне потребляли меньше зерна и платили больше налогов. Картошка, засеянная на пустующих полях, вдвое увеличивала калории, собранные с земли, занятой севооборотами. Благодаря картофелю стало увеличиваться население, а это было давней задачей прусской короны. Картофель помог Пруссии пережить разорительную для нее Семилетнюю войну, когда почти вся ее территория была оккупирована голодными войсками.
Подражая Фридриху, европейские монархи стали вводить картофель на своих полях по всей северной части континента. Картофель и севообороты объясняют взрывной рост населения Европы в XIX веке; без картофеля не было бы ни урбанизации, ни промышленной революции. Удваивая продуктивность земли, картофель повышал и устойчивость снабжения: болезни злаков и картофеля совсем разные, как и их требования к климатическим условиям. Картофель и севообороты сделали возможными наполеоновские войны: без них нечем было бы кормить эти огромные армии. В одних местах крестьяне легко воспринимали картофель, в других сопротивлялись ему; в 1830–1840-х годах в центральных российских губерниях вспыхнули картофельные бунты, которые пришлось подавлять войсками. Возможно, государственные крестьяне бунтовали не против картофеля как такового, а против увеличения зерновых податей, ради которых их заставляли сеять картофель (так в российских условиях работал меркантильный насос, см. главу 9). В Ирландии на картофель жаловались, наоборот, землевладельцы; они без конца говорили о «крестьянской лени», которую связывали с высокой продуктивностью картофеля. Но в 1846 году в Ирландии начался Великий голод, вызванный массовой гибелью картофеля; весь остров был засеян одним сортом, потому болезнь и распространилась с такой скоростью.
Потом земли под паром стали засевать еще и свеклой, из которой варили сахар, или турнепсом, которым кормили скот. Вплоть до ХХ века европейские войны увеличивали площади посева картофеля, а мирные времена уменьшали их. Во времена голода картофель в земле становился важнее зерна на складах, которые в любой момент могли разграбить или реквизировать. Возможно, советская коллективизация потому привела черноземные области Украины и России к более страшному голоду, чем бедные северные области, что на юге доля овощей в посевах была меньше. В Северной Европе картофель увеличил посевные площади на целую четверть; потом переход на трактора и автомобили освободил под посев еще четверть земли, которая шла на корм лошадям. То был еще решающий рывок из мальтузианской ловушки.
На рубеже XVIII века европейская экономика представляла собой сотни городских хозяйств с пригородными поясами, простиравшимися на 10–20 километров вокруг. Почти все, что производили крестьяне в этих замкнутых анклавах, тут и потреблялось. По суше, между ними и окружавшими их огромными пространствами циркулировало очень мало сырья и товаров. Перспективы товарному хозяйству давало только развитие средств сообщения. До XIX века основным путем вывоза была вода. По каналу голландского образца одна лошадь могла везти столько зерна, сколько пятьдесят лошадей вывезли бы по хорошо устроенной дороге. Следуя голландской модели, европейские монархи развивали системы каналов, пересекавших Францию, северную Италию и балтийские страны. Благодаря своим рекам и морю Польша с XVI века стала основным поставщиком зерна для Нидерландов. При том что продуктивность земли была очень низкой, Польша добавляла Голландии огромное количество «призрачных акров» – по подсчетам Яна де Вриза, почти два с половиной миллиона гектаров пахотной земли, что примерно равно половине нынешней Голландии. Прежде чем направить зерно на вывоз, балтийскому помещику надо было накормить собственных крестьян. С его точки зрения, торговля с Голландией была единственным оправданием его расходов и усилий; но из Польши вывозилось не более 5 % произведенной там пшеницы и 12 % ржи; все остальное потреблялось на месте или шло на семена. Чтобы увеличить доходы, помещику надо было еще понизить оплату труда крестьян, но они и так работали на грани выживания. Все равно экспорт рос, почти удвоившись к середине XVII века. В это время Голландия ввозила столько польского зерна, что его хватило бы на пропитание полумиллиона человек, это два тогдашних Амстердама; около трети этого зерна шло на пиво и джин, часть реэкспортировалась. Опора на польское зерно освободила сотни голландских домохозяйств для развития специализированных производств, например ткацких, сапожных или сыродельческих; наряду с энергетическими технологиями, основанными на торфе, ветре и воде, польское зерно стало основой для золотого века голландской промышленности. В Польше массовые поставки зерна вели к новому закрепощению крестьян.
Своими рынками и ценами город стал определять многое, что происходило в деревне. В 1826 году мекленбургский помещик Иоганн фон Тюнен показал, что аграрные доходы зависели не от почвы и не от земледельца, но от расстояния до города. В своей книге «Изолированное государство» Тюнен построил формальную модель отношений между городом и деревней. Вокруг города, рассуждал он, формируется пояс близлежащих ферм, которые производят на городской рынок овощи, молоко и мясо. Цены на них в городе высоки, но прибыль получают только пригородные фермы, которые конкурируют между собой. Им не нужны севообороты, потому что они удобряют почву навозом, который доставляют из города. Следующий пояс составляют зерновые хозяйства, которые поставляют в город рожь и пшеницу. Чем ближе ферма к городу, тем дешевле доставка. (Имение Тюнена было расположено в пяти милях от Ростока, и он знал, о чем говорил.) Если ферма находится на расстоянии десяти миль от городского рынка, лошади и подводы будут находиться в пути туда и обратно четыре дня. Лошадям надо есть; по расчетам Тюнена, в этом случае они съедят одну восьмую доставленного зерна. За пятьдесят миль от города доставка становится невыгодной: лошади съедят в пути весь свой груз. На этом основании Тюнен пересматривал само понятие земельной ренты: она определяется не столько плодородием земли, как считал Рикардо, сколько расстоянием от рынка. Далее, город нуждается не только в продовольствии, но и в дровах. Зона леса расположена в третьем поясе, на периферии. Цены на дрова должны оправдывать усилия по их доставке в город и по воспроизводству леса. Во внешнем поясе находятся и технические виды земледелия, создающие сухие и дорогие товары – шерсть, лен, пеньку, масло. Рост или падение цен в городе сдвигает границы сельских поясов: чем выше цены на зерно, тем больше будет вспаханной земли и тем более далекая доставка зерна будет выгодной.
Самое равномерно распределенное из всех природных ресурсов, зерно стало предметом первых протекционистских законов, ограничивших свободную торговлю ради безопасности и суверенитета. В Англии первые законы против спекуляции зерном были приняты в XVII веке. Интересы производителей, хотевших поднять цены, вступали в борьбу с интересами потребителей, которым это грозило голодом. Успокоить цены помогла бы внешняя конкуренция, но государство предпочитало охранять рынок землевладельцев, из которых оно само состояло. Сначала парламент решил устранить посредников-перекупщиков, потом стал препятствовать импорту зерна. В 1815 году начался послевоенный кризис: по всей Европе армии были демобилизованы и спрос на множество видов сырья и товаров разом упал. В ответ парламент проголосовал за Хлебные законы, которые ограничивали импорт злаков. Экономисты спорили об этих законах; Мальтус считал их справедливыми, Рикардо отстаивал свободу торговли. В результате цены на продукты промышленности упали, а цены на зерно и муку стабилизировались. В Лондоне начались хлебные бунты: пролетарии, занятые в переработке хлопка, не могли заработать на еду. В 1816 году на далеком острове Сумбава в голландской Индонезии произошло извержение вулкана Тамбора, самое крупное в истории наблюдений. Результатом был «год без лета» – тучи над всей Европой, постоянные дожди и катастрофические неурожаи. Средняя температура на планете упала на один градус; этого было достаточно для того, чтобы вызвать голод и хлебные бунты по всей Европе. Цены на овес в Новой Англии увеличились в восемь раз. Менявшиеся правительства предпочитали подавлять беспорядки силой. Защищая «хлопковый интерес» против «хлебного интереса», группа интеллектуалов и журналистов из текстильного Манчестера требовала свободных цен. Агитация Манчестерской школы усиливалась в годы плохих урожаев и затихала в хорошие годы. Ее лидером был Ричард Кобден, владелец прибыльной фабрики крашеного хлопка-«калико»; он требовал отмены пошлин, ограниченного рабочего дня, минимальной зарплаты и многого другого, что имело смысл для рабочего, но было непонятно крестьянину. Свободная торговля, писал Кобден, есть главный секрет вечного мира, потому что народы будут заинтересованы в преуспевании других народов так же, как в собственном. Для поколения, пережившего наполеоновские войны и континентальную блокаду, это рассуждение казалось убедительным. В 1841 году премьер-министром стал поклонник Адама Смита и свободной торговли Роберт Пиль. Он был сыном магната-текстильщика – первый глава британского правительства, чье состояние было связано с хлопком, а не с зерном или сахаром. В 1846 году в Ирландии начался Великий голод. Гибель многих тысяч людей помогла Пилу отозвать Хлебные законы. Начатые Адамом Смитом, дебаты о преимуществе свободной торговли над меркантилизмом завершились практической победой фри-трейдеров.
Борьба вокруг Хлебных законов стала уроком для множества наблюдателей. С 1849 года Маркс жил в Лондоне; память о Хлебных законах была школой того, что он назвал материалистическим пониманием истории. Падение цен на зерно вызвало разорение фермеров-арендаторов; эффект был сходен со старыми огораживаниями, безземельные крестьяне уезжали в промышленные города или за океан. В деревне выживали только крупные фермы, которым помогала экономика масштаба. Чтобы облегчить продажи и укрупнения, правительству пришлось создать свободный рынок земли, отменяя наследственные права и ограничения. К этому давно призывали радикальные последователи Бентама и Кобдена. То была полная победа промышленных интересов над аграрными, волокон и металлов над зерном и сахаром.
Отмена хлебных пошлин в Англии привела к взлету цен на континенте. Вывоз зерна из России увеличился в три раза, но товарный хлеб составлял ничтожную долю зерна, потребляемого в натуральных хозяйствах. Проблемой были пути доставки и транспорт; от них зависели объемы зернового экспорта, накопление русских капиталов и, соответственно, государственные расходы. По словам историка-марксиста Михаила Покровского, чем выше в XIX веке были мировые цены на зерно, тем более агрессивной была имперская политика; Крымская война была подготовлена ростом хлебного вывоза. Та же логика повторилась и в XXI веке, и тоже в связи с Крымом: чем выше цены на нефть, тем агрессивнее слова и действия российских властей; и наоборот, когда цены падают, власти расслабляются. В середине XIX века произошел характерный случай сырьевой субституции, когда спрос на природный ресурс обрушивается в результате появления дешевой альтернативы: благодаря новым средствам транспорта – парусным кораблям, сделанным из металла, и пароходам – на европейском рынке появилось американское зерно. Освобождение крестьян и строительство железных дорог позволило увеличить и российский экспорт; цены на зерно настолько упали, что для поддержания оборота Российское правительство в 1865 году отменило вывозные пошлины. Английское зерно вовсе не выдержало ценовой конкуренции. В 1880-е Великобритания импортировала 65 % пшеницы, платя за зерно продуктами своей промышленности. В конце XIX века почти вся Европа практиковала продовольственный протекционизм; воздержались от этого только самые промышленно развитые страны – Великобритания и Бельгия.
К концу XIX века развитие железнодорожной сети, рост глобальных цен на пшеницу и увеличение продуктивности земледелия вызвали экономическую экспансию по всему Северному полушарию, от Канады до Пруссии и далее до Сибири. На рубеже веков Российская империя показывала экономический рост, который был выше развитых стран Европы и Америки. Но продуктивность российских полей не увеличивалась, и городское население росло очень медленно. В 1885-м сельское хозяйство составляло 59 % российской экономики, в 1913-м его доля снизилась до 51 %. Все же план Сергея Витте, переводивший английский меркантилизм с морей на сушу, работал: благодаря железным дорогам рост зерновой торговли составил больше половины роста всей экономики. Около пятой части роста внесло производство хлопкового текстиля, которое опиралось на новые поля Средней Азии. Экономический историк Дэвид Аллен характеризует поздний период империи как одноразовый сырьевой бум. Рост внутреннего потребления был незначителен; рост производительности тоже остановился. Накануне Первой мировой войны русские крестьяне собирали втрое меньше пшеницы с акра, чем английские фермеры. Зато площадь земель под плугом росла почти так же быстро, как население и поголовье скота. После Первой мировой войны глобальные цены на пшеницу опять обрушились. Аграрные эксперименты советской власти – крайний пример модернистского переустройства «с точки государства» – привели к массовому голоду во время коллективизации и потом к хроническим неурожаям и экологическим проблемам. Дело дошло до Продовольственной программы 1982 года, по которой огромные количества зерна закупались в обмен на нефть.
Бурно росшее население планеты избежало мальтузианской ловушки расширением пахотной земли и техническими новациями. После Первой мировой войны Джон Мейнард Кейнс предсказывал, что рост населения Америки и России остановит зерновые поставки в Европу, поставив старый континент под угрозу голода. Этого не случилось. Тысячи изобретений, сделанных химиками, инженерами и селекционерами, привели к тому, что зерно перестало быть продуктом земли, солнца и труда, как это было во времена Мальтуса; на каждую его тонну ушли и баррели ископаемого топлива. Земледелие и еще более энергоемкое скотоводство стало «петрофармингом» – конверсией нефти в пищу при участии земли, солнца и труда.
Ирония истории в том, что в начале XXI века сельскохозяйственное производство глобально повторяет ту самую, много раз высмеянную, Продовольственную программу, которая привела СССР к катастрофе. Петрофарминг тоже меняет нефть на продовольствие, делая это двумя способами: физическим и финансовым. Химические удобрения, которые производятся из газа, и сельскохозяйственные машины, работающие на нефтепродуктах, на порядок повысили продуктивность земледелия и его энергоемкость. Благодаря креативности ученых и инженеров ископаемое горючее дало человеку миллионы «призрачных акров». В начале XIX века в Англии на производство дюжины пищевых калорий тратили одну калорию, полученную сжиганием топлива. В начале XXI века соотношение сменилось на противоположное: в развитых странах на одну пищевую тратят две горючие калории. Если бы можно было посчитать интеллектуальные затраты, которые уходили и уходят на производство каждой пищевой калории, результат был бы схожим: покончив с «идиотизмом сельской жизни», современные фермы требуют разделения труда, долгосрочного планирования и массового применения научного знания. В основе этой эффективности, спасшей человечество от мальтузианской ловушки и приведшей ко взрывному увеличению населения, остается физическая конверсия затраченного топлива в собранный урожай.
Но еще более масштабна финансовая конверсия, охватывающая гигантские потоки капитала и идущая против всякого здравого смысла – неоклассического, марксистского или экологического. Речь идет о сельскохозяйственных субсидиях – государственной системе перераспределения капитала между городом и деревней, между промышленностью и сельским хозяйством и в конечном итоге между нефтью и зерном. В Европейском союзе аграрные субсидии являются второй статьей расходов после безопасности – около 60 миллиардов в 2018-м, или около 40 % союзного бюджета (а есть еще и субсидии рыбакам). Кроме того, разные страны ЕС субсидируют закупочные цены на зерно и другие продукты своих полей; вся эта помощь в целом составляет уже больше ста миллиардов. Гигантскими – сравнимыми с расходами на оборону – являются и аграрные субсидии в других развитых странах и Китае; в 2012-м аграрные субсидии мира оценивались в полтриллиона. На этом фоне российские субсидии необычно малы, не более 2 % федерального бюджета. Москва и другие богатые регионы выделяют свои субсидии, еще какие-то деньги спрятаны в региональных трансферах. Отдельной статьей является господдержка горючего, поставляемого сельским производителям: энергия продается им по льготным ценам, которые ниже внутренних, тоже субсидированных, – а зерно они продают по мировым ценам. Экспорт российского зерна в начале XXI века растет с каждым годом, как это было в начале XX века. Теперь это является комбинированным результатом глобального потепления и энергетических трансферов.
В мире субсидии в основном тратятся на массовое и энергоемкое сырье – зерно, соевые бобы, хлопчатник; в Европе они идут и на поддержание мелких и традиционных культур. Но везде субсидии в непропорционально больших количествах идут на скотоводство и на корм скоту; в США эта их часть оценивается в 63 % (20 % идет на зерно и меньше 1 % на фрукты и овощи). To же происходит и в Китае: официальная цель гигантских китайских субсидий, больших чем официальные расходы на оборону, – сместить баланс земледелия с зерна на сою, которая почти вся идет на корм скоту. Между тем мясное и молочное скотоводство, как мы увидим, – сектор, самы�











