Читать онлайн Тающий след
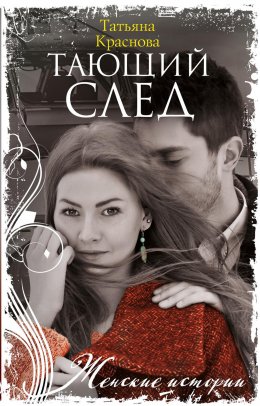
© Краснова Т. А., 2023
© «Центрполиграф», 2023
© Художественное оформление серии, «Центрполиграф», 2023
Тающий след
– Мороз и солнце, день чудесный! – хором протараторили школьницы с яркими рюкзачками, захихикали и, поскальзываясь, полезли дальше в гору. На них были такие же шапки с большими помпонами, как у Веры.
Вера выключила диктофон. Получается!
Показался безобидный старичок, к которому она не постеснялась бы подойти, как и к девчонкам, но он остановился у трубы с краном и начал набирать воду в ведро. Надо же, а здесь водопровод на улице – как-то ведь это называется…
Следующим был нарядный лыжник. Может, пусть его катится мимо? Сейчас, на склоне, как раз начнется ускорение. Но Вера одернула себя: непрофессионально! Настоящая журналистка как ни в чем не бывало подойдет к любому выпендрежнику. И подошла. А щеки красные – так это от мороза.
– Здравствуйте, сегодня день памяти Пушкина, можете сказать несколько пушкинских строчек – первое, что вспомнится?
Лыжник притормозил и, не приподняв зеркальные очки, начал не торопясь декламировать:
- Блажен, кто в отдаленной сени,
- Вдали взыскательных невежд,
- Дни делит меж трудов и лени,
- Воспоминаний и надежд.
- Кому судьба друзей послала,
- Кто скрыт, по милости творца,
- От усыпителя глупца,
- От пробудителя нахала.
Вера и не знала, что у Пушкина есть такие стихи. Надо будет проверить, что этот знаток наговорил. Он, что ли, заранее готовился? Даже раскланялся, как артист.
А с вершины горы махала рукой Катя. Ей попалась пара старичков, которые во что бы то ни стало захотели, чтобы девочка зашла к ним погреться – такой мороз, хоть и солнце… и вторая девочка тоже. И уже в своем домике радостно проговорили хором в диктофон: «У Лукоморья дуб зеленый»! А потом пришлось пить чай. Пожилые супруги рассказывали о своей жизни, показывали семейный альбом и уже хотели кормить обедом.
Но на обед подружки отправились к Кате, потому что там ждала Катина мама – и, возможно, тоже тары-бары и еще один альбом, – но Катя по-командирски это пресекла и увела одногруппницу в свою комнату. Там они отслушали материал, посмеялись над тем, что «мороза и солнца» у них набралось три, а Лукоморья – четыре. Зато каждый из опрошенных открыл рот, это круто. Никто не отнекивался, не пробегал мимо. Буквально каждый прохожий что-то знал из Пушкина наизусть.
– А твой-то эстет, – восхитилась Катя, – он у нас будет гвоздь программы.
– А с дублями что делать? Кого выкидывать?
– Может, как-нибудь обыграем?
– Классная идея насчет улицы Пушкина!
На журфак Вера перевелась из другого вуза, близко ни с кем не знакомилась и общалась только по учебе. И скоро заметила еще одну такую же девицу – они обе синхронно не ходили на студенческие сборища. Когда все бурно обсуждали предстоящий Новый год, прямолинейная Катя пояснила, перехватив Верин взгляд:
– Я здесь, чтобы учиться. Меня не интересуют ни тусовки, ни устройство личной жизни. Я уже была замужем[1].
Вера ответила коротко:
– Я тоже.
А потом они решили вместе делать задание, интервью-опрос. Тема подобралась сама собой. Катя вспомнила, что в подмосковном городке, где она живет, есть улица Пушкина. А что, если поспрашивать прохожих, не вспомнят ли они какие-нибудь пушкинские строчки?
– Поехали?
– Поехали.
– Прямо сейчас?
– Прямо сейчас.
Все вышло так складно, так рифмовались между собой и этот день, и мороз и солнце, и милые провинциалы, и заснеженный дачный городок, и старинный Катин дом-«зефир». Вера пригрелась у батареи, рядом в кресле дремал рыжий пёсель, а в глазах еще сверкали снега, рассыпались золотыми искрами и снова собирались в зимнюю картинку, знакомо-школьную: «великолепными коврами»… Вместе с теплой батареей и посапыванием пса все соединялось в полноту жизни, а обратный путь с холодной электричкой был где-то за скобками.
В Катиной комнате стояло пианино, заваленное кучами книг. Вера все поглядывала на него и наконец не выдержала:
– Можно?
– Конечно, – Катя еще возилась с их записями на компьютере, – вот только там, наверное, пылища, я его не открывала с пятого класса. Оно у меня книжной полкой служит.
– А ноты? – Вера приподняла крышку пианино. – Я в детстве думала, что в пианино Снежной королевы только белые клавиши. А весь инструмент – прозрачный, и, когда играешь, видно движение молоточков, и получается хрустальная музыка…
– Нет, это – не от Снежной королевы, и точно не волшебное. Это был тренажер для укрепления силы воли! И я его отсюда не выношу, чтобы он мне напоминал, что жизнь полна испытаний. Ноты, конечно, теперь не найти. Должен где-то быть джентльменский набор – «Времена года» Чайковского и «Картинки с выставки». Но я и так что-то помню!
И она одним пальцем заиграла «Собачий вальс». Рыжий лохматка – он оказался по-зимнему обросшим пуделем, почти утратившим львиность, – встрепенулся и тоненько заскулил. Катя заиграла громче, он спрыгнул с кресла, подбежал к ней и запел во весь голос. Подруги давились от смеха, пудель завывал, Катина семья собралась за дверью и наблюдала в щелочку.
Катя и Вера – одна высокая, с волосами до пояса, вторая маленькая, хрупкая и с такой короткой стрижкой, что головка просвечивала насквозь, – играли в четыре руки, бурно проносясь по всем октавам и извлекая из изумленного пианино неслыханные звуки.
– Вот видишь, правильно, что мы ее водили в музыкалку, – шептала мама папе, – не напрасно все было.
Несколько нежных птичьих ноток – мелодия Вериного мобильника – прорвались в короткую паузу. Вера только слушала и ничего не говорила, но Катя наблюдала, как меняется ее лицо, и тихо спросила:
– Что-то случилось?
Вера растерянно моргала:
– Мама сказала – бабушка умерла. Я, наверно, что-то не так расслышала. Мне надо скорее домой.
Катя быстро поднялась. Она выходила из комнаты и возвращалась, куда-то звонила, что-то искала в Интернете, снова звонила – Вера беспомощно глядела на нее снизу вверх, опустившись на пол и сжавшись в комок у батареи.
– Электричка только через час, таксисты заламывают дикие цены. Но я нашла, как отправить тебя домой.
Натягивая шапочку с помпоном, Вера видела вокруг себя сочувственные лица и машинально угадывала: это Катин папа, а это старший брат. Пудель тоже вышел провожать.
Все они остались по ту сторону, в мире, где есть Пушкин и сверкающее счастье… и колонка – вот как называется труба с водой. А Веру выбросило в ночь и холод, ту самую февральскую ночь, которая начинается еще днем и проваливается в безнадежность.
В машине тоже было темно. Водитель приглушил музыку, спросил, достаточно ли тепло, потом – родственники ли ей Перехватовы, Катина семья, потом – не плохо ли ей от движения.
– Наоборот, лучше. Я так люблю ездить. Куда угодно на чем угодно. Сегодня вот в ваш Белогорск заехала.
– А он не мой. Я сюда – на лыжах покататься. Ты меня не узнала.
И Вера тут же узнала голос лыжника.
Машина неслась мимо зубчатой, до самых звезд, стены елей. Дорога на Москву была свободна. Прощаясь, лыжник обронил, что бабушка, наверное, была уже старенькая. Вера, раскрывшая рот, чтобы поблагодарить, вместо дежурной благодарности выпалила:
– Я вдруг подумала, что люди умирают не от старости, а оттого, что все согласны с тем, что им пора! А моя бабушка такая, что… что я хочу, чтобы она всегда была со мной!
– А у меня мама старая, – пояснил лыжник вместо дежурного извинения. – Я сильно поздний ребенок. И всегда обращаю внимание на то, сколько люди прожили… особенно если долго. Как будто какую-то надежду дает.
Из подъезда выходил человек с тяжелой картонной коробкой в руках. И еще один такой же из лифта. Вера посторонилась, взгляд скользнул по приоткрытой коробке: оттуда высовывалась обложка «Есть, молиться, любить» Элизабет Гилберт – такая же, как у нее, с буквами из веревочек.
Дверь в бабушкину квартиру была распахнута. Вера ожидала увидеть страшную картину: врачей из «скорой», каких-нибудь людей в черном из похоронного бюро, маму в конвульсиях, а на пороге громоздились коробки с книгами. Просматривались пустые полки – комната сразу сжалась, и жизнь из нее ушла.
– Нечего истерики закатывать, – отрезала мама, встретив потрясенный взгляд Веры, хотя та не проронила ни звука. – Надо же ее на что-то хоронить! Ты должна понимать! Конечно, это копейки, но хоть что-то. Без денег на тот свет не возьмут, и платить надо сразу.
– Но, может, мы бы как-то иначе… – лепетала Вера. – Бабушкина библиотека – это ее душа… И там много моих книг, а они их уносят!
– Какая разница! Нашла время думать о себе! – взорвалась мама. – Сказала бы спасибо, что я так быстро все организовала! Нашла букиниста! Ты хоть представляешь, как сложно найти покупателя на целую библиотеку! От тебя не дождешься помощи! Где ты была, когда она умирала? Ты представляешь, что я пережила, когда увидела труп?
Вера, закрыв лицо руками, опустилась на пол среди книг. Покупатель отодвинул ее и ухватился за очередную коробку. Мелькнули шелковые ленточки.
– Альбом, – ахнула Вера и выхватила из коробки старый альбом для рисования с картонной обложкой, обклеенной открытками.
Книготорговец запротестовал:
– Положи обратно, девушка. Договорились же, что вы всё отдаете! Разберитесь между собой. Если хотите по частям, то это не ко мне.
Мама кинулась к нему на подмогу, Вера пятилась к выходу, готовая бежать – расстаться с бабушкиным альбомом нельзя было ни за что, – как за спиной раздался чей-то голос:
– Да это же не книга. Вы книги купили? А это не книга. Это семейный альбом.
Книготорговец присмотрелся, убедился, что это и правда какая-то самодельная реликвия, и потерял к ней интерес. Вера затравленно оглянулась – в дверях стоял человек, которого здесь не должно было быть. Лыжник.
– Так вот чем ты все это время занималась, – воскликнула мама, – когда она умирала на моих руках!
Но лыжник не обратил на нее внимания.
– Я решил убедиться, что все в порядке. На всякий случай, – пояснил он, глядя на Веру.
Без защитной маски-очков, под яркой лампой он выглядел ее ровесником, ну, может, чуть постарше. С круглыми блестящими глазами, как у плюшевого мишки. Задним числом подумалось, что к такому безопасно сесть в машину. Конечно, Катя не отправила бы ее на ночь глядя не пойми с кем… «Никогда не разговаривайте с незнакомцами…»
– Может, тебя еще куда-нибудь отвезти?
– Все в порядке, – прошептала Вера, крепко прижимая к себе альбом. – Мне некуда ехать.
Кого напомнил этот лыжник? Женечку из садика?
Часть первая
– Не уезжай! Давай поиграем?
У Жени с соседней кроватки были невероятно красивые глаза – как у большого плюшевого мишки, выпуклые и прозрачные. Он протягивал какие-то пластмассовые штучки и шептал:
– Смотри, что у меня есть! Это такое магазинное лего, мне бабушка дала. Они из этих штучек раньше цены делали.
Девочка повертела маленькие прямоугольники с цифрами, составила из них цепочку от одного до десяти, бросила на одеяло и ответила снисходительно:
– Сейчас придет такси, и я поеду на уроки. У меня хор и сольфеджио. Это у вас тихий час, а мне надо заниматься делом, а не всякой ерундой. Я стану артисткой, как мама, понимаешь? Мы будем с ней вместе ездить по всему миру!
И рассказывала Жене, который слушал ее с открытым ртом, что ее мама – фея, летающая по сцене, и весь зал ей хлопает, и Веронике тоже будет.
– Вероника, карета подана! – окликнула воспитательница. Добавила вслед убежавшей девочке: – Артистка! С такими-то ушами.
– Главное – голос, – отозвалась нянечка, но та была неумолима:
– Разве что на радио выступать. Смесь мышонка с лягушонком.
– Ах, Ида, я два года в нее вкладывалась, во все эти занятия, костюмы! Себя совсем забросила. Я понимаю, есть смысл, когда есть перспективы! А теперь никто не обещает, что она восстановится, – два месяца прошло, а она до сих пор шипит, как змея. Проклятые гланды – какие-то глубинные оказались! Ну кто же знал, что заденут связки! Ну, и смысл мне теперь здесь сидеть, когда надо делом заниматься! Ах, Ида, – голос стал проникновенным и певучим, – как я тебе благодарна! Вероника, – голос возвысился, – слушайся бабушку Иду! Ходи по одной половице!
Мама всегда ее так называла, с ударением на «о». Вероника преданно смотрела на нее и кивала. Может, мама еще передумает? Ее настроение менялось мгновенно: например, кто-то по звонит – и она начинает смеяться, тормошить Веронику, кружиться с ней по комнате, вместо скучного обеда – кафе с пирожными. Или, наоборот, ни с того ни с сего отменяется поход в театр, и мама рыдает…
Хлопнула дверь.
Вероника старалась изо всех сил, но никак не получалось. Половицы были совсем короткими: дощечки, сложенные елочкой, в каждой умещалось только два шажка – и все. Дальше надо переступать на другую, ходить по одной невозможно. Мама дала слишком сложное задание.
Мало того, все эти дощечки пели, каждая своим голосом. Оставшись одна, Вероника убедилась, что в комнате бабушки Иды нельзя не только ходить по одной половице, но и перемещаться беззвучно. Она быстро определила, где какая нота, пропрыгала гамму, а потом начала подбирать песенку. Другого инструмента здесь не было, но этот ей понравился.
Заметив, что Ида появилась в дверях, Вероника шмыгнула под стол и затихла, прижавшись к теплой батарее. Бабушка не стала ее оттуда доставать, а занялась своими делами и время от времени спрашивала, не холодно ли, не захотелось ли поесть. Она была такая высокая, голос доносился почти с потолка, и смысл успевал разбежаться по дальним углам, где громоздились шкафы с книгами. Девочка молчала. Наконец Ида подошла ближе.
– Вероничка, ты всегда можешь сказать, что ты чувствуешь и чего хочешь. Я так лучше тебя пойму.
Вероника улыбнулась – ей понравилось, как ее назвали: Вероничка было похоже на птичка, и земляничка, и рукавичка…
– Я хочу к маме, – выдохнула она, но не заплакала.
– Я понимаю, – серьезно ответила бабушка.
– И я хочу домой! У нас дома красиво, у нас пианино! – Девочка кричала, только шепотом.
– У меня нет пианино, – сокрушенно подтвердила Ида. – Но здесь есть один секретный шкаф… Давай заглянем?
В кладовке был старый проигрыватель, похожий на чемодан, и коробка больших виниловых пластинок. Вероника всем этим завладела, разложила на полу и начала исследовать. Запускать механизм она научилась сразу, а особенно ей понравился переключатель оборотов и то, что происходит со звуком на разных скоростях. Голоса, поющие песни, то завывали басом, то пискляво тараторили, заставляя ее смеяться – и уже не шепотом.
А еще в секретном шкафу нашелся толстенный альбом в коричневом переплете – страницами там были бумажные конверты с круглыми окошками, в которых жили другие пластинки, тоже толстенные. Вероника подобрала для них скорость. В этих пластинках прятались музыка без слов и оперные арии. Она прослушала все страницы от начала до конца, потом опять сначала, потом – две, ставшие любимыми.
Одна пластинка была дневная – «Сказки Венского леса», и это был радостный путь домой к маме, а вторая – ночная, там Шаляпин пел ужасным голосом «В двенадцать часов по ночам…», и было так сладко бояться, и, чтобы побояться еще чуть-чуть, надо было перебежать по темному коридору на кухню, а потом обратно.
На кухне у Иды были смешной заварочный чайник в виде слоника и сахарница-тыква, в которой вместо сахара обычно водились орешки или семечки. И Вероника с бабушкой Идой пили чай, и теперь Ида звучала совсем не с потолка: наоборот, она четко повторяла слова, которые пел Шаляпин, потому что у него не всё можно было разобрать – где-то пластинка трещала, а где-то ее заедало. Стихи перетекали в рассказы про Шаляпина и Жуковского, а потом Ида доставала книжки с их портретами.
Книги населяли полки с пола до потолка, и Вероника быстро научилась взлетать до самых верхних, как обезьянка, без помощи стула. Она могла копаться там сколько угодно, как и в секретном шкафу, и никогда не слышала, что ей чего-то нельзя, потому что она маленькая. Ида как будто была не в курсе этого и разговаривала с Вероникой так же, как с остальными людьми, например своими подругами.
С этими подругами они встречались по воскресеньям, когда утром шли по Тверской мимо Пушкина и дома, где он бывал в гостях у княгини Волконской, а гости развлекались тем, что показывали живые картины. Пушкин изображал фонтан. Обо всем этом рассказывала бабушка – во всех домах, встречавшихся им по пути, жили ее знакомые вроде Пушкина, о которых она всё знала.
Дальше была большая лошадь на постаменте и площадь, которую красиво наряжали то к Рождеству, то к Пасхе, и веселый солнечно-желтый храм.
Из-под купола падали косые лучи, выхватывая то лики святых, то цветную мозаику, то светлого батюшку, который улыбался входящим. Пространство постепенно наполнялось, и Вероника с задней скамейки, куда ее обычно сажали, видела мерно колышущееся море плеч и голов, которое сливалось с плавными силуэтами на росписях.
Бабушкины подруги были неуловимо похожи на бабушку: шляпки, брошки, сумочки, точь-в-точь как в музее или театре. И в храме все они замирали, не замечая ни тесноты, ни постороннего шума.
Но одна из подруг, Марлена, была говорливой и каждый раз спрашивала, когда же Вероника пойдет в воскресную школу. Бабушка каждый раз отвечала:
– Когда вырастет, тогда сама решит. Не детское это дело.
– А игрушки почему не убирает? – не унималась Марлена, когда оказывалась у них в гостях.
– А зачем их убирать? – удивлялась Ида. – Игрушки – это не вещи. Нельзя нарушать логику игры и прерывать фантазию, она может не вернуться. И большинство людей потом не способны видеть собственные миры, а видят только вещи, лежащие на месте или не на месте.
Она рассказывала Марлене, где какая кукла живет – в основном на разных этажах на книжных полках, и что медведь и заяц на перевернутом стуле совершают путешествие, и убрать их значило бы его прервать, и путешественники никогда никуда не доедут, а фигурки от киндер-сюрпризов на подоконнике – это вообще отдельная страна. По лицу Марлены было видно, что она ничего не понимает и раздражается.
– А мать ее хоть раз навестила?
Бабушка уводила гостью на кухню пить чай, и оттуда доносилось что-то о другой стране, откуда не наездишься, и о женском счастье.
– Вот оно, новое поколение, с пеленок сидят в этих приборах, – картинно воздевала руки Марлена, возвращаясь в комнату и заставая Веронику с плеером.
А бабушка Ида терпеливо объясняла, что кассеты и виниловые пластинки дают разное звучание, и музыкальной девочке это интересно, она слушает и сравнивает.
– Она и в школу, что ли, здесь пойдет? – закатывала глаза Марлена уже на пороге.
– Почему бы и нет, – спокойно отвечала бабушка, – в школе будут подруги, ровесники. А то растет среди старух.
– И в музыкальную? – ехидно добавляла Марлена.
– Милая, ты тоже об этом подумала, – всплеснула руками бабушка. – Вот и я голову ломаю, где бы нам взять пианино…
– Она хоть денег шлет? – гробовым голосом спрашивала Марлена, и бабушка поспешно закрывала за ней дверь, на лестничной клетке договаривая про женское счастье.
Но Марлена возвращалась и снова твердила, что Ида берет на себя не свою ношу и что она ловится на элементарную физиологическую реакцию: большие, прямо смотрящие глаза вызывают у млекопитающих желание опекать и защищать детеныша. Это банальный инстинкт.
– А потом она специально будет этим пользоваться, малявка, в душу людям заглядывать, – ворчала Марлена.
А Вероника забиралась под стол к батарее, где так блаженно было мечтать о том, как приедет мама и они поедут домой. И непременно пройдут мимо Марлены, оживленно беседуя и смеясь, – им ведь так о многом нужно будет поговорить! И не заметят Марлену. И не поздороваются.
Ей нравилось, как здорово бабушка справляется с Марленой, причем безо всякой сердитости, но «не детское дело» оставить было нельзя. Уж от Иды она этого никак не ожидала. Вероника знала, что все-таки она маленькая, и всегда была самой маленькой и в садике, и во дворе, и старалась расти изо всех сил, но ничего не получалось.
И когда Ида куда-то ушла, Вероника достала ее церковные книги. Непонятно было только вначале. Потом витиеватые строки с трехногими буквами и скобками наверху, как в нотах, начали складываться в слова, знакомые и незнакомые. Их музыка прерывалась паузами, где смысл совсем ускользал, но в итоге все-таки улавливался, потому что мелодия сама по себе к нему выводила.
Эти книги не были похожи ни на сказки, ни на греческие мифы, хотя тоже говорили о давних временах. Одна была золотая – она звучала музыкой древней, очень древней земли, горячей на ощупь. В золотом раскаленном воздухе стояли пряные запахи и слышались крики животных, мычание и блеяние стад, гортанные голоса. Вероника захлопнула ее с полным ощущением, что сама там побывала.
Вторая книга тоже звучала музыкой. Только была она не золотой, а строго-голубой, зимней, сливающейся с декабрьскими сумерками за окном. Там уходила вдаль дорога, и хотелось идти следом за людьми, которые шли по ней, и это неуловимо напоминало другую дорогу из другой сказки – вымощенную желтым кирпичом.
Когда ключ поворачивался в замке, Вероника быстро, но аккуратно клала запретные книги на место и утыкалась в свои, «Козетту» и «Золушку», – и это тоже было о ней, это она была несчастной маленькой девочкой в чужих людях! Глаза наполнялись слезами. Иногда удавалось незаметно поплакать над своею горестной судьбой.
Это и было назначение книг – служить отправными точками для фантазий, не обязательно плакательных. Можно было пойти по той же дороге из желтого кирпича и устроить много дополнительных приключений. Мир вообще приходилось постоянно улучшать и украшать, как подоконник – игрушками.
Ида тоже знала в этом толк. У нее был старый-престарый альбом для рисования, скрепленный узкой розовой ленточкой. В нем были наклеены стихи о временах года, вырезанные из журналов и газет, его щедро украшали картинки и старые советские открытки с цветами и пейзажами. Альбом делился на двенадцать месяцев, они шли один за другим, как в календаре. А самое главное – там было много не до конца заполненных и даже совсем чистых страниц. Когда наступал новый месяц, Ида с Вероникой увлеченно рисовали, писали и наклеивали, и белых пятен оставалось все меньше, а альбом становился все наряднее.
Был у них и толстый отрывной календарь, который висел на кухне. Кто-то догадался собрать туда все дни, которые еще не наступили, и не было ни одного одинакового, у каждого были свои картинки и истории. Самого дня пока нет, а прочитать его уже можно – даже последний, в конце, до которого так ужасно далеко, что он наступит только следующей зимой, когда, может, мама уже приедет. Вероника осторожно прикасалась к декабрьскому дню: его не существует, но вот же, они смотрят друг на друга – смотреть можно, а отрывать нельзя.
И она сторожила момент, когда можно будет оторвать следующий листок – когда сегодня превращается в завтра… или вчера в сегодня. А до чего было жаль оторванные! Дня уже нет, а его листочек есть, и Вероника засовывала их в самые разные книги – спасала ушедшее время. На некоторых календарных листках были стихи, и их можно было наклеить в альбом и спасти уже наверняка.
Марлена пыталась подлизаться к ним с бабушкой и принесла целую пачку открыток, старых, но красивых. А Вероника, когда никого не было, забралась на подоконник и мстительно выбросила их в форточку. Как они летели с высокого этажа! Как кружились, осыпаясь на асфальт! А утром их подмел дворник, открытки – не манная каша, и тайное не стало явным.
Время от времени Ида брала из шкафа несколько книг, и они отправлялись на Старый Арбат к букинистам, а оттуда – на Новый Арбат, за новыми детскими книжками, или нотами, или в «Детский мир» за новой одеждой. В стакане с «фантой» плясали и подпрыгивали золотые искры – это счастье вырывалось фейерверком.
А еще в комнате с поющим паркетом появилось пианино, причем благодаря Марлене, – от каких-то ее уезжавших за границу знакомых. На бестолковость самой Марлены это, однако, не повлияло.
– А ведь ты была права, – сообщала она Иде, – когда говорила, что девчонка израстется. Но мне не верилось, что настолько гадкий утенок может перемениться! Мать ее не узнает. А деньги она что, так и не шлет?
– У Веронички на редкость счастливая внешность, – отвечала Ида со своим бесконечным терпением. – Благодаря своей миниатюрности она будет выглядеть юной до преклонных лет. Мы с тобой этого не увидим, но поверь мне на слово.
– Маленькая собачка – до старости щенок, – подтверждала бестолковая Марлена. – Но я-то имела в виду, что она больше не похожа на Чебурашку.
И вдруг приехала мама. Все было как в мечтах: объятия, смех и слезы, разговоры обо всем вперемешку. И мама забрала ее домой! Вот только дом был почему-то не тот и не там – комната-коробочка в продуваемом всеми ветрами безликом районе-муравейнике. Вероника заикнулась о настоящем доме, светлом зале, пианино, а мама вместо ответа начала рыдать, а потом твердо и напористо проговорила:
– Впредь я не желаю слышать о твоих капризах и прихотях. Ты должна понимать: мы не можем жить по-богатому. Я загубила свою карьеру, потому что потратила молодость на тебя и твои болячки. Да, у тебя могла бы быть другая судьба – ведь ты уже участвовала в «Утренней звезде»!
И Вероника низко опускала голову – она сама все испортила, не оправдала ожиданий. Еще нельзя было спрашивать о том человеке, с которым мама жила за границей, и о самой этой жизни – она начинала так бурно и так долго рыдать, что это могло продолжаться и на следующий день, и остановить ее рыдания было невозможно ни просьбами, ни обещаниями, ни собственными слезами.
Подобную реакцию вызывали и любые просьбы, касающиеся расходов. О новых книжках, нотах и уроках музыки пришлось забыть, так же как и о новой одежде – спасало то, что Вероника почти не росла, оставалась «маленькой собачкой» и до выпускного класса ходила в школу в тех же джинсиках. В расклеившихся ботинках тоже можно было все-таки ходить – если только очень быстро, скользящим и почти летящим шагом, как можно меньше прикасаясь к земле и выбирая места, куда ступить, без луж и снежной каши.
По привычке устроившись возле теплой батареи, она ловила себя на том, что тоже по привычке мечтает, чтобы ее забрали отсюда… только теперь – чтобы бабушка Ида ее забрала! Теперь она чувствовала, что настоящий дом – там, и скучала по старому книжному шкафу, виниловым пластинкам, альбому со стихами и певучему паркету. И ездила бы туда каждый день через всю Москву, если бы мама не сердилась и не начинала рыдать:
– И ты! И ты готова меня бросить! Как раз тогда, когда я вправе ждать поддержки, понимания! Когда мне так нужна родная душа!
Вероника вспоминала собственные горестные вечера за «Козеттой» и бросалась маме на шею, и обе долго плакали. Но если мама выглядела потом довольной и посвежевшей, то Вероника долго не могла прийти в себя – она, как персонаж компьютерной игры, теряла весь запас жизни, и сил уже не оставалось ни на музыку, ни на мечты. Тогда она разработала сложную схему, вроде хождения по половицам, чтобы в общении с мамой обходить опасные зоны и ни в коем случае на них не наступать.
Удавалось это не всегда: мама яростно протестовала против ее короткой стрижки, но Вероника в ответ только пошла и сделала еще и татуировку. Ей позарез надо было выглядеть взрослой и привлекательной. Все девочки в классе уже носили лифчики, и в раздевалке, переодеваясь на физкультуру, демонстрировали бюсты разных форм и размеров – и только у Вероники не было никакого вообще. Она ждала, когда нагонит остальных, но ничего не происходило, так же как не менялся ее маленький рост. Надо было срочно что-то сделать, чтобы ее перестали принимать за ребенка, и самой изменить то, что возможно. Ради этого можно было перетерпеть скандал. Конечно, прежде всего требовалось избавиться от двух косичек. А от запястья по внутренней стороне руки потянулась веточка с прозрачными голубыми цветами, переплетаясь с голубой жилкой.
Мама рыдала. Марлена тоже выразила свое фи:
– Налысо обрилась, кошмар какой! Один чуб, как у мальчишки, остался! А рисунки на теле – такая вульгарность! Ида, как же ты не повлияла на нее! Небось еще и денег дала на это безобразие.
– Наоборот, это удачный образ, он ей очень подходит, как вы не видите, – спорила со всеми Ида. – Посмотрите, какой контраст мальчишеской стрижки и хрупкости, какая нежная линия затылка! Всё это делает Вероничку более женственной, чем всех этих барышень – их накрученные локоны!
А мама все же позволяла Иде время от времени забирать Веронику на выходные, и делать ей подарки, и оплачивать репетиторов и подготовительные курсы.
– Филфак – не бог весть что, но раз уж у нее там связи, грех ими не воспользоваться. С твоими скромными данными поступить на бюджетное – уже достижение.
Началась светлая полоса: мама снова пела, наряжалась, часто исчезала из дома, не возражала, чтобы Вероника оставалась у бабушки не только на выходные, и размышляла, не перебраться ли ей туда вообще – оттуда ближе ездить на учебу. Ида и Вероника с радостью воссоединились. Учеба была мечтой: читай сколько хочешь. А аспирант, как-то раз заменивший старого профессора по зарубежке, стал тем самым, втайне ожидаемым принцем из «Золушки».
Веронике не верилось: она действительно уже не Чебурашка, она привлекает внимание умных и взрослых мужчин, она сама уже взрослая! И может, если захочет, выйти замуж и распоряжаться своей жизнью! И эта жизнь будет ровной, осмысленной, не придется вздрагивать и прислушиваться – в каком настроении мама, не сметет ли твои планы очередной шквал ее эмоций и рыданий, не окажешься ли снова во всем виноватой.
Правда, Леня сказал:
– Цветы я тебе дарить не буду, без объяснений. Не буду, и все.
А еще:
– И никаких мещанских свадеб с принцессными платьями и сворой гостей. И не проси. Я этим сыт по горло.
И совсем неприятное:
– Я буду тебя звать Вика. Как первую жену. По крайней мере, не перепутаю и заново привыкать не надо.
На этот раз хотя бы были объяснения, хотя Вероника предпочла бы их не слышать.
Но тут у мамы снова рухнуло женское счастье. Вероника представила, что они опять бесконечно рыдают в объятиях друг друга, что снова нельзя ни отлучаться из дома, ни даже иметь жизнерадостный вид – это будет предательством, – и поспешила согласиться со всем, что говорил Леня. Мама и бабушка пытались делать вид, что рады за нее, но получалось неубедительно.
– Ты чем это занята? – спрашивал Леня, заглядывая в ее ноутбук. – Ты же должна набирать мой текст.
– Спецкурс по Лескову. Классную я тему придумала – «Погробляющая роль рассказчика в русской литературе»? – весело делилась Вероника. – Нет, правда, все эти Белкины – настоящие лишние люди, никому еще не удалось за них спрятаться, уши автора все равно торчат!
– Кончай это детство, – морщился муж, включая телевизор. – Засунь свои фантазии в корзину, нормальную тему потом возьмешь, а сейчас займись делом. Что важнее – твои уроки или моя диссертация?
Телевизор вообще был у них третьим. Вероника никак не могла привыкнуть, что он постоянно бубнит. А один раз, сидя на коленях у мужа, открыла глаза – и увидела, что тот занимается с ней любовью и одновременно смотрит телевизор.
Зарядили осенние дожди, было холодно, но отопление еще не включили, и привычно усесться у батареи было нельзя. Вероника тряслась под пледом, потом укрылась еще одним одеялом, потом решила погреть ноги в тазике с водой. Но лучше не становилось, и последняя мысль была такая знакомая: чтобы кто-нибудь пришел и забрал ее отсюда. Она попала куда-то не туда. Здесь жил абсолютно чужой человек, ей нечего было здесь делать.
– Вероничка, позвать Леню? – Над ней склонилась бабушка.
Унылое пространство вокруг выглядело как больничная палата.
– Ну уж нет! Ноги его здесь не будет! Уж я позабочусь об этом!
А этот вихрь, конечно, был мамой.
И Вероника узнала, что у нее был грипп с запредельно высокой температурой, который спровоцировал выкидыш. Она потеряла много крови и долго была без сознания.
– Мерзавец довел ее до смерти! Я чуть не потеряла дочь! Он войдет сюда только через мой труп! И не говори мне, Ида, ничего – я же вижу, что она не хочет его видеть! Ни о чем не волнуйся, золотце. Я заберу тебя домой, ты обо всем забудешь. Я никому не позволю сломать твою жизнь! Кто же, кроме мамы, о тебе позаботится!
И мама действительно увезла ее домой после выписки. И это снова был другой дом. Старый, сырой, с протекающими панельными стенами, в поселке на краю леса.
– Москва нам больше не по карману, зато здесь воздух! Ты быстро пойдешь на поправку. И этот гад тебя здесь не найдет, не волнуйся!
Но Вероника долго не выздоравливала и могла только лежать, уставившись в облезлую стену. Мама сначала деятельно носилась вокруг нее, а когда ее энтузиазм угас, появилась Ида.
Чужая комната наполнилась теплом – Ида привезла обогреватель, знакомый чайник со слоником, недочитанную «Шагреневую кожу» и еще две начатые в той, другой жизни книги.
Вероника всегда читала сразу несколько: по учебной программе, по совету Иды, по рекомендации литературных знатоков, то, что читают друзья, плюс что-нибудь спонтанное. А еще были бесконечные топ-10 и топ-100 шедевров, которые нельзя не прочитать. А еще – книги внезапные, как удар молнии: купи меня немедленно, или будешь жалеть всю жизнь! А рядом с ними на витрине – издания неземной красоты, которые до дрожи хотелось забрать домой, чтобы нюхать, листать, устраивать на полке, разговаривать, любоваться – «моя прелесть». И те, что как-то сами оказывались в руках по пути в кассу и так и назывались – «попутная песня». И те, что на будущее, и те, что на выходные, и «умные», и «легкие», и «вечные», и «расширяющие кругозор», и «все по 30», и «все по 50». С потрясающей обложкой и с захватывающим сюжетом. Книги по сериалам. Книги, упоминаемые в других книгах.
И всё это осталось в прошлом. Вероника раскрывала их, одну за другой – но там больше не было той жизни, которая интереснее и ярче реальности. Она не включалась. Стало наконец понятно шекспировское «слова, слова, слова» – это были просто груды слов, словари, старые архивы. Мало того – они обступили ее, пытаясь сообщить что-то ненужное, выкрикивая свои слова все сразу, одновременно, заполняя пространство нарастающим скрежетом, грохотом, криком. Это больше не были старые друзья, в компании которых время пролетало так приятно, – это были агрессивные скопища, отъедающие ее жизнь.
Хотя никакой жизни, собственно, не было. Вероника видела вокруг себя застылый мир, в который и она, и все остальные пришли в самый неинтересный момент, когда все уже открыто, описано, классифицировано и рассказано. И все уже навязло, и никто здесь не нужен, и делать здесь нечего. И особенно абсурдно – запихивать в себя мертвечину бессмысленной информации.
– Ты пока еще слишком слаба, – утешала Ида, но Вероника испуганно трясла головой:
– Нет, это не то. Я совсем не могу ни читать, ни заниматься. Я честно стараюсь, но ничего не понимаю, не запоминаю. Как же я буду учиться? Как сессию сдавать?
– Все наладится. Возьмешь академический…
– Но он же когда-нибудь кончится! А я не могу… я не хочу туда возвращаться! В ту жизнь, во всё, что с этим связано… Ида, я вечно все порчу! Сначала потеряла голос и то будущее, которое могло бы быть. И вот теперь опять, опять все испортила!
Она хотела продолжить, что когда-то мечтала стать артисткой, как мама, а становится, как мама, неудачницей, но услышала саму себя – что она кричит, жалуется и плачет. Как мама. Те же нотки, та же неостановимость – то, чего она сама так в маме боялась, от чего всегда хотелось убежать. Горло перехватило, и Вероника могла только шипеть, как в детстве после операции.
А Ида наливала ей из слоника чай.
– Ты самая никчемная на свете, правда? Ты не просто никчемность, а самая-самая? И весь зрительный зал замирает в восторге и ужасе?
И Вероника уже смеялась, и из фольги от шоколадки они сделали корону, а слезы все еще капали – и главное было не закапать слезами и чаем широкий тяжеленный альбом по искусству, который служил подносом. Как только Ида его довезла…
Однажды Вероника перевернула обложку подноса – просто так, механически. Она не сразу отследила, что произошло. Только будильник потом показывал, что прошло несколько часов, а по ощущениям это были минуты. Главное, она совсем не устала. И жизнь не была больше серой тоской. И еще – было все равно, что она неудачница. Она провела все это время, листая страницы без текста, на которых были только старые картины – наподобие тех почтенных книг из обязательных списков, которые каждый уважающий себя… должен-обязан… чтобы считаться культурным…
Изображения больше не были плоскими. Они стали трехмерными, объемными – и впустили ее в себя, как будто дверь открыли. Вот это Вероника увидела ясно: одна дверь перед ней закрылась, а другая открылась, синхронно. Так же как когда-то у Иды с ее бездонными шкафами открылась «книжная» дверь.
Ида привозила другие альбомы, и Вероника переселялась в них и проводила там целые дни. А потом перебиралась следом за художниками, картинами и эпохами в другие книги – искала, находила, шла по следу – и все понимала и помнила. И не было никаких закрытых дверей: когда открывались одни, другие оставались распахнутыми, комнаты в этих мирах шли анфиладами, как во дворцах и музеях, и можно было свободно перемещаться в любую. И можно было там блуждать, как когда-то – в книжных мирах.
– Тебе не мешает этот образ доброго дедушки на облаках? – спрашивала Ида, когда они вместе рассматривали микеланджеловское «Сотворение Адама». – Для меня он долго был барьером в отношениях с Богом… А недавно я прочитала, что один исследователь рассмотрел на этой фреске детальное изображение головного мозга, зашифрованную картинку с Высшим разумом.
Тогда Адам – это эмбрион, вдруг увидела Вероника. Такой младенец-гигант с поджатыми ножками.
– Смотри, какая у него беспомощность во взгляде. Смотри, как ему страшно! Они же расстаются навсегда! Он только что был замыслом, а стал самостоятельным существом, отделился.
Но это расставание – для жизни, а мой ребенок тоже пришел в этот мир – и ничего не успел! И для него ничего не сбылось! Ничего не успело начаться! Он ничего не смог ни пережить, ни почувствовать, кроме, наверное, боли и страха! А я даже не успела понять, что он у меня был! Мы вообще не встретились, мы сразу расстались! Ида, и они говорят, что больше у меня не будет детей!
– Всё, что мы можем, – это сейчас его оплакать. – Ида обнимала Веронику. – И если у человека, даже небывшего, есть те, кто плачут по нему, то это больше, чем ничего. Этот мир – всегда встреча-прощание. Поэтому так хочется защитить любимых людей. Это единственное, о чем никогда не жалеешь.
С Идой тоже приходилось расставаться, хоть и ненадолго – она собиралась в санаторий. Вероника уже начинала вставать, а стена над ее кроватью была увешана репродукциями из журналов «Художественная галерея». Коллаж постепенно перебирался на другую, внешнюю стену с протекающими швами, и потеки перекрывались новой реальностью. И то, что раньше было пустотой и убожеством, оказалось пространством, которое можно осваивать и где можно взять разбег. У нее был целый мир, который можно улучшать и украшать, он этого ждал и в этом нуждался.
– Вероничка, а ты пиши мне письма. Все, о чем мы обычно с тобой говорим. А то я много пропущу, мне жалко! Ты так быстро продвигаешься. Вот прямо записывай все подряд, каждый день, все свои мысли, быстро-быстро. Не думай об ошибках и не поправляй – пиши и пиши.
– Ты научилась пользоваться компьютером? – пошутила Вероника.
– Мне Марлена будет помогать. Она говорит, что продвинутая. Вот, написала на бумажке свое «мыло» какое-то.
А по приезде Ида предложила:
– Может, тебе и правда не возвращаться в филологию? Зачем читать чужое, когда можно писать свое. Ты ведь интересно пишешь. Самостоятельные мысли. Ты когда-нибудь думала о журналистике? Я тут показала твои «письма бабушке» знакомым знакомых – одобрительно отозвались, грозились даже где-то напечатать.
Писать? Журналистика? Это значит – постоянно общаться с чужими людьми и все время краснеть до ушей, вместе с ушами? Но вслед за этим Вероника представила чистый лист… нет – пустой экран ноутбука с подмигивающим курсором: давай, начни уже. А потом – изумительно красивый арт-блокнот, который видела в «Библиоглобусе» – с вангоговскими ирисами на обложке, островками цитат и фрагментов картин на разноцветных страницах. Если его купить, счастливый блокнот, все получится!
Это было больше, чем чистый лист – незавершенный мир, который ждет ее участия. И она нужна не только самой себе или Иде, а всему этому постоянно обновляющемуся миру. Там будет все другое! Новое!
И когда новенькую спросили, как ее зовут, она ответила:
– Вера.
Часть вторая
В десять утра в корпусе импрессионистов Пушкинского музея никого не было. Посетители начинали с главного здания, на что Вера и рассчитывала, и можно было походить в тишине и одиночестве, и видеть не головы на фоне картин, а сами картины.
Когда она прошла все залы и этажи и спустилась к началу выставки, от Модильяни к Каспару Фридриху, и уже собиралась повторить забег, раздался голос, который никак не мог принадлежать музейной смотрительнице:
– Привет! Ты тоже жаворонок?
Прошло три года, но Вера его узнала – это был тот самый лыжник из Белогорска, естественно, без лыж, но все равно выглядевший по-спортивному со своими размашистыми движениями. Размахивал он складной картой: на выставку «Воображаемый музей» привезли шедевры из разных стран и развесили не в одном зале, а сразу во всех, среди постоянных коллекций. Их надо было отыскивать по всему зданию, и чинное посещение храма искусства превращалась в квест. А на карте была шпаргалка – схемы залов с миниатюрами картин.
– Какое там, я бедная сова, – вздохнула Вера, – вскочила в семь, чтобы прийти к открытию.
– Ваня! Ершов! Мы здесь! Мы идем к ботинкам Ван Гога, догоняй! – Нестройный хор мужских и женских голосов, раздавшийся с лестницы, упростил задачу вспомнить имя.
– В шею их сейчас вытолкают, а не к Ван Гогу, чтобы не орали, – прокомментировал Ваня, но догонять друзей не спешил.
– Эта выставка такая залипательная, я здесь уже второй раз.
– А меня друзья с собой прихватили. Им чем старее на стенах навешано, тем лучше.
– А тебе, что ли, не нравится? – удивилась Вера.
Он попытался объяснить:
– Ну, раньше люди любили современное искусство и все время заказывали новые картины, новую музыку. Даже для обедов или проводов гостей, чтобы и в прихожей каждый раз что-то другое звучало. А мы, наоборот, повернуты в прошлое. Все новое считаем менее ценным и ходим пережевывать вчерашний день.
– Ну, так тебе в другой музей, на Петровке, – пожала плечами Вера, одновременно думая, как можно в этой теме покопаться – почему люди живут эстетикой прошлого. И отчего большинству до сих пор не приелись гармония живописи пятнадцатого века или стихосложение девятнадцатого…
– Да я там был. И здесь тоже, меня сюда мама все детство водила в культпоходы. Я, наверно, сегодня первый раз без нее, сам по себе – прислушиваюсь к новым ощущениям.
– А мне всё интересно, и новое, и пережеванное, – отозвалась Вера, припоминая, что эта его мама – старая-престарая. Надо же, как запоминаются разные мелочи. – Но сегодня я сюда не ради картин, а ради табличек.
– А что в них такого? – Ваня уставился на ближайшую табличку.
– А вот смотри.
Они стояли у «Прыгающей лошади» Констебла. Под именем художника и названием картины было обозначено место ее «прописки» – Королевская академия искусств, Лондон. И рядом изображено помпезное здание.
– Я представляю, как туда вхожу, – торжественно сказала Вера. Перешла к «Анжелюсу» Милле и указала на силуэт музея Орсе на табличке: – А теперь я поднимаюсь по этим ступеням. Потом по этим, и по этим – и все двери распахиваются передо мной. Понимаешь?
– Понимаю, – воодушевился Ваня Ершов. – Возьми меня с собой. Я тоже хочу восходить по классическим лестницам.
– Ну давай и ты восходи. Ты вроде не мешаешь. Я хотела во всех этих галереях вот так побывать, чтобы, когда я там окажусь на самом деле и буду подниматься по настоящим лестницам, вспомнить, как это уже было. И все зарифмуется.
– А когда ты там окажешься?
– Совсем скоро! Я выиграла грант. Осталось сдать госы, получить диплом, и я поеду в Италию, и проведу там целый год! И буду потом заниматься культурной журналистикой!
Солнечные зайчики плясали по паркету и стенам. Казалось, их источником было не окно, а сама Вера, излучавшая столько счастья, что оно заполняло все пространство вокруг нее, и им не жалко было поделиться с первым встречным.
Они поднялись по ступеням варшавской, амстердамской, венской галерей, а потом перед ними опять оказался Амстердам с ботинками Ван Гога, а потом – снова «Адам и Ева» Климта, огромные, золотые.
– Мы ходим по кругу, – весело заметила Вера. – А твоей компании нигде нет. Наверное, ушли на третий этаж.
Зал постепенно наполнялся посетителями, и восходить по ступеням среди них расхотелось. Посторонние портят игру. А Ваня не был посторонним: первый раз они встретились на интервью в день памяти Пушкина, а второй раз в Пушкинском музее – это тоже зарифмовывалось.
– В любом общественном здании есть две точки схода, где потерявшиеся имеют шанс найтись, – буфет и туалет. Пойдем в буфет, – предложил Ваня и уточнил: – Можно тебя угостить, или ты из таких девушек, которые сами за себя платят?
– Я из таких, – подтвердила Вера.
– Что, и пальто нельзя подавать? И цветы дарить?
– Я не люблю цветы в вазе. Они быстро умирают.
– Я вообще-то тоже… А как же за тобой ухаживать?
– А ты собираешься за мной ухаживать?
– Да вот он где! Он в буфете все это время сидел!
Громкоголосые ершовские друзья появились в точке схода, но, заметив, что сидит Ваня с девушкой, свернули шуточки и скромно уселись за дальний столик. Вера узнала среди них Катиного брата Алешу, а еще – Ирину, редактора Катиных газеты и радио, хотя видела обоих только однажды, в тот же день, что и Ершова. Ее радовало любое подтверждение профпригодности, особенно – своей фотографической памяти.
– Твои друзья – из Белогорска? – удивилась Вера.
– Ну да. Я сам теперь из Белогорска. Моя компания получила там большой заказ, усадьбу историческую будем реставрировать. Так я туда перебрался, чтобы не ездить каждый день.
Звук был отключен, как и положено в музее, но мобильник прыгал в кармане, давая о себе знать. На экране была надпись, которую Вера видела крайне редко, всего пару раз за эти три года: «МАМА». И сразу поняла: Италии не будет. Не будет ничего. Она не взойдет ни по одной лестнице. Мама возвращается домой. Закончилось очередное женское счастье, вместе с деньгами за бабушкину квартиру.
– Вероника, немедленно приезжай! Я при смерти! – захлебывалась трубка.
Все еще хуже?!
– Что-то случилось? – сразу догадался Ваня. – Может, тебя подвезти? Ты не забыла, что я твой личный таксист?
Всю дорогу в голове всплывали страшные картины: ДТП, реанимация, мамин возлюбленный оказался маньяком… Но мама лежала дома на диване целая и вроде невредимая. Фельдшер скорой помощи, сделавшая ей укол, добродушно повернулась к переполошившейся Вере:
– Да ничего особенного, давление подскочило. Когда первый раз, всем кажется, что это смерть с косой.
Мама бросила на нее испепеляющий взгляд. Она – не все! С ней происходит что-то исключительно страшное!
Потом, задним числом, Вера узнала, что мама прочитала книгу о женщине, которая легла в кровать на целый год и упорно не вставала, надеясь исцелить таким образом свои душевные раны. А тогда она замирала от ужаса, возила маму на такси в бесплатную поликлинику и к частным специалистам, приглашала на дом тех, кто соглашался ездить по домам. Самое главное, все они что-то у нее находили – и терапевт, и кардиолог, и невропатолог, и эндокринолог – и перекрестно посылали друг к другу и на бесконечные анализы и исследования. Только психиатр, к которой Вера уговорила маму тоже обратиться из-за нескончаемых рыданий, сказала:
– У вашей мамы не болезнь, а плохой характер. Но я могу выписать ей антидепрессанты. А вы сами принимайте глицин. Носите его всегда с собой, и чуть что – таблетку под язык.
Но мама отказалась от антидепрессантов, ей как будто хотелось страдать.
«Ты самая несчастная на свете, правда? – перевела это Вера на язык бабушки Иды. – Самая-пресамая? И весь зрительный зал замирает в восторге и ужасе?» Ей было ясно, что причина непонятных болезней – в утрате «женского счастья», но мама не желала «об этом поговорить». Ни с врачами, ни с Верой. Любой Верин вопрос вызывал приступ рыданий, и она отступилась.
А мама большую часть времени лежала, поминутно подзывая ее к себе – что-нибудь подать, где-нибудь растереть, посмотреть, какой чудодейственный БАД она увидела в газете. Вера попыталась устроиться на офисную работу, но мама не могла долго оставаться одна, поминутно звонила, рыдала в трубку, и пришлось перейти на фриланс. Копирайтинг и корректура много денег не давали, и приходилось увеличивать нагрузку. При этом находить время для работы было сложно: мама весь день призывала Веру к себе или, наоборот, могла выспаться днем и потом до утра бодрствовать, то и дело подавая голос. Приходилось ловить спокойные промежутки и работать, когда получится. А как-то раз Вера услышала, как мама жалуется подруге по телефону:
– Да она же дрыхнет до обеда! Не дозовешься. Лежу тут совсем одна, заброшенная. Совсем ничего для меня не делает. И на работу не ходит. Ну что поделаешь, это мой крест.
Вера предпочитала «смахивать» такие моменты – что она, маму не знает, как та заигрывается в свои роли и входит в раж? Да ведь никто, кроме нее, Веры, не понимает этого и не способен ее вовремя переключить, отвлечь внимание. Кто бы стал с ней так возиться, как она, имейся даже гипотетический миллион для лучшей в мире клиники?
Вера достигла совершенства в предотвращении бурь, виртуозно включая в нужный момент позитивный фильм вроде «Моя семья и другие звери», чтобы мама посмеялась, или радиопередачу «Серебряные нити», где гипнотический голос психотерапевта-ведущего замедлял, как на проигрывателе, скорость кипения мыслей.
Потом она нашла полные юмора аудиокниги Джеральда Даррелла о его путешествиях в Африку и Южную Америку и поимке зверюшек для зоопарка. Какое-то время можно было под них спокойно обедать, и обед не превращался в наказание со слезами и проклятиями на десерт.
Удалось обезвредить и вечера – на телеканале «Культура» начался проект «Большая опера». Вера с мамой следили за выступлениями молодых артистов и так увлеклись, что, даже когда конкурс завершился, продолжили смотреть в Интернете записи разных театров и волшебные фильмы-оперы Дзеффирелли.
Для Веры неожиданно распахнулась еще одна дверь, как это было когда-то с альбомами по искусству. Опера оказалась не вымороченным архаичным жанром с неразборчивыми ариями, неправдоподобными сюжетами, картонными страстями и тяжеловесными примадоннами. Это был нематериальный мир, целиком сотворенный из человеческого голоса: на единый миг звучания создавались и близость, и верность, и горечь, и одиночество, а все вещественные подробности растворялись и уходили на задний план. И Вера перемещалась в этот звучащий мир, вместе с героями пропевая все внутренним голосом по субтитрам или либретто, найденным в Сети. А порой вдруг слышала знакомые и прямо-таки родные арии – из альбома Иды со старыми толстенными пластинками.
Мама тоже не могла оторваться от экрана. Они смотрели вместе «Кармен», «Богему», «Волшебную флейту», «Норму», «Аиду», «Онегина», «Мадам Баттерфляй», «Тоску», «Дона Карлоса» и «Дона Жуана» в разных постановках и были в тот момент не просто мамой с дочкой, а родственными душами, их охватывали одни и те же чувства, они сидели, обнявшись, а в конце горячо обсуждали сюжет и артистов.
Мама слушала и рыдала, но эти рыдания были не истеричными, а просветленными, она часами могла потом говорить о своей молодости, своих спектаклях, врагах и друзьях, и все мужчины в этих рассказах были у ее ног, а все злодеи – повержены. Вера с детства помнила эти истории и уже отделяла в них правду от вымысла, но готова была слушать еще и еще, как продолжение только что увиденных оперных сюжетов.
Правда, со временем светлые промежутки после арт-терапии становились все короче, и мама, которая только что плакала над судьбой Джульетты и умилялась собственным дарованиям и успеху у публики, уже через несколько минут набрасывалась на Веру с какими-нибудь обвинениями. Но та продолжила верить в великую силу искусства, в катарсис, и отыскивала следующий спектакль.
А потом в тридцатиградусный мороз прибегала из аптеки и слышала, что надо сходить в еще одну, на другой конец города, потому что мама забыла сразу сказать, и идти надо именно в эту аптеку, другая не подойдет.
«Ей что, совсем меня не жалко?» – растерянно думала Вера, глядя, как та во что бы то ни стало стремится настоять на своем, и вдруг понимала: да, не жалко. Вера здесь нужна только для того, чтобы ее обслуживать.
И в то же время никто не смог бы ее разуверить в том, что разбитое сердце и расстроенные нервы лечатся любовью и заботой. Но чем больше Вера старалась, чем терпеливее была, тем неизлечимее становились мамины болезни, а сама она непонятно озлоблялась – уже не против судьбы, завистников и неверных возлюбленных, а против нее, Веры.
Стало тепло, мама усаживалась у раскрытого окна и беседовала с соседями – об ужасной никчемной дочери, на которую потратила свою молодость и которая нигде не работает и за ней не ухаживает, ничего для нее не делает, травит таблетками. Вера это слышала, видела, что люди на нее косятся и перестали здороваться, но говорила себе, что и это – ее крест, затыкала уши и уходила в работу. Из перевернутого мира – в виртуальный.
Она стала блогером. Вера больше не могла ходить на концерты и выставки, но книги читать можно было и дома. Сначала, когда она еще думала, что мама на краю могилы, то совсем не могла читать, никакая информация не воспринималась – как несколько лет назад, во время ее собственной болезни. Книги снова стали мертвыми. Однако обнаружилось, что она может просто на них смотреть.
В одной из читательских соцсетей на страничке каждого произведения были представлены все его издания, от исторических до современных. Вера сделала это открытие, найдя любимую осеевскую «Динку», и начала искать книги своего детства, из утраченной бабушкиной библиотеки, одну за другой. Какое это было чудо – видеть те самые обложки, которые, казалось, сохранились только в памяти!
Они возвращались к Вере, словно старые друзья, она заглядывала им в лицо, и они узнавали друг друга. Она заново расставляла их по полкам и как будто снова проживала дошкольные, школьные, студенческие годы. Жизнь словно сшивалась заново из разодранных клочьев, восстанавливала целостность и смысл. Только полки были электронные.
Это был исцеляющий процесс. Параллельно шло осознание, каким книгам она особенно благодарна и какие невозможно вычесть из судьбы. Вера решила выбрать топ-10 и сделать для себя небольшие заметки, а они автоматически попали в общую ленту рецензий. Вера начала ее читать – и утонула. Лента обновлялась ежеминутно и нарастала, как волна. Спонтанные читательские отклики оказались интереснее причесанной литературной критики. Этот сайт был не только картотекой с информацией о книгах и площадкой для приватных читательских дневников. Она попала на планету читателей.
Сюда приходили, чтобы полистать отзывы, посмотреть на книжные новинки и узнать их рейтинги, поиграть в литературные игры, обменяться книжками, обсудить их в клубах по интересам. Но самым большим открытием стало то, что читатели – существуют! И их – великое множество! А горевание о том, что люди разучились читать, мягко говоря, неактуально. Да и слухи о смерти книги преувеличены.
Читали все – люди разных возрастов, с разным уровнем образования и различными вкусами. И все они не ленились высказывать свое мнение о прочитанном. Какие только отзывы здесь не встречались – от корявых до изысканных, развернутые рецензии, написанные по-английски, и восторги в три строки: «Прочитал Гоголя! Думал, скучно, а оказалось здорово! Буду еще читать!»
И Вера сказала самой себе: с возвращением. Это был ее мир. Теперь она не только «генерила контент» для заработка – она возвращалась в профессию, о которой мечтала. И книги снова ожили, и она наверстывала пропущенное, одновременно улетая в множество вселенных – Макса Фрая, Нила Геймана, Акунина, Пелевина… И стойко переносила все, что случалось в том, другом мире, где она была плохой дочерью. Достаточно было напомнить себе, что сейчас она включит компьютер и вернется в свою настоящую жизнь. Вера вела свой бложик, потом начала публиковаться на электронных площадках, пишущих о литературе и искусстве, в электронных версиях бумажных изданий.
Поначалу она привычно делилась хорошими новостями с мамой, но та не радовалась: во-первых, звездой могла быть только она, а во-вторых, мама ревновала Веру ко всему на свете. Вера имела право только находиться рядом с ней и заниматься исключительно ее делами. Ну и все-таки зарабатывать на жизнь на этом своем компьютере. А если она занимается чем-то еще, значит, недостаточно загружена, и неотложные дела для нее тут же находились. Верина комната постепенно заполнялась книгами, которые издательства и авторы присылали ей на отзыв, – этого нельзя было не заметить, но мама не замечала.
А Вера уже поняла, что не сможет ни сделать маму счастливой, ни заслужить ее одобрение и любовь, как бы ни старалась. И что в ее интересах привлекать к себе как можно меньше внимания. И так каждый шаг под контролем.
Вериным успехам радовалась Катя. Она вернулась из Германии со стажировки в российско-германском институте журналистики в свою маленькую газетку и как-то раз пригласила подругу в Белогорск на пресс-конференцию о реставрации их знаменитой Благовещенской усадьбы. Мама объявила это предательством: как это – бросить ее на целый день! Как это – Вера уедет куда-то за город!
– А я тут погибаю без воздуха, у окошка с видом на помойку! Ни кустика, ни деревца, ни один солнечный луч не проникает!
Но Вера решила ехать во что бы то ни стало. И психиатр ей советовала: «Вам надо летом обязательно куда-нибудь на время уезжать и менять обстановку». Хоть на один день, но она вырвется! А потом всю дорогу мучилась, воображая то какой-нибудь припадок, который происходит прямо сейчас, то скандал, ожидающий ее по возвращении.
Оказавшись в усадьбе, Вера поняла, насколько одичала за год в четырех стенах. Работать она не разучилась, все заготовленные вопросы задала, всю необходимую информацию записала. Но потом их пригласили на фуршет, больше похожий на пикник у озера, и радость жизни – чужая радость чужой жизни – ослепила Веру и обездвижила. Солнце заливало берег, над волнами носились речные чайки и ласточки, люди вокруг хохотали и звенели посудой, наигрывала музыка, а Вера сидела на дальнем пеньке, уткнувшись в ноутбук. Она не могла со всем этим справиться, не могла присоединиться к нормальной человеческой жизни, хотя ощущала изумление и счастье именно оттого, что люди вокруг – нормальные, и от них не надо постоянно ожидать подвоха. Катя пыталась ее с кем-то знакомить, и уже знакомые лица мелькали в толпе, вроде Ершова, но Вера так и просидела на своем пеньке, как когда-то – под столом у бабушки. Постепенно начиная оттаивать. Безопасность и покой! Она могла бы всю жизнь так просидеть, глядя на волны и пляшущие на них солнечные дорожки.
– Тебе надо чаще выходить в свет, – озабоченно сказала Катя на прощание. Вера с энтузиазмом закивала. – И вообще, может, пора найти стабильную работу и переехать в свое жилье? Снять что-нибудь. А маме нанять сиделку.
– Бесполезно, – махнула Вера рукой. – От нее любая сиделка сбежит, даже если я на нее заработаю.
Однако, когда Катя еще раз пригласила ее тем летом – на открытие частного художественного музея, – Вера сразу начала считать дни до поездки. А потом – мечтать о следующей.
– Приводишь в порядок планету?
Вера, копошившаяся под своим окном с саженцами сирени, увидела Катину двухместную машину-малютку и вылезающих из нее – не только Катю, но и Ершова.
– Сколько ко мне гостей! Два – это куча! Смотрите, как планета в этом месте нуждается в преображении. Здесь народ срезает угол, и у нас под окном все время шум и заглядывающие головы. А вот тут была лавочка со столиком, за которым обедали бомжи, а по ночам собирались компании. Видите, вместо злачного места теперь клумба, а вместо тропы была еще одна, но ее затоптали…
– Не заросла народная тропа? – посочувствовала Катя.
Вера подтвердила:
– Не заросла. И я поняла, что цветами горю не поможешь. Они и цвести здесь не хотят, на этой стороне дома крайний север и вечная мерзлота. И я поменяла концепцию: посажу сирень, много сирени, одну сплошную сирень. Быть здесь непроходимой сиреневой стене, – постановила она, – через кусты не каждый первый полезет. Они скроют наши окна от пыли и чужих глаз.
Вера показывала разметку будущего сада, пока что представлявшего собой жалкие прутики, которые не отбрасывали тени, и объясняла, что проводит социальный эксперимент, призванный выяснить: как скоро жители перестанут новый садик вытаптывать, отучатся ли от привычки срезать угол, как отнесутся к самой затее озеленения, поддержит ли кто-нибудь ее словом или делом. Промежуточные результаты регулярно появляются в блоге и прибавляют ему подписчиков.
– Это тоже культурная журналистика? – уточнил Ершов. – От прямого значения слова «культура» – возделывание?
– Это то, что я могу делать здесь и сейчас, – признала Вера.
И тут отворилось окно, и раздался гробовой голос:
– Ах ты, проститутка! И еще одна приехала. Так это к тебе она ездит блядовать? Ты зачем сюда заявилась?! А ну выметайся! И не смей здесь появляться, поняла?
Вера остолбенела, соседи сходились на представление, а мама продолжала поливать отборными ругательствами то ее, то Катю и кричала уже во весь голос. И это была ее необыкновенная мама, рыдавшая над «Травиатой» и порхавшая феей по сцене. И все это происходило не в кошмаре и не в какой-то неблагополучной семье из криминальной хроники, а в ее собственной.
Катя пришла в себя и кинулась к машине, скороговоркой прощаясь:
– Я потом позвоню.
Вера – за ней:
– Кать, прости, пожалуйста! Опять она с катушек сорвалась. Не бойся, она сюда не выскочит, она из дома не выходит… Кать, прости!
– Ты ни в чем не виновата, – отрезала Катя, – но как ты в таком кошмаре живешь? Вер, приезжай лучше ко мне сама. Если сможешь. Ваня, ты поедешь?
Крики все еще неслись из окна, побелевшая Вера дрожала – она понимала, что последние человеческие связи тают на глазах, что Катя больше не приедет и к себе не позовет, и у нее не останется ни дружбы, ни общения.
А вот Ершов потрясенным не выглядел, распрощался с Катей и спокойно пояснил Вере:
– Моя машина в очередном ремонте, и Катя меня подвезла. Мне некуда больше спешить. А тебе самое лучшее сейчас – поскорее отсюда уйти. Истерика прекратится, когда у спектакля не будет зрителей. Я это знаю точно.
– Куда уйти? – Вера продолжала дрожать, у нее даже зубы стучали.
– Да все равно куда. Пойдем.
И они пошли по двору, потом по улице, потом присели в другом дворе на лавочку. Вера все ниже опускала голову, ощущая, как начинают пламенеть уши и шея, и представляя, как сейчас выглядит – зареванная, красная, руки в земле. А Ваня стянул с нее рабочие перчатки и вытер руки влажными салфетками, которые нашлись у него в кармане. А потом предложил:
– Вер, не парься. Я не услышал никаких новых слов. Все они давно мне известны. И я даже точно помню, когда их узнал. Когда я учился во втором классе, учительница вызвала мою маму в школу и показала ей тетрадку – на задней обложке были в столбик записаны матерные словосочетания. Моей рукой, в моей тетрадке. «Как такое возможно! Ребенок из такой семьи!» Мать подтвердила, что в семье я такого услышать не мог и, скорее всего, почерпнул эти знания в школе, а записал, чтоб не забыть, – именно потому, что это новый материал. Знал бы наизусть – не понадобилось бы записывать. Так оно, в общем, и было.
– А как оно было? – Вера вытерла нос.
– А я как-то шел в школу без провожатых, и вдруг с одной лоджии на первом этаже пулей вылетела кошка – и помчалась по улице. А следом за ней выскочила благообразная старушка, открыла рот – и понеслось: «Ах ты, шалава! Ах ты, проститутка! Сейчас же вернись!» И дальше много чего про аморальное поведение и незаконнорожденных котят. И все это таким отборным матом, что я прирос к асфальту. Я рос в рафинированной среде и под постоянным контролем, но отдельные слова мне все же были знакомы.
Однако я не представлял, что могут существовать такие сложные конструкции, смысла не понимал и только изо всех сил старался их запомнить. А придя в школу, тут же записал. На допросе, конечно, ни в чем не сознался. Они подумали, что я геройствую, чтобы не выдать друзей или каких-нибудь старшеклассников. И вот теперь, спустя много лет, больше нет смысла скрывать правду. Ты теперь знаешь, кто виноват.
– Знаю: кошка-проститутка. – Вера, у которой еще не высохли слезы, смеялась.
Они до вечера гуляли по улицам, заходили в кафе, в кино, посмотрели «Стартрек: Возмездие», а когда Вера начала прощаться, Ваня ее уверил:
– Тебе не о чем беспокоиться, если ты собираешься туда возвращаться. Она выплеснула агрессию, подзарядилась энергией зрительного зала и будет теперь в прекрасном настроении.
– Ты знаешь, что моя мама бывшая артистка? – удивилась Вера.
– Какая же она бывшая?
А дома и правда были тишь и благодать. Мама вела себя так, будто ничего не случилось, и спросила, какую оперу они сегодня будут слушать. Конечно, отсутствие скандала лучше, чем его продолжение, но Веру это так возмутило, что она не стала включать никакую оперу. Неужели и дальше придется так существовать – от одной бури до другой? А жизнь, в которой есть место искусству, профессии, друзьям, нормальному человеческому общению, собственной семье, пройдет мимо?
– Значит, для тебя это тоже место силы, – утвердительно говорил Ершов.
– Скорее, место свободы, – уточняла Вера. – А для тебя почему?
– А мы туда все мое детство на дачу ездили. Мать была крупным руководителем, ее фирма сотрудничала с Белогорским НИИ, а она дружила с директором Перехватовым, Катиным отцом. Рядом с их дачей мы свою снимали. Еще у матери здесь был доверенный доктор, вообще узкий дружеский круг. А меня ради социализации время от времени запихивали в местный детский лагерь. Наверно, для меня это тоже место свободы: я был хоть ненадолго предоставлен сам себе.
– Это в лагере-то?
– Поверь мне, лагерь и хождение строем были привольем по сравнению с домашней муштрой. Я же сказал: мама была руководителем. Она безостановочно руководила… Видишь стеклянное здание, похожее на голубой стакан? Возвышается над крышами? Это торговый центр построили. Моя фирма взяла там еще один подряд, и я понял, что мы в Белогорске надолго и пора в нем осесть. Сначала снимал квартиру, чтобы не кататься каждый день из Москвы, потом поизучал рынок вторичного жилья, а потом присмотрел домик. Хочешь увидеть? Это рядом, в Тучково.
– А как же твоя мама? – Веру это больше интересовало. – Как же она согласилась остаться одна?
– Она согласилась остаться одна, еще когда я пошел работать в ту самую строительную фирму, где она была финдиректором. И отлично знает ее специфику. А у меня специальность – теплоснабжение и вентиляция. Климат-контроль, умный дом – вот это все.
– Это она хотела, чтобы ты пошел по ее стопам?
– Я понял, что мне это подходит, хоть там и заправляют старики из прошлого века. Это сокращало сроки вхождения в профессию. Можно, конечно, провести чистый эксперимент – прийти туда, где тебя никто не знает, начать показывать себя. Но на это уйдет много времени, а закончиться в плане карьерного роста может ничем, как бы ты ни старался. А если хочешь делать дело, то лучше заниматься им в режиме наибольшего благоприятствования, а не экспериментировать и самолюбие тешить. Поверь мне, чьим бы сыном ты ни был, вкалывать надо самому и каждый день. И спрашивать будут с тебя, а не с мамы. Но для меня самым главным было то, что у нашей компании объекты по всей стране. А мне жуть как хотелось перестать быть домашним мальчиком, я и выбрал работу, связанную с поездками.
– И всю страну объехал? – восхитилась Вера.
– Почти. Сначала все время опасался, что с мамой без меня что-нибудь случится. Я с детства рос заложником ее возраста. Как только начал себя сознавать, понял, что у меня мама не как у остальных детей. Она очень старая, а значит, скоро умрет. И я, с одной стороны, должен быть к этому готов, а с другой – сделать все от меня зависящее, чтобы это отодвинуть. Быть рядом, прежде всего. Мне это казалось важной, героической миссией. А потом эмпирическим путем выяснилось, что мама прекрасно справляется и без моего героизма. И что и тогда в нем не было необходимости. Что все детство прошло в постоянном и в общем-то бессмысленном стрессе. Если бы я тогдашний знал, что в ближайшие двадцать восемь лет опасаться нечего, я бы просто жил без страха.
– А ты сам нагнетал этот страх пополам с героизмом, или…
Она не договорила – машина остановилась у Катиного дома.
Ершов сам предложил подбросить Веру в гости к подруге – позвонил накануне выходных. Причем не остался ждать в машине, а зашел за Верой в дом, не опасаясь ее мамы – стихийного бедствия. Та смотрела на него, как на диво дивное, и даже не пыталась возражать. Вера, не понимая, как такое может быть, просто вышла из дома – без скандала. До нее доносилось, как мама размышляет с самой собой:
– И откуда она берет таких молодцов? Что они в ней находят? Ведь ни сиськи ни письки.
Дружба с Катей не была непоправимо уничтожена, Вера продолжала приезжать по выходным, и тут очень кстати подворачивался Ваня, едущий в том же направлении. А Катя каждый раз заводила разговор о том, что Вера должна как можно скорее вырваться из домашнего ада, найти жилье и позаботиться о нормальных условиях для работы.
– Так жить нельзя, – убеждала она.
– Но я же не могу ее бросить, – убеждала, в свою очередь, Вера. – Я ее единственный ребенок. Я должна держаться до конца.
– До чьего конца? Ты там отдашь концы очень скоро.
Но Вера была убеждена, что это Ванина мама способна без него обойтись, а ее мама без нее – не способна.
Поездки в Белогорск были глотком кислорода, и она жила от глотка до глотка. Каждый раз, проезжая мимо парка, думалось, как хорошо было бы там погулять, среди больших деревьев; потом в окне направо показывался ершовский голубой «стакан», а в окне налево – витрина с аквариумами, и Вера крутила головой, стараясь рассмотреть и то и другое; а тут уже мелькал ярко освещенный изнутри стеклянный кубик, где возвышались пирамиды книг и среди них ходили люди, – конечно, это книжный магазин, туда обязательно надо зайти! Но и машина, и выходной каждый раз пролетали очень быстро.
А потом Катя поступила в магистратуру и перебралась в Москву. Как и раньше, на журфаке, она не бросала белогорскую газетку, телепортировалась туда-сюда, и все ее время было рассчитано по минутам. Значит, придется поставить поездки на паузу и снова обходиться без кислорода. И персональный таксист больше не позвонит. Вера понимала, что живет на вулкане, и будь это компьютерная игра, ее персонаж давно разрядился бы в ноль, если бы старая подруга и новый знакомый не пополняли ее уровень жизни.
Она набрела в соцсети на пост о словах, аналогов которым нет в русском языке. Японское «цундоку» – человек, который накупает больше книг, чем может прочитать, японское же слово, обозначающее часть девичьих ножек между юбкой и гольфами – дзэттай-рёики. А вот немецкое geborgenheit – ощущение безопасности и комфорта, когда находишься вдвоем с кем-то из близких. Например, с мамой – тут Веру передернуло. Или возлюбленным – но он не возлюбленный.
Он так и не начал за ней ухаживать, хотя интересовался этой темой в музейном буфете. Он просто появлялся и возил ее к подруге, и каждый день ставил лайки под ее постами, и не просто ставил – он эти посты читал. Он выслушивал сводки событий из палаты номер шесть, понимая суть происходящего и иногда давая дельные советы – в отличие от Кати, которая только повторяла, что Вера должна немедленно оттуда бежать.
Вера подумала, что понять ее способен только тот, кто сам прошел через нечто подобное, и что любой другой молодой человек не только не стал бы регулярно выслушивать бесконечные жалобы, а давно бы сбежал. И не давно, а сразу.
Еще одно слово, которого нет, – koi no yokan, ощущение в глубине души, что ты неизбежно полюбишь человека, которого встретил. Не любовь с первого взгляда, скорее со второго. Предчувствие любви. Да, слова нет, а предчувствие есть.
Он позвонит.
– Вер, привет, хочешь на утиную охоту? Ты не должна будешь никого убивать. Я тоже. Просто мои друзья собираются в охотничьем домике. А в выходные обещают тепло.
Это была та же компания, которую Вера видела в «Воображаемом музее». Несколько супружеских пар решили отдохнуть без детей, хотя сначала только о них и говорили. А потом желающие отбыли на озеро, и Ваня все-таки с ними, а пара хозяйственных женщин занялись мясом и салатами.
– Конечно, можно взять готовое хоть в нашем ресторане, но кто же приготовит лучше нас, – тоном, не терпящим возражений, заявила самая крохотная, еще меньше Веры, похожая на воробья, считающего себя предводителем стаи.
Вера и не думала возражать и, радуясь, что ее не вовлекают в кулинарное действо, пошла прогуляться по лесу. К чему все эти зажаренные трупы убитых зверей и месиво из овощей, испорченных майонезом, если в кармане есть пакетик с орешками!
Прогуляться по лесу означало осторожно обойти вокруг охотничьего домика, не слишком от него отдаляясь. Вера пыталась вспомнить, когда была в настоящем лесу – может, в начальных классах на экскурсии? – но похоже, что никогда. В младшей школе это был все-таки парк Сокольники. А дачу им с бабушкой не на что было снимать.
Но тут она заметила красивый деревянный мостик через овраг и ярко-красную стрелку на еловом стволе. А впереди, через несколько деревьев, – еще одну. Наверное, это безопасно – пойти по стрелкам. Тем более что охотничий домик все время видно.
Но скоро она перестала оглядываться. На одном дереве из пространства между треснувшей корой выглядывала нарисованная рожа. Леший?! Надо сфотографировать. А может, есть и другие художества? Вот еще одна стрелка. Широкая тропа хорошо утоптана…
И хотя охотничьего домика было уже не видать, заинтригованная Вера шагала по лесу, находя по пути то резную деревянную скамейку, то деревянного же медведя, выточенного из обломившегося елового ствола. А потом ели расступились, и она увидела просторную круглую беседку с широкой круговой скамьей. Рядом стоял – не на курьих, а на крепких деревянных ножках – шкаф, набитый книгами.
Блогерский инстинкт возобладал, и Вера сначала кинулась его фотографировать, словно он мог исчезнуть так же неожиданно, как появился, и уже потом – рыться на полках.
Здесь стояли до боли знакомые советские издания в крепких переплетах, которые выдержат еще лет сто, и даже в лесу; детективы и любовные романы в мягких обложках; глянец и пестрота современного мейнстрима; довоенные раритеты вроде «Пушкин в изгнании» – старинная высокая печать, еще офсета не было; томики манги, несколько книг на английском и немецком.
Кто-то побывал здесь до Веры, все разворошил, и она машинально начала выравнивать книжные ряды. Поискала место для затрепанной книжки без обложки, места не было. Куда бы ее втиснуть…
Растолковав мне, что хозяин дома уехал на пастбища и вернется только к вечеру или уж и вовсе завтра, служанка или экономка – а все женщины на этом острове казались одинаковыми в своих чепцах и клетчатых юбках – церемонно предложила мне перекусить. Я, в свою очередь, попробовал растолковать ей, что хозяин мне совсем не требуется, в отличие от ланча, от которого я, конечно же, не откажусь. Но до здешних мест еще не дошло, что джентльмен может испытывать неудобства путешествия ради путешествия как такового: раз забрался в эдакую глухомань – стало быть, по делу.
Перехватив мой взгляд, которым я окинул стены из красного камня и вековые дубовые балки под потолком, матрона – все-таки, должно быть, экономка, судя по почтенному возрасту, – с гордостью заявила, что их Лэмберт-хаус простоит еще лет двести. Дорогое дерево, некогда привезенное для строительства с материка, служило свидетельством тому, что дом знавал лучшие времена, и первые его владельцы были, несомненно, людьми состоятельными.
А когда я перевел взор на небольшие акварели, стоящие на каминной полке, среди которых выделялся портрет молодого человека, экономка подтвердила:
– Наш хозяин, господин Джон Лэмберт. Он и теперь все так же выглядит, совсем не изменился.
– А это его дочь или сестра? – спросил я, глядя на карандашный набросок – девочку с ягненком на руках. – У обоих схожий задумчивый вид.
– А это наш подарок моря. – Экономка развела руками с непонятной торжественностью.
Как я успел узнать, подарками моря на этом острове, где растительность была исключительно травянистой и совершенно не росло деревьев, местные жители называли любые деревянные обломки, которые приносил прибой и которые высоко здесь ценились. Вероятно, я еще не все верно усвоил. Фразеологизмы, диалекты и местный фольклор интересовали меня не менее ландшафтов. Тем более мне повезло оказаться в здешнем частном владении со словоохотливой собеседницей.
А та, не сомневаясь, что мне, как знакомому хозяина, уже известна вся история, да и в любом трактире об этом до сих пор толкуют, все же не могла не удержаться, чтобы еще раз ее не рассказать – ведь все происходило на ее глазах.
– Больше семи лет уж прошло, сударь мой, как у дальних скал опять разбился корабль. Ведь на всем нашем острове удобное место для пристани только здесь и нашлось, оттого и прозываемся мы Тихая Гавань – ну да это вы и сами знаете. А вокруг гиблые воды, потому и обходят нас суда стороной. Но в тот раз была бурная ночь, никто не спасся. Наутро наши пошли, как водится, обломки подбирать и все, что море вынесет на берег. А Джон заметил – шлюпка болтается на волнах. Не так чтоб далеко от берега, но никто не решался, а он в воду полез – вся как есть одежда намокла. Ведь это большая ценность – лодка, я вам скажу, хоть и о камни побитая… В ней и был подарок моря! Сначала думали, мешок, потом разглядели – дитя завернуто в дождевик и рукавами к скамейке привязано. Никто и не чаял, что живое. У нас на кладбище для таких могил, для в море утопленных, отдельное место есть. А Джон прислушался – дышит! Как сейчас, сударь, вижу: шагает он к дому, почти бежит, а за ним целый хвост зевак, а бесстыдник Вильям в лодку вцепился. Потом отпирался, будто помочь, чтоб назад в море не унесло…
Мой ланч, причудливо сочетавшийся из рыбы и баранины – должно быть, добрая женщина подала гостю все, что имелось, – позволял мне не поддерживать беседу как должно и откликаться лишь кивками и междометиями. Впрочем, разговор и не нуждался в моем участии, так экономка была увлечена своим рассказом.
Им удалось отогреть ребенка, это была девочка, на вид лет девяти-десяти. Несколько дней она находилась между жизнью и смертью из-за переохлаждения и ужасного потрясения. Экономка была в отчаянии, потому что и придя в сознание, дитя отказывалось от еды.
– Только глядит глазами своими большущими куда-то мимо всего. Я взмолилась: ведь не жилец человек, который не ест, что ж я Джону-то скажу, когда он придет! А она вдруг посмотрела на меня и говорит: «Джон? Он придет?» Я обрадовалась: сейчас придет – а сама сую ей ложку с бульоном. Я, говорю, Молли, а тебя как называть?
Но кроме ее имени – Джинни, они ничего не узнали: ни как зовут ее родителей, ни с кем и куда она плыла, ни где жила раньше. Как только при ней заговаривали о корабле, о шторме, глаза девочки туманились от ужаса, ее начинала колотить дрожь, и хозяин настрого запретил экономке и ее мужу Джозефу, своему помощнику, волновать дитя расспросами.
Одежда девочки была изорвана и испорчена морской водой, никаких амулетов, как это водится в романтических сочинениях, на ней не нашли – не имелось ни малейших средств выяснить, кто она и откуда. Джон Лэмберт, разумеется, дал знать властям, а те – куда следует, но почта в те времена была поистине улиточной, любые вести доходили не скоро, да и спустя несколько лет никто не откликнулся. Постановили, что семья девочки погибла в кораблекрушении.
Молли, наблюдая за своей питомицей, окольными путями пыталась дознаться, кто она и каково ее происхождение, но и здесь ничто не наводило на определенные выводы. По сложению и внешности Джинни была не из простолюдинов, и когда начала вставать, то выяснилось, что ни убирать комнату, ни работать по дому она не умеет. Но и к благородным ее нельзя было отнести: она явно привыкла сама одеваться и все время стремилась чем-нибудь помочь Молли, вот только сил у нее было мало, да и Джон запретил нагружать ее работой. Сам рано оставшийся сиротой, он жалел и опекал девочку.
А совсем уж всех озадачил тот случай, когда после большой ярмарки Джозеф страдал над подсчетами, сколько продано шерсти и овец, и, как всегда, путался в цифрах, а Джинни подошла к нему и быстро все пересчитала. И главное, правильно – Джон потом сам проверял. Виданное ли дело, чтобы малое дитя, к тому же девочка, обладало таким уменьем!
Джон предположил, что она и грамоту знает, достал Библию – и правда, Джинни не просто умела читать, все тексты были ей знакомы. Она понимала их содержание и помнила толкования, в отличие от обстоятельств собственной жизни. Больше домочадцы не скучали долгими вечерами, а Молли предположила, что девочка из семьи священника, возможно – миссионера, плывшего куда-нибудь к туземцам.
Но и эта версия вскоре отпала. Как-то раз Джон сочинял письмо по поводу недоимки налога и затруднялся с подписью: «С почтением такой-то» или «Искренне Ваш». Молли искала запропастившийся письмовник, а Джинни убежденно заявила, что по казенным делам надо подписывать «С высочайшим уважением» или «Имею честь оставаться Вашим покорным слугой», а «Искренне Ваш» пишут частному лицу, так же как и «С уважением и любовью». Какое уж тут семейство священника.
Мало того, когда Джон не пожалел листа бумаги, девочка тут же переписала его каракули таким изумительным почерком без единой помарки, как будто всегда только этим и занималась. Обитатели Лэмберт-хауса не знали, что и подумать. Надо ли говорить, что теперь для Джинни нашлись в доме подходящие ей занятия.
Я верно отметил на карандашном портрете мечтательный вид девочки: она была спокойной и задумчивой, но не потому, что чувствовала себя неприютно в чужом доме, а таково было ее существо. Она больше не боялась моря и любила подолгу смотреть на него в окно. Иногда же глядела «мимо всего» и вдруг спрашивала: «А где же сад? Ведь уже пора цвести розам, которые я посадила прошлой весной».
Тогда Джон повез ее на пастбища, надеясь, что она развеется, а горный воздух будет ей полезен. Джинни там необычайно понравилось. Надо сказать, что эти отдаленные края с суровыми базальтовыми скалами и мягким климатом довольно живописны, несмотря на отсутствие деревьев. С высот открывается ничем не загороженный простор, повсюду пасутся стада местных низкорослых овец и пятнистых пони, а к морю сбегают кажущиеся игрушечными домики с зелеными крышами, поросшими мхом и травой.
Среди изумрудных ковров, устилающих здешние склоны, Джинни ожила, поздоровела и выглядела счастливой. К сожалению, эту идиллию омрачил случай с хищником: волк, блуждавший вокруг стада, внезапно оказался перед ней и сильно напугал, хотя почти сразу подоспели Джон с собаками.
Джинни привязалась и к Молли, и к Джозефу, в глазах которого она сильно выросла благодаря знанию цифр. Но более всего – к Джону, который дважды избавил ее от смерти, и был для нее спасителем, защитником, добрым волшебником, привозившим ей из Тихой Гавани лакомства, а с пастбищ – растущие там ярко-оранжевые цветы календулы.
Как-то раз он спросил:
– Хочешь со мной на ярмарку?
Вера ощутила на себе чей-то взгляд и подняла голову. Она сидела в беседке, автоматически подвигаясь вслед за согревавшим скамейку сентябрьским солнышком, и читала книжку без обложки. А на нее, улыбаясь, смотрела Лиза из их компании – высокая, длинноволосая, похожая на русалку.
– Так я и знала, что книжный блогер найдет книжное место!
– А откуда оно здесь взялось? А кто приносит книжки? А кто читает? Так напомнило площадку буккроссинга на Патриарших! Хотя там полочка-«птичья кормушка», а здесь целый шкаф!
Вера засыпала Лизу вопросами. Ваня упоминал, что та – хозяйка этих мест, управляющая отелем, на территории которого они находятся. Лиза оказалась «одной крови» – из книжного племени, и начала рассказывать, как занялась буккроссингом, когда он только-только появился в России и никто в него не верил, и как потом пошла книжная волна, и свободные библиотечки начали появляться везде: в офисах, кафе, городском парке[2].
– Я столько в своей жизни пользовалась книгами, что пришла пора начать о них заботиться. Этот лесной шкаф был первым в Белогорске. Еще в самом отеле есть такой же.
– А можно и там сделать фотки?
– Мы с нашим шкафом что, попадем в блог самой Bukoffki? Я на тебя давно подписана…
В кармане Лизы заверещал мобильник, она извинилась – ее ждут в отеле, она на минуту, сейчас вернется, а поляну уже накрыли, и Вера может туда идти. К отелю – красные стрелки, к охотничьему домику – синие, заблудиться невозможно, Лиза сама продумывала безопасные маршруты.
И хотя Вера в этом уже убедилась, она на секунду почувствовала себя неуютно и одиноко. Ровно на секунду, потому что из-за беседки показался Ершов.
– А как же утки? – удивилась Вера.
– Не знаю. Я с ними сегодня не виделся. Я вообще-то тут давно. Ты не сердись, ты очень самостоятельная и независимая, но я на всякий случай все время шел за тобой. Все-таки это настоящий неогороженный лес, хоть и прилегающий к отелю.
– А зачем было красться? Вылез бы, и шли бы вместе, – искренне удивилась Вера.
– Я и хотел. А потом было так интересно на тебя смотреть, как ты идешь со своими орешками, как всему радуешься. Я шел и любовался. И думал: вот еще до того дерева, и вылезу. А потом ты книжку села читать, и было жалко тебя отрывать, ты прямо в ней утонула. Что за книжка?











