Читать онлайн Сфера
- Автор: Дэйв Эггерс
- Жанр: Зарубежная фантастика, Киберпанк, Социальная фантастика
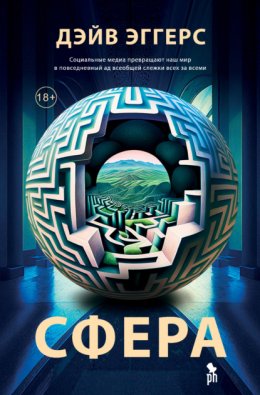
© Анастасия Грызунова, перевод, 2014
© «Фантом Пресс», оформление, издание, 2014, 2017, 2023
Завораживает… Эггерс пишет на чистом адреналине. Это роман идей о деконструкции частной жизни, о том, как нашей частной жизнью завладевают корпорации, и о том, как это может повлиять на природу демократии… Подобно «Пекоду» у Мелвилла и отелю «Оверлук» у Стивена Кинга, «Сфера» – одновременно физическое вместилище, финансовая система, состояние духа и действующее лицо. Этикет сфероидов тонко отлажен – не хуже, чем у героинь Джейн Остен… Эггерс жонглирует материалом с наслаждением и восхитительной изобретательностью, его язык рябит и видоизменяется. Этот роман – прекрасное развлечение не самого простого сорта.
Маргарет Этвуд, The New York Review of Books
Обаяние и мощь этого романа можно объяснить «актуальностью» или «своевременностью», но все эти проходные слова вовсе не передают его уникальности… Попросту великолепная история, чарующая героиня, блестяще выписанные второстепенные персонажи и непредсказуемый сюжет… Выводы кое-кого могут и испугать, однако чтение – чистое удовольствие.
The New York Times Magazine
He оторваться… Социальный посыл романа ясен, и Эггерс мастерски вплетает его в элегантную притчу… Совершаешь страшное открытие: персонажей приводит к краху то самое помешательство на технологиях, которое владеет и тобой. Мы, читатели, тоже хотим знать всё – смотреть, следить, комментировать, общаться, – и глубокая проза Эггерса блистательно обнажает рискованность наших желаний.
Vanity Fair
В этом напряженном, клаустрофобском корпоративном триллере Эггерс обрушивается на культуру цифрового перенасыщения, создает антиутопию, в которой все, что не запрещено, – обязательно… Эггерс чутко улавливает контекст и ярко живописует, как мгновенные и асинхронные коммуникации подрывают наши отношения друг с другом… «Сфера» – гипотетическое построение в духе Джорджа Оруэлла… Мы используем социальные сети, которые используются против нас; мы тегируем фотографии, которые могут привести преступника к нашему дому и к школе наших детей, – и все это мы делаем, отчетливо сознавая возможные последствия. Мы зажмурились и сказали «да». Все ведь так делают, правильно? В цифровую эпоху лучше отказаться от безопасности, чем оказаться изгоем.
San Francisco Chronicle
Роман откликается на актуальные заголовки СМИ: частная жизнь, технологии, социальные сети. Он начинается как дурашливое предостережение и внезапно обрушивается на нас неотступной клаустрофобией.
CNN
Потрясающе… Эггерс пишет мощно, и ближе к концу книги накатывает ужас, а от финальной сцены стынет кровь.
The New York Times Book Review
Плюньте на твит, который вы сочиняете для своих 484 фолловеров. Не кликайте «Мне нравится» под фейсбучной фоткой детей вашего приятеля. «Сфера» – страшный и увлекательный роман Дэйва Эггерса о всепроникающих щупальцах самой могущественной на свете интернет-компании – потребует от вас вдумчивого и пристального внимания.
Entertainment Weekly
«Сфера» – мастерский современный гибрид остроумия Свифта и оруэлловских предсказаний… своевременная книга, наиточнейшая сатира на раннюю интернет-эпоху. Страницы полнятся ироничными, правдоподобными, пугающими идеями, и есть подозрение, что где-то эти идеи уже находятся в разработке прямо сейчас. И это очень смешная книга. Пророческий, крайне важный и бесконечно увлекательный роман.
The Guardian
Дэйв Эггерс стремительно превращается в самого яростного и неотразимого автора на темной стороне технологий. «Сфера» – захватывающее и крайне тревожное чтение.
The Sunday Times
«Сфера» – глубокий и причудливый роман, он увлекает, потрясает и лишний раз доказывает, что Дэйв Эггерс – один из самых интересных современных романистов.
The Scotsman
Если, прочтя «Сферу», публика заподозрит, что «Гугл» – хотя бы чуточку зло, – значит, Дэйв Эггерс написал мощный, подрывной роман. Это антитехнологический манифест, который прикидывается триллером Дэна Брауна.
Bloomberg Businessweek
Книга I
Бог ты мой, подумала Мэй. Я в раю.
Кампус оказался обширен и сумбурен, тихоокеанская лазурь ослепляла, и однако все здесь было продумано до мельчайших деталей и сработано выразительнейшими руками. Там, где некогда располагалась верфь, затем автомобильный кинотеатр, затем блошиный рынок, а затем руины, теперь возникли перекатистые зеленые холмы и фонтан Калатравы.[2] И поляна для пикников, где кругами стоят столы. И теннисные корты – грунт и трава. И волейбольная площадка, где, петляя, точно ручейки, с визгом носились малыши из корпоративного детсада. И посреди всего этого – рабочие корпуса, четыреста акров матовой стали и стекла, штаб-квартира влиятельнейшей компании мира. Над головой – синее небо без изъяна.
Безуспешно прикидываясь здесь своей, Мэй шагала со стоянки к центральному вестибюлю. Дорожка вилась меж лимонных и апельсиновых деревьев, и кое-где вместо блекло-красных булыжников маячили плитки с вдохновляющими советами. «Мечтай», – лазерной резьбой по красному рекомендовала одна плитка. «Вливайся», – говорила другая. Их тут были десятки. «Найди сообщество». «Изобретай». «Вообрази». Мэй едва не отдавила руку молодому человеку в сером комбинезоне; юноша вделывал новую плитку с подсказкой «Дыши».
Солнечный июньский понедельник; Мэй стояла у дверей центрального вестибюля под вытравленным на стекле логотипом. Компании не минуло и шести лет, однако ее название и логотип – плетеная решетка в шаре, с маленькой «с» в центре – уже общеизвестны. Здесь, в центральном кампусе, трудилось десять с лишним тысяч человек, но у «Сферы» офисы по всей планете, и каждую неделю приходят сотни новых молодых дарований. По результатам опросов, «Сфера» четыре года подряд считается самой привлекательной компанией на свете.
Если б не Энни, Мэй и в голову бы не пришло, что можно сюда устроиться. Энни двумя годами старше, они с Мэй три семестра делили комнату в уродской студенческой общаге, где жизнь была сносна лишь благодаря их замечательной дружбе, как бы подруги, но как бы и сестры – двоюродные, которые жалеют, что не родные, тогда можно было бы не расставаться. В первый месяц их совместного проживания Мэй как-то в сумерках сломала челюсть: голодная, гриппозная, свалилась в обморок посреди сессии. Энни велела ей лежать, но Мэй пошла в «Семь-одиннадцать» за кофеином и очнулась на тротуаре под деревцем. Энни отвезла ее в больницу, подождала, пока челюсть подремонтируют, дежурила с Мэй, спала у койки на деревянном стуле, а затем, уже дома, дни напролет кормила Мэй через трубочку. Такой бешеной лояльности и мастерства Мэй никогда не встречала у плюс-минус сверстников и с тех пор была предана Энни безгранично – сама не подозревала, что на такое способна.
Мэй училась в Карлтонском колледже, дрейфуя от одной специализации к другой, то история искусств, то маркетинг, то психология, в итоге защитила диплом психолога и работать по профессии не планировала; а Энни между тем получила МБА в Стэнфорде, и ее жаждали нанять все подряд, особенно «Сфера», где она и очутилась спустя считанные дни после окончания магистратуры. Теперь она занимала высоченную должность – директор по обеспечению будущего, шутила она, – и уговорила Мэй попроситься сюда на работу. Мэй так и поступила, и хотя Энни уверяла, что она тут ни при чем, Мэй была уверена, что без Энни не обошлось, и считала, что обязана ей по гроб жизни. Миллион людей, а то и миллиард, мечтали оказаться там, где сейчас была Мэй, – перед этим атриумом тридцати футов высотой, прошитым калифорнийским солнцем, в первый день работы на единственную компанию, от которой взаправду что-то зависит.
Мэй толкнула тяжелую дверь. Вестибюль был длинный, как променад, высокий, точно собор. Наверху сплошь офисы, с двух сторон по четыре этажа, все стены стеклянные. Голова слегка закружилась, Мэй опустила взгляд и в чистом блестящем полу увидела свое встревоженное лицо. Почувствовав, что за спиной кто-то стоит, она сложила губы в улыбку.
– Ты, наверное, Мэй.
Мэй обернулась и узрела красивую головку над алым шарфом и белой шелковой блузкой.
– Я Рената.
– Привет, Рената. Я ищу…
– Энни. Я знаю. Она уже идет. – В ухе у Ренаты плямкнула цифровая капелька. – Собственно, она… – Рената смотрела на Мэй, но видела нечто другое. Ретинальный интерфейс, решила Мэй. Еще одно местное изобретение. – Она на «Диком Западе», – сказала Рената, снова фокусируя взгляд на Мэй, – но скоро появится.
Мэй улыбнулась:
– Надеюсь, она на выносливой лошади и запаслась сухарями.
Рената вежливо улыбнулась, но не рассмеялась. Мэй знала, что здесь принято называть корпуса в честь разных исторических эпох; так гигантский кампус менее безличен, менее корпоративен. Уж явно лучше «строения восточного 3б», где прежде трудилась Мэй. Последний день ее работы в коммунальной службе родного города истек лишь три недели назад – они все аж остолбенели, когда она подала заявление об уходе, – но Мэй уже не понимала, как умудрилась просадить там столько времени. Туда вам и дорога, подумала она, и каторге вашей, и всему, что за ней стоит.
Ренате по-прежнему сигнализировали из наушника.
– Ой, погоди, – сказала она. – Энни говорит, что увязла. – И просияла: – Давай я тебя к столу отведу? Она говорит, что зайдет через часок.
От этих слов, «к твоему столу», Мэй окатило восторгом, и на ум тотчас пришел отец. Он гордился. Так горжусь, поведал он ее голосовой почте часа в четыре утра. Мэй услышала, когда проснулась. Так сильно горжусь, сказал он – у него даже горло перехватывало. Мэй окончила колледж два года назад, и поглядите-ка: выгодно устроилась в «Сферу»; медицинская страховка; жилье в городе; не садится на шею родителям, у которых своих забот хватает.
Следом за Ренатой Мэй вышла из атриума. На лужайке двое молодых людей сидели в пятнистом свете на искусственном холмике и жарко беседовали над каким-то прозрачным планшетом.
– Ты будешь в «Возрождении», – сказала Рената, ткнув пальцем в корпус за лужайкой – сплошь стекло и окисленная медь. – Все из Чувств Клиента сидят там. В гости раньше приходила?
Мэй кивнула:
– Ну да. Несколько раз, но не в этот корпус.
– Значит, бассейн ты видела, спорткомплекс видела. – Рената махнула на голубой параллелограмм и остроугольное здание спортзала за ним. – там у нас йога, кроссфит, пилатес, массаж. Велотренажеры – ты, говорят, педали крутишь? Дальше там площадка для бочче и поставили новый снаряд для тетербола. Через газон – кафетерий… – Рената указала на соблазнительный травянистый склон, где разлеглась на солнышке молодежь в костюмах и при галстуках. – Пришли.
Они остановились перед «Возрождением» – здесь тоже имелся сорокафутовый атриум, а над ним медленно крутился мобиль Колдера.[3]
– Ой, обожаю Колдера, – сказала Мэй.
Рената улыбнулась:
– Я знаю. – Они вместе посмотрели на мобиль. – Этот раньше находился во французском парламенте. Ну, как-то так.
Ветер, влетевший в атриум за ними следом, повернул мобиль, и тот рукой указал прямо на Мэй, точно здороваясь с нею лично. Рената взяла ее за локоть:
– Готова? теперь наверх.
Они вошли в лифт бледно-оранжевого стекла. Замигали лампочки, и на стенках Мэй увидела свое имя и фотографию из школьного выпускного альбома. ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, МЭЙ ХОЛЛАНД. С губ ее сорвался невнятный «ой». Она не видела эту фотографию много лет – не больно-то и хотелось. Наверняка Энни подстроила – опять донимает Мэй этой фоткой. И впрямь Мэй – широкий тонкогубый рот, оливковая кожа, черные волосы, – но на портрете скуластое лицо суровее, чем в жизни, ни тени улыбки в карих глазах, холодный прищур, как перед боем. С тех пор – Мэй тогда было восемнадцать, только и делала, что злилась и сомневалась в себе, – она наконец-то набрала вес, лицо ее смягчилось, тело расцвело, и этот расцвет привлекал мужчин всевозможных возрастов и намерений. Еще со школы Мэй старалась быть открытее, терпимее и сейчас смешалась, увидев это свидетельство ушедшей эпохи, когда она ждала от мира худшего. Едва смотреть стало невыносимо, фотография исчезла.
– У нас тут везде сенсоры, ага, – пояснила Рената. – Лифт считывает твой идентификатор и здоровается. Нам Энни эту фотку дала. Вы, я чувствую, не разлей вода, раз она хранит твои школьные фотки. Короче, надеюсь, тебе ничего. Мы так в основном с гостями поступаем. Они обычно ахают.
Лифт поднимался, и на стекле возникали списки сегодняшних мероприятий – картинки и текст переползали со стенки на стенку. К каждому объявлению прилагались видео, фотографии, анимация, музыка. В полдень – показ «Койяанискаци»,[4] в час – мастер-класс по самомассажу, в три – упражнения для пресса. В половине седьмого в ратуше выступит седовласый, но молодой конгрессмен, о котором Мэй и не слыхала. Он возник на двери лифта – выступал со сцены где-то не здесь, без пиджака, рукава рубашки закатаны, в пылу сжимает кулаки, а за спиной полощутся флаги.
Двери открылись, и конгрессмен разъехался напополам.
– Прибыли, – сказала Рената, шагнув на стальную решетку узкого мостика.
Мэй глянула через перила, и у нее скрутило живот. Видно было вниз на все четыре этажа.
– Люди с вертиго здесь, наверное, не работают, – с напускной беспечностью заметила она.
Рената притормозила и обернулась в ужасной тревоге:
– Конечно нет. Но в твоем профиле говорилось…
– Нет-нет, – сказала Мэй. – Мне-то что.
– Я серьезно. Можем перевести тебя пониже, если…
– Нет-нет. Правда, тут красота. Прости. Пошутить хотела.
Рената, видимо, перенервничала.
– Ладно. Но если что не так, ты скажи.
– Скажу.
– Да? А то Энни просила все устроить как надо.
– Я скажу. Честно, – ответила Мэй и улыбнулась.
Рената, оклемавшись, зашагала дальше.
Мостик вывел на этаж – многокомнатный и многооконный, рассеченный длинным коридором. По бокам офисы за стеклом от пола до потолка, видно местных обитателей. Каждый украшал пространство по-своему – прихотливо, но со вкусом: в одном кабинете полно парусных атрибутов, в основном висят в воздухе на открытых балках, другой уставлен бонсаями. Мэй и Рената миновали кухню – серванты и полки стеклянные, приборы магнитные, аккуратно перекрещиваясь, цепляются к холодильнику, все освещено громадной стеклянной люстрой ручной работы – лампочки разноцветно сияют на оранжевых, персиковых, розовых щупальцах.
– Ну вот.
Они остановились возле офиса – серого, тесного, обитого каким-то синтетическим полотном. Сердце у Мэй екнуло. Почти в таком же офисе она работала последние полтора года. Первая деталь в «Сфере», которую не выдумали заново, которая напоминала о прошлом. Стены обиты – Мэй глазам не поверила, да быть такого не может – мешковиной.
Мэй понимала, что Рената за ней наблюдает, и знала, что сама таращится в некоем ужасе. Улыбнись, подумала она. Улыбайся.
– Нормально? – спросила Рената, мечась взглядом по ее лицу.
Мэй сложила губы в улыбку ненулевого удовольствия.
– Прекрасно. Вполне.
Она ожидала иного.
– Ну и славно. Привыкай пока, а скоро придут Дениз и Джосия, сориентируют тебя и помогут устроиться.
Мэй снова скривила губы улыбкой, а Рената развернулась и ушла. Мэй села. Отметила, что спинка кресла держится на соплях, а колесики заклинило, причем все разом. На столе компьютер, но допотопная модель, какой она больше нигде тут не видела. Все это ее огорошило; настроение стремительно падало в бездну, где провело последние годы.
А что, кто-то еще работает в коммунальных службах? Как это Мэй угораздило? Как она это выносила? Когда спрашивали, где она трудится, Мэй предпочитала врать, что она безработная. А если б не в родном городе – было бы легче?
Лет шесть презирала родной город, проклинала родителей за переезд, за то, что обрекли ее на это захолустье, на эту узость и нехватку всего: развлечений, ресторанов, просвещенных умов, – но в последнее время вспоминала Лонгфилд с какой-то даже нежностью. Маленький самоуправляемый городишко между Фресно и транкуилити, наречен был в 1866 году фермером без капли фантазии. Миновало полтора века – население под две тысячи душ, и это максимум, большинство ездят на работу за двадцать миль во Фресно. Жить в Лонгфилде выходило дешево, родители ее подруг были охранниками, учителями, дальнобойщиками и любили охотиться. В ее выпускном классе учился восемьдесят один человек – лишь она и еще одиннадцать на четыре года пошли в колледж, и она одна уехала восточнее Колорадо. Так далеко забралась, влезла в такие долги, а потом вернулась работать в коммунальной службе – это разбило сердце и ей, и ее родителям, хоть они и твердили, что она молодец, уцепилась за надежный шанс, начала выплачивать кредиты.
Коммунальная служба, «строение восточное 3б» – трагическая гора цемента с узенькими бойницами вместо окон. Офисы в основном из шлакоблоков, и все выкрашено тошнотворной зеленью. Как в раздевалке работаешь. Мэй тут была моложе всех лет на десять, и даже те, кому за тридцать, произошли из другого столетия. Они дивились ее компьютерной грамотности – минимальной и типичной для всех ее знакомых. Но коллеги в коммунальной изумлялись. Называли ее Черной Молнией – вялый намек на ее волосы – и прочили ей «славное будущее» в коммунальном хозяйстве, если она удачно разыграет свои карты. Может, годика через четыре-пять, говорили ей, станешь начальницей отдела Ит целой подстанции! Ее раздражению не было пределов. Не для того она поехала в колледж и выучила гуманитарщины на 234 000 долларов, чтоб потом вкалывать тут. Но работа есть работа, а деньги были нужны. Студенческие кредиты прожорливы, их нужно ежемесячно кормить, и Мэй согласилась на работу с зарплатой, а сама глядела в лес, как тот волк.
Непосредственным ее начальником был некий Кевин, якобы директор по технологиям коммунальной, который, как это ни странно, о технологиях ничегошеньки не знал. Он понимал в кабелях и распределителях; ему бы в подвале радиоприемники клепать, а не командовать Мэй. Изо дня в день и из месяца в месяц он носил одинаковые рубашонки с коротким рукавом, одинаковые галстуки ржавого цвета. Органы чувств от Кевина дурели: изо рта у него воняло ветчиной, а густые всклокоченные усы торчали из вечно раздутых ноздрей двумя звериными лапками, указуя на юго-запад и юго-восток.
И все бы ничего, пусть бы ему со всеми его изъянами, не верь он взаправду, что Мэй не все равно. Он полагал, будто Мэй, выпускница Карлтона, хранительница редких золотых грез, любит свою работу в службе газа и электричества. Будто Мэй расстроится, если Кевин сочтет, что, допустим, сегодня она неважно поработала. Вот это бесило несказанно.
Когда он зазывал ее к себе в кабинет, закрывал дверь, садился на угол стола – о, то были душераздирающие минуты. «ты понимаешь, почему ты здесь?» – спрашивал он строго, точно патрульный на шоссе. А когда был доволен тем, как она потрудилась, делал кое-что похуже – хвалил. Называл ее своей протеже. Ему нравилось слово. Так и представлял ее посетителям:
– Это моя протеже Мэй. Как правило, умненькая, – и подмигивал ей, словно он тут капитан, а она старпом, оба они пережили немало бурных приключений и навеки друг другу преданы. – Если сама об себя не споткнется, ей здесь предстоит славное будущее.
Это было невыносимо. Все эти полтора года Мэй каждый день размышляла, не попросить ли Энни об одолжении. Мэй не из тех, кто просит, кто молит о спасении, о помощи. У нее в характере этого не было – попрошайничества, назойливости, приставучести, как выражался отец. Родители ее были скромные люди, не любили навязываться – скромные, гордые люди, ни от кого не принимали подачек.
И Мэй была такая же, но эта работа прогнула ее, переменила – что угодно, только бы сбежать. Все это тошнотворно, все, что ни возьми. Зеленые шлакоблоки. Взаправдашний водяной кулер. Взаправдашние перфокарты. Взаправдашние грамоты, когда кто-нибудь совершал нечто выдающееся. А рабочий день! Взаправду с девяти до пяти! Всё как из иных времен, забытых по заслугам, и Мэй казалось, что не только она сама тратит жизнь впустую, но вся коммунальная служба зазря тратит жизнь, впустую расходует человеческий потенциал и тормозит вращение Земли. Рабочий отсек в этой конторе, ее отсек, все это воплощал наглядно. Низкие стенки, которые якобы помогали целиком сосредоточиться на работе, были обиты мешковиной, точно любой другой материал рисковал намекнуть на более экзотическое времяпрепровождение. Она полтора года проторчала в конторе, где считалось, что из всех материалов, изобретенных человеком и природой, сотрудникам надлежит целыми днями созерцать мешковину. Грязную мешковину, такую, что погрубее. Закупленную оптом мешковину, бедняцкую, бюджетную. О господи, сейчас подумала она; увольняясь, она поклялась не видеть, не трогать и вообще забыть напрочь о существовании этой ткани.
Мэй и не рассчитывала увидеть ее вновь. Часто ли мы сталкиваемся с мешковиной – ну, после девятнадцатого века, за порогом скобяных лавок девятнадцатого века? Мэй думала, что больше не придется, однако вот она, мешковина, – в мешковине весь ее новый офис, и от этой картины, от этой затхлости глаза у Мэй наполнились слезами.
– Мешковина тухлая, – пробормотала она.
За спиной раздался вздох, затем голос:
– Я уже думаю, что это была так себе идея.
Мэй развернулась – перед ней стояла Энни: кулаки сжаты, изображает надутого ребенка.
– Тухлая мешковина, – передразнила Энни и расхохоталась. Отсмеявшись, выдавила: – Фантастика. Спасибо тебе большое, Мэй. Я знала, что тебе не понравится, но хотела посмотреть, до какой степени. А ты чуть не плачешь. Господи, извини.
Мэй перевела взгляд на Ренату – та задрала руки: мол, не бейте.
– Это не я! – сказала она. – Меня Энни подговорила! Я ни при чем!
Энни удовлетворенно вздохнула:
– Мне этот отсек пришлось покупать в «Уолмарте». А компьютер! Сто лет онлайн искала. Думала, у нас в подвале завалялось какое старье, но вот настолько древнего уродства во всем кампусе не нашлось. Ой блин, ты бы видела свое лицо.
У Мэй гулко стучало сердце.
– Ты на всю голову больная.
Энни изобразила растерянность:
– Я больная? Я вовсе не больная. Я здорова как бык и прекрасна.
– Ты из кожи вон лезла, только чтоб я расстроилась? Дикость какая.
– И тем не менее. Так на вершины и лезут. Тут главное – спланировать, тут главное – реализовать. – Она подмигнула Мэй – вылитый разъездной торговец, – и та не сдержала хохота. Энни совсем психованная. – Все, пошли. Я тебе устрою экскурсию.
Шагая следом, Мэй напоминала себе, что Энни не всегда была топ-менеджером в «Сфере». Каких-то четыре года назад Энни училась в колледже и на лекции, в столовку, а также на ерундовые свидания ходила в мужских фланелевых пижамных штанах. Энни, как выражался один из ее парней – а парней у нее было много, все моногамные, все достойные, – была дурочка. Но она могла это себе позволить. Из богатой семьи, из семьи, разбогатевшей многие поколения назад, и ужасно смазливая – ямочки, длинные ресницы, а волосы до того светлые, что не бывает таких крашеных. Все знали эту кипучую девицу, которую, что ты с ней ни делай, ничегошеньки не тревожило дольше пары-тройки секунд. Но еще она была дурочка. Долговязая; когда разговаривала, жестикуляция ее угрожала здоровью собеседника; к тому же Энни склонна была к беседам подходить по касательной и увлекаться странным: пещерами, любительской парфюмерией, дууопом. Дружила со всеми своими бывшими, постоянными и случайными, со всеми преподавателями (знала их лично и слала им подарки). Участвовала или председательствовала в большинстве, а то и во всех студенческих движениях и клубах, но находила время усердствовать в учебе – да и везде, – а на любой тусовке чаще всех вела себя по-дурацки, чтоб остальные расслабились, и уходила последней. Единственное рациональное объяснение – а именно: Энни никогда не спит – реальностью опровергалось. Спала она бесстыдно, часов по восемь-десять в день, могла уснуть где угодно – в трехминутной поездке на такси, в замызганной кабинке столовки возле кампуса, на любом диване – и когда угодно.
Мэй это знала по опыту, ибо в долгих поездках через Миннесоту, Висконсин и Айову на бесконечные и довольно бессмысленные забеги по пересеченной местности служила Энни как бы шофером. Карлтон частично оплатил учебу Мэй за ее членство в команде, где Мэй и познакомилась с Энни – та блистала, не напрягаясь, была двумя годами старше и лишь изредка интересовалась, проиграла или выиграла она сама или ее команда. То она увлекалась, дразнила соперников, насмехалась над их спортивной формой или результатами вступительных экзаменов, то совершенно охладевала к исходу забега, но с радостью бежала за компанию. В ее машине на дальних перегонах – Энни предпочитала, чтобы за рулем сидела Мэй, – она задирала босые ноги на боковое стекло или высовывала в окошко, без остановки гнала пургу по поводу пейзажа и часами рассуждала о том, что творится в спальне их тренеров, женатой пары с одинаковыми стрижками почти военного образца. Что бы Энни ни говорила, Мэй смеялась – болтовня отвлекала ее от забегов, где она, в отличие от Энни, обязана была выиграть или хоть не опозориться, дабы оправдать свою студенческую субсидию. Приезжали они всегда впритык к началу, потому что Энни забывала, в каком забеге участвует и хочет ли вообще бежать.
И как это возможно, что такая безалаберная и нелепая девица, до сих пор таскавшая в кармане клочок детского одеяльца, ракетой вознеслась к вершинам «Сферы»? Она теперь одна из сорока ключевых умов компании – Бригады 40 – и допущена к секретнейшим планам и данным. И смогла пропихнуть сюда Мэй, глазом не моргнув? И умудрилась все это устроить за считанные недели после того, как Мэй наконец задушила свою гордость и высказала просьбу? Вот доказательство силы духа Энни, ее загадочного, глубинного постижения собственной судьбы. Внешне Энни вовсе не проявляла пошлых амбиций, но Мэй не сомневалась, что нечто в душе подруги толкало ее вперед, что Энни очутилась бы на этой должности вне зависимости от своих корней. Родись она в сибирской тундре, слепой и в пастушьем клане, сейчас все равно оказалась бы здесь.
– Спасибо, Энни, – произнес голос Мэй.
Они миновали несколько конференц-залов и комнат отдыха и шли теперь новой корпоративной галереей, где висели полдюжины работ Баскии,[5] недавно выкупленных у почти разорившегося музея в Майами.
– Да ну, – сказала Энни. – И прости, что ты в Чувствах Клиента. Звучит погано, я понимаю, но, чтоб ты знала, примерно половина топ-менеджеров начинали там. Веришь мне?
– Верю.
– И молодец. Я правду говорю.
Они вышли из галереи и заглянули в кафетерий на втором этаже («"Стеклянная кормушка", идиотское название, я понимаю», – сказала Энни); люди здесь ели на девяти этажах – и везде стеклянные полы и стены. На первый взгляд – как будто сотня людей жуют, зависнув в воздухе.
Они осмотрели «Комнату взаймы», где любому сотруднику забесплатно одалживали что угодно, от велосипедов до телескопов и дельтапланов, и перешли к аквариуму – любимому проекту одного из основателей компании. Постояли, посмотрели – за стеклом высотой в человеческий рост без причин, без малейшей логики всплывали и тонули призрачные ленивые медузы.
– Я буду за тобой приглядывать, – сказала Энни. – Как начнешь совершать что-нибудь прекрасное, я всем стану трезвонить, и ты там надолго не задержишься. Народ у нас растет вполне исправно, а мы, как ты знаешь, со стороны наверх почти не нанимаем. Работай хорошо, в бутылку не лезь – сама удивишься, как быстро выскочишь из Чувств Клиента и получишь что посочнее.
Мэй заглянула ей в глаза, блиставшие в аквариумном свете.
– Не волнуйся. Мне тут где угодно хорошо.
– Лучше на нижней ступеньке лестницы, куда хочешь взобраться, чем посреди лестницы, куда незачем лезть, а? Говенной какой-нибудь лестницы из одного, ******[6] в рот, говна.
Мэй засмеялась. Ее потряс контраст: такое нежное личико – и такая грязь изо рта.
– Ты всегда материлась? Я что-то не помню.
– Я матерюсь, когда устаю, а устаю почти всегда.
– Ты ведь раньше была нежный цветик.
– Прости. *****;[7] Мэй, прости! *****-колотить,[8] Мэй! Ладно. Пошли еще посмотрим. Псарня!
– Мы работать-то сегодня будем? – спросила Мэй.
– А мы что делаем? Мы работаем. Вот твои задачи на первый день: осмотреться, познакомиться, попривыкнуть. Это, знаешь, когда стелешь в доме новые деревянные полы…
– Не знаю.
– В общем, когда стелешь полы, они десять дней должны просто лежать, чтоб дерево привыкло. А потом только стелешь.
– И в этой аналогии я дерево?
– Ты дерево.
– И меня постелют.
– Да, мы тебя потом постелем. Забьем в тебя десять тысяч гвоздиков. Тебе понравится.
Они зашли на псарню, проект Энни, чей пес Доктор Кинсманн недавно помер, но успел провести тут, вблизи хозяйки, несколько очень счастливых лет. Зачем тысячам сотрудников оставлять собак дома, если можно поселить их здесь, где о них заботятся, где им не одиноко, где рядом люди и другие собаки? Так рассуждала Энни, эту логику тотчас подхватили и теперь полагали провидческой. Еще посмотрели ночной клуб – днем там нередко устраивали экстатические танцы, отличная разминка, сообщила Энни, – а потом большой уличный амфитеатр и небольшой театрик под крышей – «у нас тут с десяток комических импровизационных трупп», – и когда они посмотрели все это, настал обед в другом кафетерии, побольше, на первом этаже, где в углу на маленькой сцене играл на гитаре человек, похожий на стареющего автора-исполнителя, которого слушали родители Мэй.
– Это кто, правда тот?..
– Он и есть, – сказала Энни, не замедляя шага. – Тут каждый день кто-нибудь. Музыканты, комики, писатели. Бейли на этом помешан, таскает их сюда, чтоб у них хоть какая-то была аудитория. Снаружи-то им несладко.
– Я знала, что они иногда приезжают, но что – прямо каждый день?
– Мы их расписываем на год вперед. Еле от них отбиваемся.
Автор-исполнитель страстно исполнял, склонив голову, завесив глаза гривой, пальцы его лихорадочно били по струнам, но едоки не обращали особого или же никакого внимания.
– Невероятно. Это какой бюджет на это нужен?
– Да господи, мы же им не платим. Так, погоди, вот с этим тебе надо познакомиться.
Энни остановила человека по имени Випул – он, пояснила Энни, вскоре преобразит телевидение, среду, которая застряла в двадцатом столетии как никакая другая.
– В девятнадцатом, уточнил бы я, – возразил Випул с легким индийским акцентом; по-английски он говорил четко и высокопарно. – Последняя среда, где потребитель никогда не получает желаемого. Последний рудимент феодального уговора между творцом и зрителем. Мы более не вассалы! – сказал он, а затем распрощался и ушел.
– Он у нас вообще на другом уровне, – пояснила Энни, шагая дальше по кафетерию.
Они подошли еще к пяти-шести столикам, познакомились с удивительными людьми, и каждый работал над проектом, про который Энни говорила, что он подрывает основы, или переворачивает мир, или на пятьдесят лет всех опередил. Разброс тематики потрясал. Они поговорили с двумя женщинами, которые разрабатывали исследовательский батискаф – он наконец раскроет все загадки Марианской впадины.
– Картографируют ее, как Манхэттен, – сказала Энни, и женщины эту гиперболу не оспорили.
За столиком с вмонтированным экраном трое юношей разглядывали трехмерные эскизы дешевого жилья нового типа, легко внедряемого в развивающихся странах.
Энни за руку потащила Мэй к выходу.
– А теперь в Охряную библиотеку. Слыхала о такой?
Мэй не слыхала, но признаваться не захотела.
Энни глянула на нее заговорщицки:
– Тебе туда не полагается, но я считаю – надо.
Они вошли в лифт – сплошь плексиглас и неон – и взлетели над атриумом, в пути обозрев нутро стеклянных офисов на пяти этажах.
– Я не понимаю, как такие вещи могут приносить прибыль, – сказала Мэй.
– Да блин, я тоже не понимаю. Но тут ведь не только в деньгах дело – сама же видишь. Доходов хватает, чтоб финансировать хобби сообщества. Вот эти парни, у которых экологичное жилье, – они программисты, но двое учились на архитекторов. Ну, написали заявку, а Волхвы влюбились в нее по уши. Особенно Бейли. Он это обожает – чтоб любознательность молодых талантов резвилась на травке. И библиотека у него – ты рехнешься. Приехали.
Они вышли из лифта в длинный коридор – все отделано темной вишней и орехом, череда компактных люстр сочится мягким янтарным светом.
– Старая школа, – заметила Мэй.
– Ну ты же знаешь про Бейли, да? Обожает древности. Красное дерево, латунь, витражи. Такая вот эстетика. В кампусе его вкусы мало кто разделяет, но здесь он разгулялся. Ты глянь сюда.
Энни остановилась у большого полотна – портрета Трех Волхвов:
– Жуть, а?
Художество было аляповатое – в старших классах так рисуют. Три человека, основатели компании, располагались пирамидой, все в лучших костюмах, какие были на них замечены, у всех физиономии мультяшно подчеркивают их характер. Тау Господинов, вундеркинд и визионер, в скучных очках и широченной кенгурухе, смотрит влево и улыбается; похоже, ему выпала приятная минута одиночества и настроен он на неслышимые частоты. Поговаривали, что он пограничный аспергер, и художник, судя по всему, старался это подчеркнуть. Темные лохмы, лицо без морщин – Тау было не больше двадцати пяти.
– Тау совсем в космосе, да? – сказала Энни. – Но это враки. Нас бы всех здесь не было, не окажись он, *****,[9] гением менеджмента. Давай я объясню динамику. Ты будешь расти быстро, так что я тебе лучше все расскажу.
Тау, объяснила Энни, он же Таулер Александр Господинов, был первым Волхвом, и его всегда называют просто Тау.
– Это я знаю, – сказала Мэй.
– Не затыкай мне рот. Я эту же телегу толкаю властям штата.
– Ладно.
Энни продолжила.
Тау понимал, что сам в лучшем случае социально не адаптирован, в худшем – полная катастрофа в области межличностных коммуникаций. И всего за полгода до того, как компания провела первичное размещение акций, он принял мудрое и выигрышное решение: он нанял двух других Волхвов, Эймона Бейли и Тома Стентона. Этот шаг унял страхи инвесторов и в итоге повысил стоимость компании втрое. Акций продали на три миллиарда долларов – поразительно, но предсказуемо, – и поскольку все денежные вопросы решились, а в компании появились Стентон и Бейли, Тау волен был плыть по течению, спрятаться, исчезнуть. Шли месяцы, он все реже мелькал в кампусе и в СМИ. Его затворничество прогрессировало, его аура сгущалась – нечаянно либо намеренно. Мир недоумевал – мол, где же Тау, что он задумал? Задумки его до обнародования держались в секрете, и с каждой инновацией «Сферы» становилось все непонятнее, какие продукты создал лично Тау, а какие – лучшие в мире изобретатели, которых теперь в стойле компании завелось немало.
Большинство наблюдателей полагали, что Тау по-прежнему работает, а кое-кто утверждал, что во всех крупных инновациях «Сферы» ощущается присутствие Тау, его талант к глобальным решениям, элегантным и бесконечно масштабируемым. Без особой деловой смекалки, не ставя перед собой целей, поддающихся количественной оценке, он спустя год после колледжа основал компанию. «Мы его звали Ниагара, – сказал его бывший сосед по комнате в одной из первых публикаций о Тау. – Из него идеи так и перли, прямо из головы миллион идей, ежесекундно и ежедневно, бесконечно, с ума сойдешь».
Тау разработал первоначальную Единую Операционную Систему, которая интегрировала онлайн все, что до того было неряшливо раздергано: профили пользователя в социальных сетях, его платежи, пароли, электронные ящики, логины, предпочтения – все до последней манифестации его интересов. Прежняя парадигма – отдельная транзакция и отдельная система для каждого сайта и каждой покупки – это все равно что ради каждой поездки менять машину. «Зачем вам восемьдесят семь разных автомобилей?» – скажет он позже, когда его система завоюет веб и мир.
Вместо этого он сложил всё – все юзерские потребности и инструменты – в одну корзину и изобрел «АУтенТы»: один аккаунт, одна идентичность, один пароль, одна платежная система на человека. Исчезли десятки паролей и размножение личностей. Твои устройства знают, кто ты есть, – платит, заходит, отвечает, смотрит, пишет отзывы, видит всех остальных и сама им показывается твоя единственная сетевая персона – «АУтенТы», неумолимый и неприкрытый. Регистрация только под настоящим именем, привязанным к твоим кредитным картам и банковскому счету, расплатиться за что угодно – раз плюнуть. До конца твоей онлайновой жизни тебе нужна всего одна кнопка.
Инструментами «Сферы» – а это лучшие инструменты, самые популярные, повсеместные и бесплатные, – можно пользоваться только от своего имени – от имени своей подлинной личности, «АУтенТы». Эпоха виртуалов, краж личных данных, многочисленных логинов, сложных паролей и платежных систем закончилась. Хочешь посмотреть, включить, прокомментировать, купить – одна кнопка, одна учетная запись, все связано, отслеживаемо, просто, все работает на мобильниках и ноутбуках, на планшетах и сетчатке. Один-единственный аккаунт приведет тебя в любой уголок веба, на любой портал, платный сайт – что хочешь, то и делай.
За год «АУтенТы» совершенно переменил Интернет. Кое-какие сайты сопротивлялись, защитники сетевых свобод вопили о праве на онлайновую анонимность, но «АУтенТы» приливной волной смел и раскидал всех серьезных противников. Началось с коммерческих сайтов. Зачем непорнографическому сайту анонимы, если можно точно выяснить, кто вошел в дверь? В комментариях все мигом вспомнили про этикет – еще бы, все посетители под колпаком. Троллей, заполонивших Интернет, вновь загнали во тьму. А те, кому хотелось или требовалось отслеживать сетевую активность потребителя, обрели свою Валгаллу: отныне подлинные покупательские привычки подлинных людей поддавались скрупулезному измерению и описанию, а маркетинг целился в клиентов с хирургической точностью. Большинство пользователей «АУтенТы», большинство интернет-пользователей хотели только простоты, эффективности, внятности, отлаженности – и теперь пришли в восторг. Больше не нужно зубрить по двенадцать логинов и паролей; не нужно терпеть безумие и агрессию анонимного стада; не нужно мириться с рекламой методом «пальбы по площадям», которая в лучшем случае находила цель в радиусе мили от потребительских предпочтений. Теперь от рекламодателей приходили сфокусированные, четкие и по большей части желанные послания.
На эту идею Тау набрел более или менее ненароком. Его достало запоминать логины, вбивать пароли и номер кредитной карты, и он написал софтину, которая упрощала процедуру. Нарочно он вставил в название «АУтенТы» буквы своего имени? Утверждал, что сообразил уже потом. Постигал он коммерческий потенциал «АУтенТы»? Утверждал, что не постигал, и многие верили, что это правда, что монетизацией его проектов занимались двое других Волхвов, опытные, деловые и смекалистые. Они монетизировали «АУтенТы», нашли способы грести выручку со всех замыслов Тау, и они же превратили компанию в гиганта, который поглотил «Фейсбук», «Твиттер», «Гугл», а затем «Элекрити», «Зупу», «Хефе» и «Кван».
– Том здесь получился неважно, – заметила Энни. – Вообще-то он не такая акула. Но, говорят, ему этот портрет нравится.
Слева внизу от Тау стоял Том Стентон, исполнительный директор на вершине мира, «Капиталист Прайм», как он сам, поклонник «Трансформеров», себя называл,[10] – в итальянском костюме, ухмыляется, будто волк, сожравший бабушку Красной Шапочки. Темные волосы на висках исполосованы сединой, взгляд пресный, непроницаемый. Эдакий биржевик с Уолл-стрит образца восьмидесятых, беззастенчиво богат, одинок, агрессивен и, вероятно, опасен. Чуть за пятьдесят, титан мирового масштаба, швыряет деньги направо и налево, с каждым годом крепнет, бесстрашно транжирит средства и влияние. Не боится президентов. Не пугается судебных исков в Евросоюзе и угроз хакеров на службе у китайского государства. Ничто его не терзает, все ему доступно, что угодно по карману. У Тома Стентона своя команда автогонщиков НАСКАР и пара гоночных яхт, он пилотирует личный самолет. В «Сфере» он был анахронизмом, вульгарным боссом, и у сфероидов-утопистов вызывал смешанные чувства.
В жизни двоих других Волхвов навязчиво отсутствовало такое откровенное потребительство. Тау снимал ветхую трехкомнатную квартирку в нескольких милях от кампуса; впрочем, никто никогда не видел, как Тау приезжает в кампус или уезжает, и все полагали, что он прямо тут и живет. И всякий знал, где обитает Эймон Бейли: в бесконечно скромном домике с тремя спальнями, на видном месте – на центральной улице в десяти минутах от кампуса. А у Стентона дома были повсюду: в Нью-Йорке, в Дубае, в Джексон-Хоул. Целый этаж на верхушке башни «Миллениум» в Сан-Франциско. Целый остров неподалеку от Мартиники.
На картине Эймон Бейли стоял подле Стентона – умиротворенный, даже радостный в обществе двоих, чьи ценности вроде бы диаметрально противоположны его принципам. На портрете Бейли, справа внизу от Тау, получился как в жизни – седой, румяный, довольный и пылкий, глаза блестят. Он был публичным лицом компании, со «Сферой» все ассоциировали его. Когда он улыбался – а улыбался он почти всегда, – улыбались его губы, его глаза, даже плечи его, кажется, улыбались. Он язвил. Он смешил. Он умел говорить лирично, но основательно, то блистательно закручивал фразу, то простыми словами излагал прописные истины. Он родился в Омахе, в обыкновеннейшем семействе с шестью детьми, и прежде в его жизни толком не случалось ничего замечательного. Отучился в Нотр-Даме, женился на подруге, которая ходила в колледж Святой Марии по соседству, и они родили четверых, трех дочерей, а потом наконец и сына, хотя сын этот появился на свет с церебральным параличом. «Его коснулось – так выразился Бейли, объявляя компании и миру о рождении отпрыска. – И мы только крепче станем его любить».
Бейли чаще других Волхвов появлялся в кампусе, играл диксиленд на тромбоне в самодеятельности, от лица «Сферы» выступал на ток-шоу, с усмешкой описывал – отметал взмахом руки – то или иное расследование Федеральной комиссии по коммуникациям, представлял новую полезную фичу или технологию, которая перевернет мир. Просил называть себя дядей Эймоном и по кампусу разгуливал в манере всеми любимого дядюшки, Тедди Рузвельта на первом сроке президентства, свойского, искреннего и громогласного. Эти трое в жизни и на портрете составляли странный букет несхожих цветочков, но их альянс несомненно удался. Все знали, что она удачна, эта трехглавая модель управления, и подобную внутрикорпоративную динамику с переменным успехом внедряли и другие компании «Форчун-500».
– А почему тогда, – спросила Мэй, – они не заказали настоящий портрет? Художнику, который что-то понимает?
Чем дольше смотришь, тем страннее картина. Художник скомпоновал ее так, что все Волхвы положили друг другу руки на плечи. Смысла ноль, а человеческие руки так не гнутся и не тянутся.
– Бейли считает, это истерически смешно, – ответила Энни. – Хотел повесить в центральном вестибюле, но Стентон запретил. Бейли же у нас коллекционер – ты в курсе, да? Изумительный вкус. На вид весельчак, обыватель из Омахи, но он тонкий ценитель и прямо помешался на сбережении прошлого – даже плохого искусства. Это ты еще библиотеку его не видела.
Они прибыли к громадным дверям, на вид (похоже, и взаправду) средневековым – варваров останавливать. На уровне груди торчали два огромных молотка-горгульи, и Мэй расхоже пошутила:
– Молоток, ценю и хвалю.
Энни фыркнула, махнула ладонью над синей бесконтактной панелью на стене, и дверь открылась. Энни обернулась к Мэй:
– *********,[11] а?
Библиотека была трехэтажная – три этажа вокруг атриума, все отделано деревом, латунью и серебром, симфония приглушенных оттенков. Тысяч десять томов минимум, большинство переплетены в кожу, аккуратно стоят по блестящим лакированным полкам. Между книгами – суровые бюсты замечательных людей, греки и римляне, Джефферсон, Жанна д'Арк и Мартин Лютер Кинг. Под потолком висит модель «Пижона» – или, может, «Энолы Гей».[12] С десяток антикварных глобусов подсвечены изнутри – масляный свет согревает потерянные цивилизации.
– Он кучу всего скупал, когда дело уже шло к аукционам или свалкам. Дело жизни у него такое. Ездит по разорившимся домам, где люди готовы продать свои сокровища за гроши, платит по рыночным расценкам, бывшим владельцам предоставляет неограниченный доступ ко всему. Вот они тут вечно и толкутся – седые старцы, приходят почитать или потрогать свои вещи. А, вот что надо посмотреть. Тебе крышу снесет…
Энни первой зашагала наверх – три лестничных марша, все отделаны прихотливыми мозаиками – репродукциями мозаик византийской эпохи, решила Мэй. Рука скользила по латунным перилам – без единого отпечатка пальца, без малейшего пятнышка. Вокруг бухгалтерские зеленые лампы для чтения и блестящие медью и золотом скрещения телескопов, уставленных в фацетированные окна.
– Ты наверх глянь, – велела Энни, и Мэй послушалась, а потолок оказался витражом, горячечной панорамой с хороводами бесконечных ангелов. – Это из какой-то римской церкви.
На верхнем этаже Энни повела ее узкими коридорами меж округлых книжных корешков, временами ростом с Мэй – Библии, атласы, иллюстрированные истории войн и восстаний, давно исчезнувшие страны и народы.
– Так, ладно. Смотри, – сказала Энни. – Не, погоди. Сначала дай мне устное согласие о неразглашении.
– Ладно.
– Серьезно.
– Я серьезно. Я к этому серьезно.
– Хорошо. А теперь я вынимаю эту книгу… – Энни вынула большой том под названием «Лучшие годы нашей жизни». – Гляди, – сказала она и попятилась. Стена с сотней книг медленно отползла, и открылась тайная комната. – Нерды на марше, скажи? – И они шагнули внутрь. Сферическая комната, по стенам сплошь книги, а в центре композиции – дыра в полу, обнесенная латунными перилами; вниз, сквозь пол и в неведомые недра уходил шест.
– Он что, пожары тушит? – спросила Мэй.
– Да хрен его знает, – сказала Энни.
– А шест куда ведет?
– Видимо, на парковку.
Уместных эпитетов Мэй не подобрала.
– Сама-то спускалась?
– Не-а. Даже показывать это мне – уже был риск. Это он зря. Сам сказал. А теперь я показала тебе, что тоже глупо. Но сразу ясно, что у этого человека в голове. Может заполучить все на свете, а хочет пожарный шест с седьмого этажа в гараж.
Наушник Энни капнул звуком, и тому, кто звонил, она ответила «ладно». Пора было уходить.
– Короче, – сказала Энни в лифте по дороге вниз. – Мне надо поработать. Планктон просеять.
– Что сделать?
– Ну, знаешь, мелкие стартапы. Надеются, что здоровый кит – это мы – на них облизнется и сожрет. Раз в неделю у нас смотр этих недоделанных Тау, и они нас уговаривают их купить. Довольно грустно, они теперь даже не прикидываются, будто у них есть доход или хоть потенциал. Но ты это, слышишь? Я тебя передаю двум корпоративным послам. Оба к работе подходят очень серьезно. Я бы даже советовала поостеречься – вот до чего маньяки. Они покажут остаток кампуса, а потом я тебя отведу на праздник солнцестояния, ага? В семь.
Двери раздвинулись на втором этаже, у «Стеклянной кормушки», и Энни познакомила Мэй с Джосией и Дениз – обоим ближе к тридцати, оба взирают невозмутимо и искренне, оба в простеньких рубашках приятных расцветок. Тот и другая обеими руками сжали ладони Мэй и едва не поклонились.
– Проследите, чтоб она сегодня не работала, – таковы были последние слова Энни, а затем ее поглотил лифт.
Джосия, тощий и ужасно веснушчатый, вперил в Мэй голубые немигающие глаза:
– Мы так рады с тобой познакомиться.
Дениз, высокая и худая азиатка, улыбнулась Мэй и прикрыла глаза, словно смаковала этот миг.
– Энни нам рассказала, как давно вы дружите. Энни – душа и сердце компании, нам очень повезло, что ты теперь с нами.
– Энни все любят, – прибавил Джосия.
Их почтение конфузило Мэй. Они же старше ее, а ведут себя так, будто она заезжая звезда.
– Я понимаю, что это, может, отчасти излишне, – сказал Джосия, – но если ты не против, мы бы провели тебе полную экскурсию для новичков. Ничего? Обещаем, что тоскливо не будет.
Мэй рассмеялась, поддакнула, зашагала следом.
Остаток дня пронесся чередой стеклянных офисов и кратких, невероятно пылких знакомств. Все, с кем Мэй повстречалась, были заняты, едва ли не перегружены, и однако ужасно ей радовались, были так счастливы, что она здесь, друзья Энни – их друзья… Мэй показали медицинский центр и познакомили с доктором Хэмптоном, главврачом с дредами. Показали травмпункт и шотландскую медсестру в регистратуре. Экскурсия по органическим садам, сотня квадратных ярдов, где два фермера на ставке читали лекцию толпе сфероидов, пока те дегустировали морковку, помидоры и капусту. Экскурсия на поле для мини-гольфа, в кинотеатр, в боулинг, в универсам. Наконец, в дальнем, судя по всему, углу кампуса – Мэй разглядела ограду и крыши гостиниц Сан-Винченцо, где останавливались гости «Сферы», – они осмотрели общежитие. Мэй о нем слыхала, Энни говорила, что иногда падает спать прямо на территории и теперь предпочитает общагу собственному дому. Шагая по коридорам, осматривая эти опрятные комнаты – в каждой блистающая кухонька, рабочий стол, мягкий диван и кровать, – Мэй не могла не согласиться, что их обаяние интуитивно ясно любому.
– Сейчас у нас 180 комнат, но мы быстро растем, – сказал Джосия. – Народу в кампусе – тысяч десять, вечно кто-нибудь сидит до ночи или хочет днем подремать. Всегда бесплатно, всегда чисто – надо только проверить онлайн, какие комнаты свободны. Сейчас тут все быстро заполняется, но в ближайшие годы мы планируем еще минимум несколько тысяч комнат.
– Вечером праздник – после праздников тут всегда битком, – прибавила Дениз, подмигнув как бы заговорщицки.
Экскурсия затянулась до вечера; между делом зашли попробовать, что готовят в кулинарной студии, где сегодня преподавала знаменитая молодая шеф-повариха, известная тем, что умеет пустить в дело любое животное без остатка. Она накормила Мэй жареным свиным рылом – выяснилось, что на вкус оно как бекон пожирнее, и Мэй ужасно понравилось. По дороге им повстречались другие экскурсанты, студенческие группы, стада разносчиков и, похоже, сенатор со свитой. Они миновали аркаду, заставленную винтажными пинболами, и крытый бадминтонный корт, где, по словам Энни, держали на зарплате бывшего чемпиона мира. Когда Дениз и Джосия привели Мэй назад, в центр кампуса, уже смеркалось и сотрудники расставляли в траве и зажигали бамбуковые факелы тики. В полутьме сюда стекались несколько тысяч сфероидов, и в этой толпе Мэй поняла, что в жизни не хочет работать – не хочет быть – нигде больше. Ее родной город и вся прочая Калифорния, вся прочая Америка – словно бардачный хаос развивающейся страны. За оградой «Сферы» – только грохот и бои, неудачи и нечистоты. Но здесь – здесь все отточено. Лучшие на свете люди разрабатывают лучшие на свете системы, а лучшие на свете системы приносят деньги, неисчислимые средства, и на них создано все это – лучшее рабочее место на земле. И это естественно, решила Мэй. Кому и строить утопии, как не утопистам?
– Вот эта тусовка – это так, мелочи, – заверила ее Энни, когда они брели вдоль сорокафутового фуршетного стола. Уже стемнело, вечерний воздух остывал, но в кампусе было необъяснимо тепло и все заливал янтарный свет сотен пылающих факелов. – Это Бейли придумал. Не то чтобы он поклонялся Матери-Земле, но в звездах и временах года сечет, так что солнцестояние – это его фишка. Он рано или поздно появится и со всеми поздоровается – обычно он так делает. В том году пришел в майке-алкоголичке. Очень гордится, что у него руки сильные.
На зеленой лужайке они обе нагрузили себе тарелки, а затем отыскали свободные места в каменном амфитеатре на высокой травянистой берме. Энни подливала Мэй в бокал рислинга из бутылки – рислинг, пояснила она, тоже делали в кампусе, какое-то новое варево, калорий меньше, алкоголя больше. Мэй поглядела на лужайку, на цепочки шипящих факелов: каждая приводила гуляк к всевозможным забавам – лимбо, кикбол, электробуги, – не имевшим ни малейшего отношения к солнцестоянию. Все вроде бы случайно, обязательной программы нет – в результате от вечеринки никто ничего не ждал, но она превосходила любые ожидания. Все быстренько набубенились, и вскоре Мэй потеряла Энни, а затем потерялась сама, выбралась на площадки для бочче, где группка сфероидов постарше, минимум лет тридцати, мускусными дынями сбивали кегли. Мэй возвратилась на лужайку и вступила в игру, которую сфероиды называли «Ха»: делать ничего не надо, только лежать, скрестив с соседями руки-ноги. Едва сосед произносит «Ха», ты за ним повторяешь. Игра ужасная, но сейчас пришлась кстати – у Мэй кружилась голова, а горизонтальное положение помогало.
– Ты посмотри на нее. Так тихо дремлет.
Реплика прозвучала где-то поблизости. Мэй сообразила, что голос – мужской – говорит о ней, и открыла глаза. Над собой никого не увидела. Только небо – в основном ясное, лишь клочья серых облачков проносились над кампусом к морю. Веки у Мэй отяжелели, но она понимала, что час еще ранний, вряд ли десять, и не хотела поступать, как поступала нередко, а именно заснуть после пары-тройки бокалов, поэтому встала и пошла искать Энни, рислинг или то и другое. Отыскала она фуршетный стол – в руинах; на этот пир как будто наведались дикие звери или викинги – и пошла к ближайшему бару, где рислинг закончился, а поили теперь какой-то гремучей смесью водки с энергетиком. Мэй направилась дальше, интересуясь у случайных прохожих, не встречался ли им рислинг, и наконец перед ней мелькнула чья-то тень.
– Вон там еще есть, – сообщила тень.
Мэй обернулась и узрела очки, отражавшие синеву, а под ними смутные очертания мужчины. Он повернулся и шагнул прочь.
– Я иду за тобой? – спросила Мэй.
– Пока нет. Ты стоишь и никуда не идешь. Но если хочешь еще вина, лучше пойти.
Она пошла за тенью через лужайку под высокие кроны, пробитые сотнями серебряных лунных стрел. Теперь Мэй лучше различала тень – на нем была песочная футболка, а сверху, кажется, жилет, кожаный или замшевый; такого ансамбля ей давно не попадалось. Тень остановился и присел на корточки у подножия водопада – искусственного водопада, что тек по стене «Промышленной Революции».
– Я тут бутылки припрятал, – сказал он, шаря в озерце под водопадом. Ничего не найдя, опустился на колени, погрузив руки в озерцо по плечи, выудил две блестящие зеленые бутылки, встал и повернулся к Мэй.
Она наконец его разглядела. Размытый треугольник лица, подбородок с такой нежной ямочкой, что Мэй только сейчас заметила. Младенческая кожа, стариковские глаза, выдающийся нос, крючковатый и кривой, но отчего-то придававший лицу прочность, как лодочный киль. Густые тире бровей убегали к ушам – круглым, крупным, девчачье-розовым.
– Хочешь обратно на праздник или?.. – Очевидно, он намекал, что это «или» способно переплюнуть любой праздник.
– Конечно, – ответила она, сообразив, что не знакома с этим человеком, ничегошеньки о нем не знает. Но поскольку у него эти бутылки, Энни потерялась, а в стенах «Сферы» Мэй доверяла всем – в эту минуту ее переполняла любовь к обитателям этих стен, где все ново и все дозволено, – она пошла за ним на праздник, во всяком случае на окраины праздника, и они сели на высокое кольцо скамей над лужайкой и стали смотреть, как внизу бегают, визжат и падают силуэты.
Он открыл обе бутылки, одну отдал Мэй, глотнул из своей и сообщил, что зовут его Фрэнсис.
– Не Фрэнк? – спросила Мэй. Взяла бутылку и налила в рот карамельно-сладкого вина.
– Меня порываются так звать, а я… прошу этого не делать.
Она рассмеялась, он рассмеялся.
Он разработчик, сказал он, в компании почти два года. До того был как бы анархистом, провокатором. Работу получил, потому что взломал систему «Сферы» и залез глубже всех. Теперь он в отделе безопасности.
– Я сегодня первый день, – отметила Мэй.
– Гонишь.
И тут Мэй, которая хотела сказать «Я без балды», решила выступить изобретательно, однако в вербальном ее изобретении что-то исковеркалось, и она произнесла:
– Я без *****,[13] – почти тотчас поняв, что запомнит эти слова и будет себя за них ненавидеть еще не одно десятилетие.
– Ты без *****? – невозмутимо переспросил он. – Как это безнадежно. На основании каких данных ты ставишь диагноз? Ты без *****. Ничего себе.
Мэй попыталась объяснить, что хотела сказать другое, подумала, то есть неведомый отдел ее мозга подумал, что надо бы покрутить фразу… Но это не имело значения. Он уже хохотал, он понял, что у нее есть чувство юмора, она поняла, что у него оно тоже есть, и как-то так получилось, что ее отпустило, и она уверилась, что он никогда ей об этом не напомнит, ее ужасная фраза останется между ними, потому что оба они понимают: ошибаются все, и если мы признаём нашу общую человечность, нашу общую хрупкость и склонность нелепо выглядеть и нелепо высказываться по тысяче раз на дню, надлежит дозволить этим ошибкам раствориться в небытии.
– Первый день, – сказал он. – Что ж, поздравляю. Выпьем.
Они чокнулись бутылками и глотнули. Мэй подняла бутылку к луне – глянуть на просвет, сколько осталось; вино окрасилось потусторонней синевой, и Мэй рассмотрела, что залила в себя уже половину. Она отставила бутылку.
– Мне нравится твой голос, – сказал он. – У тебя всегда такой?
– Низкий и скрипучий?
– Я бы сказал – закаленный. Я бы сказал – душевный. Тейтум О'Нил знаешь?
– Родители заставляли смотреть «Бумажную луну» раз примерно сто. Хотели, чтоб мне полегчало.
– Обожаю это кино, – сказал он.
– Они думали, я вырасту как Эдди Прей, умудренной, но обворожительной.[14] Хотели девчонку-хулиганку. Стригли меня под нее.
– Мне нравится.
– Тебе нравится стрижка под горшок.
– Да нет. Твой голос. Это пока лучшая твоя фича.
Мэй промолчала. Ей как будто заехали по лицу.
– Блин, – сказал он. – Я что-то не то выдал, да? А хотел комплимент сказать.
Повисла тревожная пауза; Мэй не раз сталкивалась с мужчинами, которые слишком хорошо говорили, перепрыгивали через миллион ступенек и приземлялись на негодные комплименты. Ужас. Она повернулась к нему – убедиться, что он не то, чем показался, не великодушен, не безвреден, но искривлен, измучен, асимметричен. Однако увидела все то же гладкое лицо, синие очки, древние глаза. И болезненную гримасу.
Он покосился на свою бутылку, словно это она во всем виновата.
– Я хотел, чтоб ты не парилась из-за своего голоса. И, кажется, обидел всю остальную тебя.
Мэй над этим поразмыслила, но взболтанный рислингом мозг тормозил и залипал. Расшифровать реплику Фрэнсиса или его намерения не удавалось, и Мэй плюнула.
– По-моему, ты странный, – сказала она.
– У меня нету родителей, – ответил он. – Это меня хоть чуть-чуть оправдывает? – Затем, сообразив, что болтает лихорадочно и чересчур, прибавил: – Ты не пьешь.
Ладно, его детство опустим.
– Я всё, – сказала Мэй. – Накрыло уже по полной.
– Прости, пожалуйста. У меня иногда слова путаются. Мне лучше, если я на таких тусовках молчу.
– Ты ужасно странный, – повторила Мэй очень серьезно. Ей двадцать четыре, и она таких никогда не встречала. Это ведь, пьяно подумала она, доказательство Бога, так? За свою жизнь она столкнулась с тысячами людей, и среди них столько похожих, столько бесследных, а тут этот человек, новый и чудной, и говорит чудно. Что ни день, ученые открывают новые виды лягушек или кувшинок, и это тоже как будто доказывает, что есть некий божественный лицедей, небесный изобретатель, который дарит нам новые игрушки, прячет их, но прячет плохо, там, где мы можем на них наткнуться. И этот Фрэнсис – он совсем ни на что не похожий, какая-то новая лягушка. Мэй повернулась к нему, подумывая его поцеловать.
Но Фрэнсис был занят. Одной рукой он вытряхивал песок из туфли. С другой, кажется, скусывал целый ноготь.
Греза погасла, Мэй подумала про дом и постель.
– А как все добираются до дома? – спросила она.
Фрэнсис поглядел на месилово внизу – люди, похоже, пытались изобразить пирамиду.
– Ну, есть, конечно, общага. Но там наверняка уже все занято. И всегда автобусы ходят. Тебе, наверное, говорили. – Он махнул бутылкой на главные ворота, и Мэй разглядела крыши мини-автобусов, которые видела утром по дороге сюда. – Компания по любому поводу анализирует затраты. И если один сотрудник переутомится – или, как сейчас, перепьет – и сядет за руль… короче, в долгосрочной перспективе дешевле автобусы пустить. Только не говори, что ты тут не ради автобусов. Офигительные автобусы. Внутри как яхты. Каюты, дерево, стояки такие…
– Стояки? Стояки? – Мэй пихнула его в плечо, понимая, что флиртует, понимая, что это идиотизм – флиртовать с другим сфероидом в первый же вечер, идиотизм в первый же вечер так напиваться. Но она все это делала и была довольна.
К ним плыла чья-то фигура. Мэй наблюдала с тупым любопытством и сначала разглядела, что фигура женская. А потом – что приближается Энни.
– Этот человек тебе докучает? – спросила та.
Фрэнсис поспешно отодвинулся от Мэй и спрятал бутылку за спину. Энни рассмеялась:
– Ты чего заметался, Фрэнсис?
– Извини. Мне показалось, ты что-то другое сказала.
– Уй-я. Совесть загрызла! Я видела, как Мэй бьет тебя в плечо, и пошутила. А тебе есть в чем каяться? Ты что задумал, Фрэнсис Гарбанцо?
– Гаравента.
– Ну да. Я знаю, как твоя фамилия. Фрэнсис, – сказала Энни, неловко плюхнувшись между ними, – я, твоя досточтимая коллега, а также твой друг, вынуждена кое о чем тебя попросить. Можно?
– Конечно.
– Хорошо. Позволь мне побыть с Мэй наедине? Мне необходимо поцеловать ее в губы.
Фрэнсис рассмеялся, но осекся, заметив, что не засмеялись ни Мэй, ни Энни. В испуге и замешательстве, явно перед Энни трепеща, он зашагал вниз по ступенькам и затем по лужайке, увертываясь от кутил. На полпути остановился, обернулся и задрал голову, словно проверяя, в самом ли деле Энни замещает его подле Мэй. Страхи его подтвердились, и он зашел под козырек «Средневековья». Попытался открыть дверь, но ему не удалось. Он тянул и толкал, но дверь не поддавалась. Зная, что обе они смотрят, он свернул и скрылся за углом.
– Он говорит, что занимается безопасностью, – сказала Мэй.
– Он так сказал? Фрэнсис Гаравента?
– Видимо, это он зря.
– Ну, не то чтобы он прямо в опасной безопасности. Не в Моссаде. А я помешала тут такому, что явно было бы лишним в первый же вечер, идиотка?
– Ничему ты не помешала.
– А я думаю, помешала.
– Да нет, не особо.
– А вот и помешала. Я же вижу.
Энни разглядела у ног Мэй бутылку:
– Я думала, мы уже много часов назад все выпили.
– Под водопадом у «Промышленной Революции» было вино.
– А, ну да. Там все вечно что-нибудь прячут.
– Я только что сказала: «Под водопадом у "Промышленной Революции" было вино».
Энни окинула взглядом кампус.
– Да уж понимаю. Мля. Что непонятного.
Дома, после автобуса, после рюмки водочного желе, которое ей кто-то в этом автобусе подсунул, после печальных речей шофера – семья, близнецы, у жены подагра, – Мэй не могла уснуть. Лежала на дешевом футоне в крохотной комнатушке, в квартире как вагон, которую делила с двумя почти незнакомыми девицами – обе стюардессы и появляются редко. Квартира находилась на втором этаже бывшего мотеля – скромная, уборке не поддавалась, воняла отчаянием и невкусной стряпней прошлых обитателей. Грустное жилище, особенно после целого дня в «Сфере», где все заботливо и любовно сделано людьми с прекрасным вкусом и глазомером. В своей комковатой низкой постели Мэй несколько часов проспала, очнулась, вспомнила прошедший день и ночь, подумала про Энни, и Фрэнсиса, и Дениз, и Джосию, и пожарный шест, и «Энолу Гей», и водопад, и факелы тики, и все будто из отпуска и грез, в руках не удержишь, но затем вспомнила – и потому не могла уснуть, голова кружилась от младенческого восторга, – что скоро вернется туда, где все это было. Ей там рады, ее там наняли.
На работу она пришла спозаранку. Приехала в восемь утра, но сообразила, что стола – во всяком случае настоящего стола – ей так и не выделили и деться ей некуда. Она час прождала под плакатом «Сделаем это. Сделаем всё это», пока не появилась Рената, которая и отвела ее на четвертый этаж «Возрождения», в большой офис размером с баскетбольную площадку, где стояло штук двадцать рабочих столов, все разные, органичных форм, все из светлого дерева. Между столами стеклянные перегородки, столы располагаются пятерками, как цветочные лепестки. И ни души.
– Ты тут первая и пока одна, – сказала Рената, – но это ненадолго. Новые отделы Чувств Клиента обычно мигом заполняются. И от начальства недалеко. – С этими словами она обвела рукой десяток офисов вокруг пустоты. Сквозь стеклянные стены видны были обитатели – расслабленные, компетентные и мудрые начальники, где-то между двадцатью шестью и тридцатью двумя, приступали к работе.
– Любят ваши дизайнеры стекло, а? – с улыбкой заметила Мэй.
Рената застыла, наморщила лоб и поразмыслила над этим тезисом. Убрала прядь за ухо и сказала:
– Пожалуй. Могу проверить. Сначала разберемся, как тут что устроено и чего ждать в первый нормальный рабочий день.
Рената показала ей стол, кресло, монитор – все эргономично, все подстраивается так, что можно работать стоя, если охота.
– Располагайся тут, как удобно, кресло подстрой, и… о, смотри, тебя встречают. Не вставай, – прибавила она и отошла.
Мэй проследила за ее взглядом и увидела, что к столу направляются трое молодых людей. Лысеющий человек под тридцать протянул ей руку. Мэй ее пожала, а новоприбывший выложил на стол громадный планшет.
– Привет, Мэй. Я Роб из бухгалтерии, начисляю зарплаты. Вот меня ты точно рада видеть, правда? – Он улыбнулся, а затем от души расхохотался, словно до него не сразу дошло, как смешно он выступил. – Так, ладно, – продолжал он. – Мы тут всё заполнили. Подпиши в трех местах. – Он указал на экран, где в ожидании подписи мигали желтые прямоугольнички.
Когда Мэй расписалась, Роб забрал планшет и очень тепло улыбнулся:
– Спасибо и добро пожаловать на борт.
Он развернулся и отбыл, а к Мэй подошла пышная женщина с прекрасной кожей медного оттенка.
– Привет, Мэй. Я Таша, нотариус. – Она протянула Мэй широкий гроссбух. – Водительские права есть? – Мэй протянула ей права. – Отлично. Мне нужны три подписи. Не спрашивай зачем. И не спрашивай, почему на бумаге. По закону требуется. – Таша ткнула пальцем в три прямоугольничка, и Мэй в каждом поставила свое имя. – Спасибо, – сказала Таша и предъявила синюю штемпельную подушечку. – Теперь везде поставь отпечаток пальца. Не волнуйся, не испачкаешься. Ты попробуй.
Мэй вжала большой палец в подушечку, а затем в прямоугольнички с подписями. На страницах появились чернильные отпечатки, но палец остался совершенно чист.
Мэй возликовала, и Таша задрала брови:
– Вот-вот. Невидимые. Чернила остаются только в этой книге.
Ради таких вещей Мэй сюда и пришла. Здесь все делается лучше. Здесь даже отпечатки пальцев ставят передовыми и невидимыми чернилами.
Ташу сменил худой человек в красной рубахе на молнии. Он пожал Мэй руку.
– Привет, я Джон. Я тебе писал вчера, просил захватить свидетельство о рождении. – И он молитвенно сложил руки.
Мэй достала из сумки свидетельство о рождении, и глаза у Джона засияли:
– Ты принесла! – Он коротко, беззвучно зааплодировал и оскалил все свои крошечные зубки. – Все в первый раз забывают. Ты моя новая любимица. – Свидетельство он забрал – пообещал вернуть, когда сделает копию.
За ним возник четвертый сотрудник – довольный жизнью человек лет тридцати пяти; никого старше Мэй сегодня пока не видела.
– Привет, Мэй. Я Брэндон. Имею честь вручить тебе твой новый планшет. – И он протянул ей нечто блестящее, прозрачное, с черной и гладкой, будто обсидиановой рамкой.
У Мэй захватило дух.
– Их ведь еще даже не выпустили.
Брэндон широко улыбнулся:
– Вчетверо быстрее предыдущей модели. Я всю неделю со своим вожусь. Очень крутой.
– И мне тоже такой дают?
– Уже дали. На нем твое имя.
Он повернул планшет боком и показал гравировку – полное имя Мэй: «Мэйбеллин Реннер Холланд».
Весил этот планшет как одноразовая бумажная тарелка.
– Так. Свой планшет у тебя есть?
– Есть. Ну, не планшет – ноут.
– Ноут. Ты подумай. Можно глянуть?
Мэй кивнула на ноутбук:
– Его теперь разве что в мусорку.
Брэндон побледнел:
– Ни в коем случае! Хотя бы на переработку отправь.
– Да нет, я шучу, – сказала Мэй. – Я его лучше оставлю, у меня там всё.
– К этому мы плавно и переходим. Сейчас я займусь. Надо твое всё перенести на планшет.
– А. Я могу.
– Окажи мне такую честь? Я всю жизнь учился ради этой минуты.
Мэй рассмеялась и оттолкнула кресло от стола, чтоб не мешалось. Брэндон встал за столом на колени и положил планшет рядом с ноутбуком. Все данные и все учетки оказались на планшете в считанные минуты.
– Так. Теперь то же самое с телефоном. Та-дам!
Он извлек из сумки и предъявил Мэй новый телефон, на несколько крупных шагов опережающий ее собственный. На телефоне тоже выгравировали ее имя. Брэндон положил оба телефона, новый и старый, рядком на стол и быстро, без никаких проводов, все перенес с одного на другой.
– Так. Теперь все, что у тебя было на старом телефоне и на жестком диске, доступно с планшета и с нового телефона и забэкаплено в облаке на наших серверах. Музыка, фотки, переписка, данные. Ничего не потеряется. Теряешь планшет или телефон – ровно за шесть минут все восстанавливается и переносится на следующий. Все будет храниться и через год, и через столетие.
Оба посмотрели на новые гаджеты.
– Жалко, что нашей системы не было десять лет назад, – сказал Брэндон. – Я тогда два жестких диска убил – все равно что дом сгорел со всеми пожитками. – И он поднялся.
– Спасибо, – сказала Мэй.
– Не парься, – ответил он. – И так мы можем апдейтить тебе софт, приложения, и у тебя везде будут последние версии. В ЧК у всех, как ты понимаешь, должны быть последние версии софта. По-моему, больше ничего… – сказал он, пятясь от стола. Но остановился. – А, и очень важно, чтобы все корпоративные гаджеты были запаролены, так что я тебе сгенерил пароль. Вот. – Он протянул Мэй бумажку с цифрами и невнятными символами. – Надеюсь, ты за сегодня выучишь и выбросишь бумажку. Договорились?
– Да. Договорились.
– Потом можем поменять, если захочешь. Сообщи, и я тебе новый сгенерю. Они автоматически генерятся.
Мэй взяла свой старый ноутбук и собралась было спрятать его в сумку.
Брэндон глядел на него как на агрессивного паразита.
– Хочешь, я заберу? Мы очень экологично от них избавляемся.
– Может, завтра, – ответила она. – Хочу попрощаться.
Брэндон снисходительно улыбнулся:
– А. Понимаю. Ну ладно тогда. – Он поклонился, отошел, и за ним Мэй увидела Энни. Та, склонив голову, подпирала подбородок кулачком.
– Ах ты моя маленькая. Наконец-то выросла!
Мэй встала и обхватила ее руками.
– Спасибо тебе, – сказала она Энни в шею.
– Ой-й-й, – и Энни заерзала.
Мэй вцепилась в нее крепче.
– Правда.
– Да ладно тебе. – Энни все-таки вырвалась. – Полегче. Ну, или продолжай. У тебя сексуально получается.
– Правда. Спасибо тебе, – сказала Мэй, и голос ее сорвался.
– Нет-нет-нет, – сказала Энни. – Вот рыдать на второй же день ты не будешь.
– Прости. Но я так тебе благодарна.
– Кончай. – Энни снова ее обняла. – Кончай. Кончай. Господи боже. Ну ты психованная.
Мэй глубоко дышала, пока не успокоилась.
– По-моему, я в норме. А, и папа просил передать, что тоже тебя любит. Все так счастливы.
– Ладно. Странновато, конечно, если учесть, что мы с ним никогда не виделись. Но передай ему, что и я его люблю. Страстно. Он красавчик? Хитрый чернобурый лис? Любит оттянуться? Может, у нас что и сложится. А теперь давай мы чуток поработаем?
– Да-да, – сказала Мэй и снова села. – Извини.
Энни лукаво вскинула брови:
– Как будто начался учебный год и мы с тобой оказались в одном классе. Новый планшет тебе выдали?
– Только что.
– Покажи. – Энни осмотрела планшет. – У-у, гравировка – как мило. Мы с тобой натворим тут дел, а?
– Уж я надеюсь.
– Ладно, вот твой капитан команды. Привет, Дэн.
Мэй поспешно отерла влагу с лица. За спиной у Энни она увидела красивого мужчину – ладного и опрятного, в коричневой кенгурухе. Он приближался с улыбкой бесконечного удовольствия.
– Привет, Энни, как оно? – спросил он, крепко пожимая ей руку.
– Оно неплохо.
– Я так рад.
– Надеюсь, ты понимаешь – у тебя тут хороший человек, – сказала Энни, стискивая Мэй запястье.
– Еще как понимаю.
– Ты за ней пригляди.
– Непременно пригляжу, – сказал он и повернулся к Мэй. Крайнее удовольствие превратилось в абсолютную уверенность.
– А я буду приглядывать, как ты за ней приглядываешь, – сказала Энни.
– Очень рад.
– Ну давай, до обеда, – сказала та Мэй и испарилась.
Ушли все, кроме Дэна и Мэй, но его улыбка не изменилась – так люди улыбаются не напоказ. Так улыбаются люди, оказавшиеся ровно там, куда хотели попасть. Он подтянул к себе кресло.
– Так приятно тебя видеть, – сказал он. – Я очень рад, что ты приняла наше предложение.
Мэй поискала в его глазах намек на лицемерие – ни один разумный человек не отказался бы от работы здесь. Намека не нашла. Дэн собеседовал ее трижды, всякий раз – с несокрушимой искренностью.
– Я так понимаю, бумаги подписаны, отпечатки пальцев сняты?
– По-моему, да.
– Хочешь прогуляться?
Они вылезли из-за стола и, миновав сотню ярдов стеклянного коридора, через высокие двойные двери вышли на воздух. Взобрались по широкой лестнице.
– Мы только что доделали крышу, – пояснил Дэн. – Я думаю, тебе понравится.
Вид открывался захватывающий. С крыши виден был почти весь кампус, городской пейзаж Сан-Винченцо и Залив. С минуту Мэй и Дэн любовались, затем он посмотрел на нее.
– Мэй, теперь ты с нами, и я хочу донести до тебя некоторые ключевые ценности нашей компании. Суть такова: мы убеждены, что наша работа очень важна, но не менее важно, чтобы ты здесь ощущала себя человеком. Мы строим пространство для работы, это само собой, но еще это пространство для людей. И ради этого формируется сообщество. Вообще говоря, сообщество здесь необходимо. Как ты, вероятно, знаешь, таков один из наших слоганов: «Главное – сообщество». И ты видела таблички «Здесь работают люди» – это я велел развесить. Это моя тема. Мы не роботы. Тут не потогонная фабрика. Мы – лучшие умы поколения. Поколений. Создать пространство, где нашу человечность уважают, наши мнения ценят, к нашим голосам прислушиваются, – все это не менее важно, чем любые доходы и курс акций, любые наши проекты. Пошло, да?
– Нет-нет, – поспешно сказала Мэй. – Вовсе нет. Я потому и здесь. Мне нравится, что сообщество – это главное. Энни об этом говорила с самого прихода сюда. На моей последней работе никто толком не умел коммуницировать. По сути, там все было наоборот.
Дэн отвернулся, на восток, на мохеровые холмы в зеленых пятнах.
– Какой ужас. С нынешними технологиями коммуникации не должны быть под вопросом. Взаимопонимание не может быть недоступно или невнятно. Вот этим мы тут и занимаемся. Это, можно сказать, миссия компании – во всяком случае моя личная мания. Коммуникации. Взаимопонимание. Ясность.
Дэн энергично кивнул, будто язык его выдал эту речь сам по себе, а уши сочли ее очень мудрой.
– Как ты знаешь, мы в «Возрождении» отвечаем за Чувства Клиента, ЧК, и кое-кто, вероятно, сочтет, что это наименее привлекательная составляющая всего предприятия. Но с моей точки зрения – и Волхвы ее разделяют, – это основа всего, что здесь происходит. Если мы не вызываем у потребителя удовлетворительных, человеческих, гуманных чувств, у нас нет потребителя. Это же базовые вещи. Мы – доказательство того, что эта компания человечна.
Мэй потерялась с ответом. Она была согласна всей душой. Ее предыдущий начальник Кевин так разговаривать не умел. У Кевина не было философии. У Кевина не было идей. Только вонь и эти его усы. Мэй улыбалась, как дебил.
– Я уверен, что ты прекрасно впишешься, – сказал Дэн и потянулся к ней, точно хотел положить руку ей на плечо, но передумал. Рука упала. – Пошли вниз, приступишь к работе.
По широкой лестнице они спустились с крыши. За столом Мэй уже поджидал курчавый человек.
– Вот и он, – сказал Дэн. – Как всегда, рано. Привет, Джаред.
Лицо у Джареда было безмятежное, без единой морщины, руки терпеливо покоились на массивных коленях. Одет он был в штаны хаки и рубашку, которая была ему маловата.
– Джаред тебя обучит и будет твоим основным контактом в ЧК. Я руковожу всей командой, Джаред руководит секцией. Тебе главное знать его и меня. Джаред, готов ввести Мэй в курс дела?
– Готов, – сказал тот. – Привет, Мэй. – Он встал, протянул ладонь, и Мэй ее пожала. Ладонь была пухлая и мягкая, как у херувимчика.
Дэн попрощался и ушел.
Джаред улыбнулся и огладил кудри.
– Итак. Приступаем. Готова?
– Абсолютно.
– Кофе или чаю хочешь?
Мэй потрясла головой:
– Мне и так прекрасно.
– Вот и хорошо. Давай сядем.
Мэй села, а себе Джаред подтянул другое кресло.
– Итак. Как ты знаешь, пока ты будешь заниматься прямой клиентской поддержкой мелких рекламодателей. Они пишут в Чувства Клиента, письмо переправляется одному из нас. Поначалу рандомно, но как только ты начинаешь работать с клиентом, его направляют только к тебе, последовательности ради. Тебе поступает запрос, ты разбираешься и отвечаешь. В этом суть. В теории все просто. Пока понятно?
Мэй кивнула, и Джаред перечислил двадцать самых распространенных вопросов и просьб, а затем показал меню с шаблонами ответов.
– Но это не значит, что ты просто переклеиваешь ответ и жмешь «отправить». Отвечать надо лично, конкретно. Ты человек, они люди, не надо изображать робота и общаться с ними так, словно роботы и они. Понимаешь меня? Роботы здесь не работают. Мы не хотим, чтобы клиент думал, будто имеет дело с безликим неизвестно чем, поэтому нужно подбавить человечности. Годится?
Мэй кивнула. Ей понравилось это «роботы здесь не работают».
Они прогнали с десяток сценариев, и с каждым разом Мэй чуть лучше полировала свои ответы. Джаред учил терпеливо, описал ей все возможные нештатные ситуации. Если Мэй не понимает, что отвечать, пусть переправит запрос в очередь Джареда, он сам посмотрит. Этим он почти целыми днями и занимается – отвечает на запросы, которые переслали младшие сотрудники.
– Но непонятные бывают довольно редко. Ты удивишься, сколько запросов ты мигом разрулишь сама. Дальше: скажем, ты ответила клиенту, и он вроде бы доволен. Тогда ты посылаешь ему опросник, и он его заполняет. Там несколько коротких вопросов о качестве услуг, впечатлениях в целом, а в конце они ставят оценку. Присылают опросник обратно, и ты сразу понимаешь, хорошо ли тебе все удалось. Твой рейтинг появляется здесь. – Он указал в угол экрана, где крупными цифрами значилось «99», а ниже была табличка с другими числами. – Большая 99 – это рейтинг по оценке последнего клиента. Клиенты оценивают тебя по шкале, сюрприз, от одного до ста. Свежая оценка появляется здесь, а в соседней клеточке средний рейтинг за день. Так ты все время понимаешь, что у тебя получилось, сейчас и вообще. И я знаю, о чем ты думаешь: мол, ладно, Джаред, насколько средний у нас средний балл? Отвечаю: если ниже 95, имеет смысл подумать, что не так. Может, надо поднять средний балл на следующем клиенте, может, стоит где-то что-то делать лучше. Если средний балл постоянно падает, поговоришь с Дэном или капитаном другой команды, улучшишь навыки. Годится?
– Годится, – сказала Мэй. – Это замечательно. На прошлой работе я понятия не имела, как у меня дела, и выяснялось это, типа, ежеквартально. Очень нервировало.
– Тогда здесь тебе понравится. Если они заполняют опросник и ставят оценку, а это почти все делают, посылаешь им другое письмо. Благодаришь за то, что ответили на вопросы, и просишь их рассказать друзьям в соцсетях «Сферы» о том, как они с тобой поработали. В идеале они хотя бы квакнут, смайлик нарисуют, веселый или грустный. Если повезет, они квакнут или напишут на другом клиентском сайте. Если люди квакают про то, как ты замечательно их обслужила, все в выигрыше. Понятно?
– Понятно.
– Хорошо, попробуем на живых людях. Готова?
Мэй не была готова, но ведь нельзя прямо так и сказать.
– Готова.
Джаред открыл клиентский запрос, прочел и фыркнул, подразумевая, что проблема элементарна. Выбрал шаблон ответа, слегка его подредактировал, пожелал клиенту шикарного дня. Вся переписка заняла полторы минуты, а спустя еще две пришло подтверждение: клиент ответил на вопросы и поставил оценку 99. Джаред отодвинулся от монитора и повернулся к Мэй:
– Хорошо получилось, да? Девяносто девять – это хорошо. Однако интересно, почему не сто. Посмотрим. – Он открыл опросник, проглядел. – Явных признаков того, что клиент недоволен, я не вижу. В большинстве компаний скажут: ух, девяносто девять из ста, почти идеально. А я отвечу: вот именно, почти идеально, кто бы спорил. Но нас в «Сфере» этот недостающий балл парит. Попробуем разобраться. Посылаем следующее письмо.
Он показал ей другой опросник, еще короче: что и как, по мнению клиента, можно было сделать лучше. Опросник улетел.
Спустя считанные секунды пришел ответ: «Все хорошо. Простите. Надо было поставить 100. Спасибо!!!»
Джаред ногтем постучал по экрану и выставил большой палец.
– Хорошо. Некоторые, бывает, к численным показателям не чувствительны. Поэтому ясности ради не мешает переспросить. И у нас снова идеальный рейтинг. Готова сама попробовать?
– Готова.
Они скачали следующий запрос, Мэй пролистала шаблоны, выбрала подходящий, персонализировала его и отослала. Когда вернулся опросник, ее рейтинг был 100.
Джаред даже растерялся.
– Первый запрос – и сразу сто, ничего себе, – сказал он. – Я так и знал, что из тебя выйдет толк. – На миг у него ушла почва из-под ног, но он быстро очухался. – Ну хорошо, пожалуй, ты готова. Еще кое-что. Включаем второй монитор. – Он включил экран поменьше, справа от Мэй. – Это для внутренней переписки. Все сфероиды шлют сообщения через твой основной канал, но появляются они на втором экране. Это чтобы ясно было, насколько сообщения важны, чтобы ты разобралась, что есть что. Иногда я буду тебе туда писать, спрашивать, как дела, новости слать всякие, уточнения. Хорошо?
– Поняла.
– Значит, не забывай непонятных отправлять ко мне, а если захочешь поговорить, кинь сообщение или зайди. Я дальше по коридору. Первые недели мы, я думаю, будем часто общаться. Так я пойму, что ты учишься. Поэтому не смущайся.
– Не буду.
– Вот и прекрасно. Ну что, готова уже начать начать?
– Готова.
– Хорошо. Я тебе открываю канал. Как открою, на тебя повалятся запросы, у тебя будет своя очередь задач, и два часа до обеда ты будешь тонуть. Готова?
Мэй считала, что да.
– Да.
– Уверена? Ну хорошо.
Он подключил ее учетку, пародийно отсалютовал и ушел. Канал открылся, и за первые двенадцать минут Мэй ответила на четыре запроса, получив средний рейтинг 96. Она взмокла, но приход был электрический.
На втором экране появилось сообщение от Джареда: «Пока отлично! Давай посмотрим, может, удастся до 97 дотянуть».
«Попробую!» – ответила она.
«И пошли опросник тем, кто меньше 100».
«Пошлю», – написала она.
Она отослала семь опросников, и три клиента поменяли оценку на сто. К 11:45 она ответила еще на десять запросов. Теперь ее средний рейтинг стал 98.
На втором экране появилось сообщение – на сей раз от Дэна. «Фантастика, Мэй! Как себя чувствуешь?»
Мэй изумилась. Капитан команды присматривает за ней, да так по-доброму, в первый же день?
«Хорошо. Спасибо!» – ответила она и открыла следующий запрос.
Появилось еще одно сообщение от Джареда: «Чем-нибудь помочь? Есть вопросы?»
«Нет, спасибо! – написала она. – Пока нормально. Спасибо, Джаред!»
Она перевела взгляд на первый экран. На втором опять возник Джаред: «Не забывай, я могу помочь, только если ты скажешь как».
«Спасибо еще раз!» – написала она.
К обеду она ответила на тридцать шесть запросов, а рейтинг ее равнялся 97.
Пришло сообщение от Джареда: «Молодец! Давай опросим тех, кто меньше 100, если остались».
«Будет сделано», – ответила она и разослала опросники тем, кому еще не успела. Несколько 98 превратились в 100, а затем она увидела сообщение от Дэна: «Отличная работа, Мэй!»
И почти тут же на втором экране под сообщением Дэна возникло другое – от Энни: «Дэн говорит, ты зажигаешь. Умница!»
А потом ее оповестили, что она упомянута на «Кваке». Мэй кликнула, прочла. Написала Энни: «Нубка Мэй зажигает!» Энни разослала это всем сотрудникам кампуса – 10 041 человеку.
Квак форварднули 322 раза, комментариев – 187. Ветка на втором экране разрасталась. Прочесть все Мэй не успевала, но полистала – приятно, когда тебя одобряют. К вечеру ее рейтинг равнялся 98. От Джареда, Дэна и Энни прилетели поздравления. Несколько раз об этом квакнули – хвалили Мэй за, как выразилась Энни, «высочайший рейтинг среди нубов из ЧК, и подавитесь».
К пятнице Мэй обслужила 436 клиентов и зазубрила шаблоны наизусть. Она больше не удивлялась, хотя от разнообразия клиентов и компаний кружилась голова. «Сферой» пользовались повсеместно; интуитивно Мэй это понимала не первый год, но взаправду глубоко прочувствовала лишь теперь, читая письма от этих людей, из компаний, которым «Сфера» помогала размещать рекламу, отслеживать цитируемость, понимать, кто, что и когда купил. У Мэй завелись деловые контакты в Клинтоне, штат Луизиана, и Патни, штат Вермонт; в турецком Мармарисе, в Мельбурне, Глазго и Киото. Все неизменно были вежливы в письмах – наследие «АУтенТы» – и щедры в оценках.
Ближе к полудню в пятницу ее средний недельный рейтинг был 97, и со всех сторон сыпались похвалы. Работа была непростая, поток не ослабевал, но Мэй поймала удобный ритм – помогали некая доля разнообразия и регулярные оценки.
Как раз когда она собралась открыть очередной запрос, пришло CMC. Энни: «Дура, пошли есть».
Они сидели на холмике, а между ними стояли два салата; солнце то и дело выглядывало из-за медлительных облаков. Мэй и Энни наблюдали, как трое молодых людей, бледных и одетых как инженеры, изображают игру в футбол.
– Ну что, ты уже звезда. А я прямо гордая мать.
Мэй покачала головой:
– Да какая звезда? Мне еще учиться и учиться.
– Само собой. Но уже ведь 97? Рехнуться можно. У меня в первую неделю выше 95 не бывало. Ты для этой работы прямо создана.
Их тарелки помрачнели: на них легли две тени.
– Можно с нубкой познакомиться?
Мэй задрала голову, ладонью прикрыв глаза.
– А то, – сказала Энни.
Тени уселись. Энни указала на них вилкой:
– Это Сабина и Джозеф.
Мэй пожала им руки. Корпулентная блондинка Сабина щурилась. Джозеф был худ, бледен и с комически плохими зубами.
– И она уже разглядывает мои зубы! – взвыл он, тыча пальцем в Мэй. – Американцы! Да вы ненормальные! Я вам что – лошадь на аукционе?
– Но у тебя правда плохие зубы, – заметила Энни. – А у нас тут такая прекрасная стоматология.
Джозеф развернул буррито.
– Я считаю, мои зубы даруют жизненно потребное отдохновение от всеобщего противоестественного совершенства.
Энни разглядывала его, склонив голову набок.
– Я считаю, тебе надо их полечить. Если не ради себя, то ради корпоративного настроя. У людей от тебя кошмары.
Набив рот карне асада, Джозеф демонстративно надулся. Энни похлопала его по руке.
Сабина повернулась к Мэй:
– Так ты в Чувствах Клиента?
Теперь Мэй заметила у нее на плече татуировку – символ бесконечности.
– Ага. Первая неделя.
– Я так поняла, у тебя уже неплохо получается. Я тоже там начинала. Как и почти все.
– Сабина – биохимик, – вставила Энни.
– Ты биохимик? – удивилась Мэй.
– Да.
Мэй и не знала, что в «Сфере» работают биохимики.
– Можно спросить, над чем работаешь?
– Спросить? – улыбнулась Сабина. – Спросить-то, конечно, можно. Но я не обязана отвечать.
Все повздыхали, Сабина тоже, потом перестала.
– Нет, серьезно, не могу сказать. Ну, не сейчас. Вообще – над всякой биометрией. Сканирование сетчатки, распознавание лиц, такие вещи. Но сейчас кое-что новенькое. Я бы и рада…
Энни поглядела на нее умоляюще – мол, замолчи. Сабина набила рот латуком.
– В общем, – сказала Энни, – Джозеф у нас в Открытом Образовании. Внедряет планшеты в школы, которые еще не могут этого себе позволить. Он у нас доброхот. И дружит с твоим новым знакомцем. Гарбонцо.
– Гаравента, – поправила Мэй.
– А. Так ты запомнила. Видела его потом?
– На этой неделе нет. Дел очень много.
У Джозефа отвалилась челюсть. Кажется, его осенило.
– Так ты что – Мэй?
Энни поморщилась:
– Мы же так и сказали. Ну естественно, она Мэй.
– Извини. Не расслышал. Теперь дошло.
Энни фыркнула:
– А что? Вы, девочки, сплетничали про лучшую ночь в жизни Фрэнсиса? Он пишет имя Мэй в блокнотике, а вокруг рисует сердечки?
Джозеф снисходительно вздохнул:
– Нет, он просто сказал, что познакомился с очень приятной девушкой и что зовут ее Мэй.
– Я сейчас зарыдаю, – сказала Сабина.
– Он ей сказал, что работает в безопасности, – продолжала Энни. – Чего это он, Джозеф?
– Он не так сказал, – возразила Мэй. – Я же объясняла.
Но Энни не слушала.
– Ну, наверное, можно считать, что это безопасность. Он занимается защитой детей. По сути, вся программа по предупреждению похищений строится вокруг него. И у него, пожалуй, есть шанс.
Сабина, снова с полным ртом, энергично закивала:
– Стопроцентно, – сказала она, плюясь салатом и соусом. – Все уже на мази.
– Что на мази? – переспросила Мэй. – Он сможет предупреждать все похищения?
– Он может, – сказал Джозеф. – С мотивацией у него порядок.
Энни расширила глаза:
– Он тебе рассказывал про своих сестер?
Мэй покачала головой:
– Нет, он их даже не упоминал. А что с его сестрами?
Три сфероида переглянулись, словно взвешивая, стоит ли все вываливать прямо здесь и сейчас.
– Кромешный мрак, – сказала Энни. – У него родители – кошмарные ******.[15] Четверо детей, что ли, или пятеро, Фрэнсис младший или не совсем, и, короче, папаша в тюрьме, мамаша торчок, детей разослали куда ни попадя. Одного, кажется, к тете с дядей, а двух сестер в приемную семью, и обеих оттуда похитили. По-моему, там были сомнения, подарили их убийцам или продали.
– Что? – переспросила Мэй, ослабев.
– Блин, их насиловали, держали в чуланах, тела выкинули у какой-то заброшенной ракетной шахты. Ну реально, жуть крайней степени. Он нам все это рассказал, когда делал заявку на программу защиты детей. Ты бы видела свое лицо. Зря я начала.
Мэй не смогла заговорить.
– Лучше, чтоб ты была в курсе, – сказал Джозеф. – Он поэтому такой одержимый. А когда его программу запустят, ничего подобного больше никогда не случится. Стоп. Который час?
Энни глянула на телефон:
– И впрямь. Пора бежать. У Бейли открытие. Нам в Большой зал.
Большой зал располагался в «Просвещении», и когда они вошли, гулкое пространство на 3 500 мест, оформленное деревом теплых тонов и матовой сталью, громко гудело в предвкушении. Мэй и Энни не без труда нашли два места на втором балконе и сели.
– Достроили всего несколько месяцев назад, – сказала Энни. – Сорок пять лимонов. Бейли заказал полосочки, как в Сиенском соборе. Красиво, да?
Все внимание Мэй было приковано к сцене – там под гром аплодисментов к кафедре из органического стекла направлялся человек. Высокий мужчина лет сорока пяти, в районе талии округлый, но здоровяк, в джинсах и синем свитере с острым вырезом. Микрофона не наблюдалось, но когда человек заговорил, голос его был усилен и чист.
– Всем привет. Я Эймон Бейли, – сказал он; в зале вновь зааплодировали, но он это быстренько прекратил. – Спасибо. Я так вам рад. За месяц с тех пор, как я выступал в последний раз, у нас появились новые лица. Нубы, встаньте, пожалуйста?
Энни пихнула Мэй локтем. Мэй поднялась и огляделась – в зале стояли человек шестьдесят, в основном ее сверстники, все смущены, все неброско стильны, представляют все расы, этнические корни и, благодаря стараниям «Сферы» упростить разрешения на работу для иностранцев, головокружительное множество стран. Остальные сфероиды громко захлопали, кое-кто сдобрил аплодисменты «гип-гипами». Мэй села.
– Ты так очаровательно краснеешь, – заметила Энни. Мэй сползла в кресле пониже.
– Нубы, – сказал Бейли, – вам предстоит нечто особенное. Это называется Мечтательная Пятница – мы представляем то, над чем работаем. Нередко выступают наши инженеры, дизайнеры или визионеры, а порой только я. И сегодня, к добру или худу, выступаю я. За что заранее извиняюсь.
– Мы тебя любим, Эймон! – крикнул кто-то из зала. Раздался смех.
– Ну спасибо, – сказал он, – я вас тоже люблю. Я люблю вас, как трава росинку, как птица ветку.
Он помолчал, и Мэй успела перевести дух. Она видела его выступления онлайн, но очутиться здесь самой, видеть, как работает разум Бейли, слышать его экспромты – совсем другое дело, лучше, чем ей воображалось. Каково это – быть таким, вдохновлять своим красноречием, непринужденно говорить с тысячами?
– Да, – сказал он, – целый месяц прошел с тех пор, как я выходил на эту сцену, и я знаю, что сменщики мои вас не радовали. Простите, что лишил вас своего общества. Я сознаю, что незаменим. – Весь зал рассмеялся его шутке. – И я знаю, что многие из вас недоумевали, где же это меня носило.
В первых рядах кто-то заорал: «Серфинг!» – и в зале засмеялись опять.
– Совершенно верно. Я слегка серфил и про это, в частности, хочу поговорить. Я обожаю серфинг, и когда собираюсь на берег, мне нужно знать, какова сегодня волна. Раньше было как? Просыпаешься с утра и давай названивать в местную лавку проката, спрашивать, как дела с прибоем. Довольно скоро в лавке переставали подходить к телефону.
В зале с пониманием усмехнулся контингент постарше.
– Когда расплодились мобильники, ты звонил приятелям, которые, может, выбрались на берег раньше тебя. Они тоже переставали отвечать на звонки.
Снова хохот.
– Я серьезно. Неразумно каждый день с утра пораньше делать по двенадцать звонков, и к тому же можно ли доверять чужой оценке? Волна не бесконечна, лишних тушек по соседству серферам не надо. Случился Интернет, и какие-то гении тут и там понаставили веб-камер. Можно зайти на сайт и получить крайне смутное представление о том, как выглядит волна на Стинсон-Бич. Едва ли не хуже, чем по результатам звонков в лавку! Технологии были примитивные. Потоковые – примитивны до сих пор. Были. До сего дня.
За спиной у Бейли с потолка спустился экран.
– Итак. Вот как это выглядело прежде.
На экране появился обычный браузер, и незримая рука вбила адрес сайта «Волна сегодня». Появилась дурно отрисованная страница, по центру – крохотное видео с побережья. Волна набегала пикселями, до смешного медленно. Зрители захихикали.
– Толку почти никакого, да? Как мы знаем, в последнее время потоковое видео далеко шагнуло. Однако скорость по-прежнему отстает от реальности, а качество изображения весьма огорчительно. Так вот, за этот год мы, похоже, решили проблему качества. Обновим страницу и посмотрим, как выглядит этот сайт с нашей новой передачей видео.
Страница обновилась, побережье распахнулось на весь экран, разрешение – лучше не бывает. В зале заахали.
– Да, это прямая трансляция со Стинсон-Бич. В эту минуту он таков. Красиво, а? Может, мне стоит податься туда, а не торчать тут перед вами!
Энни склонилась к Мэй:
– Дальше вообще зашибенско. Сейчас увидишь.
– Многие из вас еще сомневаются. Как мы знаем, немало устройств способны передавать потоковое видео в высоком разрешении, у многих из вас эту технологию уже поддерживают планшеты и телефоны. Но тут есть пара деталей. Во-первых – то, как мы получаем изображение. Удивитесь ли вы, если я скажу, что оно снято не крупной камерой, а такой вот штучкой.
В руке у него был какой-то гаджет – размером и формой как леденец на палочке.
– Это видеокамера, и ровно такая же модель передает нам сейчас изображение столь замечательного качества. Качества, которое даже при подобном увеличении не становится хуже. Это первый аспект. Мы теперь умеем получать изображение высокого разрешения с камеры не крупнее большого пальца. Ну очень большого пальца. А второй аспект таков: как видите, проводов у камеры нет. Она транслирует через спутник.
Зал сотрясла овация.
– Погодите. А я сказал, что она работает на литиевой батарейке, которой хватает на два года? Нет? Ну, теперь сказал. И еще через год мы выпустим модель на солнечной батарее. И она водонепроницаемая, ветронепроницаемая, ей не навредят ни песок, ни животные, ни насекомые, она защищена от всего.
Зал вновь содрогнулся от аплодисментов.
– Короче, я эту камеру поставил сегодня утром. Примотал к палке, палку воткнул в песок, в дюнах, без никаких разрешений, без ничего. Никто даже не знает, что она там стоит. Утром я ее включил, приехал в офис, открыл «Камеру 1, Стинсон-Бич» и получил вот эту картинку. Неплохо. Но мало того. Я утром много чего успел. Поездил туда-сюда, поставил еще одну на Родео-Бич.
Стинсон-Бич съежился и отполз в угол экрана. Появилось другое окно, а в нем прибой на Родео-Бич, в нескольких милях дальше по Тихоокеанскому побережью.
– А вот Монтара. Оушен-Бич. Форт-Пойнт.
Бейли называл пляжи, и на экране появлялось новое видео. Сетка из шести пляжей, все в реальном времени, высокой четкости, ослепительного разноцветия.
– Не забывайте: камер никто не замечает. Я их хорошенько спрятал. Прохожий примет их за сорняк или прутик. За что угодно. В глаза они не бросаются. То есть утром я за несколько часов обеспечил высококачественный видеодоступ к шести локациям, что поможет мне спланировать день. Чем мы тут вообще занимаемся? Познаем непознанное, так?
Кивки. Редкие аплодисменты.
– Короче, многие сидят себе и думают: мол, это же просто гибрид камер наблюдения с потоковым видео, спутниками и тэ дэ. Ладно. Как вы понимаете, с финансовой точки зрения осуществить все это с нынешними технологиями для среднего человека неподъемно. Но что, если это будет доступно и по средствам всем? Друзья мои, мы планируем продавать эту железку в рознице – всего, заметим, через несколько месяцев – по пятьдесят девять долларов.
Бейли размахнулся леденцовой камерой и швырнул ее кому-то в первом ряду. Женщина, которая ее поймала, с торжествующей улыбкой обернулась к залу, подняв камеру повыше.
– Можно купить десяток на Рождество, и опа – у вас постоянный доступ ко всем локациям, какие вам нужны, – дом, работа, дорожные пробки. И установить ее под силу любому. Пять минут максимум. Вы вдумайтесь, какие перспективы!
Экран у него за спиной побелел, пляжи исчезли, появилась другая сетка.
– Это мой задний двор, – сказал Бейли, открыв трансляцию из скромного и опрятного дворика. – Это передний. Тут гараж. Это на холме над шоссе 101, где в час пик все стоит. Это у моей парковки, чтоб никто там не парковался.
Вскоре на экране возникло шестнадцать разных видеопотоков.
– И ведь это только мои камеры. Я вбиваю номер – первая, вторая, третья, двенадцатая, любая – и вуаля, картинка. Проще простого. А как делиться? Скажем, у моего другана тоже есть камеры и он хочет предоставить доступ мне – тогда как?
Таблица на экране разрослась, шестнадцать окошек превратились в тридцать два.
– Это камеры Лайонела Фицпатрика. Он у нас лыжник, и его камеры следят за условиями в двенадцати разных локациях над Тахо.
Появилось двенадцать изображений заснеженных горных вершин, долин ледяной голубизны, хребтов, увенчанных темно-зеленой хвоей.
– Лайонел может предоставить мне доступ к любой своей камере. Все равно что подписаться на чужую ленту, только доступ получаешь к потоковому видео. Какое кабельное ТВ? Какие пятьсот каналов? Если у вас тысяча друзей и у каждого по десять камер, вы получаете десять тысяч видеопотоков. Если у вас пять тысяч друзей, видеопотоков уже пятьдесят тысяч. И вскоре можно будет подключаться к миллионам камер по всему свету. Опять-таки – вдумайтесь, какие перспективы!
Экран распылился на тысячу экранчиков. Пляжи, горы, озера, города, офисы, гостиные. Зал бешено зааплодировал. Экран почернел, и из черноты выплыл белый пацифик.
– Представьте, какие перспективы для правозащитников. Протестующим на улицах Египта больше не нужно таскать с собой камеру, надеяться, что удастся запечатлеть правонарушение или убийство, а потом неизвестно как доставлять эту запись с улицы и выкладывать онлайн. Теперь можно приклеить камеру на стенку – и все дела. Вообще-то мы так и сделали.
Зал потрясенно притих.
– Покажите нам камеру восемь в Каире.
На экране появилась улица. На мостовой валялись транспаранты, поодаль стояли двое полицейских, готовых к уличным беспорядкам.
– Они этого не знают, но мы их видим. Весь мир смотрит. И слушает. Включите звук.
Вдруг ясно зазвучала арабская речь ничего не подозревающих прохожих.
– И, разумеется, большинство камер управляется вручную или через распознавание речи. Глядите. Камера восемь, поворот влево. – Изображение на экране повернулось. – Теперь вправо. – Изображение повернулось опять. Бейли показал, как она двигается вверх, вниз, по диагонали – получалось замечательно плавно.
Зал вновь захлопал.
– Итак, эти камеры дешевы, легко прячутся, не нуждаются в проводах. Не так уж трудно было расставить их повсюду. Покажите нам Тахрир.
Зрители ахнули. На экране появилась площадь Тахрир, колыбель египетской революции.
– Наши сотрудники в Каире трудились всю неделю. Камеры эти такие крошечные, что армейцы их не замечают. Даже не знают, где искать! Покажите нам остальные съемки. Камера два. Камера три. Четыре. Пять. Шесть.
Появилось шесть видов площади – такие четкие, что различимы капли пота на лицах, легко читаются солдатские жетоны.
– Теперь с седьмой по пятидесятую.
Появилась сетка с полусотней изображений, покрывавших чуть ли не всю площадь. Зал вновь взревел. Бейли воздел руки – мол, не пора, это отнюдь не все.
– Сейчас на площади спокойно, но вообразите, что будет, если начнутся беспорядки. Мгновенная ответственность. Солдат, совершивший акт насилия, тотчас запечатлен для потомков. Можно судить его за военные преступления – дальше сами додумайте. И даже если всех журналистов погонят с площади, камеры останутся. Они миниатюрны, и сколько их ни уничтожай, никто не знает наверняка, где они, кто их установил и когда. А это незнание предотвратит злоупотребления. Теперь обычный солдат будет париться из-за того, что десять камер навечно зафиксируют, как он тащил женщину по улице. И пусть парится. Правильно делает. Он и должен париться из-за «ВидДали». Так мы их называем.
Аплодисменты коротко плеснули и разрослись – до аудитории постепенно дошел двойной смысл.
– Нравится? – спросил Бейли. – Ладно. Это у нас было народное восстание. А представьте, что камеры стоят в любом городе. Кто совершит преступление, зная, что за ним наблюдают где и когда угодно? Мои друзья в ФБР считают, что в городе, где у нас нормальное и разумное покрытие, эта технология сократит уровень преступности процентов на семьдесят-восемьдесят.
Захлопали громче.
– Но пока давайте вернемся к тем регионам, где прозрачность отчаянно нужна и редко достижима. Вот разные локации, где установлены наши камеры. Вообразите, как они повлияли бы на ситуацию в прошлом и повлияют в будущем, если история повторится. Вот пятьдесят камер на площади Тяньаньмэнь.
На экране появились изображения площади в реальном времени, и аудитория снова зашумела. Дальше Бейли показал видео из десятка других авторитарных государств, съемки Хартума, видео из Пномпеня, где власти понятия не имели, что за ними наблюдают три тысячи сфероидов из Калифорнии, – даже не догадывались, что за ними можно наблюдать, что такая технология была или будет возможна.
Бейли снова очистил экран и шагнул к краю сцены.
– Вы мое мнение знаете, да? В таких ситуациях я поддерживаю Гаагу, я за правозащитников по всему миру. Ответственность должна быть. Тиранам больше не спрятаться. Должны быть и будут документирование и ответственность, мы обязаны стать свидетелями. И я заявляю, что ради этого все события нужно знать.
На экран спустились слова:
ВСЕ СОБЫТИЯ НУЖНО ЗНАТЬ.
– Народ, мы на пороге Нового Просвещения. И я не говорю о нашем новом корпусе. Я говорю об эпохе, когда человеческая мысль, человеческие поступки и достижения перестанут утекать в небытие, точно из дырявого решета. Мы этого не допустим. Однажды такое уже было. Это называлось Средневековье, Темные века. Если бы не монахи, мир утратил бы все, чему успел научиться. И мы живем в похожие времена, мы теряем многое из того, что делаем, видим, узнаём. Но необязательно жить так. Ибо у нас есть наши камеры, а у «Сферы» есть ее миссия.
Он повернулся к экрану и прочел вслух, дабы зрители накрепко запомнили:
ВСЕ СОБЫТИЯ НУЖНО ЗНАТЬ.
Затем с улыбкой взглянул в зал:
– А теперь финальный аккорд. Моей матери восемьдесят один. Ей стало нелегко передвигаться. Год назад она упала, сломала шейку бедра, и с тех пор я за нее беспокоюсь. Попросил ее установить камеры слежения, чтобы у меня был доступ по кабелю, но она отказалась. Теперь я могу вздохнуть с облегчением. В выходные, когда она легла подремать…
По залу побежали смешки.
– Простите! Простите меня! – сказал он. – У меня не было выбора. Она бы мне не разрешила. Я прокрался в дом и везде понаставил камер. Они крошечные, она их ни в жизнь не заметит. Я вам быстренько продемонстрирую. Покажите нам с первой по пятую камеры у мамы дома.
Возникла сетка с изображениями, в том числе его мамы – она шла по освещенному коридору в одном полотенце. Зрители заржали.
– Ой. Давайте-ка это выключим. – Картинка исчезла. – Короче, суть. Я знаю, что у нее все благополучно, и мне спокойно. Мы в «Сфере» знаем, что прозрачность дарует покой. Мне больше не нужно дергаться, как там мама. Мне больше не нужно беспокоиться, как там в Мьянме… Мы выпускаем миллион экземпляров этой модели и, по моим прогнозам, через год получим миллион видеопотоков. Через пять лет – пятьдесят миллионов. Через десять – два миллиарда камер. И останется крайне мало населенных районов, где нам будет отказано в доступе.
Аудитория опять взревела. Кто-то заорал:
– Хотим сейчас!
– Вместо того чтобы мыкаться по вебу и в итоге найти какой-нибудь монтаж ужасного качества, – продолжал Бейли, – вы идете на «ВидДали» и вбиваете в строку поиска «Мьянма». Или имя вашей школьной пассии. Не исключено, что кто-нибудь поблизости установил камеру. Вы хотите знать о мире больше – отчего не удовлетворить вашу любознательность? Хотите увидеть Фиджи, но не можете поехать? «ВидДали». Хотите глянуть, как там ваш отпрыск поживает в школе? «ВидДали». Вот она, абсолютная прозрачность. Без фильтров. Видно все. И всегда.
Мэй склонилась к Энни:
– С ума сойти.
– Я и говорю, ага?
– Далее: должны эти камеры быть стационарными? – Бейли укоризненно воздел палец. – Разумеется, нет. У меня десяток помощников по всему миру – они носят камеры на шее. Давайте-ка их навестим. Камеру Дэнни включите, пожалуйста?
На экране возник Мачу-Пикчу. Как на открытке – вид с вершины над древними развалинами. А потом картинка сдвинулась, приблизилась. Толпа ахнула и в восторге заорала.
– Изображение в реальном времени – ну, это очевидно. Привет, Дэнни. Теперь включим Сару на горе Кения. – На огромном экране появилась новая картинка – высокогорное сланцевое плато. – Покажи нам гору, Сара? – Камера развернулась, явила горный пик, окутанный туманом. – Как видите, становятся возможны визуальные суррогаты. Допустим, я прикован к постели или слишком хвор и не заберусь на гору сам. Посылаю кого-нибудь с камерой на шее и в реальном времени переживаю восхождение. Давайте еще что-нибудь посмотрим.
Он показал Париж, Куала-Лумпур, лондонский паб.
– Теперь чуток поэкспериментируем – возьмем все камеры разом. Я сижу дома. Захожу в Интернет, хочу посмотреть мир. Покажите мне, как дела на сто первом. Улицы Джакарты. Серфинг в Болинасе. Дом моей матери. Покажите веб-камеры всех моих бывших одноклассников.
С каждой командой открывался новый видеопоток – наконец, по меньшей мере сотня камер транслировали видео на экран.
– Мы станем всевидящими, всеведущими.
Зрители повскакали. Зал сотрясла громовая овация. Мэй положила голову Энни на плечо.
– Мы узнаем все события, – прошептала та.
– Ты светишься.
– Точно.
– Ничего я не свечусь.
– Как будто ребенка ждешь.
– Я тебя поняла. Прекрати.
Отец потянулся через стол и взял Мэй за руку. Настала суббота, и в честь первой недели в «Сфере» родители устроили Мэй праздничный ужин. Они вечно сентиментальничали – ну, в последнее время. Когда Мэй была моложе, единственным ребенком супругов, которые давно подумывали, что детей у них не будет вовсе, жизнь дома была заковыристее. На неделе отец почти не появлялся. Он работал комендантом бизнес-парка во Фресно, по четырнадцать часов в день, и домашние дела целиком предоставлял жене; та отрабатывала три смены в неделю в гостиничном ресторане, а в ответ на общий стресс чуть что срывалась – главным образом на Мэй. Но когда Мэй исполнилось десять, родители объявили, что купили парковку, два этажа неподалеку от центра Фресно, и несколько лет дежурили там по очереди. Унизительно, когда родители друзей говорили Мэй: «Слышь, видели твою мамку на парковке», или: «Передай папаше спасибо, что на днях денег с меня не взял», – но вскоре доходы устаканились, и родители наняли двоих сменщиков. Теперь они позволяли себе выходные, планировали дальше, чем на пару месяцев вперед, – и смягчились, стали очень тихой, несносно приятной пожилой четой. За какой-то год из молодых родителей, которые вечно зашиваются, они как будто превратились в дедушку и бабушку, медлительных, доброжелательных, понятия не имеющих, чего хочет их ребенок. Когда Мэй окончила неполную среднюю, родители свозили ее в Диснейленд, не догадываясь, видимо, что она слишком большая и поездка туда в одиночестве – с двумя взрослыми, то есть, по сути, в одиночестве – решительно противоречит любым представлениям о развлечениях. Но они так рьяно желали ей добра, что она не смогла отказаться, и под конец они бездумно развлекались – она и не знала, что с родителями так можно. Все ошметки обид из-за эмоциональной нестабильности ее детства остыли под неизменным прохладным ручейком их старения.
А теперь родители приехали в Залив, прожить выходные в самом дешевом пансионе, какой здесь нашелся, – от «Сферы» в пятнадцати милях, и, судя по виду, там живут привидения. Все втроем пошли в какой-то псевдомодный ресторан, о котором слыхали родители, и если кто тут и светился, так это они. Прямо сияли.
– Ну? Прекрасно было? – спросила мать.
– Прекрасно.
– Я так и знала. – Мать уселась поудобнее, скрестила руки на груди.
– Я не хочу работать больше нигде, никогда в жизни, – сказала Мэй.
– Какое счастье, – сказал отец. – Мы тоже не хотим, чтоб ты где-то еще работала.
Мать склонилась ближе, взяла Мэй за локоть.
– Я сказала Каролининой маме. Ты ее знаешь. – Она сморщила нос – сильнее оскорбить не умела. – У нее такой был вид, словно ей в попу острый кол сунули. От зависти аж вскипела.
– Мам.
– Я и про зарплату твою проговорилась.
– Мам.
– Я только сказала: «Надеюсь, шестидесяти тысяч долларов ей хватит».
– Ты правда ей так сказала? Я тебе не верю.
– Но это ж правда?
– Вообще-то шестьдесят две.
– Ох батюшки. Надо будет ей перезвонить.
– Вот не надо.
– Ладно, не буду. Но получилось весело, – сказала мать. – Я мимоходом обмолвилась. Моя дочь работает в крутейшей компании планеты, у моей дочери стоматологическая страховка.
– Да ладно тебе. Мне просто повезло. И Энни…
Теперь к ней склонился отец:
– Как Энни?
– Хорошо.
– Передай, что мы ее любим.
– Передам.
– Не смогла прийти?
– Не-а. Занята.
– Но ты звала?
– Звала. Она передавала привет. Но у нее работы выше крыши.
– А чем она занимается? – спросила мать.
– Да всем подряд, – сказала Мэй. – Она в Бригаде 40. Участвует во всех ключевых решениях. По-моему, в основном всякое законодательство в других странах.
– Наверное, очень ответственная работа.
– А опцион какой! – сказал отец. – Сколько она стоит – это ж представить страшно.
– Пап. Не представляй.
– Зачем она работает с такими опционами? Я бы на пляже валялся. Завел бы гарем.
Мать ладонью накрыла его руку:
– Перестань, Винни. – А затем сказала дочери: – Надеюсь, у нее есть время наслаждаться жизнью.
– Ну да, – ответила Мэй. – Вот сейчас она, наверное, в кампусе на вечеринке.
Отец улыбнулся:
– Кампус. Мне нравится. Очень клево. Мы это называли «конторы».
Мать встревожилась:
– На вечеринке? А ты не хотела пойти?
– Я хотела, но и вас я хотела повидать. Там полно этих вечеринок.
– Но ведь первая неделя! – Мать явно расстроилась. – Может, стоило пойти. Теперь я буду мучиться. Мы тебя оторвали.
– Ты уж мне поверь. Там через день эти вечеринки. Все только и делают, что тусуются. Все нормально.
– Ты же на обед пока не ходишь? – спросила мать. Когда Мэй начинала в коммунальной службе, мать говорила то же самое: в первую неделю на обед не ходи. Создает превратное впечатление.
– Не волнуйся, – сказала Мэй. – Я даже в туалет не хожу.
Мать закатила глаза.
– В общем, я только хочу сказать, что мы очень тобой гордимся. И любим тебя.
– И Энни, – прибавил отец.
– Ну да. Мы любим тебя и Энни.
Поели они быстро, зная, что отец скоро устанет. Он настоял на ресторане, хотя дома редко куда ходил. Постоянная усталость, накатывала нежданно и мощно, и он практически валился с ног. Если оказались в городе, важно, если что, срочно ретироваться – так они и сделали, манкировав десертом. Мэй доехала до пансиона, и там, среди множества хозяйских кукол, все трое наконец расслабились, не опасаясь чепэ. Мэй так и не привыкла к тому, что у отца рассеянный склероз. Диагноз поставили всего два года назад, хотя симптомы наблюдались уже много лет. У отца заплетался язык, он промахивался, пытаясь что-нибудь взять, и наконец, дважды упал, оба раза дома, в прихожей, потянувшись к двери. Родители продали парковку, неплохо за нее выручили, и теперь все время тратилось на уход за отцом, а минимум несколько часов в день – на изучение медицинских счетов и войну со страховщиками.
– А, кстати, мы тут недавно Мерсера видели, – сказала мать, и отец улыбнулся. Мерсер – бывший бойфренд Мэй. В школе и колледже у нее было четыре серьезных романа, но родители принимали во внимание только Мерсера – или же только его признали и запомнили. Он по-прежнему жил в родном городе – это тоже способствовало.
– Славно, – сказала Мэй, желая закруглить этот разговор. – Все мастерит люстры из оленьих рогов?
– Ты полегче, – сказал отец, расслышав колючки в ее тоне. – У него теперь свой бизнес. И он не хвастается, но явно процветает.
Пора сменить тему.
– У меня пока средний рейтинг – 97, – сказала Мэй. – Сказали, что для нуба это рекорд.
На лицах родителей нарисовалась растерянность. Отец медленно моргнул. Они не понимают, о чем это она.
– Что-что, лапуль? – спросил отец.
Мэй не стала продолжать. Еще слыша, как слова вылетают изо рта, она сообразила, что эту реплику придется разъяснять слишком долго.
– Как дела со страховой? – спросила она и мигом пожалела. Вот зачем она задает такие вопросы? Ответ сожрет всю ночь.
– Не очень, – сказала мать. – Не знаю. У нас не та страховка. Они не хотят страховать папу, вот просто не хотят, и очень стараются нас выжить. А как нам уйти? Нам же некуда деваться.
Отец сел прямее.
– Расскажи ей про рецепт.
– А, да. Папа два года колол копаксон, от болей. Ему надо. Без него…
– Боль… скверная, – сказал он.
– В общем, страховщики говорят, что копаксон ему не нужен. Его нету в их списке одобренных лекарств. Хотя папа колол его два года!
– Непонятно, зачем такая жестокость, – сказал отец.
– И альтернатив не предлагают. Вообще никаких болеутолителей!
Мэй не знала, что сказать.
– Какой ужас. Поискать в Сети заменители? Может, врачи найдут другой препарат, за который страховая заплатит? Может, есть дженерики…
Это длилось час, и под конец Мэй обессилела. Рассеянный склероз, ее беспомощность, неумение замедлить болезнь, неспособность вернуть отцу прежнюю жизнь – все это терзало, но страховая – другое дело, необязательное преступление, сверх всякой меры. Неужели страховщики не понимают, что их крючкотворство, их отлупы, все эти огорчения лишь ухудшают здоровье отца и угрожают здоровью матери? Что по меньшей мере неэффективно. Столько времени тратится на отказы в выплатах, на споры, отклонения запросов, препоны – явно ведь дешевле попросту предоставить родителям надлежащий уход.
– Все, хватит об этом, – сказала мать. – Мы тебе сюрприз привезли. Где же это он? У тебя, Винни?
Все расселись на высокой кровати с потертым лоскутным покрывалом, и отец преподнес Мэй сверточек. Размеры и форма намекали на ожерелье, но Мэй понимала, что такого не может быть. Она развернула обертку, открыла бархатную коробочку и рассмеялась. Авторучка – изысканная, серебряная, на удивление тяжелая, требует осторожности, чернил и нужна в основном для виду.
– Не переживай, мы ее не покупали, – сказал отец.
– Винни! – вскричала мать.
– Я серьезно, – сказал он. – Мне в том году приятель подарил. Расстроился, что я не могу работать. Уж не знаю, что он себе думал, – как мне писать ручкой, если я еле печатаю? Но мозгов у мужика всегда было с гулькин нос.
– Мы подумали, на рабочем столе хорошо будет смотреться, – сказала мать.
– Мы лучшие родители на свете, правда ведь? – прибавил отец.
Мать рассмеялась, и, что гораздо важнее, рассмеялся отец. Смеялся он громко и утробно. На втором этапе своей родительской жизни, уже поуспокоившись, он стал смешлив, вечно смеялся над чем попало. Подростком Мэй только и слышала его смех. Он хохотал, когда было откровенно смешно, когда другие выдавили бы разве что улыбочку и когда любой бы на его месте расстроился. Если Мэй хулиганила, отец смеялся до упаду. Как-то раз поймал ее, когда она хотела прошмыгнуть из окна спальни на свиданку к Мерсеру, и ржал так, что подгибались колени. Все ему виделось комичным, вся дочерина юность смешила его до колик. «Ты бы видела свое лицо, когда я вошел! Просто жизнь отдать!»
Но потом диагностировали склероз, и почти все это исчезло. Боль не отпускала. Припадки, когда отец не мог встать, опасался, что ноги не удержат, стали слишком часты, слишком опасны. Его еженедельно увозили по «скорой». Наконец, в результате героических маминых усилий, он попал к паре-тройке врачей, которым было не все равно, ему прописали нужные препараты, стабилизировали хоть ненадолго. И тут это фиаско со страховой, сошествие в здравоохранительный ад.
Сегодня, впрочем, отец был жизнерадостен, а матери полегчало – на тесной кухне пансиона она отыскала херес и поделилась с Мэй. Отец вскоре уснул прямо в одежде, на покрывале, при свете, хотя Мэй с матерью болтали в полный голос. Заметив, что он отключился, Мэй устроилась ночевать в ногах их постели.
Утром они встали поздно и поехали обедать в закусочную. Отец ел с аппетитом, а Мэй смотрела, как мать напускает на себя беспечность; родители обсуждали очередной нелепый прожект заблудшего дядюшки, какое-то разведение омаров на рисовых полях. Мэй понимала, что мать ежеминутно нервничает – они два раза подряд таскали отца есть на людях, и теперь мать пристально за ним наблюдала. Он был весел, но силы быстро убывали.
– Вы тут расплатитесь, – сказал он, – а я пойду в машину, прилягу.
– Мы поможем, – сказала Мэй, но мать на нее шикнула. Отец уже встал и направился к двери.
– Он устает. Это нормально, – сказала мать. – Теперь другой режим. Он отдыхает. Поделает что-то, погуляет, поест, сначала бодрый, потом отдыхает. И так регулярно – если честно, очень умиротворяет.
Они расплатились и вышли на стоянку. Через окно машины Мэй разглядела белые пряди отцовских волос. Он почти целиком исчез из виду – лежал на заднем сиденье. Подойдя, они увидели, что он не спит – смотрит в переплетенье ветвей ничем не примечательного деревца. Отец опустил стекло.
– Ну, чудесно все получилось, – сказал он.
Мэй попрощалась и отбыла, довольная, что полдня свободны. Она ехала к западу – день был солнечный и безветренный, за окном летел пейзаж четких, простых оттенков – голубых, желтых, зеленых. У побережья она свернула к Заливу. Если поторопится, успеет на каяке пройтись.
К каякингу ее приучил Мерсер – прежде Мэй полагала это занятие неловким и скучным. Сидишь почти на ватерлинии, машешь нелепым веслом, похожим на ложечку для мороженого. Вертишься все время – на вид мучительно, движешься еле-еле. Но потом она попробовала вместе с Мерсером, не на профессиональном каяке, а на модели попроще, где сидишь сверху, а ноги наружу. Они прошлись по Заливу, гораздо быстрее, чем она ожидала, видели тюленей и пеликанов, и Мэй уверилась, что каякинг – преступно недооцененный спорт, а Залив – прискорбно недозагруженный водоем.
Они отчаливали с крошечного пляжа, где не требовалось ни снаряжения, ни сертификатов, ничего лишнего: платишь свои пятнадцать долларов в час – и спустя пару минут ты уже посреди холодного, чистого Залива.
Сегодня Мэй свернула с шоссе, доехала до пляжа, и ей предстал безмятежный водный глянец.
– Приветик, – раздался голос.
Мэй обернулась и увидела пожилую женщину – ноги колесом, волосы кудряшками; Мэрион, владелица «Дебютного выхода». Дебютанткой тут была Мэрион – вот уже пятнадцать лет, с тех пор как открыла бизнес, разбогатев на продаже канцелярских принадлежностей. Об этом она поведала Мэй при первой встрече, рассказывала эту историю всем, полагала, что это забавно – как она сделала деньги, торгуя скрепками, и открыла прокат каяков и падлбордов. Мэй так и не поняла, почему это смешно. Но Мэрион была душевная и всегда любезная, даже когда Мэй просила каяк за пару часов до закрытия, как сейчас.
– На воде сегодня бесподобно, – сказала Мэрион. – Только далеко на заходи.
Она помогла Мэй отволочь каяк по песку и камням на мелководье. Застегнула на ней спасжилет.
– И не нервируй этих, которые в плавучих домах. У тебя глаза как раз на уровне их гостиных, так что не подглядывай. Дать тебе тапочки? – спросила она. – А ветровку? Может покачать.
Мэй отказалась, забралась в каяк босиком, как была – в кардигане и джинсах. И погребла от берега, миновала рыбаков, прибой, падлборды – и очутилась посреди открытого Залива.
Вокруг никого. Она уже который месяц недоумевала, отчего этот водоем так малолюден. Ни одного водного мотоцикла. Редкие рыбаки, ни единого водного лыжника, изредка моторка. Яхты встречаются, но гораздо реже, чем могли бы. Вода, конечно, холодная, но дело не только в этом. Может, в Северной Калифорнии попросту слишком много других занятий? Загадочно, но Мэй не жаловалась. Больше воды достанется ей.
Она погребла в Залив. И вправду закачало, холодная вода окатила ноги. Это было приятно, до того приятно, что Мэй опустила руку, зачерпнула еще, плеснула на лицо и шею. Открыв глаза, впереди, футах в двадцати, увидела тюленя – он взирал на нее, точно невозмутимая собака во дворе, куда она невзначай забрела. Голова у тюленя была круглая, серая и блестела, как отполированный мрамор.
Мэй положила весло на колени, посмотрела, как тюлень смотрит на нее. Глазки – непроглядные черные пуговицы. Мэй не шевелилась, тюлень тоже. Они застыли во взаимном созерцании, и этот миг, растянутый, роскошный, требовал продолжения. Зачем шевелиться?
Налетел ветер, а с ним едкий запах тюленя. Мэй еще в прошлый раз заметила, как сильно пахнут эти звери – смесью тунца с немытой псиной. Лучше находиться с наветренной стороны. Тюлень нырнул, как будто внезапно сконфузился.
Мэй направилась дальше, прочь от берега. Решила добраться до бакена, что краснел у изгиба мыса, далеко в Заливе. В один конец – где-то полчаса, по пути ей встретятся десятки барж и яхт на якоре. Многие переоборудованы в какое-нибудь жилье, и Мэй понимала, что в иллюминаторы заглядывать не след, но не могла удержаться: на борту скрывались тайны. Почему на этой барже мотоцикл? Почему на той яхте конфедератский флаг? Вдалеке нарезал круги гидросамолет.
В спину подул ветер – он промчал Мэй мимо красного бакена, подтолкнул к дальнему берегу. Высаживаться она не собиралась, никогда не переплывала Залив, но берег вскоре показался, стремительно надвинулся, и под мельчающей водой уже различался взморник.
Она выпрыгнула из каяка – ступня нащупала камни, гладкие и округлые. Когда Мэй выволакивала каяк, на ноги накатил Залив. Не волна – просто разом поднялся уровень воды. Только что стояла на сухом берегу, а спустя миг вода плещется по голень, и Мэй вся мокрая.
Отступив, вода оставила по себе широкую полосу прихотливых, причудливых водорослей – синих, зеленых, а при некоем освещении радужных. Мэй сгребла их ладонями – гладкие, как будто резиновые, по кромке взлохмаченные. Ноги промокли, вода холодна, как снег, но Мэй это не смущало. Она села, подобрала палочку и принялась рисовать на каменистом пляже, щелкая галькой. Крошечные крабики, раскопанные и раздосадованные, кинулись искать новые укрытия. На выбеленное сухое дерево, что, лениво указуя в небо, диагонально торчало из стальной воды, опустился пеликан.
И тут Мэй разрыдалась. Отец разваливается. Нет, не разваливается. Он все это переносит с невероятным достоинством. Но утром была в нем невыносимая усталость, поражение, смирение, будто он понимал: он не сможет разом бороться с тем, что творится с его телом, и с конторами, которые его лечат. И Мэй ничем не может помочь. Нет, способов завались. Можно бросить работу. Бросить работу, сесть на телефон, бесконечно воевать за его здоровье. Так поступила бы хорошая дочь. Так поступил бы хороший ребенок, единственный ребенок. Хороший единственный ребенок следующие года три, а то и пять, последние годы отцовой подвижности, последние годы до его инвалидности, провел бы с отцом, помогал бы ему, помогал матери, встроился бы в семейную машину. Однако Мэй понимала, что родители ей не позволят. Ничего подобного не допустят. Она так и застрянет между работой, которая нужна и любима, и родителями, которым она не в силах помочь.
Но выплакаться приятно – чтобы плечи тряслись, чтоб горячие слезы по щекам, младенческая соль на губах, вытирать сопли изнанкой рубашки. Доплакав, она столкнула каяк в воду и в бодром темпе погребла. Посреди Залива остановилась. Слезы высохли, дыхание выровнялось. Мэй успокоилась, силы вернулись, но она не свернула к красному бакену – он ее больше не интересовал; она сидела, положив весло на колени, и волны легонько раскачивали ее, а солнце согревало руки и ноги. Мэй часто так делала, удалившись от берега, – застывала, под собой ощущая океанскую громаду. В этом районе Залива встречались куньи акулы, и орляковые скаты, и медузы, а порой и морские свиньи, но Мэй их не видела. Они таились во тьме вод, в своей черной параллельной вселенной, и в эту минуту так оно и было правильно – знать, что они есть, но не знать, где именно, вообще ничего больше о них не знать. В дальней дали распахивалось устье Залива – Мэй разглядела гигантский контейнеровоз, что уходил в открытый океан сквозь полосу бледного тумана. Надо бы грести дальше, но какой смысл? Нет причин двигаться. Она здесь, посреди Залива, где нечего делать и не на что смотреть, – и этого более чем достаточно. Тихонько дрейфуя, Мэй провела там почти час. Временами до нее вновь доносился запах тунца и псины, и, озираясь, она снова видела любознательного тюленя, и они глядели друг на друга, и она размышляла, понимает ли тюлень, как это прекрасно, как им повезло, что все здесь принадлежит им одним.
Под вечер поднялся ветер с Тихого океана, и возвращение на берег выдалось не из легких. Когда Мэй добралась до дома, руки-ноги налились свинцом, голова не соображала. Мэй нарезала себе салат и съела полпакета чипсов, глядя в окно. Легла в восемь и проспала одиннадцать часов.
Утро было суетное – Дэн так и предупреждал. В восемь он собрал около сотни сотрудников Чувств Клиента и напомнил, что открытие канала в понедельник – дело рискованное. Все клиенты, приславшие запрос в выходные, непременно ожидают ответа в понедельник с утра.
Дэн не ошибся. Канал открылся, обрушился потоп, и Мэй сражалась с течением до одиннадцати, а потом наступила некоторая передышка. Мэй обработала сорок девять запросов, и ее рейтинг составлял 91 – ниже еще не бывало.
«Не переживай, – написал Джаред. – По понедельникам обычное дело. Разошли опросников побольше».
Мэй рассылала опросники все утро, но результаты выходили не фонтан. Клиенты были сварливы. Единственная добрая весть поступила через интранет – написал Фрэнсис, позвал Мэй пообедать. Формально ей и другим сотрудникам ЧК на обед выделяли час, но Мэй замечала, что дольше двадцати минут за столами никто не отсутствовал. Себе она выделила столько же, хотя в голове гремели слова матери, уподоблявшей обед монументальному нарушению обязательств.
К «Стеклянной кормушке» она припозднилась. Посмотрела вокруг, затем вверх и наконец разглядела Фрэнсиса несколькими этажами выше – он сидел, болтая ногами, на барном стуле из оргстекла. Мэй помахала, но он не заметил. Мэй окликнула его по возможности ненавязчиво – не помогло. Смущаясь – ну что за ерунда? – она отправила ему CMC, и у нее на глазах он прочел, заозирался, отыскал ее и помахал.
Мэй выстояла в очереди, добыла себе вегетарианский буррито и какую-то новомодную органическую газировку и подсела к Фрэнсису. Он был в мятой, но чистой рубашке и штанах-карго. Насест его располагался над открытым бассейном, где народ играл в некое подобие волейбола.
– Так себе спортсмены, – отметил Фрэнсис.
– Да уж, – согласилась Мэй. Он наблюдал за хаотичным плесканием внизу, а она сопоставляла его лицо с тем, что запомнила по первому вечеру в «Сфере». Те же густые брови, тот же выдающийся нос. Но Фрэнсис как будто съежился. Руки его, ножом и вилкой расчленявшие буррито надвое, были необычайно тонки.
– Прямо извращение какое-то, – сказал он. – Столько спортивных снарядов, и ни у кого ни капли способностей. Все равно что поселить луддитов в НИОКРе. – Он наконец повернулся к Мэй: – Спасибо, что пришла. Я все думал, увидимся ли еще.
– Ну да. Работы выше крыши.
Он кивнул на свою тарелку:
– Пришлось начать без тебя. Извини. Честно говоря, я не очень верил, что ты придешь.
– Прости, что опоздала.
– Да нет, все понятно, уверяю тебя. Понедельничный поток, надо разбираться. Клиенты ждут. Обед тут несколько вторичен.
– Я хотела сказать: мне неловко, как мы расстались тогда. Извини, что Энни с тобой так.
– А вы правда целовались? Я хотел найти, откуда посмотреть, но…
– Нет.
– Я подумал, если залезть на дерево…
– Нет. Нет. Это просто Энни. Она идиотка.
– Она идиотка и притом входит в тот один процент компании, который всем рулит. Мне бы такой идиотизм.
– Ты рассказывал, как был маленький.
– Уй блин. Давай на вино спишем?
– Ты не обязан ничего говорить.
Мэй мучилась, уже зная то, что знала, и надеялась, что он расскажет сам; тогда можно будет стереть предыдущую, из вторых рук полученную версию и поверх нее записать его собственную.
– Да ничего, – сказал он. – Познакомился с кучей занимательных взрослых, которым правительство платило за заботу обо мне. Чудо что такое. У тебя сколько времени – минут десять?
– До часу дня.
– Хорошо. Восемь минут, значит. Ешь. А я поговорю. Только не про детство. Про детство ты уже знаешь. Надо думать, кровавые подробности Энни изложила. Она любит пересказывать эту историю.
В общем, Мэй старалась побыстрее доесть, а Фрэнсис рассказывал ей про фильм, который накануне видел в кинотеатре кампуса. Режиссер сама вела показ и потом отвечала на вопросы.
– В фильме женщина убивает мужа и детей, а во время обсуждения выяснилось, что режиссер давно воюет с бывшим мужем за опеку над детьми. И мы такие переглядываемся, думаем: тетка на экране со своими демонами разбиралась или что?
Мэй засмеялась, но умолкла, вспомнив про его ужасное детство.
– Нормально, – сказал он, мигом поняв, отчего она осеклась. – Ты, пожалуйста, на цыпочках вокруг меня не ходи. Это все случилось давно, а если б мне было некомфортно, я бы не работал над «Детиктивом».
– Все равно. Прости. Я никогда не понимаю, что сказать. Но проект развивается? Вы уже скоро?..
– Ты так теряешься! Мне нравится, – сказал Фрэнсис.
– Тебе нравится, когда женщина теряется?
– Особенно при мне. Я хочу, чтоб ты стояла на цыпочках, растерянная, запуганная, в наручниках и готовая простереться ниц по моему слову.
Мэй хотела засмеяться, но почему-то не смогла.
Фрэнсис уставился в свою тарелку.
– Блин. Всякий раз, когда мой мозг аккуратно паркует машину у обочины, мой язык на полном ходу вламывается в гараж, срывая ворота с петель. Извини, пожалуйста. Я над этим работаю, честное слово.
– Нормально. Расскажи про…
– «Детиктив». – Он поднял голову. – Тебе правда интересно?
– Правда.
– Потому что если я начну, твой понедельничный потоп в сравнении будет как подтекающий кран.
– У нас пять с половиной минут.
– Ладно. Помнишь, в Дании пытались внедрять имплантаты?
Мэй покачала головой. Она смутно припоминала ужасное похищение и убийство ребенка…
Фрэнсис глянул на часы, будто сообразил, что объяснения про Данию отнимут у него лишнюю минуту. Вздохнул и приступил:
– Короче, пару лет назад датские власти запустили такую программу, имплантировали детям чипы в запястье. Простая процедура, отнимает две секунды, противопоказаний никаких, все тут же работает. Любой родитель знает, где сейчас его ребенок. Ограничили возраст четырнадцатью годами, и поначалу все было ничего. Судебные иски отклонены, потому что мало кто возражает, результаты опросов зашкаливают. Родители счастливы. Натурально счастливы. Это же дети, мы же что угодно сделаем, только бы с ними все было хорошо, да?
Мэй кивнула, но вдруг вспомнила, что история эта закончилась ужасно.
– И однажды семеро детей пропадают. Полиция и родители думают: ладно, в чем проблема? Мы же знаем, где они. Отслеживают чипы, но когда приезжают – а все семь чипов обнаружены на какой-то стоянке, – находят там эти чипы в бумажном пакете, все в крови. Только чипы.
– Я вспомнила. – Мэй стало нехорошо.
– Тела находят спустя неделю, и к тому времени вся страна в панике. У всех едет крыша. Все считают, что чипы – причина и похищения, и убийства, что чипы спровоцировали похитителя, что из-за чипов задача показалась ему еще соблазнительнее.
– Это был кошмар. И конец чипам.
– Да, но логика-то кривая. Особенно здесь. Сколько у нас тут, двенадцать тысяч похищений в год? А сколько убийств? Там проблема была в том, что чипы вживляли неглубоко. Разрезал запястье и вынул, если надо. Слишком просто. А наши эксперименты… Сабину знаешь?
– Знаю.
– Ну вот, она у нас в команде. Она тебе не расскажет – она что-то еще похожее делает, о чем нельзя рассказывать. Но для нас она придумала способ вживлять чип в кость. И в этом вся разница.
– Ой блин. В какую кость?
– Да не важно, по-моему. Ты гримасничаешь.
Мэй подстроила лицо, чтоб получилось нейтральное.
– Ну, безумие, конечно. Кое-кто психует, что у нас чипы в головах, в теле, но технически эта фигня не сложнее карманной рации. Чипы ничего не делают – только сообщают, где носитель. И они уже повсюду. В каждом втором товаре. Покупаешь стереосистему – там чип. Покупаешь машину – там этих чипов целая куча. Некоторые компании в пищевую упаковку их вставляют, чтобы продукты попадали на рынок свежими. Простое следящее устройство. А если вживить его в кость, он никуда не денется, и невооруженным глазом его не увидишь – в отличие от тех, что в запястье.
Мэй отложила буррито.
– Правда в кость?
– Мэй, представь себе мир, где больше не будет серьезных преступлений против детей. Где это невозможно. Девочка оказалась там, где ей быть не положено, – все, в ту же секунду тревога, и ее тотчас находят. И найти ее могут все. Все органы тут же понимают, что она пропала, но точно знают, где она. Могут позвонить маме и сказать: «Да она в торговый центр зарулила» – или могут педофила отыскать за какие-то секунды. У похитителя одна надежда – сбежать с ребенком в лес, сделать там с ней что-нибудь и убежать, пока вся планета не бросилась в погоню. Но в запасе у него минуты полторы.
– Можно еще сигнал с чипа глушить.
– Можно, но у кого хватит знаний? Много ли на свете педофилов со степенью по электронике? Я думаю, очень мало. Ну и мы все похищения детей, изнасилования, убийства одним махом сокращаем на 99 процентов. И ради этого у детей будут чипы в щиколотках. Вот ты что предпочтешь? Живого ребенка с чипом в щиколотке, ребенка, который снова растет в безопасности, может бегать в парк, на велосипеде ездить в школу и все такое?
– Ты сейчас скажешь: «Или?..»
– Ну да – или ты предпочтешь мертвого ребенка? Или годами психовать, едва ребенок пошел на автобусную остановку? Мы же опрашивали родителей по всему миру, они сначала брезгливо морщатся, а как перестают – 88 процентов одобряют. Едва до них доходит, что все это возможно, они давай на нас орать – мол, почему нельзя сейчас же? Когда вы это выпустите? Для молодежи настанет новый золотой век, я вот о чем. Бестревожная эпоха. Блин. Ты опоздала. Гляди.
Он показал на часы. 13:02.
Мэй вскочила и побежала.
После обеда работа накатила беспощадно, а средний рейтинг едва дотягивал до 93. Ближе к вечеру Мэй вымоталась, а когда взглянула на второй экран, обнаружила сообщение от Дэна: «Есть минутка? Джина из СоцСферы хотела переговорить».
Она ответила: «Через 15 минут, ага? Мне еще опросники выслать, и я не успеваю пописать с полудня». Что было правдой. Она три часа не вставала из-за стола, а кроме того, может, удастся поднять рейтинг выше 93. Наверняка Дэн назначил ей встречу с Джиной из-за низкого среднего показателя.
Дэн только и ответил: «Спасибо, Мэй», и эти слова она вертела в голове по пути в туалет. За что он ее благодарил – за то, что придет через пятнадцать минут, или – мрачно – за лишние гигиенические подробности?
Возле туалета Мэй увидела какого-то человека в тесных зеленых джинсах и свитерке в обтяжку. Человек стоял в коридоре под высоким узким окном, глядя в свой телефон. Его осияло сине-белое свечение; он как будто ждал от экрана распоряжений.
Мэй вошла в туалет.
Когда вышла, человек все стоял, но теперь глядел в окно.
– Потерялся? – предположила Мэй.
– Не. Надо обдумать кое-что, а потом уже – ну, наверх. Работаешь тут?
– Ага. Я новенькая. В ЧК.
– ЧК?
– Чувства Клиента.
– А, ну да. Мы это называли просто «обслуживание клиентов».
– То есть ты не новенький?
– Я? Да нет. Я тут некоторое время уже. Но в этом корпусе не особо. – Он улыбнулся и посмотрел в окно, и тогда Мэй вгляделась пристальнее. Темные глаза, овальное лицо, волосы седые, почти белые, хотя он едва ли старше тридцати. Худой, жилистый, а в узких джинсах и обтягивающем свитере его силуэт будто каллиграфически начертали пером, нажим-волосная.
Он снова обернулся, заморгал, фыркнул – мол, надо же, какой я невоспитанный.
– Извини. Я Кальден.
– Кальден?
– Тибетское имя, – пояснил он. – Золотое что-то там. Родители всегда мечтали съездить в Тибет, но дальше Гонконга не забрались. А тебя как зовут?
– Мэй, – сказала она, и они пожали друг другу руки.
Рукопожатие у него было крепкое, но небрежное. Видимо, его научили пожимать руки, но он так и не понял, зачем это.
– Значит, ты не потерялся, – сказала она, сообразив, что ей бы надо на рабочее место; один раз она сегодня уже опоздала.
Кальден это уловил.
– Ой. Тебе пора. Можно проводить? Посмотреть, где работаешь?
– Э, – сказала Мэй, сильно занервничав. – Давай.
Будь она параноиком и не заметь она шнурка от беджа у него на шее, решила бы, что Кальден, с этим его настойчивым, но неконкретным любопытством, то ли нечаянный гость с улицы, то ли корпоративный шпион. Но что она знает? В «Сфере» проработала неделю. Может, это проверка. Или просто очередной эксцентричный сфероид.
Мэй привела его к своему столу.
– Чисто у тебя, – сказал он.
– Да уж. Я недавно пришла, говорю же.
– Насколько я знаю, кое-кто из Волхвов любит, чтоб у сфероидов на столах был порядок. Ты их тут видела?
– Кого? Волхвов? – фыркнула Мэй. – Здесь нет. Пока, во всяком случае.
– Да, логично, – сказал Кальден и сел на корточки. Его голова оказалась вровень с ее плечом. – Можно посмотреть, чем ты занимаешься?
– Как я работаю?
– Ага. Можно глянуть? Если тебя это не смутит.
Мэй замялась. До сих пор все и всё в «Сфере» подчинялось логичному шаблону, ритму, но этот Кальден – аномалия. У него другой ритм, атональный и странный, но не противный. Такое открытое лицо, глаза текучи, нежны, бесхитростны, говорит тихо – угроза крайне маловероятна.
– Да. Наверное, – сказала она. – Только это не очень интересно.
– Ну а вдруг?
И он стал смотреть, как Мэй отвечает на запросы. После каждой рутинной задачи она оборачивалась, и экран ярко плясал у него в глазах, а в лице читался восторг, будто он в жизни своей не видал ничего увлекательнее. Впрочем, бывало и по-другому – она оборачивалась, а он словно отстранялся, видя то, что для нее оставалось незримо. Он глядел в экран, но глаза различали бездну.
Она работала, а он порой задавал вопросы: «А это кто?», «Часто такое бывает?», «Почему ты так ответила?»
Он был совсем близко, нормальные люди с общепринятыми понятиями о личном пространстве так не придвигаются, но совершенно очевидно, что он не из таких, не из нормальных. Он глядел в экран, а порой на пальцы Мэй, и его подбородок все приближался к ее плечу, и она слышала легкое дыхание, и его запах, простенький – мыло и банановый шампунь, налетал крошечными выдохами. Все это было так дико, что Мэй беспрестанно нервно посмеивалась, не зная, что еще делать. А потом все закончилось. Он откашлялся и встал.
– Ну, я, пожалуй, пойду, – сказал он. – Я тихонько. Не хочу тебя отвлекать. Наверняка в кампусе увидимся.
И исчез.
Не успела Мэй расшифровать, что произошло, рядом возникло новое лицо.
– Привет. Я Джина. Дэн предупреждал, что я зайду?
Мэй кивнула, хотя ничего такого не помнила. Вгляделась, надеясь вспомнить хоть что-нибудь про Джину и эту встречу. Джина была на пару-тройку лет старше, глаза – черные, густо подведенные, ресницы лунной голубизны – улыбнулись, однако Мэй не уловила в них теплоты – впрочем, Джина вообще теплоты не излучала.
– Дэн сказал, сейчас подходящий момент настроить тебе соцсети. Найдется время?
– Конечно, – сказала Мэй, хотя у нее не было ни минуты.
– Я так понимаю, на той неделе ты была занята и свой аккаунт в нашей соцсети не настроила? И старый профиль не импортировала?
Вот черт, подумала Мэй.
– Прости. Я загружена по самое не могу.
Джина нахмурилась.
Мэй сыграла ретираду, свой просчет замаскировала смешком:
– Нет, я в хорошем смысле! Но на всё, что сверх программы, времени не было.
Джина склонила голову и театрально кашлянула.
– Интересно, что ты так выразилась, – улыбнулась она, хотя довольна явно не осталась. – Вообще-то мы считаем, что твой аккаунт и твоя активность в соцсетях – неотъемлемая составляющая твоего участия в работе компании. Так коллеги, даже те, что сидят на другом конце кампуса, узнают, кто ты. Общение – это ведь не сверх программы, не так ли?
Мэй смутилась:
– Ну да. Само собой.
– Зайти на страницы коллеги и что-то написать на стене – это позитивно. Это общественно-полезно. Это поддержание связей. И разумеется, не нужно тебе напоминать, что наша компания существует благодаря соцмедиа, которые ты полагаешь «сверх программы». Ты ведь и до прихода к нам использовала наши соцмедийные инструменты?
Непонятно, какими словами ублажить теперь эту Джину. Мэй была очень занята на работе, не хотела создавать впечатления, будто отвлекается, и отложила реактивацию своего соцпрофиля.
– Извини, – выдавила она она. – Я не говорю, что это сверх программы. Вообще-то я считаю, что это ключ ко всему. Просто я еще не совсем акклиматизировалась на работе и хотела сосредоточиться на новых обязанностях.
Но Джина оседлала своего конька и не собиралась замолкать, пока не закончит мысль:
– Ты ведь сознаешь, что «общение» и «сообщество» – однокоренные слова? Все это коммуникации, от communis, что на латыни означает общее, публичное, разделяемое всеми либо многими.
У Мэй колотилось сердце.
– Джина, мне ужасно стыдно. Я добивалась, чтоб меня сюда взяли. Я все это знаю. Я здесь, потому что во все это верю. Просто неделя была безумная, и я не успела все настроить.
– Ладно. Только впредь помни, что социальная активность, присутствие на своей странице и во всех связанных с нею аккаунтах, – это тоже твое участие в компании. Мы считаем, твоя жизнь онлайн – неотъемлемая составляющая твоей работы у нас. Тут все связано.
– Я понимаю. Еще раз: мне очень неловко, что я невнятно описала свою позицию.
– Хорошо. Давай все настроим. – Джина перегнулась через перегородку и выволокла третий монитор, больше второго; поставила его и быстро подключила. – Так. Значит, второй монитор остается – там ты общаешься со своей командой. Это все только по Чувствам Клиента. Третий монитор – для социальной активности, в Сфере компании и в более широкой Сфере. Разумно?
– Разумно.
Мэй смотрела, как Джина включает монитор; накатил восторг. Мэй в жизни не работала с такими сложными системами. Три монитора для сотрудника в самом низу! Возможно только в «Сфере».
– Сначала вернемся ко второму монитору, – сказала Джина. – По-моему, ты не активировала «Сферический поиск». Давай-ка активируем. – Возникла подробная трехмерная карта кампуса. – Тут все довольно просто, позволяет найти в кампусе кого угодно, если хочешь поговорить вживую.
Джина ткнула в пульсирующую красную точку:
– Это ты. Вся красная. Шучу. – Вероятно, сообразив, что замечание вышло неловкое, Джина торопливо продолжила: – Ты вроде знаешь Энни? Давай ее вобьем. – На «Диком Западе» появилась синяя точка. – Она у себя в офисе, какой сюрприз. Энни – машина.
Мэй улыбнулась:
– Да уж.
– Ты с ней близко знакома – я прямо завидую, – сказала Джина с улыбкой – впрочем, краткой и неубедительной. – А вот здесь будет крутое новое приложение, как бы такая история корпуса день за днем. Видно, когда кто вошел, когда ушел. Так мы понимаем, что творится в компании. Это все тебе, конечно, самой апдейтить не надо. Идешь в бассейн – твой идентификатор сам апдейтит ленту. А в остальном любые комментарии – на твое усмотрение. Мы это, конечно, очень приветствуем.
– Комментарии? – переспросила Мэй.
– Ну, типа, как тебе понравился обед, новый тренажер в спортзале, что угодно. Просто рейтинги, лайки и комменты. Ничего особенного, а любой вклад позволяет нам лучше обслуживать сообщество. Комментарии пишутся здесь, – и Джина показала, что на любое здание и любой офис можно кликнуть, а внутри добавить комментарии о чем и о ком угодно. – Значит, это у тебя на втором мониторе. Коллеги, команда и поиск людей в физическом пространстве. А теперь – дискотека. Третий монитор. Там твои ленты в соцсетях и в «Кваке». Ты, я так понимаю, «Кваком» не пользуешься?
Мэй признала, что не пользуется, но хочет начать.
– Это хорошо, – сказала Джина. – Теперь у тебя есть учетка в «Кваке». Я тебе имя придумала: МэйЯ. Как индейцы. Крутое, да?
Мэй усомнилась, что это крутое имя, и насчет индейцев тоже не была уверена.
– И я подписала твой аккаунт на все сообщество «Сферы», так что с сегодняшнего дня у тебя 10 041 подписчик! Довольно круто. Что касается твоих кваков, мы ожидаем штук десять в день, но это как бы минимум.
Наверняка тебе найдется что сказать. А, и вот твой плейлист. Если ты на работе слушаешь музыку, плейлист автоматически рассылается твоим подписчикам и включается в коллективный плейлист, а там рейтинги – самые популярные композиции дня, недели, месяца. Есть самая популярная сотня, но можно сортировать как хочешь – самый популярный хип-хоп, инди, кантри, как угодно. Тебе будут приходить рекомендации на основе того, что слушаешь ты и другие с похожими вкусами, – такое перекрестное опыление. Разумно?
Мэй кивнула.
– Дальше. В соседнем окне – твоя основная соцлента. Как видишь, мы ее поделили – твоя внутренняя лента, «ТропоСфера», и твоя внешняя лента – это «СтратоСфера». Красиво, да? Можешь их слить, но, по нашему опыту, удобнее отдельно. Хотя твоя «СтратоСфера» все равно в «Сфере», да? Как и все прочее. Пока разумно?
Мэй согласилась, что пока разумно.
– Вообще-то это невероятно – ты уже неделю здесь, а основную ленту не читала. Сейчас будет землетрясение, готовься. – Джина постучала по экрану, и лента «Тропосферы» превратилась в бурную реку – на экран потекли посты. – Видишь, все пропущенное за неделю тоже тут. Поэтому столько. Ух ты, много пропустила.
Мэй следила за счетчиком внизу – число сообщений, отправленных ей остальными сфероидами. Счетчик помедлил на 1 200. Затем на 4 400. Число росло, иногда замирая, но в конце концов успокоилось на 8 276.
– Это за последнюю неделю? Восемь тысяч?
– Нагонишь, – бодро утешила Джина. – Может, прямо сегодня. Теперь открываем твой обычный социальный аккаунт. Это внешняя лента, мы ее называем «СтратоСфера», но профиль тот же и та же лента, что всю дорогу у тебя была. Я открою, ты не против?
Мэй против не была. Она посмотрела, как на третьем экране, рядом с лентой «ТропоСферы», появился ее профиль, настроенный много лет назад. Монитор буквально затопили каскады сообщений и фотографий – несколько сотен.
– Так, здесь тебе тоже придется наверстывать, – сказала Джина. – Какой пир! Развлекайся.
– Спасибо, – сказала Мэй, постаравшись изобразить воодушевление. Нужно понравиться Джине.
– Ой, погоди. Еще кое-что. Иерархия сообщений. Блин. Чуть не забыла про иерархию. Дэн меня бы убил. Значит, ЧК на первом мониторе первостепенны, это ты знаешь. Мы обслуживаем клиентов, и они получают наше безраздельное внимание и все наше сердце без остатка. Это понятно.
– Понятно.
– На втором мониторе тебе приходят сообщения от Дэна, Джареда, Энни, от всех, кто непосредственно контролирует твою работу. Эти сообщения диктуют текущее качество твоих услуг. Так что это твой второй приоритет. Ясно?
– Ясно.
– Третий монитор – твои соцмедиа, «ТропоСфера» и «СтратоСфера». Но они тоже, типа, не лишние. Они не менее важны, чем все прочее, но у них третий приоритет. И порой там бывают срочные сообщения. Особенно следи за «ТропоСферой» – там пишут о совещаниях сотрудников и обязательных собраниях, плюс свежие новости. Если что-то очень насущное по «Сфере», оно помечено оранжевым. Суперсрочное прилетит тебе на телефон. Он у тебя на виду?
Мэй указала головой на стол – телефон лежал под мониторами.
– Хорошо, – сказала Джина. – Значит, приоритеты такие, а четвертый приоритет – присутствие в «Стратосфере». Что не менее важно, поскольку мы ценим баланс работы и жизни, то есть соотношение твоей онлайновой жизни в компании и вне ее. Надеюсь, это ясно. Ясно?
– Ясно.
– Хорошо. На этом все. Вопросы?
Мэй сказала, что вопросов нет.
Джина скептически склонила голову набок – мол, она понимает, что у Мэй полно вопросов, но та не хочет их задавать, чтоб не выставиться тупицей. Затем Джина встала, улыбнулась, шагнула от стола, но остановилась.
– Блин. Еще забыла.
Она присела на корточки возле Мэй, что-то напечатала, и на третьем мониторе появилось число, вроде ее сводного рейтинга в ЧК. Значилось там следующее: «Мэй Холланд – 10 028».
– Это твой Градус Интереса, сокращенно ИнтеГра. Некоторые называют его Градус Популярности, но это не то. Это просто число, автоматически сгенеренное с учетом всей твоей активности в «ТропоСфере». Разумно?
– Ну, видимо.
– Учитывает кваки, внешних подписчиков на внутренние кваки, чужие комменты к твоим квакам, твои комменты к чужим, твои комменты к профилям других сфероидов, твои фотографии, участие в ивентах «Сферы», твои комменты и фотки с ивентов – по сути, оно аккумулирует и славит все, что ты тут делаешь. Разумеется, у самых активных сфероидов самый высокий рейтинг. У тебя, как видишь, рейтинг низкий, но это потому что ты новенькая и мы только сейчас запустили твои ленты. Каждый раз, когда ты постишь, комментируешь или ходишь на ивент, это учитывается и твой рейтинг меняется. И тут начинается веселье. Постишь – рейтинг растет. Сколько-то народу лайкнуло твой пост – рейтинг взлетает. Поминутно меняется. Круто?
– Очень, – сказала Мэй.
– Мы тебе дали фору – иначе у тебя было бы 10 042. И опять же, это все развлекухи ради. Тебя не судят по ИнтеГра, ничего такого. Конечно, кое-кто относится к нему очень серьезно, а мы любим, когда люди проявляют интерес, но на самом деле рейтинг – просто веселый способ посмотреть, какова степень твоего участия на фоне сообщества «Сферы» в целом. Ага?
– Ага.
– Ну ага. Ты знаешь, как со мной связаться.
И с этими словами Джина ушла.
Мэй открыла внутреннюю ленту компании и приступила. За ночь она намеревалась одолеть «ТропоСферу» и «СтратоСферу» целиком. Обнаружила ежедневное меню, ежедневный прогноз погоды, ежедневные афоризмы – на прошлой неделе авторства Мартина Лютера Кинга, Ганди, Солка, матери Терезы и Стива Джобса. Объявления о гостях кампуса: агентство защиты бездомных животных, сенатор штата, конгрессмен из Теннесси, директор «Врачей без границ». С уколом сожаления Мэй узнала, что как раз сегодня утром пропустила визит нобелевского лауреата Мухаммада Юнуса.[16] Она тралила все подряд, выискивая посты, на которые разумно ожидать реакции лично от нее. Нашлись опросы, минимум полсотни, – выяснялось мнение сфероидов по разным аспектам внутренней политики компании: оптимальные даты будущих совещаний, группы по интересам, праздники и каникулы. Десятки клубов зазывали членов и уведомляли о собраниях: группы кошатников – минимум десять, несколько кроличьих, шесть рептильных, из которых четыре категорически выступали против змей. Больше всего было собачников. Мэй насчитала двадцать две – наверняка не все. В группе «Счастливые собачки» общались владельцы очень маленьких собачек – модераторы желали выяснить, сколько народу присоединится к клубу выходного дня: прогулки, поездки, поддержка; «Счастливых собачек» Мэй проигнорировала. Затем, сообразив, что тогда они пришлют второе сообщение, еще срочнее, она набила коммент – объяснила, что собаки у нее нет. Ее попросили подписать петицию о расширении веганского обеденного меню; она подписала. В девяти сообщениях из разных рабочих групп ей предложили вступить в под-Сферы, чтобы получать апдейты и свежую информацию. Для начала она вступила в подСферы, посвященные вязанию крючком, футболу и Хичкоку.
Нашлась сотня родительских групп – родители первенцев, разведенные родители, родители аутистов, усыновители гватемальских детей, эфиопских детей, русских детей. Семь импровизационных комедийных трупп, девять команд по плаванию – в среду был чемпионат среди сотрудников, участвовали сотни пловцов, и еще сотня сообщений, кто выиграл, какой-то глюк с подведением итогов, а теперь в кампус приедет третейский судья и разрулит все вопросы и претензии. Гости «Сферы» – минимум десяток в день, представители компаний, презентующих новые инновационные продукты. Новые топливосберегающие автомобили. Новые «этичные» кроссовки. Новые теннисные ракетки местного производства. Совещания всех мыслимых отделов – НИОКР, поиск, соцмедиа, соцпрограммы, профессиональный нетворкинг, благотворительность, рекламные продажи, и – под ложечкой екнуло – Мэй пропустила собрание для нубов, заявленное как «довольно-таки обязательное». Собрание было в четверг. Почему ее никто не предупредил? «Дура, – ответила она сама себе. – Тебя предупреждали. Вот же предупреждение».
– Твою мать, – сказала она.
К десяти вечера она одолела все внутренние сообщения и объявления и перешла к своему аккаунту в «Стратосфере». Она не заходила туда шесть дней, и только за сегодня накопилось 118 новых постов. Она решила перечитать все, сначала новые, потом старые. Одна ее подруга по колледжу только что вывесила пост – сообщила, что у нее желудочный грипп, и комменты растянулись долгой лентой, друзья рекомендовали лекарства, кто-то сочувствовал, кто-то вешал фотки, чтоб повеселить больную. Мэй лайкнула две фотки и три комментария, сама пожелала подруге выздоровления, а потом отыскала и повесила ссылку на песню «Блюющая Салли». Это открыло новую ветку – 54 сообщения – о песне и группе, которая ее написала. Один из друзей сказал, что знает басиста, а потом затянул его в разговор. Басист Дэмиэн Гилотти жил в Новой Зеландии, работал звукорежиссером, но возрадовался, что «Блюющая Салли» по сей день находит отклик в сердцах гриппующих. От его коммента все участники пришли в возбуждение, появилось еще 129 комментариев – все были счастливы, что к ним пришел настоящий басист, и к концу обсуждения Дэмиэна Гилотти пригласили, если ему охота, сыграть на свадьбе, навестить Боулдер, Бат, Гейнсвилл или Сент-Чарльз, штат Иллинойс – вдруг ему окажется по пути, – а также пообещали там жилье и домашнюю еду. При упоминании Сент-Чарльза некто спросил, не слыхал ли кто из местных о Тиме Дженкинсе, который воевал в Афганистане; где-то писали про иллинойского пацана, которого застрелил переодетый полицейским афганский повстанец. Спустя еще шестьдесят сообщений участники разобрались и выяснили, что это другой Тим Дженкинс, тоже из Иллинойса, но из Рэнтула, а не из Сент-Чарльза. Все хором вздохнули с облегчением, но тут в дискуссию сбежалась куча народу, пожелавшего обсудить пользу от этой войны, эффективность внешней политики США в целом, выиграли или проиграли мы во Вьетнаме, в Гренаде и даже в Первой мировой войне, способность афганцев к самоуправлению, опиумную торговлю как источник финансирования повстанцев и возможность легализации каких-нибудь или всех незаконных наркотических веществ в Америке и Европе. Кто-то упомянул, что марихуана полезна от глаукомы, кто-то еще сказал, что она пригождается и тем, у кого рассеянный склероз, последовала бурная дискуссия между тремя людьми, чьи родственники страдали рассеянным склерозом, Мэй почувствовала, как внутри распахнула крылья тьма, и разлогинилась.
Глаза закрывались сами собой. Мэй одолела лишь три дня своей социальной жизни, но сейчас все вырубила и пошла на стоянку.
Поток запросов с утра во вторник был полегче, но первые три часа ее держал у стола третий монитор. До его появления между ответом на запрос и мгновением, когда выяснялось, удовлетворил ли клиента ответ, была пауза, секунд десять или двенадцать; Мэй в это время заучивала шаблоны, рассылала опросники и поглядывала на телефон. Теперь задача усложнилась. В ленте «ТропоСферы» каждые несколько секунд появлялось по сорок новых сообщений, в «СтратоСфере» – штук пятнадцать постов и кваков, и все свободное время Мэй торопливо листала ленты, чтобы не пропустить важного, а затем вновь возвращалась к основному монитору.
Ближе к полудню поток слегка унялся, даже стал бодрить. Столько всего происходило в компании, все пропитано такой человечностью, такой доброжелательностью, компания – первопроходец на всех фронтах, и Мэй понимала, что совершенствуется, просто очутившись вблизи других сфероидов. Как в органическом продуктовом с хорошим ассортиментом: едва зашла – уже чувствуешь, что поздоровела; неверный выбор невозможен, потому что все уже одобрено. И в «Сфере» тоже – все избранные, генофонд невероятный, интеллект феноменален. Здесь каждый упрямо и пылко совершенствовал себя, друг друга, делился знаниями, сеял их по миру.
К обеду, впрочем, она выдохлась и очень сильно предвкушала, как отключит кору головного мозга и час просидит на газоне с Энни, которая на том и настаивала.
Однако в 11:50 на втором мониторе появилось сообщение от Дэна: «Пара минут есть?»
Мэй предупредила Энни, что может опоздать; когда она пришла к Дэну, тот подпирал косяк. Сочувственно улыбнулся Мэй, но задрал бровь, словно что-то его озадачивало, что-то в ней было такое, только он не понимал что. Он указал в кабинет, и она проскользнула мимо. Дэн закрыл дверь.
– Садись, Мэй. Ты же знакома с Алистэром?
Она не сразу заметила второго человека в углу, а заметив, поняла, что его не знает. Высокий, под тридцать, темно-песочные волосы с аккуратным завитком на макушке. В округлом кресле он сидел диагонально, худое тело застыло неловко, как деревянный брус. Навстречу Мэй он не поднялся, и она протянула ему руку:
– Очень приятно.
Алистэр вздохнул с бесконечным смирением и подал ей руку так, будто сейчас придется щупать какую-то выброшенную на берег гниль.
Во рту у Мэй пересохло. Творится что-то не то.
Дэн сел.
– Так. Надеюсь, мы все быстро уладим, – сказал он. – Мэй, хочешь начать?
И оба уставились на нее. Дэн глядел невозмутимо, Алистэр – обиженно и выжидательно. Мэй не знала, что сказать, не понимала, что происходит. Томительное молчание затянулось; Алистэр яростно заморгал, едва сдерживая слезы.
– У меня нет слов, – выдавил он.
– Алистэр, перестань, – сказал Дэн. – Мы знаем, что тебе больно, но давай не терять из виду общую картину. – Дэн повернулся к Мэй: – Я скажу самоочевидное. Мэй, мы говорим о португальском бранче Алистэра.
Дэн выдержал паузу, ожидая, что Мэй воспользуется подсказкой, но Мэй не знала, что означают эти слова. Португальский бранч Алистэра? А нельзя признаться, что она не понимает, о чем речь? Конечно, нельзя. Она не успевала смотреть ленту. Видимо, в этом все дело.
– Мне ужасно жаль, – сказала она. Придется тянуть время, пока не выяснится, в чем дело.
– Это хорошее начало, – сказал Дэн. – Правда, Алистэр?
Тот пожал плечами.
Мэй лихорадочно размышляла. Что ей известно? Явно был какой-то бранч. И она туда явно не попала. Бранч устроил Алистэр, и теперь ему обидно. Вполне разумные выводы.
– Я очень жалею, что не пришла, – рискнула она и тотчас прочла в их лицах намек на подтверждение. Угадала, значит. – Но я не знала… – И она шагнула в пропасть: – Я не знала, будут ли мне рады, я же нуб.
Их лица смягчились. Мэй улыбнулась: в яблочко. Дэн покачал головой, довольный, что подтвердилась его гипотеза: Мэй и впрямь по природе своей человек неплохой. Он встал с кресла, обогнул стол, сел на край.
– Мэй, мы не давали понять, что рады тебе? – спросил он.
– Да нет! Ну что ты! Но я ведь не в команде Алистэра, и я не знала, каковы правила – в смысле, могут ли члены моей команды ходить на бранчи к опытным членам других команд.
Дэн кивнул:
– Видишь, Алистэр? Я же говорил, что все легко объяснится.
Алистэр резко выпрямился, словно ожил и вновь обрел дар речи.
– Ну разумеется, тебе рады, – сказал он, игриво похлопав ее по коленке. – Хоть ты и слегка рассеянная.
– Перестань, Алистэр.
– Извините, – сказал он и глубоко вздохнул. – Я успокоился. Я очень счастлив.
Последовали извинения и смешки насчет понимания и недопонимания, коммуникаций, потока, ошибок и устройства вселенной; наконец настало время закрыть тему. Все поднялись.
– Давайте обнимемся, – сказал Дэн. И они обнялись – плотно сцепились в новообретенной общности.
Когда Мэй вернулась за стол, ее ждало сообщение: «Еще раз спасибо, что поговорила со мной и Алистэром. По-моему, вышло очень продуктивно и полезно. Кадры осведомлены. Им, чтобы закрыть дело, обычно требуется наше совместное заявление. Я все напечатал. Если нормально, подпиши на экране и верни мне».
Глюк № 5616ДНД/МРХ/РК2
Дата: понедельник, 11 июня
Участники: Мэй Холланд, Алистэр Найт
Сюжет: Алистэр («Возрождение», команда 9) организовал бранч для всех сотрудников, интересующихся Португалией. Разослал три уведомления, на которые Мэй («Возрождение», команда 6) не ответила. Поскольку от Мэй не поступило ответа, Алистэр встревожился. Когда бранч состоялся, Мэй не пришла, и Алистэр объяснимо огорчился, не понимая, отчего она не ответила на несколько приглашений, а затем не явилась. Неучастие в классическом понимании этого слова.
Сегодня прошла встреча между Дэном, Алистэром и Мэй, где Мэй объяснила, что сомневалась, будут ли ей рады на бранче, если учесть, что его проводит член другой команды, а она сама работает в компании всего вторую неделю. Мэй очень сожалеет, что причинила Алистэру беспокойство и эмоциональный стресс, не говоря о том, что поставила под угрозу хрупкую экологию «Возрождения». Все разъяснилось, Алистэр и Мэй друзья не разлей вода и стали новыми людьми. Все стороны считают, что невредно, более того – необходимо начать с чистого листа.
Внизу была строка для подписи, и Мэй ногтем нарисовала на экране свое имя. Отослала и тотчас получила спасибо от Дэна.
«Просто чудесно, – написал он. – Алистэр, сама понимаешь, несколько тонкокож, но это лишь потому, что он ревностно предан «Сфере». Как и ты, да? Спасибо за прекрасное сотрудничество. Ты замечательная. Вперед!»
Мэй опаздывала и надеялась, что Энни ее дождется. День выдался ясный и теплый, и Мэй отыскала Энни на лужайке – та печатала на планшете, сунув в рот батончик гранолы. Энни сощурилась:
– Эй. Опоздала.
– Прости.
– Ты как?
Мэй скривилась.
– Знаю, знаю. Я следила, – сказала Энни и зачавкала.
– Нельзя так есть. Закрой рот. Следила?
– Просто слушала, пока работала. Они попросили. И я слыхала много хуже. Поначалу у всех пару раз такое случается. Ешь, кстати, поскорее. Хочу тебе кое-что показать.
Две волны почти без паузы накатили на Мэй. Сначала острая неловкость оттого, что Энни слушала без ее ведома, затем – облегчение: подруга была рядом, хоть и удаленно, и теперь утверждает, что Мэй все это переживет.
– А у тебя? – спросила Мэй.
– Что у меня?
– Тебя вот так взяли и вызывали на ковер? Меня до сих пор трясет.
– Конечно. Где-то раз в месяц вызывают. И по сей день. Жуй в темпе.
Мэй торопливо жевала, наблюдая за крокетным матчем на лужайке. Крокетисты, похоже, сами изобрели себе правила. Мэй доела.
– Молодец, теперь вставай, – сказала Энни, и они зашагали к «Завтраграду». – Что такое? У тебя на лице вскочил и воспалился вопрос.
– А ты ходила на этот португальский бранч? Энни фыркнула:
– Я? Нет, с чего бы? Меня не звали.
– А почему позвали меня? Я не подписывалась. Мне эта Португалия на фиг не сдалась.
– У тебя в профиле это ведь есть? Ты же туда как-то моталась?
– Ну да, но в профиле не писала. Я ездила только в Лиссабон. И было это пять лет назад.
Они подошли к корпусу «Завтраграда» – кованый фасад смутно отдавал Турцией. Энни махнула пропуском над панелью в стене, и дверь отворилась.
– Ты там фотографировала? – спросила Энни.
– В Лиссабоне? Конечно.
– И эти фотографии были у тебя в ноуте?
Мэй на секунду задумалась.
– Наверное.
– Так в этом, видимо, и дело. Если они были в ноуте, значит, теперь они в облаке, а облако можно сканировать. Чтоб ты не бегала как подорванная записываться в португальские клубы. Алистэр придумал свой бранч и, наверное, запросил поиск по кампусу – всех, кто бывал в Португалии, снимал там, упоминал Португалию в письмах, как-то так. Получил список, разослал приглашения. Сэкономил примерно часов сто канители. Пришли.
Они остановились в устье длинного коридора. Глаза у Энни озорно сверкнули.
– Так. Хочешь, сюр покажу?
– У меня до сих пор крыша едет.
– И зря. Заходи.
Энни открыла дверь в великолепный зал – какой-то гибрид буфета, музея и торговой выставки.
– Рехнуться, скажи?
Картина была смутно знакомая. Мэй что-то такое видела по телевизору.
– Подарочные наборы? Как для звезд?
Она огляделась. На столах и возвышениях лежали всякие предметы. Только здесь, вместо драгоценностей и туфель, были кроссовки, зубные щетки, десять сортов чипсов, газировки и энергетических батончиков.
Мэй рассмеялась:
– Я так понимаю, это все бесплатно.
– Для тебя, для важных людей, как ты да я.
– Господи боже. Все это?
– Ага, тут у нас бесплатные образцы. Всегда полным-полно всего, и как-то же надо этим пользоваться. Мы сюда приглашаем группы по очереди – то программистов, то вот ЧК. Каждый день новая группа.
– И можно брать что захочешь?
– Ну, надо пропуском махнуть, когда берешь, чтоб было понятно, кто что взял. А то какой-нибудь идиот уволочет все одним махом.
– Я ничего этого еще не видела.
– В магазинах? В магазинах этого еще и нет. Это прототипы и тестовые образцы.
– Это что, настоящие «ливайсы»?
Мэй взяла пару шикарных джинсов – в большом мире таких совершенно точно не существует.
– До выхода на рынок еще несколько месяцев, может, год. Хочешь? Можно попросить другой размер.
– И их можно носить?
– А что с ними делать – жопу подтирать? Само собой, они хотят, чтоб ты их носила. Ты влиятельный человек, сотрудник «Сферы»! Провозвестник стиля, ранний последователь, ля-ля-тополя.
– Это вообще-то мой размер.
– Ну и славно. Возьми две пары. Сумка есть?
Энни раздобыла матерчатую сумку с логотипом «Сферы» и протянула Мэй; та разглядывала витрину новых сменных панелей и прочих телефонных аксессуаров. Выбрала прекрасную панель – твердую, как камень, но на ощупь замшевую.
– Блин, – сказала Мэй. – Я телефон забыла.
– Что? Где он? – изумилась Энни.
– На столе, наверное.
– Мэй, ты какая-то невероятная. Такая сосредоточенная, такая собранная, а посреди всего эти дикие провалы. Ты пошла обедать без телефона?
– Извини.
– Да нет. Мне это в тебе и нравится. Ты помесь человека с радугой. Ну что такое? Не реви.
– Я весь день что-то новенькое о себе узнаю.
– Ты что, дергаешься до сих пор?
– Думаешь, это ничего? С Дэном и Алистэром?
– Сто пудов ничего.
– Он правда такой тонкокожий?
Энни закатила глаза:
– Алистэр? Запредельно. Но код пишет – закачаешься. Не человек, а машина. Кого другого пришлось бы год искать и учить. Приходится мириться с психозами. Психи тут водятся. Голодные до внимания психи. И есть такие, как Дэн, – они потакают психам. Но ты не переживай. Вряд ли вы будете часто пересекаться – по крайней мере с Алистэром.
Она глянула на телефон. Ей пора.
– Не уходи, пока не набьешь сумку, – велела она. – Потом увидимся.
Мэй осталась и набила сумку: джинсы, продукты, туфли, несколько новых панелей для телефона, спортивный бюстгальтер. Уходила, смущаясь, как магазинная воришка, но по пути наружу никого не встретила. Когда вернулась за стол, обнаружила одиннадцать сообщений от Энни.
Прочла первое: «Эй, Мэй, я подумала, что зря я так на Дэна и Алистэра. Не очень любезно получилось. Не ЭкоСферно. Забудь, что я это сказала».
Второе: «Пред. сообщ. получила?»
Третье: «Я тут уже слегка психую. Ты чего не отвечаешь?»
Четвертое: «Отправила CMC, позвонила. Ты что, умерла? Блин. Забыла, что ты забыла телефон. Ну ты дура».
Пятое: «Если обиделась на то, что я сказала про Дэна, не молчи, поговори со мной. Я же извинилась. Напиши».
Шестое: «Ты вообще сообщ. читаешь? Это оч. важно. Позвони!»
Седьмое: «Если сказала Дэну, что я сказала, ты сволочь. С каких пор мы друг на друга ябедничаем?»
Восьмое: «Сообразила, что у тебя, наверное, совещание. Да?»
Девятое: «Прошло 25 минут. Что СТРЯСЛОСЬ?»
Десятое: «Проверила и вижу, что ты за столом. Позвони сию секунду, или я тебя не знаю. Я думала, мы подруги».
Одиннадцатое: «Ау?»
Мэй позвонила:
– Ты чего, с дуба рухнула?
– Ты где была?
– Мы виделись двадцать минут назад. Я набрала образцов, зашла в туалет и вернулась.
– Ты на меня стукнула?
– Чего?
– Ты на меня стукнула?
– Энни, ты сбрендила?
– Просто скажи.
– Нет, я на тебя не стукнула. Кому?
– Что ты ему сказала?
– Кому?
– Дэну.
– Я его даже не видела.
– И не писала ему?
– Нет. Энни, ну ты даешь.
– Честно?
– Честно.
Энни вздохнула:
– Ладно. Блин. Прости. Я ему написала, позвонила, он не ответил. Потом ты не ответила, и мои мозги что-то не то из этого сконструировали.
– Твою мать, Энни.
– Прости.
– По-моему, ты переутомилась.
– Да нет, я нормально.
– Пошли выпьем вечером.
– Нет, спасибо.
– Ну пожалуйста?
– Не могу. Сейчас куча всего навалилась, разбираюсь тут с этими мудаками из Вашингтона, а их там целый рой.
– Из Вашингтона? А что в Вашингтоне?
– Долгая история. Я, собственно, и рассказать-то ничего не могу.
– Но ты должна все это делать сама? Весь Вашингтон?
– Мне дают разруливать эти затыки с властями, потому что, я не знаю, думают, наверное, что ямочки на щеках помогают. Может, и помогают. Не знаю. Но хорошо бы меня было пять.
– Голос у тебя ужасный. Передохни хотя бы ночь.
– Нет-нет. Нормально. Надо только ответить подкомитету какому-то. Я справлюсь. Ну ладно, мне пора. Люблю-целую.
И Энни повесила трубку.
Мэй позвонила Фрэнсису:
– Энни со мной гулять не хочет. А ты? Сегодня?
– Снаружи гулять? Тут концерт. Знаешь «Кримерз»?[17] Играют сегодня в «Колонии». Благотворительности ради.
Мэй сказала, что да, неплохо, но ближе к делу не захотела никаких «Кримерз» ни в какой «Колонии». Заманила Фрэнсиса к себе в машину, и они уехали в Сан-Франциско.
– Ты знаешь, куда мы едем? – спросил он.
– Не знаю. Ты что делаешь?
Он бешено печатал в телефоне.
– Сообщаю всем, что не приду.
– Сообщил?
– Сообщил. – И он уронил телефон.
– Вот и славно. Сначала выпьем.
Они припарковались в центре, отыскали гнусный на вид ресторан, с поблекшими и неаппетитными натюрмортами, небрежно приклеенными скотчем к витринам, и решили, что там будет дешево. Не ошиблись, съели карри и выпили «Синга», сидя на бамбуковых стульях, которые скрипели и изо всех сил старались не упасть. Где-то под конец первой бутылки пива Мэй решила, что срочно выпьет вторую, а на улице после ужина поцелует Фрэнсиса.
Они поужинали, и она его поцеловала.
– Спасибо, – сказал он.
– Ты правда меня сейчас поблагодарил?
– Ты меня избавила от таких мук. Я никогда в жизни первого шага не делал. Но обычно до женщин неделями доходит, что надо взять инициативу на себя.
И снова Мэй показалось, что ее огрели по башке дубиной информации, которая только все усложняла; Фрэнсис бывал то ужасно милым, то вдруг чужим и нефильтрованным.
Но на гребне пивной волны она за руку отвела Фрэнсиса к машине, где они еще поцеловались прямо посреди забитого перекрестка. За ними, делая вид, будто записывает, с антропологическим интересом наблюдал с тротуара бездомный.
– Пошли, – сказала Мэй, и они вылезли из машины, побродили по городу, нашли открытую лавку с японскими сувенирами, а рядом открытую галерею с фотореалистичными изображениями гигантских человеческих седалищ.
– Большие портреты больших жоп, – отметил Фрэнсис, когда они отыскали скамейку в переулке, перестроенном под пьяццу; уличные фонари всё заливали лунной голубизной. – Настоящее искусство. Поразительно, что так ничего и не продалось.
Мэй снова его поцеловала. На нее нашел стих целоваться, и, понимая, что Фрэнсис не перейдет в наступление, она расслабилась и целовала его, зная, что сегодня будут только поцелуи. Она вся в них растворилась, вложила в них страсть, и дружбу, и возможность любви, целовала Фрэнсиса, воображая его лицо, гадая, открыты ли у него глаза, смущают ли его прохожие, что цокали языками или гикали, но все равно проходили мимо.
В эти дни Мэй знала, что такое возможно: солнце станет ей нимбом, листва затрепещет, дабы только восторгаться каждым ее шагом, звать ее вперед, поздравлять ее с этим Фрэнсисом, с тем, что они делали вдвоем. Они славили свою мерцающую молодость, свою свободу, свои мокрые рты – прямо на публике, заряженные мыслью о том, что какие бы невзгоды ни выпадали и ни выпадут на их долю, оба они работают в центре мира и изо всех сил стараются сделать этот мир лучше. У них есть причины наслаждаться жизнью. Мэй спрашивала себя, не влюбилась ли. Нет, понимала она, не влюбилась, но, кажется, уже по меньшей мере на полпути. В ту неделю они с Фрэнсисом часто обедали вместе, хоть и торопливо, а затем находили, где привалиться друг к другу и поцеловаться. Один раз у пожарного выхода из «Палеозоя». Другой раз в «Римской Империи», за падл-теннисными кортами. Мэй нравился вкус Фрэнсиса, всегда чистый, простой, как лимонад, и как он снимал очки, на миг терялся, а потом закрывал глаза и становился почти прекрасен, и лицо его было гладко и несложно, как у ребенка. От его близости дни искрили. Все потрясало Мэй. Потрясающе обедать под ярким солнцем – жар его рубашки, его руки на ее лодыжке. Потрясающе гулять. Потрясающе сидеть в Большом зале «Просвещения», где они сидели теперь, ожидая Мечтательную Пятницу.











