Читать онлайн Земля
- Автор: Перл С. Бак
- Жанр: Зарубежная классика, Литература 20 века
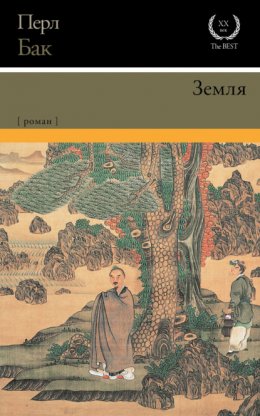
Pearl S. Buck
THE GOOD EARTH
Печатается с разрешения InkWell Management LLC and Synopsis Literary Agency.
© The Pearl S. Buck Family Trust, 1931
© Перевод. Н. Дарузес, наследники, 2017
© Издание на русском языке AST Publishers, 2018
Глава I
Это был день свадьбы Ван Луна. Сначала, открыв глаза во тьме полога над кроватью, он не мог понять, почему сегодня рассвет кажется не таким, как в другие дни. В доме стояла тишина, нарушаемая только слабым, прерывистым кашлем старика отца, спальня которого отделялась от спальни сына средней комнатой. Кашель старика всегда был первым звуком, раздававшимся в утренней тишине. Обычно Ван Лун лежал и прислушивался к нему, пока дверь старика не начинала скрипеть, поворачиваясь на деревянных петлях, и кашель не слышался ближе. Но в это утро он не стал дожидаться. Он вскочил и раздвинул полог кровати. Рассвет был мглистый и румяный; сквозь квадратное отверстие маленького окна, в котором трепались на ветру обрывки бумаги, сверкал клочок бронзового неба. Он подошел к окну и отодрал бумагу.
– Теперь весна, и мне это не нужно, – прошептал он.
Ему стыдно было сказать вслух, как ему хочется, чтобы сегодня в доме было чисто. В окно с трудом проходила рука, и он просунул ее наружу, чтобы узнать, какая сегодня погода. Теплый, насыщенный влагой ветер тихо дул с востока, по временам налетая с легким шорохом. Это был добрый знак. Полям нужен был дождь, чтобы они принесли урожай. Сегодня простоит сухая погода, но через несколько дней, если ветер не уляжется, будет дождь. Это хорошо. Еще вчера он говорил отцу, что если эта солнечная погода простоит еще несколько дней, то пшеница не нальет колоса. А теперь небо словно нарочно выбрало этот день, чтобы поздравить его. Земля принесет урожай.
Он торопливо вышел в среднюю комнату, на ходу подтягивая синие штаны и завязывая пояс из синей бумажной материи. Верхнюю часть тела он оставил обнаженной, покуда не нагреет воды и не вымоется. Он прошел в пристройку, служившую кухней, и в темноте из угла рядом с дверью бык повернул к нему голову и глухо заревел. Кухня была сложена из необожженных кирпичей, как и самый дом, из больших квадратов глины, выкопанных с их поля, и покрыта соломой от их пшеницы. Из своей глины его дедушка сложил и печку, обожженную и закоптелую от многолетней стряпни. На печи, сложенной из глины, стоял глубокий круглый чугунный котел. Этот котел он налил до половины, черпая воду тыквой из большого глиняного горшка; он черпал бережно, потому что вода была на вес золота. Потом, после минутного колебания, он вдруг поднял горшок и вылил всю воду в котел. В этот день он вымоется с ног до головы. С тех пор как он был ребенком и сидел на коленях матери, никто не видел его тела. А сегодня его увидит женщина, и ему хочется, чтобы оно было чистым.
Он зашел за печку и, набрав горсть сухой травы и соломы, лежавших в углу кухни, старательно уложил их в устье печки, расправляя каждую травинку. Потом высек огонь старым кремнем и огнивом, сунул в солому, и пламя вспыхнуло.
Сегодня последний раз ему приходится разводить огонь самому. Он разводил его каждое утро с тех пор, как шесть лет тому назад умерла его мать. Он каждое утро разводил огонь, кипятил воду, наливал ее в чашку и нес в комнату отца, где старик сидел на постели, кашляя и нащупывая ногами башмаки на полу. Все эти шесть лет старик каждое утро дожидался, пока сын принесет ему горячей воды, чтобы смягчить кашель. Теперь и отец и сын смогут отдохнуть. Скоро в дом войдет женщина. Ван Луну не придется больше вставать на рассвете и зимой и летом и разводить огонь. Можно лежать в постели и дожидаться, пока ему тоже принесут чашку кипятку, а в урожайные годы – и чаю. В некоторые годы это случалось.
А если устанет женщина, то огонь будут разводить ее дети, много детей, которых она народит Ван Луну. Ван Лун перестал поддерживать огонь при мысли, что по этим трем комнатам будут бегать дети. Ему всегда казалось, что трех комнат для них слишком много, и дом их наполовину опустел с тех пор, как умерла мать. Приходилось постоянно оберегать дом от вторжения родственников, живших более тесно; особенно заискивал дядя, у которого был целый выводок детей.
– И зачем двум одиноким мужчинам столько места? Почему бы отцу с сыном не спать на одной кровати? Старик будет кашлять меньше, если молодой сын согреет его своим телом.
Но старик неизменно отвечал:
– Я берегу свою постель для внука. Он будет греть мои кости на старости лет.
Теперь будут и внуки, пойдут внуки за внуками! Придется поставить кровати по стенам и в средней комнате. Дом будет полон кроватей.
Пламя в печи погасло, пока Ван Лун думал о кроватях, которые появятся в доме, и вода в котле начала стынуть. Темная фигура старика показалась в дверях, он придерживал рукой незастегнутое платье. Задыхаясь от кашля и отхаркиваясь, он простонал:
– Почему до сих пор нет воды и мне нечем согреть грудь?
Ван Лун удивленно смотрел на отца и потом, придя в себя, устыдился.
– Солома отсырела, – пробормотал он из-за печки, – ветер сегодня сырой.
Старик непрерывно кашлял до тех пор, пока не вскипела вода. Ван Лун налил кипятку в чашку и после минутного раздумья открыл фаянсовый кувшин, стоявший на печке, достал оттуда щепотку сухих, свернувшихся в трубочку листьев и бросил их в воду. Глаза старика жадно сверкнули, и он начал жаловаться:
– К чему лишние расходы? Пить чай – все равно что тратить серебро.
– Сегодня особенный день, – ответил Ван Лун с коротким смехом. – Пей и радуйся!
Старик ухватился за чашку сморщенными, узловатыми пальцами, что-то бормоча и словно похрюкивая. Он смотрел, как листья развертываются и распускаются на поверхности воды, и все не решался выпить драгоценный напиток.
– Остынет, – заметил Ван Лун.
– Верно, верно, – сказал отец встревоженно и начал пить большими глотками горячий чай.
Старик наслаждался как ребенок. Но все же он не настолько забылся, чтобы не видеть, как Ван Лун щедрой рукой переливает воду из котла в глубокую деревянную лохань. Он поднял голову и уставился на сына.
– Тут воды хватит на целый огород, – сказал он неожиданно.
Ван Лун молчал, вычерпывая воду до последней капли.
– Довольно, говорю я тебе! – закричал отец.
– Я еще ни разу не мылся с Нового года, – тихо ответил Ван Лун.
Ему стыдно было сказать отцу, что он хочет вымыться дочиста, потому что сегодня его тело увидит женщина. Он заторопился и понес лохань в свою комнату. Дверная рама в его комнате перекосилась, и дверь прикрылась неплотно: старик засеменил в среднюю комнату и, приложив губы к дверной щели, закричал:
– Плохо будет, если мы начнем так стараться ради женщины: чай с раннего утра и все это мытье!
– Это только сегодня! – крикнул в ответ Ван Лун. – Я вылью воду на гряды, когда кончу, и она не пропадет.
Старик промолчал, и Ван Лун развязал пояс и сбросил с себя одежду. В полосе света, падавшей из окна, он окунул в дымящийся кипяток полотенце, отжал его и начал с силой тереть свое смуглое гибкое тело. Хотя воздух показался ему теплым, ему стало холодно, когда он начал мыться, и быстрыми движениями он опускал полотенце в воду и выжимал его, пока все его тело не окуталось облаком тонкого пара. Потом он подошел к сундуку, который принадлежал его матери, и достал чистый синий халат. Может быть, ему будет холодно сегодня без ватной зимней одежды, но он чувствовал, что не в состоянии надеть ее на чистое тело. Верх был рваный и грязный, и вата лезла из дыр серыми свалявшимися клоками. Ему не хотелось, чтобы женщина в первый же день увидела его в грязной одежде, с торчащей из дыр ватой. Потом ей придется стирать и чинить, но не в этот первый день. Поверх синей бумажной куртки и штанов он надел длинный халат из той же материи – его единственный длинный халат, который он носил только по праздникам и надевал не больше десяти раз в год. Быстро перебирая пальцами, он расплел длинную косу, лежавшую вдоль спины, и, взяв деревянный гребень из ящика маленького колченогого стола, начал расчесывать волосы.
Отец опять подошел ближе и приложил губы к дверной щели.
– А мне что же, так ничего и не есть сегодня? Если я с утра не поем, у меня все кости ноют.
– Иду, иду! – отвечал Ван Лун, быстро заплетая косу и перевязывая конец черным шелковым шнурком с кисточкой.
Подумав минуту, он снял халат и, обмотав косу вокруг головы, пошел выносить лохань с водой. Он совсем забыл о завтраке. Он сделает болтушку из кукурузной муки и даст отцу поесть. Сам он есть не хотел. Шатаясь, он донес лохань до порога и вылил на землю тут же, за дверью; выливая, вспомнил, что извел всю воду из котла на мытье и что ему придется снова разводить огонь. Он рассердился на отца.
– Этот старый дурень только и думает, как бы поесть и попить, – шепнул он в устье печи, но больше ничего не сказал.
Сегодня в последний раз он готовит обед для старика. Он принес в ведре воды из колодца за дверью и налил немного на дно котла. Вода быстро вскипела, он замесил болтушку и понес ее старику.
– Сегодня вечером, отец, мы будем есть рис, – сказал он. – А пока вот тебе кукуруза.
– В корзине осталось очень мало риса, – сказал старик, садясь за стол в средней комнате и размешивая палочками густую желтую массу.
– Ну что же, тогда мы меньше съедим в весенний праздник, – ответил Ван Лун.
Но старик не слышал. Он громко хлебал из своей чашки. Ван Лун ушел в свою комнату, снова надел длинный синий халат и размотал косу. Он провел рукой по бритой голове и щекам.
Может быть, лучше опять побриться? Солнце еще только всходит. Он успеет сходить на улицу цирюльников и побриться, прежде чем отправиться в дом, где его ждет будущая жена. Если бы у него были лишние деньги, он побрился бы. Он достал из пояса маленький грязный мешочек из серой материи и пересчитал деньги. Всего было шесть серебряных монет и большая горсть медяков. Он еще не говорил отцу, что позвал друзей на ужин. Он пригласил двоюродного брата, младшего сына дяди, и самого дядю, как брата отца, и троих соседей-крестьян из своей деревни. В это утро он решил принести из города свинины, небольшую рыбу и горсть каштанов. Можно даже купить немного молодого бамбука с Юга и говядины, чтобы потушить ее вместе с капустой, которая растет у него на огороде. Но это только в том случае, если у него останутся деньги от покупки бобового масла и сои. Если он побреет голову, то ему не хватит на говядину. Все-таки он побреет голову, решил Ван Лун неожиданно. И он ушел из дому, не говоря ни слова старику.
Было раннее утро, когда он вышел на улицу. Заря была темно-красная, солнце поднималось из-за облаков на горизонте и сверкало на росинках, покрывавших всходы ячменя и пшеницы. По крестьянской привычке Ван Лун нагнулся посмотреть колосящиеся всходы: колосья были еще пустые и ждали дождя. Он втянул воздух и тревожно посмотрел на небо. По темным, тяжело двигающимся облакам видно было, что собирается дождь. Он купит курительную палочку и поставит ее в маленьком храме богу Земли. В такой день можно это сделать.
Он шел полями по извилистой и узкой тропинке. Впереди поднималась серая городская стена. За воротами в этой стене, через которые он пройдет, стоит большой дом Хванов, где с самого детства живет в рабынях его будущая жена. Некоторые говорят: «Лучше жить одному, чем взять в жены рабыню из знатного дома». Но когда он сказал отцу:
– Разве у меня никогда не будет жены? – отец ответил:
– Свадьба по теперешнему времени обходится дорого, а все женщины еще до замужества требуют золотых колец и шелковых платьев, так что бедняку только и остается, что жениться на рабыне.
Его отец тогда же собрался и пошел в дом Хванов и спросил, нет ли у них лишней рабыни.
– Только не из слишком молоденьких и, главное, не из очень красивых, – сказал он.
Ван Луну было тяжело, что она будет некрасивая. Было бы хорошо иметь красивую жену, чтобы другие мужчины поздравляли его и завидовали. Отец, видя его недовольное лицо, закричал:
– А на что нам красивая женщина? Нам нужно, чтобы женщина смотрела за домом, рожала детей, работала в поле, а разве красивая женщина будет все это делать? У нее на уме будут только наряды. Нет, нам красивых женщин не нужно. Мы крестьяне. А кроме того, где это слыхано, чтобы хорошенькая рабыня оставалась девушкой? Все молодые господа досыта наиграются с ней. Лучше быть первым с безобразной женщиной, чем сотым с красавицей. Не думаешь ли ты, что твои крестьянские руки понравятся красивой женщине больше, чем нежные руки богача, и что твое загорелое лицо покажется ей лучше, чем золотистая кожа тех, кто брал ее для удовольствия?
Ван Лун знал, что отец говорит правду, тем не менее ему пришлось пережить внутреннюю борьбу со своей плотью. Потом он сказал резко:
– Я не женюсь на ней, если она рябая или с заячьей губой.
– Посмотрим, есть ли из чего выбирать, – отвечал отец.
Женщина оказалась не рябая и не с заячьей губой. Это было ему известно, но это было и все. Они с отцом купили два серебряных золоченых кольца и серебряные серьги, которые отец отнес к хозяину женщины в знак помолвки. И больше Ван Лун ничего не знал о своей будущей жене. Разве только то, что сегодня он может пойти за ней и привести ее.
Он вошел под прохладные и темные своды городских ворот. Мимо ворот целый день сновали водоносы, везя тачки, нагруженные большими кадками воды, и вода плескалась из кадок на каменные плиты. Под воротами, пробитыми в толстой стене, сложенной из кирпича и глины, всегда было сыро и прохладно, – прохладно даже в летний день. И продавцы дынь раскладывали на каменных плитах свой товар – дыни, разрезанные пополам, утоляющие жажду своей сочной и прохладной мякотью. Дынь еще не было, время для них еще не пришло, но корзины мелких и жестких зеленых персиков стояли вдоль стен, и продавцы выкрикивали:
– Первые весенние персики, первые персики! Покупайте и ешьте, очищайте ваши желудки от зимней отравы!
Ван Лун подумал: «Если она их любит, я куплю ей пригоршню, когда мы пойдем обратно».
Ему трудно было представить себе, что, когда он снова пройдет под этими воротами, позади него будет идти женщина.
За воротами он свернул направо и через минуту очутился на улице цирюльников. Раньше его пришло немного народу: несколько человек крестьян, которые привезли овощи накануне ночью, чтобы продать их рано утром на рынке и вернуться к полевым работам. Всю ночь они дремали, дрожа от холода и согнувшись над своими корзинами, а теперь эти корзины стояли пустыми у их ног. Ван Лун свернул в сторону, чтобы его не узнали, потому что сегодня он не хотел слышать обычные шутки. По всей улице длинными рядами стояли цирюльники за своими столиками, и Ван Лун подошел к самому дальнему и сел на стул, сделав знак цирюльнику, который стоял, болтая с соседом. Цирюльник сейчас же подбежал и налил воды в медный тазик из стоявшего на жаровне чайника.
– Начисто побрить? – спросил он деловито.
– Да, голову и лицо, – ответил Ван Лун.
– Уши и ноздри прочистить? – спросил цирюльник.
– А сколько за это нужно доплачивать? – осторожно осведомился Ван Лун.
– Четыре медяка, – сказал цирюльник, начиная полоскать черную суконку в горячей воде.
– Я дам тебе два, – сказал Ван Лун.
– Тогда я прочищу одну ноздрю и одно ухо, – быстро возразил цирюльник. – Которое хочешь, левое или правое? – Он скроил рожу, глядя на соседа-цирюльника, и тот расхохотался.
Ван Лун заметил, что попал в руки к шутнику, и, безотчетно ставя себя ниже его, как и всегда при встрече с горожанами, хотя бы это были цирюльники и вообще невысокого полета люди, ответил:
– Как хочешь, как хочешь…
Он покорно дал цирюльнику мылить себя, тереть и брить, и так как тот был щедрый малый, то без добавочной платы ловкими шлепками по плечам и спине размял ему мускулы. Брея Ван Луна, он так отозвался о его наружности:
– Парень был бы неплох, если бы остригся. Теперь новая мода – обрезать косы.
Его бритва ходила так близко от небритой макушки Ван Луна, что тот закричал:
– Нет, нет, мне нельзя стричься, не спросившись у отца!
И цирюльник засмеялся и оставил в покое его макушку. Побрившись и отсчитав деньги в сморщенную от воды ладонь цирюльника, Ван Лун на мгновенье пришел в ужас. Какие траты! Но, идя по улице и ощущая свежий ветер на чисто выбритой коже, он сказал себе: «Ведь это только раз в жизни!»
Потом он пошел на рынок, купил свинины и смотрел, как мясник заворачивает покупку в сухой лист лотоса; потом, после некоторого колебания, купил немного говядины. Когда все было куплено, даже квадратики творога из сои, дрожащие, как студень, на капустном листе, он зашел в свечную лавку и там купил две курительные палочки. После этого он с великой робостью направился к дому Хванов.
Когда он подошел к воротам дома, его охватил страх. Зачем он пошел один? Нужно было попросить отца, или дядю, или даже соседа Чина, попросить хоть кого-нибудь пойти с ним вместе. Ему еще не приходилось бывать в доме Хванов. Как теперь войти с покупками к свадебному пиру в руках и сказать: «я пришел за женщиной»?
Ван Лун долго простоял на одном месте, глядя на ворота. Они были плотно закрыты; две большие деревянные створки, выкрашенные черной краской и окованные железом, находили одна на другую. Два каменных льва стояли на страже, по одному с каждой стороны. И ни одной души, кроме него. Он повернул назад. У него не хватало смелости войти.
Вдруг он почувствовал слабость. Сначала нужно пойти и поесть немного. Он еще ничего не ел, забыл о пище. Он зашел в маленькую харчевню и сел, положив на стол два медяка. Грязный мальчик в лоснящемся черном фартуке подошел ближе, и он крикнул ему:
– Две чашки лапши!
Когда ее подали, он с жадностью проглотил лапшу, запихивая ее в рот бамбуковыми палочками, а мальчик стоял рядом и вертел медяки в черных от грязи пальцах.
– Еще хочешь? – спросил он равнодушно.
Ван Лун отрицательно покачал головой. Он выпрямился и посмотрел вокруг. В маленькой и темной, заставленной столами комнате не было никого знакомых. Несколько человек сидели за едой или за чаем. Это была харчевня для бедняков, и среди них он казался опрятным и чуть ли не богачом, так что проходивший мимо нищий начал просить, обращаясь к нему:
– Сжалься, учитель, дай мне мелкую монету, я умираю с голода.
До сих пор ни один нищий не просил у него милостыни, и никто не называл его «учителем». Он был польщен и бросил в чашку нищего два гроша, и тот быстро схватил их черной, как птичья лапа, рукой и спрятал в своих лохмотьях.
Ван Лун сидел, а солнце поднималось все выше и выше. Мальчик нетерпеливо переминался с ноги на ногу.
– Если ты ничего больше не закажешь, – сказал он дерзко, – то тебе придется уплатить за стул.
Ван Луна разозлила такая дерзость, и он уже хотел встать, но при мысли, что нужно идти в дом Хванов за невестой, все тело его покрылось потом, словно он работал в поле.
– Принеси чаю, – сказал он нерешительно.
Не успел он опомниться, как чай был уже на столе, и мальчик спрашивал язвительно:
– А где деньги?
И Ван Лун, к своему ужасу, должен был достать из-за пояса еще один медяк, – больше ему ничего не оставалось делать.
– Это прямо грабеж, – пробормотал он, неохотно расставаясь с деньгами.
Тут он увидел, что в харчевню входит один из соседей, приглашенных сегодня на свадьбу, и поспешно выложил деньги на стол, одним глотком выпил чай, быстро вышел через боковую дверь и снова очутился на улице.
«Ничего не поделаешь, нужно идти», – сказал он себе с отчаянием и медленно направился к большим воротам.
На этот раз, так как было уже после полудня, ворота были приоткрыты, и привратник, сидя на пороге, после еды лениво ковырял в зубах бамбуковой щепочкой. Это был высокий малый с большой бородавкой на левой щеке; из бородавки росли три длинных черных волоса, которых он, должно быть, не стриг. Когда появился Ван Лун, он закричал грубо, думая, что тот принес в своей корзине что-нибудь на продажу:
– Ну, чего тебе еще?
Ван Лун ответил с большим трудом:
– Я Ван Лун, крестьянин.
– Ну, так чего тебе, Ван Лун, крестьянин? – бросил привратник, который бывал вежлив только с богатыми друзьями своего хозяина и хозяйки.
– Я пришел… Я пришел… – запинался Ван Лун.
– Вижу, что ты пришел, – сказал привратник, покручивая длинные волосы на бородавке.
– Тут есть женщина, – сказал Ван Лун голосом, невольно упавшим до шепота. На солнце его лицо лоснилось от пота.
Привратник громко захохотал.
– Так вот ты кто! – закричал он. – Мне говорили, что сегодня придет жених. Но ты с корзиной, где же мне было догадаться?
– Это провизия, – сказал Ван Лун извиняющимся тоном, в ожидании, что привратник поведет его в дом. Но тот не двигался.
Наконец Ван Лун сказал тревожно:
– Что же мне, идти одному?
Привратник разыграл припадок испуга.
– Нет, старый господин тебя убьет!
Потом, видя, что Ван Лун уж слишком прост, он добавил:
– Серебро – хороший ключ.
Ван Лун понял наконец, что привратник хочет получить с него взятку.
– Я бедный человек, – сказал он жалобно.
– Дай-ка я посмотрю, сколько у тебя в поясе, – сказал привратник.
И он ухмыльнулся, когда Ван Лун в простоте души и впрямь поставил корзину на каменные плиты и, подняв полу халата, снял кошелек с пояса и вытряс в левую руку то, что осталось от покупок. Там была одна серебряная монета и четырнадцать медяков.
– Я возьму серебро, – сказал привратник хладнокровно, и прежде чем Ван Лун собрался с возражениями, он уже спрятал серебро в рукав и зашагал к воротам, громко выкрикивая: – Жених, жених!
Ван Луну, хотя он и сердился на то, что сейчас случилось, и приходил в ужас, что так громогласно извещают о его приходе, оставалось только идти за привратником, и он пошел, подобрав свою корзину и не глядя ни направо, ни налево.
Хотя ему в первый раз пришлось видеть дом городского богача, он не мог ничего вспомнить впоследствии. С пылающим лицом и склоненной головой он проходил один двор за другим, а впереди него ревел голос привратника, и по сторонам раздавались взрывы смеха. Потом неожиданно, когда ему казалось уже, что он прошел не меньше сотни дворов, привратник замолчал и втолкнул его в маленькую приемную комнату. Там он стоял один, покуда привратник ходил в какие-то внутренние покои и, вернувшись через минуту, сказал:
– Старая госпожа велит тебе идти к ней.
Ван Лун бросился вперед, но привратник остановил его, презрительно говоря:
– Ты не можешь показаться госпоже с этой корзиной. Тут у тебя и свинина, и соевый творог! Как же ты будешь кланяться?
– Верно, верно, – согласился Ван Лун, волнуясь.
Но он не решился поставить корзину на землю, боясь, как бы оттуда чего-нибудь не украли. Ему не приходило в голову, что не каждому будут по вкусу такие лакомства, как два фунта свинины, шесть унций говядины и маленькая рыба из пруда.
Привратник заметил его страх и презрительно сказал:
– В нашем доме таким мясом кормят собак, – и, схватив корзину, сунул ее за дверь, толкая перед собой Ван Луна.
Они прошли по узкой и длинной веранде, кровлю которой поддерживали украшенные тонкой резьбой столбы, в зал, какой Ван Луну еще не приходилось видеть. Двадцать домов, таких, как его дом, можно было бы поставить в нем, и они были бы незаметны: так просторен был зал и так высоки были потолки. Подняв в изумлении голову, чтобы рассмотреть резные раскрашенные балки вверху, он споткнулся о высокий порог и упал бы, если бы привратник не схватил его за руку и не закричал:
– Может быть, ты будешь настолько вежлив и упадешь вот так же, лицом вниз, перед старой госпожой?
Сконфуженный Ван Лун посмотрел вперед и увидел в центре комнаты на возвышении очень старую женщину; маленькое и худое тело ее было одето в блестящий жемчужно-серый шелк, а на низенькой скамейке рядом с ней стояла трубка с опиумом, раскаляясь на маленькой лампе. Она посмотрела на Ван Луна черными глазами, запавшими и быстрыми, как у обезьяны, на худом и сморщенном лице. Кожа ее руки, державшей трубку, обтягивала тонкие кости, гладкая и желтая, как позолота на идоле. Ван Лун упал на колени и ударился головой о плиты пола.
– Подними его! – важно сказала старая госпожа привратнику. – Этих знаков почтения не нужно. Он пришел за женщиной?
– Да, почтенная госпожа, – ответил привратник.
– Почему он сам не говорит? – спросила старуха.
– Потому что он глуп, госпожа, – отвечал привратник, теребя волосы на бородавке.
Это возмутило Ван Луна, и он бросил негодующий взгляд на привратника.
– Я простой и грубый человек, знатная и почтенная госпожа, – сказал он. – Я не знаю, какие слова говорят в присутствии такой особы.
Старая госпожа посмотрела на него внимательно и серьезно, словно хотела заговорить, но потом отвернулась от него, ее пальцы сомкнулись вокруг трубки, которую раскуривала для нее рабыня, и она, казалось, сразу забыла о Ван Луне. Она нагнулась, жадно втягивая дым, и острота ее взгляда пропала: глаза подернулись дымкой. Ван Лун все еще продолжал стоять перед ней, когда ее взгляд мимоходом остановился на его фигуре.
– Что этот человек делает здесь? – спросила она, внезапно разгневавшись. Казалось, она обо всем забыла.
Лицо привратника оставалось неподвижным. Он молчал.
– Я пришел за женщиной, почтенная госпожа, – ответил Ван Лун в изумлении.
– За женщиной? За какой женщиной? – начала старуха, но рабыня, стоявшая рядом, нагнулась к ней и что-то прошептала, и ее госпожа пришла в себя.
– Ах, да, я и забыла об этом деле. Ты пришел за рабыней по имени О Лан. Помню, мы обещали выдать ее замуж за какого-то крестьянина. Ты и есть этот крестьянин?
– Да, я, – отвечал Ван Лун.
– Позови живее О Лан! – сказала старая госпожа рабыне. Ей как будто хотелось кончить поскорее со всем этим и остаться одной в тишине большого зала с трубкой опиума.
Через мгновение рабыня вернулась, ведя за руку крепкого сложения и довольно высокого роста женщину в чистой синей кофте и штанах. Ван Лун взглянул на нее один только раз, потом отвел глаза в сторону, и сердце его забилось. Это была его будущая жена.
– Подойди сюда, рабыня, – сказала старая госпожа небрежным тоном. – Этот человек пришел за тобой.
Женщина подошла к госпоже и стала перед ней, опустив голову и стиснув руки.
– Ты готова? – спросила госпожа.
Женщина ответила медленно, как эхо:
– Готова.
Ван Лун, слыша в первый раз ее голос, посмотрел на ее спину, так как она стояла впереди него. Голос был довольно приятный, не громкий и не тихий, ровный и не злой. Волосы женщины были аккуратно и гладко причесаны и одежда опрятна. С минутным разочарованием он увидел, что ноги у нее не забинтованы.
Но долго раздумывать об этом не пришлось, потому что старая госпожа уже говорила привратнику:
– Вынеси ее сундук за ворота, и пусть они уходят.
Потом она подозвала Ван Луна и сказала:
– Стань рядом с ней, пока я говорю.
И когда Ван Лун вышел вперед, она сказала ему:
– Эта женщина вошла в наш дом десятилетним ребенком и прожила здесь до сих пор, когда ей исполнилось двадцать лет. Я кормила ее в голодный год, когда ее родители приехали сюда, потому что им нечего было есть. Они были с севера, из Шандуня, и вернулись туда, и больше я ничего о них не знаю. Ты видишь, у нее сильное тело и квадратное лицо ее сословия. Она будет хорошо работать в поле, и носить воду, и делать для тебя все, что ты захочешь. Она некрасива, но это и лучше. Только люди праздные нуждаются в красивых женщинах, чтобы они развлекали их. Она и неумна. Но она хорошо делает то, что ей велят, и у нее смирный характер. Насколько мне известно, она девушка. Она не так красива, чтобы вводить в соблазн моих детей и внуков, даже если бы она не была на кухне. Если что-нибудь и было, так разве с кем-нибудь из слуг. Но по дворам бегает столько хорошеньких рабынь, что я сомневаюсь, был ли у нее хоть один любовник. Возьми ее и обращайся с ней хорошо: она хорошая рабыня, хотя немного неповоротлива и глупа. Если бы я не думала о своей будущей жизни, то оставила бы ее у себя: для кухни она достаточно хороша. Но я всегда выдаю своих рабынь замуж, если кто-нибудь хочет их взять, а господам они не нравятся.
А женщине она сказала:
– Повинуйся ему и рожай ему сыновей, много сыновей. Первого ребенка принеси показать мне.
– Да, почтенная госпожа, – отвечала женщина покорно.
Они стояли в нерешительности, и Ван Лун был очень смущен, не зная, что ему говорить и делать.
– Ну, идите, что же вы! – сказала нетерпеливо старая госпожа.
И Ван Лун, вторично отвесив поклон, повернулся и вышел, а женщина за ним, а за ней привратник, неся на плече сундук. Этот сундук он поставил на пол в комнате, куда Ван Лун зашел за своей корзиной, и не пожелал нести его дальше.
Тогда Ван Лун повернулся к женщине и в первый раз посмотрел на нее. У нее было квадратное честное лицо, короткий широкий нос с крупными черными ноздрями, и рот у нее был широкий, словно щель на лице. Глаза у нее были маленькие, тускло-черного цвета, и в них светилась какая-то смутная печаль. Лицо, должно быть, всегда казалось неподвижным и невыразительным. Женщина терпеливо выносила взгляд Ван Луна, без смущения, без ответного взгляда, и только ждала, когда он ее оглядит. Он увидел, что ее лицо и вправду не было красиво – загорелое, простое, покорное лицо. Но на ее темной коже не было рябин, и губа не была раздвоена. В ее ушах он увидел свои серьги, те золоченые серьги, которые он купил, а на руках у нее были подаренные им кольца. Он отвернулся с тайной радостью: у него есть жена!
– Вот сундук и вот корзина, – сказал он грубо.
Не говоря ни слова, она нагнулась, подняла сундук за скобу, поставила его на плечо и, шатаясь под его тяжестью, попыталась выпрямиться. Он следил, как она это делает, и потом неожиданно сказал:
– Я возьму сундук. Вот корзина.
И он взвалил сундук себе на спину, не считаясь с тем, что на нем новый халат. А она, все еще не говоря ни слова, взялась за ручку корзины. Он подумал о сотне дворов, которыми ему придется идти, нелепо согнувшись под тяжестью сундука.
– Если бы была боковая калитка… – пробормотал он.
И она, подумав немного, словно не сразу поняла его слова, кивнула. Потом она повела его через маленький заброшенный двор, поросший сорной травой, с заглохшим прудом. Там под согнутой сосной была старая калитка. Женщина отодвинула засов, и они вышли на улицу.
Раза два он оглянулся на нее. Она упорно шагала, переставляя большие ноги, и казалось, что так она может прошагать всю свою жизнь. Ее широкое лицо ничего не выражало.
В городских воротах он нерешительно остановился и начал одной рукой отыскивать оставшиеся в поясе медяки, другой рукой он придерживал сундук на плече. Он достал две медные монеты и на них купил шесть маленьких зеленых персиков.
– Возьми их и съешь, – сказал он грубо.
Она схватила персики с жадностью, как ребенок, и безмолвно зажала их в руке. Он посмотрел на нее еще раз, когда они шли по меже пшеничного поля: она потихоньку грызла персик, но, увидя, что он смотрит на нее, снова зажала его в руке, и челюсти у нее перестали двигаться.
И так они шли, пока не достигли западного участка, где стоял храм Земли: маленькое строение, не выше человеческого роста, сложенное из серых кирпичей и крытое черепицей. Дед Ван Луна, всю жизнь работавший на тех же полях, которые теперь пахал Ван Лун, выстроил этот храм, возя кирпичи из города на тачке. Стены были оштукатурены снаружи. В один урожайный год наняли деревенского художника, и тот намалевал на белой штукатурке горный пейзаж и бамбуки. Но эта живопись омывалась дождями в течение трех поколений, и от нее остались только легкие перистые тени бамбуков, а горы исчезли. Внутри храма, уютно угнездившись под крышей, сидели две маленькие торжественные фигуры, вылепленные из глины, взятой с полей вокруг храма. Это были сам бог и его жена, облаченные в одежды из красной и золотой бумаги, а у бога были редкие висячие усы из настоящих волос. В праздник Нового года отец Ван Луна покупал листы красной бумаги и заботливо выкраивал и клеил новые одежды для этой четы. И каждый год под кровлю храма врывались снег и дождь, а летом светило солнце, портя их одежды. Сейчас, однако, одежды были еще новые, так как год только что начался, и Ван Лун гордился их щегольским видом.
Он взял корзину из рук женщины и осторожно заглянул под свинину, где лежали купленные им курительные палочки. Он боялся, как бы они не сломались, а это дурной знак; но они были целы, и он достал их и воткнул рядом в пепел других курительных палочек, груда которого возвышалась перед богами, потому что вся округа почитала эти маленькие фигурки. Разыскав кремень и огниво, Ван Лун высек огонь на сухой лист вместо трута и зажег курительные палочки.
Мужчина и женщина стояли вместе перед богами своих полей. Женщина смотрела, как тлеют и покрываются пеплом концы курительных палочек. Когда на них накопилось много пепла, она нагнулась и стряхнула его указательным пальцем. Потом, словно испугавшись того, что сделала, она быстро взглянула на Ван Луна своими немыми глазами. Но что-то в ее движении понравилось Ван Луну. Казалось, она почувствовала, что курительные палочки принадлежат им обоим: в этот момент совершился их брак. Они стояли рядом в полном молчании, пока палочки не превратились в пепел; и тогда, так как солнце уже садилось, Ван Лун взвалил сундук на плечо, и они пошли домой. У дверей дома стоял старик, греясь в лучах заходящего солнца. Заметив подходившего с женщиной Ван Луна, он не сделал ни одного движения. Было бы ниже его достоинства обращать на нее внимание. Вместо этого он притворился, что смотрит на облака, и крикнул:
– Видно, что будет дождь. Вот по этому облаку, что надвигается на левый рог молодого месяца. Должно быть, не позже чем завтра ночью! – А потом, увидя, что Ван Лун берет у женщины корзину, он снова закричал: – Много потратил денег?
Ван Лун поставил корзину на стол.
– Сегодня будут гости, – сказал он кратко, внося сундук О Лан в ту комнату, где он спал, и ставя рядом с сундуком, где лежала его одежда. Он посмотрел на сундук странным взглядом.
Но старик подошел к двери и заговорил стремительно:
– В этом доме нет конца тратам!
В сущности, ему льстило, что сын позвал гостей, но он чувствовал, что долг приличия обязывает его ворчать перед невесткой, чтобы она с первых же дней не стала расточительна. Ван Лун ничего не сказал и понес корзину на кухню, а женщина последовала за ним. Он вынул провизию, положил на край незатопленной печки и сказал:
– Вот свинина, а вот говядина и рыба. Есть будут семеро. Сумеешь ты приготовить ужин?
Он не смотрел на женщину, – это было бы неприлично.
Женщина отвечала бесцветным голосом:
– Я была служанкой на кухне с тех пор, как попала в дом Хванов. Там готовили мясо три раза в день.
Ван Лун кивнул и оставил ее одну. Он не видел ее до тех пор, пока не собрались гости: общительный, хитрый и вечно голодный дядя, сын дяди, дерзкий парень лет пятнадцати, и соседи, неуклюжие и ухмыляющиеся от робости. Двое были из соседней деревни, они обменивались с Ван Луном семенами и помогали друг другу убирать урожай, а третий, Чин, был его ближайший сосед, – маленький спокойный человек, говоривший неохотно, только в случае крайней необходимости. Когда они уселись в средней комнате, из вежливости заняв места не сразу, а после долгих колебаний и споров, Ван Лун пошел на кухню и велел женщине подавать. Он был доволен, когда она сказала ему:
– Я буду подавать чашки, а ты ставь их на стол. Я не люблю выходить к мужчинам.
Ван Лун ощутил большую гордость, что эта женщина принадлежит ему и не боится ему показываться, но к другим мужчинам выходить не хочет. Он взял чашки из ее рук у кухонной двери, поставил их на стол в средней комнате и громко провозгласил:
– Ешьте, дядя и братья!
И когда дядя, который любил пошутить, сказал:
– А разве мы не увидим чернобровой невесты? – Ван Лун возразил твердо:
– Мы еще не одна плоть. Не годится, чтобы чужие мужчины видели ее, пока брак не совершился.
И он упрашивал их есть, и они ели угощение охотно и в полном молчании, и один из них похвалил коричневый соус к рыбе, а другой – хорошо зажаренную свинину. И Ван Лун снова и снова повторял в ответ:
– Это плохая еда, она плохо приготовлена.
Но в глубине души он гордился ужином, потому что к мясу женщина добавила сахару, уксусу и немного вина и сои, и получилось такое вкусное блюдо, каких самому Ван Луну еще не доводилось пробовать за столом у своих друзей.
Ночью, после того как гости просидели долго за чаем и истощили все свои шутки, женщина все еще возилась у печки. А когда Ван Лун, проводив последнего гостя, вошел в кухню, то увидел, что она заснула на куче соломы, рядом со стойлом быка. В волосах у нее запуталась солома, он позвал ее, а она быстро подняла руку, словно защищаясь от удара. Когда она наконец раскрыла глаза и посмотрела на него странным взглядом, он почувствовал, что стоит лицом к лицу с ребенком. Он взял ее за руку и повел в ту самую комнату, где еще сегодня утром он мылся для нее, и зажег красную свечу на столе. В этом свете, наедине с женщиной, он вдруг почувствовал робость и должен был напомнить себе: «Это моя жена. Дело должно быть сделано». И он начал раздеваться, а женщина зашла за занавеску.
Ван Лун сказал грубо:
– Когда будешь ложиться, потуши сначала свет.
Потом он лег, натянул толстое ватное одеяло на плечи и притворился спящим, но он не спал. Он весь дрожал, и каждый нерв в его теле напрягался. А потом, когда прошло уже много времени и рядом с ним безмолвно закопошилась женщина, его охватила радость, которую он с трудом сдерживал. Он хрипло засмеялся во тьме и притянул женщину к себе.
Глава II
Жить стало наслаждением. На следующее утро он лежал в постели и наблюдал, как одевается женщина, которая теперь принадлежала ему. Она встала и одернула на себе сбившееся платье, плотно застегнув его у горла и оправляя его на теле медленными и гибкими движениями. Потом она сунула ноги в матерчатые башмаки и плотно завязала их шнурками, болтавшимися сзади. Свет из маленького окна падал на нее полосой, и он смутно видел ее лицо. Оно было все такое же. Это удивило Ван Луна. Ему казалось, что эта ночь должна была изменить его; а эта женщина встала с его ложа совершенно так же, как вставала каждое утро в течение всей своей жизни. Кашель старика сердито раздавался в предрассветной тьме, и он сказал ей:
– Отнеси сначала отцу чашку горячей воды. Это помогает ему от кашля.
Она спросила, и голос ее при этом звучал совершенно так же, как вчера:
– Положить в чашку чайных листьев?
Этот простой вопрос смутил Ван Луна. Ему хотелось бы сказать: «Конечно, положи чайных листьев. Уж не думаешь ли ты, что мы нищие?»
Ему хотелось бы показать женщине, что чай в этом доме не считается ни во что. В доме Хванов, разумеется, каждая чашка воды зеленеет от чайных листьев. Там, наверное, даже рабыня не станет пить простую воду. Но он знал, что отец рассердится, если женщина в первый же день подаст ему чаю вместо воды. Кроме того, они и вправду небогаты. Поэтому он ответил небрежно:
– Чай? Нет, нет, – от чаю кашель у него становится хуже.
Потом он лежал в постели, угревшийся и довольный, а на кухне женщина разводила огонь и кипятила воду. Теперь он мог бы заснуть, но его глупое тело, которое за все эти годы привыкло подниматься рано, не желало спать, и он лежал, наслаждаясь роскошью праздности.
Он все еще стыдился думать о своей жене. Сначала он думал о своих полях и пшенице и о том, какой урожай он соберет, если пойдут дожди, и о семенах белой брюквы, которые он хотел купить у соседа Чина, если они сойдутся в цене. Но во все эти мысли, которые не выходили у него из головы каждый день, вплеталась новая мысль о том, какая жизнь у него теперь, и вдруг, думая о сегодняшней ночи, ему захотелось узнать, любит ли она его. Это было новое желание. До сих пор он хотел только знать, понравится ли она ему и подойдет ли для его ложа и для его дома. Хотя лицо ее было некрасиво и кожа на руках груба, крупное тело ее было нежно и нетронуто, и он засмеялся, думая о ней, коротким, жестким смехом, каким он смеялся во тьме прошлой ночью. Молодые господа не сумели ничего рассмотреть за этим некрасивым лицом кухонной рабыни. У нее было красивое тело, нежное и округленное, несмотря на худощавость и широкие кости. В нем вдруг возникло желание, чтобы она полюбила его как мужа, а потом ему стало стыдно.
Дверь открылась, и она вошла, по своему обыкновению молча, держа обеими руками дымящуюся чашку чаю для него. Он сел в постели и взял чашку. На поверхности воды плавали чайные листья. Он быстро взглянул на нее. Она сразу испугалась и сказала:
– Я не давала чая старику, я сделала, как ты сказал, но для тебя…
Ван Лун понял, что она боится его, и это ему польстило, и, прежде чем она кончила говорить, он ответил:
– Мне это нравится, я доволен, – и он начал пить чай, громко причмокивая от удовольствия.
В нем проснулась новая радость, и в ней он стыдился признаться даже самому себе: «Моя жена очень любит меня».
Ему казалось, что в первые месяцы он только и делал, что смотрел на свою жену. На самом деле он продолжал работать по-прежнему. Он клал мотыгу на плечо, отправлялся на свои участки земли и окапывал рядами посеянную пшеницу, и впрягал быка в плуг, и вспахивал западное поле под посевы лука и чеснока. Но работать было удовольствием, потому что, как только солнце поднималось к зениту, можно было идти домой, и там для него уже был готов обед, и пыль стерта со стола, и чашки с палочками аккуратно расставлены на нем. До сих пор, возвращаясь с поля, он должен был сам готовить обед, каким бы он ни чувствовал себя усталым, если проголодавшийся раньше времени старик не замешивал болтушки или плоской пресной лепешки с чесноком. Теперь, каков бы ни был обед, он был готов к его приходу, и Ван Лун садился на скамью за столом и ел. Пол был выметен, и куча топлива постоянно возобновлялась. Утром, после его ухода, жена брала бамбуковые грабли и веревку и бродила по окрестностям, срывая то клок травы, то ветку, то горсть листьев, и когда к полудню она возвращалась домой, у нее было достаточно топлива, чтобы приготовить обед. Муж был доволен, что им не нужно больше покупать топлива. После обеда она брала корзинку и мотыгу и, взвалив их на плечо, отправлялась на большую дорогу, ведущую в город, по которой проходили нагруженные мулы, ослы и лошади, собирала их помет, относила его домой и складывала в кучу на дворе, чтобы удобрять им поля. Все это она делала сама, не дожидаясь его приказаний. И когда день приходил к концу, она не ложилась до тех пор, пока не покормит на кухне быка, не достанет из колодца воды и, держа ведро у самой морды, не даст ему напиться вволю. Она собрала рваную одежду и нитками, которые она сама напряла из хлопковой ваты на бамбуковом веретене, починила ее и положила заплаты на дыры в их зимней одежде. Постели она вынесла на солнце к порогу и сняла чехлы одеял, и выстирала их, и развесила их на бамбуковом шесте сушиться. Вату, которая свалялась и почернела от времени, она перебрала, очистив от насекомых, кишевших в глубоких складках одеяла, и разложила на солнце. День за днем она делала одно дело за другим, пока все три комнаты не стали опрятными и почти зажиточными на вид. Старик стал меньше кашлять и, сидя на солнышке у южной стены дома, постоянно дремал, согревшийся и довольный. Но она никогда не разговаривала – эта женщина, разве только о самом необходимом. Ван Лун следил, как она неспешно и упорно двигается по комнате, наблюдал исподтишка ее неподвижное квадратное лицо, невыразительный и словно боязливый взгляд ее глаз, и не мог ее понять. Ночью он знал ее тело, нежное и упругое. Но днем все то, что он знал, закрывала одежда: простая синяя кофта и штаны из бумажной материи, и она была похожа на верную, молчаливую служанку, которая только служанка – и больше ничего. И не годилось спрашивать ее: «Почему ты молчишь?» – довольно было того, что она исполняет свои обязанности.
Иногда, разбивая комья земли в поле, он начинал думать о ней. Что она видела на этих ста дворах? Какова была ее жизнь, – жизнь, о которой она никогда не говорила с ним? А потом ему становилось стыдно своего любопытства и интереса к ней. Она была, в конце концов, только женщина.
Но в трех комнатах не так уж много дела, чтобы женщина была занята целый день, – женщина, которая была рабыней в знатном доме и привыкла работать с раннего утра до поздней ночи. Однажды, когда Ван Лун очень торопился окапывать пшеницу мотыгой и проводил день за днем в поле, пока спина у него не разбаливалась от усталости, ее тень упала на борозду, над которой он работал согнувшись, и он увидел, что она стоит позади него с мотыгой на плече.
– До темноты дома нечего делать, – сказала она коротко и молча, подойдя к борозде слева от него, неторопливо начала ее мотыжить.
Было раннее лето, солнце нестерпимо жгло, и скоро ее лицо покрылось каплями пота. Ван Лун снял куртку и работал с голой спиной, но она оставалась в своей тонкой одежде, которая пропотела и обтягивала плечи, словно вторая кожа. Двигаясь вместе с ней мерными движениями, без единого слова, час за часом, Ван Лун чувствовал, что сливается с ней в ритме работы, и от этого становилось легче работать. У него не было ни одной связной мысли, было только совершенное согласие движений в переворачивании комьев земли на солнце, – земли, из которой был сделан их дом, земли, которая их кормила и создавала их богов. Земля лежала рыхлая и темная и легко распадалась под ударами их мотыг. Иногда им попадался обломок кирпича или щепка. Это было неважно. Когда-то, много лет тому назад, здесь были похоронены люди, стояли дома, потом они рухнули и возвратились в землю. Так и их дома возвратятся когда-нибудь в землю, в землю же лягут и они сами. Всему свой черед на земле. Они продолжали работать, двигаясь вместе, вместе возделывая землю, безмолвные в этом совместном движении.
Когда солнце село, он выпрямил спину и посмотрел на жену. Ее лицо, влажное от пота и запачканное землей, было темно, как сама земля. Потемневшая от пота одежда облипала коренастое тело. Она медленно заравнивала последнюю борозду. Потом она сказала, как всегда просто и прямо, и в тихом вечернем воздухе голос ее звучал ровно и даже менее выразительно, чем всегда:
– Я беременна.
Ван Лун стоял неподвижно. Что было на это сказать?
Она нагнулась, подняла с борозды обломок кирпича и отшвырнула его прочь.
Для нее это было все равно что сказать: «Я принесла тебе чаю», все равно что сказать: «Давай обедать!» Это ей казалось самым обыкновенным делом.
Но для него… он не мог бы сказать, что это значило для него. Сердце у него быстро забилось и вдруг остановилось, словно у какой-то черты. Наконец наступил их черед на земле! Вдруг он взял мотыгу из ее рук и сказал хриплым от волнения голосом:
– Довольно на сегодня. День уже кончился. Пойдем и скажем старику.
Они пошли домой, она в десяти шагах позади него, как и подобает женщине.
Старик стоял у дверей, нетерпеливо дожидаясь ужина, которого теперь, когда в доме была женщина, он не готовил сам. Он был голоден и закричал им:
– Я слишком стар, чтобы столько времени ждать ужина!
Но Ван Лун, проходя мимо него в комнату, сказал:
– Она уже беременна.
Ему хотелось сказать это небрежно, как говорят, например: «Я засеял сегодня западное поле». Но он не смог. Хотя он говорил тихо, ему казалось, что он выкрикивает слова громче, чем следует.
Старик заморгал сначала, а потом понял и залился смехом.
– Хе-хе-хе! – обратился он к невестке, когда она подошла ближе. – Так, значит, скоро и жатва!
Ее лица не было видно в сумерках, но она ответила спокойно:
– Я сейчас приготовлю ужин.
– Да, да, ужин, – подхватил старик, следуя за ней, точно ребенок.
Как мысль о внуке заставила его забыть про ужин, так теперь новая мысль о еде заставила его забыть о ребенке.
Но Ван Лун сел в темноте на скамью за столом и опустил голову на сложенные руки. Вот из этого тела, из его чресл явится новая жизнь!
Глава III
Когда время родов приблизилось, он сказал жене:
– Нам нужно взять кого-нибудь в помощницы на это время, какую-нибудь женщину.
Но О Лан отрицательно покачала головой. Она мыла чашки после ужина. Старик ушел спать, и они остались одни в полутьме. Их освещало только колеблющееся пламя жестяной лампочки, наполненной бобовым маслом, в котором плавал скрученный из хлопка фитиль.
– Не нужно женщины? – спросил он в замешательстве. Теперь он начал привыкать к таким разговорам с ней, где ее участие ограничивалось только движением головы или руки, самое большое – одним-двумя словами, которые скупо ронял ее крупный рот. Он уже не тяготился такого рода беседой.
– В доме только двое мужчин, так не годится! – продолжал он. – Моя мать брала женщину из деревни. Я в таких делах ничего не смыслю. Разве нет никого в доме Хванов, никакой старухи рабыни, с которой ты дружила и могла бы позвать к себе?
Впервые он заговорил о доме, откуда она пришла. Она повернулась к нему, – он еще не видел ее такой: ее узкие глаза расширились, и лицо покраснело от гнева.
– Только не из этого дома! – закричала она.
Он уронил трубку, которую набивал табаком, и в изумлении посмотрел на нее. Но ее лицо опять было такое же, как всегда, и она молча собирала посуду со стола.
– Вот так штука! – сказал он в изумлении, но она не ответила. Потом продолжал начатый спор: – Мы, мужчины, ничего не смыслим в таких делах. Отцу не годится входить в твою комнату, а сам я ни разу даже не видел, как телится корова. Мои неловкие руки могут повредить ребенку. А вот кто-нибудь из большого дома, где рабыни постоянно рожают…
Она аккуратно сложила палочки на столе в ровную кучку, посмотрела на него и, помолчав, сказала:
– Когда я снова пойду в этот дом, я пойду с моим сыном на руках. На нем будет красный халатик и штаны в красных цветах, а на голову ему я надену шапочку с маленьким позолоченным Буддой, пришитым спереди, а на ноги – башмаки с тигровыми головами. И на мне будут новые башмаки и новый халат из черного шелка, и я пойду в кухню, где прошла моя молодость, и пойду в большой зал, где старуха сидит и курит опиум, и покажусь им сама, и покажу им своего сына.
Он еще никогда не слыхал, чтобы она столько говорила. Ее слова лились беспрерывно, хотя и медленно, и он понял, что она давно уже составила этот план. Работая в поле, рядом с ним, она обдумывала свой план. Удивительная женщина! Казалось, что она почти не думает о ребенке: так спокойно она продолжала работать день за днем. А она видела перед собой ребенка, уже родившегося и одетого с головы до ног, и себя, его мать, в новой одежде. Он не мог произнести ни слова и, тщательно скатав пальцами шарик из табаку и подняв с полу трубку, набил ее.
– Тебе, должно быть, понадобятся деньги, – сказал он наконец грубоватым тоном.
– Если бы ты дал мне три серебряные монеты, – сказала она робко. – Это очень много, но я все рассчитала и не истрачу зря ни гроша. Я не дам торговцу сукном обмерить себя.
Ван Лун порылся в поясе. Накануне он продал на рынке полтора воза тростника с пруда на западном поле, и у него в поясе было немного больше, чем она просила. Он выложил на стол три серебряные монеты. Потом, после недолгого колебания, он добавил четвертую, которую он берег давно, на тот случай, если захочется поиграть в кости как-нибудь утром в чайном доме. Но он всегда боялся проиграть и потому только подолгу застаивался у столов, слушая, как стучат брошенные на стол кости. Обычно он проводил остаток досуга в городе в палатке сказочника, где можно послушать старую сказку и положить не больше медяка в чашку, когда ее пустят по рукам.
– Лучше возьми еще монету, – сказал он, раскуривая трубку и раздувая тлеющий обрывок бумаги, чтобы он вспыхнул. – Из остатков шелковой материи ты сошьешь ему халатик. Ведь он у нас первый.
Она не сразу взяла монеты и долго стояла, смотря на них с неподвижным лицом. Потом она сказала полушепотом:
– Первый раз я держу в руках серебряные деньги!
Вдруг она схватила монеты и, зажав их в руке, быстро выбежала в спальню.
Ван Лун сидел и курил, думая о серебре. Мелкие серебряные монеты еще лежали на столе. Оно вышло из земли, это серебро, – из земли, которую он вспахал и засеял и над которой трудился. Он жил землей: он поливал ее своим потом и исторгал из нее зерна – серебро. Каждый раз, когда приходилось отдавать кому-нибудь серебро, он чувствовал, что отдает часть своей жизни. Но сегодня в первый раз он отдавал его без боли. Он видел не серебро, отданное в чужие руки городского купца, он видел серебро, превращенное в нечто более ценное, чем оно само, – в одежду на теле его сына. И эта необыкновенная женщина, его жена, которая целыми днями работала молча, словно не замечая ничего вокруг себя, первая представила себе ребенка в этой одежде!
Она не захотела никакой помощи, когда пришло ее время. Оно настало однажды вечером, после захода солнца, когда она работала с ним в поле, убирая урожай. Пшеница созрела и была сжата, и поле затопили и посадили молодой рис, а теперь и рис принес урожай, и колосья созрели и налились после летних дождей под жарким солнцем ранней осени. Весь день Ван Лун с женой жали, нагибаясь и подрезая стебли короткими косами. Ей было трудно сгибаться, потому что она была на сносях; двигалась она медленнее мужа, и работа шла неровно: скошенный ряд Ван Луна уходил вперед, а у нее оставался позади. День подвигался к вечеру, и она жала все медленнее и медленнее, и он в нетерпении обернулся и взглянул на нее. Тогда она остановилась и выпрямилась, и коса выпала у нее из рук. Лицо ее вновь оросилось потом, и это был пот новой муки.











