Читать онлайн 900 дней. Блокада Ленинграда
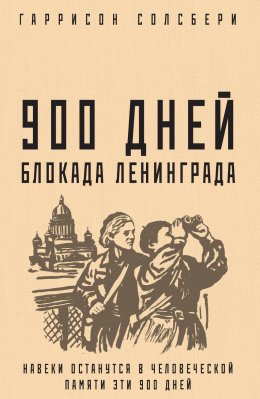
© Ржешевский О.А., предисловие, комментарии, наследники, 2023
© Вольская И.С., перевод с английского, наследники, 2023
© ООО «Яуза-каталог», 2023
Предисловие
Предлагаемая читателям книга – главная в обширном творческом наследии Г. Солсбери и, безусловно, лучшая из тех, что написаны за рубежом о трагедии и подвиге Ленинграда в годы Великой Отечественной войны.
Г. Солсбери родился в г. Миннеаполисе, крупном промышленном центре на севере США, где начал журналистскую деятельность. Его талант заметили, и в 22 года он был приглашен на работу в крупнейшее информационное агентство «Юнайтед пресс» (сейчас «Юнайтед пресс интернешнл»), а затем почти четверть века сотрудничал в газете «Нью-Йорк таймс», пройдя путь от корреспондента до одного из редакторов этой известной газеты.
В мировой печати о Солсбери сказано немало лестных слов. Его называют «гигантом американской журналистики, автором сенсационных статей на важнейшие и труднодоступные темы своего времени». До сих пор среди поклонников Солсбери нет единого мнения, в какой работе он больше преуспел. «Если бы он писал только книги, то его надо по праву считать одним из самых крупных писателей своего времени; если бы он остался только репортером, то занял бы одно из самых высоких мест в этой специальности; если бы он был только редактором, то ему, без сомнения, принадлежат лавры новатора в этом деле. Скорее всего, он преуспел везде», – писал о нем Э. Робертс, главный редактор газеты «Филадельфия инкуайер». Семейная жизнь Г. Солсбери была менее удачна. Отец двух сыновей, он прожил 17 лет со своей женой Мэри Холлис, но затем они развелись.
В чем секрет профессионального успеха Солсбери? Не только талант и огромная трудоспособность (он написал и опубликовал 29 книг), Солсбери избрал себе для работы «плавильный цех» мировой истории – борьбу двух систем, ее отражение в наиболее острых конфликтах своего времени, судьбах стран и народов.
В годы Второй мировой войны он на советско-германском фронте. Его яркие репортажи привлекли внимание, и вскоре он возвратился в СССР уже в качестве руководителя московского бюро газеты «Нью-Йорк таймс». Затем Солсбери работал в Китае и написал несколько книг об этой стране. В 1966 году добился аккредитации в Ханое и освещал войну во Вьетнаме.
Свою главную книгу «900 дней. Осада Ленинграда» он писал двадцать пять лет, но издания ее в нашей стране не дождался, хотя страстно этого желал. «Мне вспоминается, – свидетельствует член-корреспондент РАН В.А. Шишкин, – каким откровением для многих ленинградских историков стало появление крупной художественно-документальной работы видного американского историка и журналиста Гаррисона Солсбери «900 дней. Осада Ленинграда», ставшей доступной на английском языке в конце шестидесятых – начале семидесятых годов».
Солсбери – противник советского строя. Так же он относился к Китаю, Вьетнаму и другим социалистическим странам. Но как журналист и историк он видел и не скрывал многое из того позитивного, что было в этих странах, стремился к объективности. Отношение к нему на родине, как и следовало ожидать, было усеяно не только розами. Он удостоился многих премий и наград, в том числе престижной премии Пулитцера за серию репортажей из СССР, но правоконсервативные круги США обвинили его в симпатиях к коммунистам. Находясь во Вьетнаме, Г. Солсбери поставил под сомнение официальную версию об американских бомбардировках как «санитарной операции», рассказал, что их объектом и жертвой является в первую очередь гражданское население. «Он вызвал гнев администрации президента Л. Джонсона, но оказался прав», – писала британская газета «Индепендент» об этих репортажах. Возвратившись из-за рубежа, Солсбери привлекает внимание общественности к тому, что было неприемлемо в своей стране. Одним из таких «объектов» явилась грязь на улицах Нью-Йорка. Он подсчитал, что ежедневно ее собирали десятками тонн. Серьезными последствиями для автора едва не закончились публикации против расовой дискриминации в США. Власти южных штатов завели судебное дело. Но аргументы Солсбери были убедительны, и в конечном итоге апелляционный суд США отклонил обвинения в его адрес и принял постановление, в котором говорилось, что Г. Солсбери и газета «Нью-Йорк таймс» «представили репортаж высшего качества».
Успех лучших книг и других работ Г. Солсбери объясняется их общественным звучанием, остротой тематики, глубиной ее раскрытия и, конечно, привлекающим внимание широкого читателя ярким литературным стилем автора.
Книга Г. Солсбери читается «без иголки». С первых страниц ощущаешь поистине неуемное стремление автора «снизу доверху» раскрыть тему блокадного Ленинграда – от повседневной жизни и настроений рядовых граждан города до оценки высшего политического и военного руководства страны; от освещения конкретных событий того времени до ближних и дальних экскурсов в историю, с ними связанных.
Кольцо сухопутной блокады вокруг Ленинграда замкнулось 8 сентября 1941 года, но события, которые привели к этому, начались 22 июня, когда фашистская Германия и ее союзники обрушили на нашу страну удар невиданной в истории армии вторжения: 190 дивизий (более 5,3 млн чел.), свыше 4 тысяч танков, более 47 тысяч орудий и минометов, около 4,5 тысячи самолетов, до 200 кораблей. Им противостояли 186 советских дивизий (около 3,1 млн чел.), более 3,9 тысячи танков, 10 тысяч самолетов (включая авиацию Северного, Балтийского и Черноморского флотов). На решающих направлениях своего наступления агрессор создал значительное превосходство в силах. Началась Великая Отечественная война советского народа против немецко-фашистских захватчиков. Она длилась 1418 дней и ночей.
Это было одно из тягчайших испытаний, когда-либо пережитых нашей страной. Решалась не только судьба государства, но и будущее мировой цивилизации.
История не знает более чудовищных преступлений, чем те, которые совершили гитлеровцы. Фашистские орды превратили в руины десятки тысяч городов и деревень. Они убивали и истязали людей, не щадя женщин, детей, стариков. Расовая ненависть, захватнические устремления и звериная сущность фашизма слились воедино в политике, стратегии и методах ведения войны.
В результате фашистского нашествия Советский Союз потерял около 27 млн чел. убитыми, 30 % национального богатства. Более 1 млн советских воинов погибло, освобождая народы Европы и Азии от оккупантов.
Советский Союз по планам нацистской клики должен был быть расчленен и ликвидирован. На его территории предполагалось образовать четыре рейхскомиссариата – германские провинции. Москву, Ленинград и некоторые другие города предписывалось взорвать, затопить и полностью стереть с лица земли. Нацистское руководство подчеркивало, что действия германской армии должны носить особо жестокий характер, требовало беспощадного уничтожения не только воинов Красной армии, но и гражданского населения.
Вожделенной целью немецко-фашистских захватчиков являлось порабощение и уничтожение русского народа. «Речь идет не только о разгроме государства в Москве, – говорилось в одном из документов немецкого плана «Ост», – достижение этой исторической цели никогда не означало бы полного решения проблемы. Дело заключается, скорее всего, в том, чтобы разгромить русских как народ, разобщить их. Только если эта проблема будет рассматриваться с биологической, в особенности с расово-биологической точки зрения (нацистские теоретики объявили русских, всех славян, евреев и цыган «недочеловеками». – O.P.) и если в соответствии с этим будет проводиться немецкая политика в восточных районах, появится возможность устранить опасность, которую представляет для нас русский народ».
Германская агрессия против Советского Союза готовилась еще с середины 30-х годов. Война против Польши, а затем кампании в Северной и Западной Европе временно переключили немецкую штабную мысль на другие проблемы. Но и тогда подготовка агрессии против СССР оставалась в поле зрения гитлеровцев. Она активизировалась после разгрома Франции, когда, по мнению фашистского руководства, был обеспечен тыл будущей войны и в распоряжении Германии оказалось достаточно ресурсов для ее ведения.
18 декабря 1940 года Гитлер подписал директиву № 21 под условным наименованием «план «Барбаросса», содержавшую общий замысел и исходные указания о ведении войны против СССР.
Стратегической основой плана «Барбаросса» служила оправдавшая себя в войне на Западе теория блицкрига – молниеносной войны. Планом предусматривался разгром Советского Союза в ходе быстротечной кампании максимум за пять месяцев, еще до того, как будет закончена война против Великобритании.
Генерал Г. Блюментрит писал в докладе, подготовленном к совещанию высшего руководства сухопутных войск 9 мая 1941 года: «История всех войн с участием русских показывает, что русский боец стоек, невосприимчив к плохой погоде, очень нетребователен, не боится ни крови, ни потерь. Поэтому все сражения от Фридриха Великого до мировой войны были кровопролитными. Несмотря на эти качества войск, русская империя никогда не добивалась победы. В настоящее время мы располагаем большим численным превосходством… Наши войска превосходят русских по боевому опыту… Нам предстоят упорные бои в течение 8–14 дней, а затем успех не заставит себя ждать, и мы победим».
Гитлеровское руководство было настолько уверено в своих расчетах, что примерно с весны 1941 года приступило к детальной разработке дальнейших планов завоевания мирового господства. В специальных штабных поездах вычерчивались направления ударов фашистских армий, опоясавшие весь земной шар.
Они были изложены в проекте директивы № 32 от 11 июня 1941 года «Подготовка к периоду после осуществления плана «Барбаросса».
Проект предусматривал, что после разгрома советских вооруженных сил вермахт захватит английские колониальные владения и некоторые независимые страны в бассейне Средиземного моря, Африке, на Ближнем и Среднем Востоке, вторгнется на Британские острова, развернет военные действия против Америки. В дальнейшем совместно с милитаристскими кругами Японии вынашивались замыслы захвата Американского континента.
Ключевые позиции для порабощения мира, как представлялось агрессорам, давал «молниеносный» поход против СССР.
Международная обстановка накануне войны была крайне неблагоприятна для Советского Союза. К этому времени агрессоры оккупировали 12 стран Европы: Австрию, Чехословакию, Албанию, Польшу, Данию, Норвегию, Бельгию, Голландию, Люксембург, Францию, Югославию, Грецию. Вермахт был в зените своих зловещих побед. Франция, великая держава, оказалась поверженной за 44 дня. Угроза вторжения нависала над Великобританией. Итало-немецкие войска проникли в Африку и развернули наступление на Египет. Милитаристская Япония, захватив обширные районы Китая, готовилась к удару против СССР на Дальнем Востоке, колониальных владений США и других государств на Тихом океане.
То, что вооруженная схватка неизбежна, в Советском Союзе понимали и готовились к ней. Тем не менее для армии и народа война оказалась во многом неожиданной. Советское политическое руководство надеялось, что Германия еще будет соблюдать договор о ненападении, подписанный с Советским Союзом, полагало, что война Германии на два фронта немыслима. Расчет на то, что как минимум до 1942 года удастся воспрепятствовать вовлечению СССР в войну, оказался несостоятельным и поставил вооруженные силы страны в крайне трудное положение. К началу войны практически в любой сфере их подготовки к обороне наряду с положительными результатами имелись серьезнейшие недостатки, а нередко и труднообъяснимые провалы.
Необъективная оценка реальных возможностей своих войск и противника, во многом отражавшая уровень военного мышления того времени и диктаторского единовластия, была, по нашему мнению, наиболее тяжелым по своим последствиям просчетом военного руководства СССР. 28 декабря 1940года командующий Западным Особым военным округом генерал армии Д.Г. Павлов, войска которого противостояли силам вермахта на направлении их главного удара, утверждал, что советский танковый корпус способен решить задачу уничтожения одной-двух танковых или четырех-пяти пехотных дивизий противника. 13 января 1941 года на совещании в Кремле с участием высшего командного и политического состава вооруженных сил начальник Генерального штаба генерал армии К.А. Мерецков сделал следующее заявление: «При разработке Устава мы исходили из того, что наша дивизия значительно сильнее дивизии немецко-фашистской армии и что во встречном бою она, безусловно, разобьет немецкую дивизию. В обороне же одна наша дивизия отразит удар двух-трех дивизий противника. В наступлении полторы наших дивизии преодолеют оборону дивизии противника».
В этих условиях вынужденный переход к стратегической обороне и внезапность мощнейшего удара вермахта заведомо ставили наши войска в критическое положение, хотя общее количественное превосходство в танках, самолетах, артиллерии и было на стороне Красной армии.
Среди причин неготовности СССР к отражению агрессии Солсбери выделяет просчеты советского руководства в оценках сведений о немецких военных приготовлениях, сосредоточении войск вермахта на советских границах, донесений Р. Зорге и других данных разведки, предупреждений, поступивших из Великобритании и США. «Факты свидетельствуют, – пишет он, – что Сталин, Жданов и другие получали донесения разведки, но всегда неверно их истолковывали: как провокацию или как подтверждение, что прямой угрозы пока нет», и необходимые меры для обороны страны не принимались. За прошедшие со времени выхода книги десятилетия стали известны многие другие сведения о готовящемся нападении Германии на СССР, своевременно поступившие в Москву. Тем не менее ситуация была не столь проста и однозначна. «Нужно признать, – отмечают современные аналитики, – что прилагаемые вермахтом и спецслужбами Германии усилия по дезинформации руководства СССР и командования Красной армии относительно истинных целей сосредоточения немецких войск на западных рубежах Советского Союза (у советского руководства должно было создасться впечатление, что на территории бывшей Польши и Восточной Пруссии осуществляется отмобилизование, боевая подготовка и отдых войск для генерального вторжения на Британские острова) в определенной степени увенчались успехом» (Органы Государственной безопасности СССР в Великой Отечественной войне. Сб. документов. Т. 1. Предс. ред. коллегии С.В. Степашин. М., 1995. С. 2). К этому следует добавить, что и по дипломатическим каналам поступало немало дезинформации, а срок нападения на СССР переносился Гитлером неоднократно: дата 22 июня была назначена только за 6 дней до начала войны. Тем не менее в распоряжении советского руководства имелось более чем достаточно сведений, которые требовали приведения приграничных войск, в том числе соединений и частей Ленинградского военного округа, в боевую готовность. Однако это важнейшее решение своевременно не было принято. Советские войска лишь частично были развернуты на предусмотренных планом прикрытия рубежах, находились преимущественно на значительном удалении от границы в районах расквартирования или лагерях.
В результате неблагоприятного для Советского Союза исхода приграничных сражений немецко-фашистские войска в короткие сроки продвинулись в северо-западном направлении на 400–500 километров, в западном – на 450–600 километров, в юго-западном – на 300–350 километров, захватили территорию Латвии, Литвы, часть Эстонии, Украины, почти всю Белоруссию и Молдавию, вторглись на территорию РСФСР, вышли на дальние подступы к Ленинграду, угрожали Смоленску и Киеву. Над страной нависла смертельная опасность.
Наступавшая через Прибалтику на Ленинград группа армий «Север» в составе 29 дивизий (16-я, 18-я полевые армии, 4-я танковая группа, 1-й воздушный флот), совместно с которой действовали финские армии, наступавшие на Ленинград и Петрозаводск, была одним из наиболее боеспособных объединений вермахта. Она была скрытно сосредоточена в Восточной Пруссии и под видом «штаба участка Восточной Пруссии» завершила подготовку к войне. Войска группы армий ранее участвовали в агрессии против Польши и Франции, где ее командующий В. Лееб за успешное преодоление линии Мажино (он командовал группой армий «Ц») получил звание генерал-фельдмаршала.
В войне на Западе приобрели боевой опыт практически все командующие армиями, корпусами и дивизиями (Э. Буш, Г. Кюхлер, Э. Гёпнер, Г. Рейнгардт, Э. Манштейн, Г. Линдеман и другие), как и большинство остального состава группы войск. Советские войска такого опыта не имели. Следует добавить, что в составе группы армий «Север», кроме финских армий, в битве за Ленинград принимали участие: испанская «Голубая дивизия», голландский и норвежский легионы, немало австрийцев, словенцев, эльзасцев и лиц других национальностей оккупированных Германией стран. Три дивизии группы армий предназначались для охраны тылов и борьбы против партизан.
Г. Солсбери в целом объективно и эмоционально рассказывает о полных драматизма боях на ленинградском направлении, самоотверженной борьбе наших пехотинцев, моряков и летчиков с противником. Ценой огромных потерь именно они, ведомые своими командирами и комиссарами, остановили наступление у стен города. Особое значение в замедлении темпов немецкого продвижения имели оборона Таллина, Лужского рубежа, Моонзундского архипелага и полуострова Ханко, сражение на ближних подступах к Ленинграду.
Две главы книги («Ленинград в блокаде» и «Самая долгая зима») посвящены тяжелейшим испытаниям, которые обрушились на жителей Ленинграда так же неожиданно, как появление противника у его стен. Вначале это были артиллерийские обстрелы и воздушные бомбардировки, которым по своей силе и продолжительности не подвергался ни один город в годы Второй мировой войны. Существует немало документов, раскрывающих расчеты гитлеровцев на уничтожение таким путем Ленинграда. 20 октября 1941 года эсэсовский палач Р. Гейдрих докладывал руководителю карательных служб Германии, одному из главарей нацистской Германии Г. Гиммлеру: «Командир айнзацгруппы «А» бригадефюрер Штальэкер (эти группы занимались уничтожением советского населения – O.P.) доложил мне, что, по сведениям агентов, вернувшихся из Петербурга, разрушения в городе еще весьма незначительны. Пример бывшей польской столицы показал, что даже самый интенсивный обстрел не вызывает желательных разрушений. По моему мнению, в таких случаях надо орудовать массовым использованием зажигалок и фугасов. Я покорнейше прошу напомнить при случае фюреру, что если вермахту не будут отданы абсолютно точные и строгие приказы, то оба вышеупомянутых города не смогут быть разрушены».
Но самым губительным явился голод, который унес до 800 тыс. жизней. Г. Солсбери воссоздает перед читателем картину великой трагедии ленинградцев и в то же время их патриотизм, стойкость и мужество.
В советские годы эти главы книги, такие ее разделы, как «Город смерти», «Ленинградский апокалипсис», «Смерть, смерть, смерть», подвергались критике (в том числе и автором данного предисловия) за то, что негативные краски в книге необоснованно сгущены. Некоторые факты и оценки, которые содержатся в книге, ставились под сомнение. И сейчас нельзя согласиться с его утверждением, что «жуткие лишения превращали и взрослых и детей в зверей», и тому подобными, не имеющими границ обобщениями. В то же время ныне доступные документы подтверждают многое из того, что пишет Солсбери о негативных сторонах жизни города в условиях первой, наиболее тяжелой блокадной зимы и во что трудно было поверить, читая книгу.
Рассматривая наиболее кризисные периоды блокады, когда и в Кремле, и в Смольном были вынуждены считаться с вероятностью захвата немецко-фашистскими войсками города, Г. Солсбери пишет об интригах Г. Маленкова и В. Молотова против А. Жданова, связанных с судьбой Ленинграда, а И. Сталин, по его словам, был готов «пожертвовать Ленинградом, чтобы спасти Москву». Эти выводы он делает на том основании, что по приказу из Москвы важнейшие промышленные и оборонные объекты Ленинграда, военно-морские корабли, охранявшие город, подготовили к взрыву. Это было сделано на случай, если противник все же сумеет преодолеть оборону Ленинграда. Думается, что интриги здесь ни при чем. Тем более затруднительно ответить на вопрос, к чему был готов или не готов Сталин.
Исторически сложилось так, что в наиболее критические для страны летние и осенние месяцы 1941 года военные судьбы Ленинграда и Москвы тесно переплелись и были взаимосвязаны. Ожесточенное сопротивление на рубежах продвижения вермахта к Ленинграду и Москве лишили германские войска той ударной силы, которая была необходима для взятия с хода и Ленинграда и Москвы, как это предусматривалось планом «молниеносной войны» против СССР. Г. Солсбери выделяет события середины сентября1941 года. В эти дни началась переброска 4-й танковой группы Гёпнера на московское направление, где заканчивалась подготовка к операции «Тайфун», завершающему наступлению к главной цели – Москве. К концу сентября движение немецких войск на Ленинград задохнулось. Соединиться с финскими войсками они также не смогли. «Жуков выиграл. Ленинград выиграл», – констатирует Г. Солсбери. В битве за Москву кризис наступил в октябре, когда развернулось сражение на ближних подступах к столице. В конечном итоге немецко-фашистские войска под Москвой были разгромлены. С Ленинградского фронта противник уже не смог для их поддержки перебросить значительные силы.
Ранее неизвестные документы также показывают, что Москва, страна делали все или почти все для того, чтобы оказать помощь осажденному Ленинграду. При всех ошибках, просчетах, волюнтаристских решениях, принимался максимум возможных мер для доставки в Ленинград продовольствия и военных усилий с целью прорыва блокады.
Были предприняты четыре попытки прорыва блокады Ленинграда. Первая в сентябре 1941 года, на третий день после того, как гитлеровские войска перерезали сухопутные коммуникации с городом; вторая – в октябре 1941 года, несмотря на критическое положение, сложившееся на подступах к Москве; третья – в январе 1942 года в ходе общего контрнаступления Красной армии, которое лишь частично достигло своих целей; четвертая – в августе – сентябре 1942 года. Основными причинами неудач являлся недостаток выделявшихся для этого сил и средств. Все это время снабжение Ленинграда осуществлялось главным образом через Ладожское озеро, легендарную Дорогу жизни. И только в январе 1943 года, когда основные силы вермахта были стянуты к Сталинграду, блокада была прорвана и на узкой полосе южного берега Ладожского озера была создана железнодорожная связь со страной. Это был переломный момент в Ленинградской битве.
Нельзя оставить без внимания появившиеся в средствах массовой информации заявления некоторых авторитетов, которые ставят под сомнение необходимость обороны Ленинграда и едва ли не объявляют напрасными жертвы защитников города. Что это: наивные расчеты на милость победителей? С военной точки зрения падение Ленинграда означало возможность переброски армий, осаждавших город, на московское направление, где в критические моменты битвы, по выражению командующего группы армий «Центр» фельдмаршала Ф. Бока, «все решали последние батальоны», не говоря о других катастрофических последствиях. С моральной точки зрения такие заявления безнравственны. Они лишают молодое поколение исторического здравомыслия, оскорбляют память о жертвах и подвиге защитников Ленинграда. Пересматривая прошлое, необходимо прежде всего знать и помнить, какое значение то или иное событие имело в конкретно сложившейся исторической обстановке, как его воспринимали современники.
Президент США Ф. Рузвельт в Почетной грамоте, направленной защитникам Ленинграда, писал: «От имени народа Соединенных Штатов Америки я вручаю эту грамоту городу Ленинграду в память о его доблестных воинах и его верных мужчинах, женщинах и детях, которые, будучи изолированными захватчиками от остальной части своего народа и несмотря на постоянные бомбардировки и несказанные страдания от холода, голода и болезней, успешно защищали свой любимый город в течение критического периода с 8 сентября 1941 г. по 18 января 1943 г. и символизировали этим неустрашимый дух народов Союза Советских Социалистических Республик и всех народов мира, сопротивляющихся силам агрессии».
За последние годы издан ряд ценных книг, посвященных битве за Ленинград. В первую очередь это заслуга традиционно сильной школы историков, работающих в городе на Неве, институтов и отделений Российской академии наук, Института военной истории Министерства обороны. Среди этих трудов, подготовленных на основе или с учетом ранее недоступных документов, такие книги, как «Ленинград в осаде» (сб. документов. Ответ. редактор А.Р. Дзенискевич); «Ленинградская эпопея» (ред. коллегия: В.М. Ковальчук, Н.А. Ломагин, В.А. Шишкин); «Ленинград в борьбе месяц за месяцем 1941–1944» (ред. коллегия: Н.И. Барышников, Б.П. Белозеров, А.Р. Дзенискевич (ответ. редактор), И.З. Захаров, В.М. Ковальчук, Ю.И. Колосов, Г.А. Олейников, Г.Л. Соболев); «Краснознаменный Балтийский флот в Великой Отечественной войне» в четырех книгах (ответ. редактор адмирал флота В.А. Касатонов; ред. – составитель капитан 1-го ранга П.Я. Вольский). Эти труды позволяют уже с позиций современных научных знаний оценить книгу Г. Солсбери. Нет сомнения, что изучение битвы за Ленинград будет продолжаться.
Г. Солсбери завершает книгу словами: «Навсегда останутся в памяти эти 900 дней». Можно с уверенностью сказать, что в нашей стране его книге суждена долгая жизнь.
10.06.96
О.А. Ржешевский
Глава I
Бесконечная ночь
- Я не напрасно беспокоюсь,
- Чтоб не забылась та война:
- Ведь эта память – наша совесть.
- Она,
- Как сила, нам нужна…
Белые ночи
Холод и ветер. Холод и ветер. Ленинградская весна 1941 года. В мае выпал снег. Мимо Зимнего дворца шагали демонстранты в пропитанных влагой пальто, в мокрых ботинках. Июнь тоже был холодным, и казалось, балтийский туман не рассеется никогда. В этом не было ничего необычного, когда Петр Великий на невском болоте основал новую столицу: не о климате и не о покое он заботился.
В четверг 19 июня и на следующий день бушевали грозы, погода менялась. Наконец 21 июня – день летнего солнцестояния. Вырвалось из-за туч солнце, и вдруг яркая голубизна неба радостно простерлась над городом.
Ленинград подтверждал слова Пушкина: «Но наше северное лето карикатура южных зим». День солнцестояния – особый, самый долгий в году. Бесконечный день и самая белая из «белых ночей», когда сумерки даже в полночь не наступают, когда так и не сходит на землю ночь.
Перемена ветра, мягкое солнечное тепло. И чудесным образом преобразилась Нева, из серой – в голубую, сверкающую. Овеянный ароматом цветущих лип, черемухи, жасмина, город стал праздничным. В старых зданиях университета, построенного еще в XVIII веке, экзамены закончились 21 июня, и наступили каникулы. В белые ночи происходили «гулянья». От Университетской набережной, через Дворцовый мост. Молодые люди в синих выглаженных костюмах, девушки в легких белых платьях… Песни под баян, под гитару. Встречи в кафе на Невском проспекте. У «Кафе-мороженого» – в одиннадцать, у «Зеленой лягушки» – в полночь, на углу Елисеевского магазина – в час ночи. Очереди весь вечер возле «Астории» и «Европы», а внутри – молодежь, танцующая фокстрот под модную песенку, ставшую популярной благодаря Эдди Рознеру с его джазом, выступавшим в «Метрополе»: «Мы встретимся снова во Львове, я и моя любовь».
Эта весна в Ленинграде казалась неустойчивой – не только из-за погоды. Кто мог знать, сколько еще продлится непрочный мир, когда второй год шла Вторая мировая война. Правительство заверило Ленинград (и остальную Россию), что нацистско-советский пакт, подписанный в августе 1939 года, накануне войны, гарантирует, что на страну не нападут. Пропагандисты на партийных собраниях ленинградских предприятий постоянно повторяли, что обе страны, подписавшие договор, обязались не нападать друг на друга, и давали понять, что подвергнуть это сомнению равносильно государственной измене. Передовицы «Правды» приветствовали небывалую эру сотрудничества, при котором Россия отдавала Третьему рейху пшеницу и нефть в обмен на машины (и военную технику). Но ленинградцы все же беспокоились, в них жило мучительное недоверие к нацистам. Что бы ни говорил Сталин, весь ход войны показывал, что нельзя верить обещаниям Адольфа Гитлера. Следя за развитием событий, ленинградцы знали, что после раздела Польши между Германией и Россией осенью 1939-го нацистские танки в 1940 году быстро двинулись на Данию, Норвегию, Францию; ошеломляющее впечатление произвело варварское воздушное нападение люфтваффе на Англию. Рядовых русских граждан ужаснуло это свидетельство силы фашистов.
А весной 1941-го еще большую тревогу вызвала у ленинградцев новая кампания вермахта – стремительная успешная война против Югославии, быстрое завоевание Греции, оккупация острова Крит, угроза Суэцкому каналу со стороны быстроходных войск Роммеля в Северной Африке. Теперь, одержав победу на Европейском континенте, на кого обратят нацисты следующий удар? Очевидно, на Англию. Но время от времени в Ленинграде возникали слухи, что у Гитлера в списке следующей была Россия. Москва эти слухи опровергала (в последний раз всего неделю назад); и вряд ли кто-нибудь мог открыто поставить под сомнение решительные заверения Сталина относительно пакта с Берлином. Безопасней одобрить линию партии, глубоко запрятав любые сомнения. Но тревога жила во многих душах. Ведь если – вопреки всем обязательствам, обещаниям, заверениям – Гитлер все же нападет на Россию, в опасности будет Ленинград, город исторически, традиционно военный, созданный Петром в 1703 году в качестве бастиона, защищавшего русскую землю от шведов, поляков, литовцев, финнов, немцев.
Но мало кто всерьез думал об угрозе нацизма, отправившись в отпуск – на острова Финского залива, на морское побережье или озера, отвоеванные зимой 1939–1940 годов у Финляндии. День был слишком прекрасен, предзнаменования – обнадеживающими. Большинству ленинградцев казалось, что положение их города надежней, чем когда-либо, с тех пор, как в 1918 году Ленину пришлось временно опять перевести столицу России в Москву из-за опасности вторжения немцев. Но «временный» перевод стал постоянным: Финляндия, Латвия, Эстония и Литва после 1917 года отошли от России; финско-советская граница проходила в 30 километрах от Ленинграда и захватить город не стоило большого труда.
Теперь благодаря Зимней войне с Финляндией у Ленинграда появилось небольшое пространство для маневров. Правда, ради этого пространства совершено было жестокое нападение на маленькую соседнюю страну. Граница отодвинулась на многие километры, и, когда летом 1940 года Сталин принудил Прибалтийские государства опять войти в Советский Союз, Ленинград получил новое защитное прикрытие вдоль Балтийского побережья.
Великолепная погода в день летнего солнцестояния… В предвоскресный день город быстро опустел. Сотрудники газеты «Ленинградская правда» получили дачу на Лисьем Носу возле Финского залива, примерно в 30 километрах от Ленинграда. В субботу материал для воскресного утреннего номера был заблаговременно сдан – никаких особенных событий, и сразу после обеда большинство редакционных сотрудников смогли отправиться на отдых.
Не все в этот день имели возможность уехать из Ленинграда. Иосиф Орбели, директор музея Эрмитаж, провел день за своим письменным столом в огромной картинной галерее на Дворцовой площади. Это был человек с бородой Юпитера, похожий, как считали друзья, на библейского пророка. Его одолевали десятки проблем. Только что, 26 мая, после долгих усилий открыли новый отдел русской культуры. Ящики, в которых было по меньшей мере 250 тысяч экспонатов для нового отдела, загромоздили хранилища, загораживая запасные выходы: готовились летние экспедиции; в музее бригада маляров после первомайских праздников, установив леса, еще не приступила к работе. Подошло самое беспокойное для музея время года, и задержка в работе сердила. Орбели позвонил в строительный трест, там пытались отделаться обещаниями начать работы «как можно раньше», но он тогда лишь повесил трубку, когда точно была назначена дата: понедельник, 23 июня.
Орбели поздно ушел из музея. В воскресенье, наверное, будет много посетителей. Надо все привести в порядок. На письменном столе остался номер «Ленинградской правды», где синим карандашом была обведена статья под заглавием: «Тамерлан и Тимуриды[1] в Эрмитаже». В ней описывались два зала, посвященные остаткам материальной культуры Моголов. Орбели знал, что это привлечет дополнительных посетителей в воскресенье. В Ленинграде стали проявлять большой интерес к Тамерлану. А неделю назад прибыла научная экспедиция в Самарканд для изучения усыпальницы Гур-Эмир, где похоронен Тамерлан. Это делалось в связи с подготовкой материалов к 500-летию Алишера Навои, великого поэта эпохи Тамерлана. Ежедневно «Ленинградская правда» печатала сообщение из Самарканда о ходе работы. В среду корреспондент ТАСС рассказал о том, как с гробницы Тамерлана была снята плита из зеленого нефрита. «Народная легенда, сохранившаяся до наших дней, – писал корреспондент ТАСС, – гласит, что под этим камнем – источник ужасной войны…» Это многих читателей рассмешило. Какое фантастическое суеверие – думать, что, сдвинув древний камень с места, можно развязать войну! В феврале «Ленинградская правда» сообщала, что гроб Тамерлана раскрыли. Изучение скелета привело к выводу, что одна нога короче другой. Принято было считать Тамерлана хромым, и теперь это подтвердилось.
В субботнем номере газеты сообщений из Самарканда не было. Может быть, поэтому, размышлял Орбели, напечатали статью о выставке в музее. Он запер кабинет, пожелал спокойной ночи дежурному у служебного входа и пошел на Дворцовую площадь.
Это был, по мнению Орбели, самый впечатляющий архитектурный ансамбль в мире – великолепный Зимний дворец и Эрмитаж вдоль набережной Невы, на другой стороне площади – массивное здание Генерального штаба и арка, в центре – колонна в честь Александра I.
Держава, империя выразила себя в этом ансамбле. Империя ощущалась с того дня, когда Петр ценой десятков тысяч жизней стал погружать массивные громады в болото в устье Невы, строить Петропавловскую крепость, затем военно-морскую базу Кронштадт на одном из сотен островов в дельте Невы и, наконец, дворцы, проспекты, грандиозные площади. И возникли пышные сравнения – второй Париж, Северная Венеция. Петербург стал именовать Екатерину II Северной Семирамидой, и ее столица приобрела наконец название, которое очень нравилось Орбели, – Северная Пальмира. Семирамида, Пальмира, древняя малоазиатская романтика, тайна, проникшая в лед и зиму Русского Севера. Санкт-Петербург, Петроград, Ленинград, Пальмира – как ни назови, нет города, ему равного, несмотря даже на то, что вид из петровского «окна в Европу» омрачила, затуманила сталинская тирания.
Адмиралтейство с тонкой остроконечной иглой. Через Неву с ним как бы перекликались шпиль Петропавловской крепости и фасад университета на Петроградской стороне.
Орбели повернул к великолепному Невскому проспекту, который поэт Александр Блок считал «самым лирическим, самым поэтичным в мире». Там, как нигде, чудилась в женщинах неразгаданная тайна. Там их внешность напоминала о неведомой красоте, о призрачности надежд… Город всегда производил глубокое впечатление: на некоторых угнетающее, таинственное, трагическое, другим он казался эфирно-легким, чудесным, волшебным. Ленин видел здесь жестокую эксплуатацию, трущобы, созревшие для агитации, тайных заговоров, революции. Для Романовых это был центр вселенной, местопребывание абсолютной власти, которую благословила православная церковь.
Город всегда вызывал представление о высшем совершенстве. Он покорял величием пространств, красотой планировки, сочетанием воды и камня, массивных гранитных зданий и стройных мостов, низко нависшими небесами и бесконечным зимним холодом и снегом. Мастерская России, российская лаборатория, колыбель российской науки и искусства. Здесь открыл свою периодическую систему элементов Менделеев. Павлов здесь вырабатывал у собак условные рефлексы. Здесь Мусоргский писал свою неистовую мрачную музыку, покоряли сердца великих князей прелестные ножки Павловой, императорский балет дал миру Бакста, Дягилева, Фокина и Нижинского.
Ленинград был центром творческой жизни России. В субботу 21 июня весь день шли репетиции в залах Государственной балетной школы на Александрийской площади. Возглавлявшая русскую балетную школу великая Агриппина Ваганова была строгой воспитательницей. В воскресенье 22-го предстояло выступление в кордебалете Мариинского театра по случаю 30-й годовщины со времени дебюта балерины Е.М. Луком. А в среду 25-го должен был состояться выпускной спектакль класса Вагановой – балет «Бэлла». Вагановой было 63, но она была по-прежнему энергична, и, по словам одной из ее учениц, «мадам Ваганова была, как всегда, строга».
В ту субботу Карл Эллиасберг, руководитель симфонического оркестра Ленинградского радиокомитета, вернулся домой на Васильевский остров довольно поздно. У него тоже весь день были репетиции. Теперь он сел почитать газету и обратил внимание, что в воскресенье в Екатерининском дворце в Пушкине откроется выставка по случаю столетия со дня смерти Лермонтова. Он решил пойти. У другого крупного музыканта, композитора Дмитрия Шостаковича, были совсем другие планы. Шостакович, футбольный болельщик, днем в субботу купил билеты на матч, который должен был состояться на стадионе «Динамо» в воскресенье 22-го.
В субботу жизнь кипела в студиях «Ленфильма» на Петроградской стороне. Там, на Кировском проспекте, 10, на территории старого сада «Аквариум» (где когда-то Ледяной дворец восхищал поколения петербургской молодежи) скоро должен был выйти фильм о композиторе Глинке. Людмила, жена драматурга Александра Штейна, весь день готовила патриархальные боярские бороды, костюмы для Черномора, Руслана и Людмилы, приводила в порядок изящные старинные головные уборы, называвшиеся в России «кокошниками». В понедельник начнутся съемки. Штейн отсутствовал. Будучи офицером запаса, он в начале весны был призван в армию на три месяца. Срок его службы закончился несколько дней назад, и он поехал отдохнуть на новый писательский курорт, расположенный в Карелии, в нескольких километрах севернее Ленинграда, на территории, недавно принадлежавшей финнам.
В субботу, в нескончаемом сумраке белой ночи, он сидел на каком-то шатком деревянном крылечке и беседовал с товарищем, драматургом Борисом Лавреневым. Вечер был тихий, но позже Штейн вспоминал, что видел ракеты далеко на горизонте, а около четырех ночи, когда он уже шел спать, ему послышался гул авиационных моторов над Финским заливом.
В субботу весь день продолжалось движение в Смольном. Смольный – комплекс зданий, построенных в классическом русском стиле вдоль Невы, некогда Институт благородных девиц, а с 1917 года символ революции. Здесь во время государственного переворота в ноябре 1917-го большевики с Лениным во главе установили свой командный пункт, здесь с тех пор помещалось руководство ленинградской партийной организации.
В эту субботу в Ленинградском городском комитете партии проводился так называемый расширенный пленум – общее заседание, на котором секретари горкома, директора заводов, специалисты народного хозяйства, представители профсоюзов и городского управления обсуждали ряд важных вопросов – выполнение директив, одобренных XVIII Всесоюзной партийной конференцией, и новые планы промышленного строительства.
Заседание в актовом зале Смольного, где когда-то Ленин провозгласил победу революции большевиков, закончилось поздно. Некоторые делегаты отправились домой. Другие, как и многие ленинградцы, прогуливались по широким проспектам в полночном струящемся свете. Они останавливались, глядя с интересом на прикрепленные к фонарным столбам афиши, в которых сообщалось, что завтра в Мариинском театре в балете Прокофьева «Ромео и Джульетта» будет танцевать Уланова. Другие афиши оповещали: «Антон Иванович сердится». Не все делегаты понимали, что это реклама нового фильма, который скоро пойдет в кинотеатрах. Они в недоумении качали головами и следовали дальше, заглядывая в яркие витрины магазинов Невского проспекта.
Высшие руководители, присутствовавшие на заседании, не гуляли. Они пошли в свои кабинеты и сидели у телефонов, ожидая звонка. Перед уходом из Смольного их по секрету предупредили: «Не уходите далеко. Сегодня что-то может произойти».
Что именно может произойти, им не сообщили. Приученные старательно исполнять приказы партии, не задавая вопросов, они сидели теперь у своих телефонов, курили, сосредоточенно рассматривали горы бумаг, которыми были постоянно завалены их столы, не понимая, в чем дело.
И все же не все оставались в кабинетах. Михаил Козаков, парторг Сталелитейного завода, поехал к семье на дачу, находившуюся в нескольких километрах от Ленинграда. Там не было телефона, и поэтому шофер вернулся на завод, чтобы предупредить его, если что-нибудь случится.
В окрестностях Пушкина, старого императорского Царского Села, с его липовыми аллеями, величественными парками, окружавшими изящный Екатерининский дворец работы Растрелли, пьянящий аромат и полумрак привлекали десятки парочек. Здесь, где когда-то жили Пушкин и Александр Блок, гуляло ночи напролет новое поколение российской молодежи – у многих только что начались каникулы. Проходя мимо приземистых зданий, так называемого Полумесяца, у ворот дворца они останавливались. Из открытых окон лились незабываемые звуки. Это композитор Гавриил Попов с женой играли на двух роялях в смежных комнатах, разделенных лишь портьерами. Опера Попова «Александр Невский» репетировалась в Мариинском театре, осенью предстояла премьера.
Екатерининский парк был прибежищем художников. Неподалеку отсюда композитор Борис Асафьев работал над инструментовкой своей оперы «Славянская красавица» для Бакинского оперного театра к предстоящему фестивалю, посвященному Низами. В соседнем помещении писатель Вячеслав Шишков, день или два назад вернувшийся из Крыма, где проводил отпуск, сидел за столом над корректурой большого исторического романа.
Всю зиму молодой писатель Павел Лукницкий проработал в одном доме с Шишковым (бывшая дача Алексея Толстого стала писательским Домом отдыха). 16 июня Лукницкий, стройный, смуглый, энергичный, красивый, еще не женатый, закончил роман и отправил его в издательство. Теперь он находился в Ленинграде, еще не зная, где проведет лето. Можно бы поехать в Карелию, на новый писательский курорт. Там красивые парки, пляж. Во всяком случае, он примет приглашение, накануне присланное по почте. Писательская организация устраивала экскурсию в Карелию для осмотра бывшей укрепленной линии Маннергейма, которая после Зимней войны перешла в руки Советского Союза. Специальные автобусы будут отправлены точно в 7.30 утра 24 июня.
В большом доме под номером девять на канале Грибоедова, недалеко от Невского проспекта, поэт Виссарион Саянов беседовал всю субботнюю ночь со старым другом, заводским рабочим, с которым встретился зимой во время Финской войны. Саянов был военным корреспондентом, его друг – политруком в разведывательном подразделении. За бутылкой водки они вспоминали жестокий холод в лесах Финляндии, товарищей, уцелевших и погибших. Свободный вечер, посвященный воспоминаниям. Они расстались далеко за полночь. Саянов – поэт, среднего возраста, круглолицый, очки в золотой оправе – прошелся немного с другом, прежде чем идти спать. Город затих в предутренний час; ночное преломленное освещение смягчило цвета, сгустило тени, окрасило громады каменных зданий в тончайшие оттенки. Издалека доносились молодые голоса. Они пели известную советскую песню «Далеко… далеко…», печальную песню о влюбленном, который тоскует о любимой и о доме. Протяжная песня росла, ясная и чистая. В конце улицы появилась компания студентов, платья девушек белели на фоне темного тротуара, на ребятах были светлые рубашки и темно-синие брюки. Они медленно шли, взявшись за руки, в их пении ощущалась редкая таинственная красота.
Кроме гуляющей молодежи, почти весь Ленинград спал. На Петроградской стороне писательница Вера Кетлинская заметила, как худенький паренек остановился и поднял на плечи девушку, чтобы она могла сорвать цветок с нависавшей ветки жасмина. Оба подошли к Каменноостровскому мосту на Малой Невке, мост был разведен, они ждали на набережной, и девушка вздрагивала от ночного холода. Когда парень попытался ее обнять, она своенравно вырвалась и заявила:
– Одной глупости я никогда не сделаю – не выйду за тебя замуж.
– Но почему? – безнадежно допытывался паренек. – Почему?
– Сама не могу понять.
Наконец разводной мост опустили. Они молча перешли его, в руках девушки осталась ветка жасмина. Расстались на углу.
– Федя, – вдруг позвала она.
– Что?
– Ничего… Приходи завтра, я тебе отдам книги.
– Ладно. Если уйдешь, оставь их маме. Я днем зайду.
И они исчезли. Проспект был пустынен и тих. Ленинград спал спокойно в эту ночь, которая и ночью не была… Самая долгая белая ночь.
Спали не все
Не все спали в ту ночь. Не спал генерал армии Кирилл Мерецков, заместитель народного комиссара обороны, который в полночь 21 июня сел в Москве в экспресс «Красная стрела» и отправился в срочную командировку в Ленинград. Час за часом стоял он, глядя в окно своего купе. Вокруг полированное красное дерево, много медной отделки, на полу ковер – брюссельский, умывальник – французского производства. Он ехал в бывшем международном вагоне французской компании спальных вагонов, доставшемся в наследство от имперского прошлого. Севернее Москвы прожекторы «Красной стрелы» разрывали тьму; поезд мчался по прямому пути, проложенному еще при Николае I. Горизонт стал медленно светлеть. Мерецков хорошо знал эти места. В 1939–1940 годах он командовал Ленинградским военным округом. Именно Мерецков руководил советскими войсками в период Зимней войны с Финляндией. Ленинград он знал со времен революции. Почти каждый участок березовых и хвойных лесов между Москвой и Ленинградом был ему знаком.
Ландшафт за окном в холодном утреннем свете. На бледно-голубом небе всходило солнце. Поезд нырнул в густую зелень, затем помчался через водянистые топи. Стоявший у окна Мерецков услышал вдруг глухой отзвук колес на мосту, и перед ним возникли тихие воды реки Волхов. И опять болота, хвойные леса. Опять болота…
Видя снова ленинградскую землю, генерал Мерецков испытывал растущее волнение – волнение и тревогу – и чувство гордости. Здесь ощущалась история. Вспомнились пушкинские строки:
- Красуйся град Петров и стой
- Неколебимо, как Россия…
Он молча смотрел в окно, лицо было задумчивым, напряженным. Поезд мчался к столице Петра. По прибытии предстояло много дел.
Возле Невского порта пассажирских и товарных перевозок расположено управление Балтийского торгового флота в помещениях, с виду похожих на казарму. 21 июня в субботу здесь возросла уверенность, что происходит нечто странное. Никто с определенностью не знал, что именно. Больше всего тревожило молчание Москвы, наркомата.
Началось в пятницу. Когда Николай Павленко, заместитель начальника политотдела, пришел в свой кабинет утром в пятницу, он обнаружил на письменном столе загадочную радиограмму за подписью «Юрий». Сообщение – незашифрованное – было получено перед самым рассветом. В нем говорилось: «Задержан. Выйти из порта не могу. Не отправляйте другие суда… Юрий… Юрий… Немецкие порты удерживают советские суда… Протест… Юрий… Юрий…»
Почти наверняка сообщение это было передано с советского грузового судна «Магнитогорск», разгружавшегося в немецком порту Данциг. Радистом на «Магнитогорске» был Юрий Стасов, и в центре по приему радиограмм узнали характерный для него стиль сообщения.
Что это значило? Что делать? «Магнитогорск» на радиограммы не отвечал. В немецких портах находились еще пять советских судов. От них также ни слова. Сообщение «Юрия» было передано в Москву. Никакой реакции.
Павленко так дело не оставил и позвонил Алексею Кузнецову, секретарю Ленинградского обкома, испрашивая указаний. Кузнецов предложил принять меры предосторожности, но предупредил, что «вопрос, по-видимому, решается в Москве». В данный момент ничего нельзя было сделать в отношении судов, уже находящихся в немецких водах, но руководство флота решило другие больше на Запад не отправлять, пока не выяснится, что происходит. Моторное судно «Вторая пятилетка» и пароход «Луначарский», направлявшиеся в германские порты, получили распоряжение остаться в Финском заливе и быть готовыми зайти в Рижский или Таллинский порт.
Весь субботний день торговый флот ждал указаний из Москвы. Их не последовало. Павленко опять обратился к секретарю обкома Кузнецову, и тот согласился, чтобы «Вторая пятилетка» отправилась в Ригу, а «Луначарский» вернулся в Ленинград. Это была инициатива, необычная для советских бюрократов, не привыкших действовать без приказа Москвы. Тем временем судам, находящимся в балтийских водах, велели поддерживать постоянную связь с Ленинградом.
Вечером состоялось заседание руководителей торгового флота. Воскресенье – день выходной, но они решили сделать его рабочим для руководящих сотрудников. Остальные останутся в городе; если понадобится, их быстро вызовут. Руководители управления и политотдела вместе со своими заместителями, включая Павленко, просидели большую часть вечера за письменными столами и наконец пошли домой.
Ленинградский военный округ охватывал огромный район. В случае войны он стал бы командным центром региона, простирающегося от Балтийского моря до арктических просторов Кольского полуострова. Ему подчинялся (в той мере, в какой это касалось наземных операций) адмирал Арсений Головко, командующий Северным флотом, находившийся в городе Полярном недалеко от Мурманска. Адмирал Головко сообщал все более тревожные сведения. За последнюю неделю наблюдались полеты немецких разведывательных самолетов над советскими объектами. Что делать? Ответ был: «Избегайте провокации. Не ведите огонь на большой высоте».
Головко все больше тревожился. В прошлую среду, 18 июня, в Мурманск прибыл генерал-лейтенант Маркиан Попов, командующий Ленинградским военным округом, непосредственный начальник Головко во взаимосвязанной советской системе командования. Головко надеялся, что ситуация прояснится, но ничего подобного не произошло. Попов ограничился вопросами строительства укреплений, новых аэродромов, складов и казарм. Если и располагал он сведениями о текущих событиях, то, во всяком случае, не разглашал их.
«Очевидно, он знает не больше нас», – записал Головко в своем дневнике 18 июня.
«Печально. Подобная неясность сулит не особенно приятные перспективы в случае неожиданного нападения. Вечером Попов уехал в Ленинград. Я провожал его до Колы. Он угостил нас на прощание пивом в своем специальном вагоне, и на этом наша встреча закончилась.
Из Москвы тоже ничего определенного. Ситуация по-прежнему неясная».
И в четверг 19 июня она не прояснилась. Участились полеты немцев над нашей территорией. И в пятницу – ничего не известно. В субботу Московский музыкальный театр имени Станиславского, отправившийся на летние гастроли по стране, давал в Мурманске «Периколу» Оффенбаха. Головко решил пойти. Он пригласил также члена Военного совета А.А. Николаева и начальника штаба вице-адмирала С.Г. Кучерова. Театр был полон. Не хватало мест, и часть публики стояла.
Головко расслабился, музыка прогнала тревогу; то же, судя по лицам, произошло с его спутниками.
Беззаботной казалась и публика, возможно, оттого, что присутствовали Головко с помощниками. «Раз начальство здесь, значит, дело не так плохо», – читал он на лицах публики, гулявшей в фойе в антрактах.
На обратном пути в штаб Николаев и Кучеров говорили только об оперетте. Прибыли около полуночи, Головко попросил подать чай и занялся отчетом об обстановке на данный момент.
В расположении командования обороны Ленинграда в Кингисеппе на Моонзундском архипелаге у Балтийского побережья Эстонии майор Михаил Павловский провел субботу 21 июня. Он много дней получал донесения о необычной активности немцев, но в субботу ничего нового не произошло. Когда Павловский уже собирался уходить, позвонил его друг из 10-го пограничного полка майор Сергей Скородумов.
– Как ты смотришь на то, чтобы вместе со своей половиной пойти в театр? Будет концерт ансамбля песни и пляски НКВД, я взял билеты.
Павловский сказал, что спросит жену.
– Сегодня были инциденты? – поинтересовался он.
– Абсолютно спокойно, – ответил Скородумов.
Обе пары пошли на концерт. Потом возвращались домой. Город затих, многие уже спали, хотя было светло как днем.
Когда Павловский с женой, уже дома перед сном, обсуждали предстоящую в воскресенье поездку за город, раздался телефонный звонок. Вызывали в штаб.
– А в чем дело? – спросила жена Павловского.
– Не знаю, Клава. Ничего не знаю. Может быть, учения.
Поцеловав жену, он осторожно, чтобы не разбудить спящих детей, открыл дверь и вышел из дому. Приближалась полночь.
В других пограничных районах происходило то же, что в Ленинградском.
21 июня застало генерала армии Ивана Федюнинского командиром 15-го стрелкового корпуса, который базировался в Ковеле и оборонял участок Центрального фронта в районе реки Буг. Напряженность возросла с тех пор, как 18 июня, в среду, в расположение части перебежал немецкий солдат и сообщил, что нацисты готовятся напасть на Россию 22 июня в четыре часа утра[2]. Когда Федюнинский доложил об этом своему начальнику, генералу М.И. Потапову, командовавшему 5-й армией, тот коротко ответил: «Не верьте провокациям». Но в пятницу, возвращаясь с маневров, Федюнинский встретил генерала Константина Рокоссовского. Рокоссовский, командир механизированного корпуса, приданного 5-й армии, не отмахнулся от свидетельства о надвигающемся нападении фашистов. Он вполне разделял озабоченность Федюнинского[3].
Федюнинский поздно ушел домой в субботу вечером. Не спалось. Он встал, закурил папиросу у открытого окна. Взглянул на часы. Один час тридцать минут ночи. Не нападут ли немцы сегодня? Все казалось спокойным. Город спал. Звезды искрились в глубокой синеве неба.
«Неужели это последний мирный день? – подумал Федюнинский. – Что будет утром?»
Телефонный звонок прервал размышления. Звонил начальник, генерал Потапов: «Где вы?» – «У себя», – отвечал Федюнинский. Потапов ему велел немедленно отправиться в штаб и ждать звонка по особо секретному телефону, так называемому ВЧ.
Федюнинский не стал ждать машину и, накинув на плечи шинель, помчался в штаб. Телефон ВЧ не работал. Он дозвонился по обычному телефону, и Потапов ему приказал поднять по тревоге дивизию. «Но не отвечайте на провокации», – настаивал Потапов. Положив телефонную трубку на рычаг, Федюнинский услышал выстрелы. Это нацистские диверсанты, проскользнувшие через границу, вели огонь по машине, которая была за ним послана, чтобы привезти его в штаб[4].
Вице-адмирал Владимир Трибуц, командующий Балтийским флотом, в чью обязанность входила оборона морских подступов к Ленинграду, с явной тревогой следил за событиями мрачной весны 1941 года. Возможно, больше любого другого советского офицера Трибуц был осведомлен об активности германских самолетов, подводных лодок, транспортов, германских агентов и сторонников. В какой-то мере вопреки желанию (из-за проблем безопасности и трудностей строительства новой базы) он перевел штаб Балтийского флота из крепости Кронштадт, исторического местопребывания флота, на 300 километров западнее, в Таллинский порт. Трибуц обрел наблюдательный пункт в пределах недавно приобретенных и лишь частично освоенных прибалтийских территорий. Уже в марте 1941-го он доложил о прибытии германских войск в Мемель, как раз по другую сторону советской прибалтийской границы. В том же месяце полеты германских самолетов над балтийскими базами стали обычным явлением. К июню, по сведениям адмирала Трибуца, не менее четырехсот немецких танков сосредоточились в нескольких километрах от советской границы.
Поведение германских инженеров, направленных работать для советского военно-морского флота, еще больше заставляло задуматься. В конце 1939 года русские купили у Германии недостроенный крейсер «Лютцов», затем переправили его в Ленинград весной 1940-го, чтобы достроить на крупных судостроительных верфях. Несколько сот немецких специалистов работали на «Лютцове». Однако в апреле из Германии не прибыли вовремя детали оборудования и запасные части, хотя до этого немцы были исключительно пунктуальны. Трибуц доложил об этом адмиралу Н.Г. Кузнецову, народному комиссару Военно-морского флота, который сообщил об этом Сталину. Однако Сталин лишь предложил следить за обстановкой.
Немного позже немецкие инженеры стали возвращаться домой под тем или иным предлогом. К концу мая в Ленинграде их оставалось лишь 20, к 15 июня убыли последние.
Одновременно из советских территориальных вод исчезли германские суда. К 16 июня не осталось ни одного. Трибуц так беспокоился, что в четверг 19 июня созвал заседание Военного совета и решил объявить на флоте готовность № 2. Начальник штаба вице-адмирал Юрий Пантелеев стал быстро составлять приказы, а Трибуц позвонил в Москву адмиралу Кузнецову.
«Товарищ народный комиссар, – сказал Трибуц, – мы пришли к выводу, что нападение Германии может произойти в любой момент. Надо ставить минные заграждения, иначе будет поздно. И повысить оперативную готовность флота».
Он выслушал Кузнецова и, повесив трубку, сказал Пантелееву: «Повысить оперативную готовность разрешил, но приказал проявлять осторожность, не поддаваться на провокацию. А с минными заграждениями придется подождать. Ну, приступим к делу…»
Вечером 21 июня морские рубежи Ленинграда – Балтийский флот, береговые базы, береговая артиллерия до самой Либавы (Лиепаи) на западе, караульные посты на островах в Балтийском море, крепость на арендованном недавно полуострове Ханко, а также подводные лодки, сторожевые катера и другие силы морского базирования – все были приведены в готовность № 2. Это лишь на ступеньку ниже всеобщей готовности к началу боевых действий. Выданы боеприпасы. Отменены отпуска. На посту команды в полном составе.
Сам Трибуц и его штаб переехали из Старого города на командный пункт, находившийся в подземном убежище за пределами Таллина.
Еще одно тревожное сообщение поступило к Трибуцу со сторожевого судна, подводной лодки М-96, находившейся у входа в Финский залив. Капитан А.И. Маринеско сообщил, что 21 июня часа в 4 утра видел конвой из 32 транспортов, многие транспорты шли под германским флагом.
В тот вечер Трибуц поддерживал непрерывную связь с адмиралом Кузнецовым, находившимся в Москве. Народный комиссар – человек с большим военным опытом, с юных лет в Военно-морском флоте, – был в середине 30-х годов военно-морским советником в Испании во время гражданской войны. Он разделял тревогу Трибуца, но не имел возможности действовать без указаний высшего командования. На свою ответственность он привел флот в готовность № 2, но формально это называлось учебными маневрами. А на деле это была мера предосторожности на случай внезапной войны[5].
Трибуц и Кузнецов снова совещались после получения вечерней оперативной сводки от заместителя начальника штаба В.А. Алафузова (начальник штаба адмирал И.С. Исаков уже отбыл в Севастополь на маневры Черноморского флота).
По мнению Трибуца, обстановка настолько опасна, что он и его штаб собираются оставаться на командном пункте всю ночь; Кузнецов повторял, что в отношении дальнейших действий у него руки связаны. Оба с тяжелым чувством закончили разговор.
Вечером разговор с командованием Черноморского флота, находившимся в Севастополе, и командованием Северного флота – в Полярном, еще больше взволновал Кузнецова, он тоже решил не уходить на ночь домой. И снова звонил командующим флотами, предупреждая, чтобы они были наготове.
«До позднего вечера 21 июня, – отмечал в своих воспоминаниях Кузнецов, – Верховное командование было спокойно. Меня никто не вызывал, и готов ли флот – никто не интересовался».
Где-то между 10.30 и 11 вечера Кузнецову позвонил маршал Семен Тимошенко, нарком обороны, и сообщил: «Есть очень важная информация. Приезжайте»[6].
Кузнецов отправился немедленно, вместе со своим заместителем Алафузовым (которого очень беспокоило, что его форменная одежда измялась и некогда переодеться). Наркомат обороны на улице Фрунзе, недалеко от Военно-морского штаба; они вошли в кабинет Тимошенко, находившийся в небольшом здании напротив подъезда № 5.
«После удушливого жаркого дня, – вспоминает Кузнецов, – прошел кратковременный освежающий ливень, стало чуть прохладней». По бульвару одна за другой гуляли молодые парочки, где-то поблизости танцевали, из раскрытого окна доносились звуки патефона.
Они поднялись на второй этаж Наркомата обороны. Тяжелые красные портьеры чуть колыхал ветерок, но было так душно, что, входя в кабинет, Кузнецов расстегнул китель. За столом сидел генерал Георгий Жуков, начальник Генерального штаба. Маршал Тимошенко диктовал телеграмму, а Жуков заполнял телеграфный бланк. Перед ним лежала пачка бланков, из которой больше половины он уже заполнил. Оба, видимо, работали уже несколько часов.
«Есть вероятность, что немцы нападут, – сказал Тимошенко. – Надо привести флот в готовность».
«Меня эти слова встревожили, – вспоминает Кузнецов, – но они вовсе не были неожиданными. Я доложил, что флот приведен в состояние высшей боевой готовности, ждет дальнейших приказаний. На несколько минут я задержался, чтобы в точности уяснить ситуацию, Алафузов же бегом вернулся в свой кабинет послать на флоты срочные радиограммы.
«Только бы они не опоздали», – подумал я, возвращаясь к себе».
Кузнецов немедленно позвонил Трибуцу. «Не прошло и трех минут, – пишет Кузнецов, – как я услышал голос Владимира Филипповича Трибуца. – «Не дожидаясь посланной вам телеграммы, приводите флот в боевую готовность № 1. Боевая тревога. Повторяю: боевая тревога».
Не знаю, когда точно Наркомат обороны получил приказ: «Будьте готовы отразить врага». Но я никакой информации до 11 вечера 21 июня не получал. В 11 часов 35 минут вечера я закончил телефонный разговор с командующим Балтийским флотом. А в 11.37, как записано в оперативном журнале, была объявлена боевая готовность № 1, то есть буквально в течение 2 минут все подразделения флота стали получать приказ «отразить возможное нападение»[7].
Медленно длилась ночь, не похожая на ночь.
Позднее Кузнецов писал: «Бывают события, которые забыть нельзя. Теперь, четверть столетия спустя, я отчетливо помню трагический вечер 21–22 июня».
Роковая суббота
Много лет спустя после той субботы 21 июня 1941 года адмирал Н.Г. Кузнецов пытался мысленно воссоздать, что тогда происходило за кулисами – в Кремле, в Наркомате обороны, в высших сферах Советского государства. Он вспоминал, что день выдался необычно спокойным. Обычно телефон бывал непрерывно занят – звонили наркомы, руководящие работники, особенно часто Иван Носенко и Вячеслав Малышев – руководители оборонной промышленности, которых он звал «неугомонными». Звонки шли потоком часов до шести вечера, когда высшие руководители отправлялись обычно домой – пообедать и немножко отдохнуть перед возвращением на работу. Они привыкли оставаться в своих учреждениях до двух-трех часов ночи на случай, если позвонит Сталин, работавший почти всю ночь. Нарком, которого не было на месте в момент звонка от «Хозяина»[8], к утру мог перестать быть наркомом.
Но суббота завершилась спокойно. Не звонили ни Малышев, ни Носенко. Словно в этот обычно полувыходной день – на сей раз такой чудесный, теплый, летний – большинство руководителей уехало за город (после обеда). К вечеру Кузнецов позвонил наркому обороны Тимошенко. Но ответили, что нарком уехал. И начальника Генерального штаба генерала Жукова не оказалось на месте.
Что-нибудь случилось в Москве? Неужто прошел этот июньский чудесный день, а в Кремле на то, что происходит, не обращают внимания?
Но в одном правительственном учреждении не было покоя. В Наркомате иностранных дел, расположенном среди разбросанных облупившихся зданий на Лубянке. Небольшая площадь отделяла его от здания из красного кирпича – Главного управления НКВД. С 6 мая пост председателя Совета Народных Комиссаров перешел к Сталину, а Молотов сосредоточился на дипломатической работе. Но, оставаясь заместителем председателя Совнаркома, он обычно днем работал в Наркоминделе, а вечером в Кремле. По личному указанию Сталина (вероятно, после жаркого, долгого обсуждения в Политбюро) Молотов составил точные инструкции, которые в зашифрованном виде были переданы по телеграфу советскому послу в Берлине Владимиру Деканозову[9].
Деканозову дали указание потребовать срочную аудиенцию у министра иностранных дел Иоахима фон Риббентропа и представить «устную ноту протеста» в связи с ростом полетов немецкой авиации над советской территорией. В ноте указывалось количество полетов – 180 за период с 19 апреля до 19 июня. Некоторые самолеты вторгались в глубь советской территории на 100–150 километров[10]. Предполагалось, что Деканозов обсудит затем с Риббентропом общее состояние советско-германских отношений, выскажет озабоченность по поводу их явного ухудшения, упомянет слухи о возможности войны и выразит надежду, что конфликта можно избежать.
Деканозов должен был заверить Риббентропа, что Москва готова на переговоры, чтобы улучшить обстановку.
Зашифрованные указания для Деканозова были получены берлинским посольством в субботу рано утром. В Берлине, как и в Москве, погода была прекрасная. Жители собирались поехать за город, многие – в парки Потсдама или Ванзее, где начинался купальный сезон.
Настроение в советском посольстве было безмятежным. После скучной утренней пресс-конференции в нацистском министерстве иностранных дел, проводившейся обычно по субботам, зашел корреспондент ТАСС И.Ф. Филиппов. В это время советский пресс-атташе докладывал Деканозову содержание утренних немецких газет. Филиппов сообщил послу, что иностранные корреспонденты задавали ему вопросы по поводу слухов о нападении Германии на Россию, что некоторые в ожидании возможных новостей собирались остаться в Берлине на субботу и воскресенье. Он писал затем в своих воспоминаниях: «Казалось, посол не придал большого значения моим новостям». Но все же Деканозов, когда ушли остальные, попросил его остаться и спросил, что Филиппов думает относительно этих слухов. Тот сказал, что к слухам надо отнестись серьезно, учитывая многие факты, которыми располагает посольство. Но посол убеждал его: «Не стоит впадать в панику. Это на руку нашим врагам. Надо правду отличать от пропаганды». И они расстались. Перед уходом Филиппов сообщил, что в воскресенье собирается съездить в район Ростока. Деканозов одобрил его намерение, сообщив, что и сам хочет прокатиться на машине.
Даже если Деканозов и был встревожен полученным из Москвы предписанием добиваться срочной беседы с Риббентропом, он и виду не показал в разговоре с Филипповым.
Первый секретарь посольства Валентин Бережков получил задание позвонить на Вильгельмштрассе и организовать встречу с Риббентропом. Однако дежурный на Вильгельмштрассе заявил, что Риббентроп в отъезде. Бережков пытался связаться с бароном Эрнстом фон Вайцзеккером, государственным секретарем министерства иностранных дел. Безуспешно, он также отсутствовал. Немного позднее Бережков снова позвонил. Никого из ответственных сотрудников министерства не было. Он периодически звонил и наконец часам к 12 связался с Эрнстом Верманом, начальником политического отдела министерства иностранных дел. Верман ничем не мог помочь[11].
«Мне кажется, – сказал Верман, – что у фюрера какое-то важное совещание. Видимо, все они там. Если дело срочное, сообщите мне, я постараюсь связаться с руководством.
Между тем Деканозову было предписано говорить только с Риббентропом.
Из Москвы начались срочные звонки в Берлин, в советское посольство. Молотов приказывал действовать. Однако посольство могло лишь сообщить, что прилагаются все усилия, чтобы связаться с Риббентропом, но безуспешно.
День прошел, волнение возрастало. Вечер наступил – Риббентропа нет. Ушли домой сотрудники посольства, Бережков остался и уже механически, через каждые полчаса, звонил на Вильгельмштрассе.
Окна советского посольства выходили на Унтер-ден-Линден. Сидя у телефона, Бережков глядел в окно. Берлинские жители, как всегда по субботам, гуляли под любимыми липами на бульваре; женщины по-летнему в ярких ситцевых платьях; мужчины, в основном немолодые (вся молодежь в армии), – в темных, довольно старомодных костюмах; неизменный полицейский в уродливой «шуцманской» каске стоял, прислонившись к стене у ворот посольства.
На письменном столе Бережкова лежал субботний номер «Фёлькишер беобахтер», в котором была статья Отто Дитриха, гитлеровского руководителя прессы, – разглагольствования об «угрозе», нависавшей над планами Гитлера по созданию тысячелетнего рейха.
«Трудно было, – вспоминает Бережков, – забыть о слухах и о том, что последняя дата нападения – 22 июня – может подтвердиться».
Казалось все более странным, что в течение целого дня невозможно связаться ни с Риббентропом, ни с Вайцзеккером, который всегда немедленно принимал советского посла в случае отъезда министра.
Бережков продолжал звонить. И каждый раз дежурный офицер повторял: «Мне не удалось связаться с министром, но я помню, принимаю меры…»
Наконец в 9.30 вечера Вайцзеккер принял Деканозова. Советский посол высказал претензию в связи с вторжениями нацистских самолетов. Вайцзеккер ответил кратко: он передаст содержание «устной ноты» в соответствующие инстанции, но ему сообщали о массовых нарушениях границы советскими, а не германскими самолетами, поэтому у германского, а не у советского правительства есть причина выражать недовольство.
Деканозов пытался поговорить о том, что Москва вообще обеспокоена развитием советско-германских отношений, но безуспешно.
Короткая запись, которую сделал фон Вайцзеккер для фон Риббентропа, показывает, насколько велика была неудача Деканозова: «Когда господин Деканозов пытался продолжить разговор, я ему сказал, что, поскольку наши мнения совершенно не совпадают, я должен подождать, чтобы узнать мнение моего правительства, и лучше пока в эти вопросы не углубляться. Ответ поступит позже. Посол согласился с таким решением и уехал.
В субботу 21 июня в Лондоне был чудесный день. Солнечный, теплый, «сочетание, для Лондона не столь уж частое», как отметил в своих мемуарах Иван Майский, советский посол в Великобритании.
На Кенсингтон-Палас-Гардене, 18, в советском посольстве, Майский торопливо закончил работу и к часу дня уже ехал с женой в Бовингтон к Хуану Негрину, который был премьер-министром Испанской республики с 1937 по 1939 год. В последний год Майский и его жена почти каждую субботу и воскресенье проводили в доме Негрина, километрах в семидесяти от Лондона.
Они прибыли в Бовингтон в начале третьего.
«Какие новости?» – спросил Негрин, пожимая руку Майскому.
Тот повел плечами: «Ничего особенного, но положение угрожающее, в любой момент что-то может произойти». Он, конечно, подразумевал нападение Германии на Россию.
Стараясь не думать о многочисленных донесениях, в которых он предупреждал Москву о возможном нападении Германии, Майский снял темный в тонкую полоску костюм дипломата, надел фланелевый, летний, и отправился гулять по саду. Он сидел на скамье на зеленой лужайке, откинув назад голову, чтобы по лицу струились теплые солнечные лучи. Воздух, пронизанный пьянящими ароматами лета… Но не думать об опасности было невозможно, как он ни пытался. Неожиданно его позвали к телефону. Секретарь посольства сообщал из Лондона, что британский посол в Москве сэр Стаффорд Криппс, в это время проводивший отпуск в Англии, хочет видеть его немедленно.
Майский сел в машину и через час опять был в Лондоне. Криппс, несколько взволнованный, ждал его в посольстве. «Помните, – сказал Криппс, – я неоднократно предупреждал Советское правительство, что немцы вскоре нападут?[12] Ну а теперь есть достоверные сведения, что нападение будет завтра, двадцать второго июня, в крайнем случае двадцать девятого июня. Я хотел вам об этом сообщить».
Майский срочно телеграфировал в Наркоминдел. Было около 4 часов дня (по московскому времени семь вечера). Затем он вернулся в Бовингтон, в тихую сельскую местность, к теннисным кортам, к ароматам лета – и всю ночь не мог заснуть.
Между Лондоном и Москвой разница во времени три часа. Не ранее восьми вечера по московскому времени, а возможно и после девяти, удалось расшифровать в Наркоминделе срочную телеграмму Майского. К этому времени Молотову все еще ни слова не сообщили из Берлина относительно попытки Деканозова провести переговоры с Риббентропом[13].
Может быть, под влиянием телеграммы Майского или скорее из-за того, что Деканозову не удалось провести переговоры с фон Риббентропом, Молотов пригласил в свой кремлевский кабинет германского посла графа Фридриха Вернера фон Шуленбурга на 19 часов 30 минут вечера.
Молотов и Шуленбург часто встречались в лучшую пору советско-германского пакта. Беседы теперь стали более редкими, контакты осуществлялись не на столь высоком уровне. Приглашение в Кремль явилось для Шуленбурга неожиданностью.
Начиная разговор, Молотов выразил недовольство по поводу нарушения германской авиацией советских границ. Но Шуленбург сразу понял, что это лишь предлог для обсуждения отношений вообще, в частности, того, что Молотов назвал признаками недовольства германского правительства политикой советского правительства. Упомянул Молотов и о слухах насчет угрозы войны между двумя странами, сказал также, что не может понять причин недовольства Германии. Он просил Шуленбурга объяснить, в чем дело.
«Я сказал, что не могу ответить на этот вопрос, поскольку не располагаю соответствующей информацией», – сообщил Шуленбург в срочной телеграмме, отправленной в Берлин в ночь на воскресенье, в 1 час 17 минут. Этой телеграмме на долгие годы суждено было стать последней, отправленной немецким посольством из Москвы.
Молотов, желая добиться ответа, высказал предположение, что слухи об угрозе войны не лишены оснований. Ему сообщили, сказал он, что из страны уехали все представители немецких деловых кругов, что уехали жены и дети сотрудников посольства.
Шуленбург, честный, принципиальный человек, был смущен. Из частных источников (но пока неофициально) он знал о неизбежности войны. Глубоко встревоженный событиями в рейхе, он послал надежного агента в Берлин; тот вернулся лишь в прошлое воскресенье, сообщив дату вероятного нападения – 22 июня.
У Шуленбурга не было готового ответа. Несколько неуверенно он сказал, что немецкие женщины и дети уехали домой на каникулы, что климат в Москве суровый. Да и не все же женщины уехали, добавил Шуленбург, подразумевая жену Густава Хильгера, второго секретаря посольства, который сопровождал его в Кремль.
Хильгер вспоминал, что после этого Молотов перестал настаивать, пожал плечами и беседа закончилась.
Немцы поехали назад в свое посольство. Сгущались вечерние сумерки, по Москве-реке плыл, сверкая огнями, экскурсионный пароход, ревел джаз, исполняя американскую песенку.
Впоследствии адмирал Кузнецов высказывал мнение, что в ту субботу, где-то во второй половине дня, Сталин осознал если не полную неизбежность, то растущую вероятность конфликта с Германией. В какой-то мере это мнение подтверждает и свидетельство генерала И.В. Тюленева, командующего Московским военным округом в июне 1941 года.
Тюленев служил в Красной армии давно. В 1939 году он командовал советскими войсками, занявшими районы Польши по соседству с Украиной. Он выдвинулся в период Гражданской войны.
Служил в царской армии, затем в первых кавалерийских частях Красной армии.
Как командующий Московским военным округом, он был тесно связан со Сталиным, с Кремлем, хорошо осведомлен об угрожающем положении на западных границах. Знал о сотнях нацистских перелетов через границу. Знал, что советским войскам запрещено реагировать на подобные инциденты; обстановка его тревожила. Но его, как многих других офицеров, успокоило сообщение ТАСС от 14 июня, где говорилось о безосновательности слухов насчет близкой войны. По словам Тюленева, невозможно было не верить нашим официальным органам.
В субботу 8-го ему сообщили, что звонят из Кремля[14]. Он взял трубку и услышал резкий голос Сталина: «Товарищ Тюленев, как обстоят дела с противовоздушной обороной Москвы?» Тюленев коротко доложил о состоянии противовоздушной обороны на субботу.
Сталин сказал: «Учитывая тревожную ситуацию, надо привести противовоздушную оборону Москвы в состояние боевой готовности на 75 процентов».
На этом разговор окончился. Тюленев не задавал вопросов и, вызвав своего начальника противовоздушной обороны генерал-майора М.С. Громадина, дал указание: не посылать зенитные батареи в летние лагеря, а привести их в полную боевую готовность.
И еще одно решение было принято 21 июня, возможно по случайному совпадению, – о создании единого командования противовоздушной обороны Москвы; приказы были подписаны и переданы полковнику И.А. Климову в 6-й истребительный корпус, который начал действовать лишь после начала войны. В дальнейшем он состоял из 11 эскадрилий истребителей, насчитывавших 602 самолета. Но 22 июня его численность равнялась… нулю.
Перед уходом генерал Тюленев связался с наркомом обороны Тимошенко и получил дополнительное подтверждение того, что немцы готовятся к войне: подозрительное движение в германском посольстве; многие сотрудники уехали – за пределы страны, за пределы Москвы. Тюленев позвонил также в Генеральный штаб. Ему сказали, что на границе, судя по докладам командиров находящихся там частей, все спокойно. Однако, по данным разведки, нападение немцев неминуемо. Об этом доложили Сталину, он сказал, что незачем поднимать панику.
Вопрос, который задал Сталин о противовоздушной обороне Москвы, не вызвал у Тюленева беспокойства. Он попросил шофера отвезти его на тихую боковую улочку – Ржевский переулок, где жил с женой и двумя детьми. Проезжая по центральным улицам, бегло просмотрел газету «Вечерняя Москва». Никаких особых новостей. Он заметил, что уже расклеены объявления о первом летнем концерте джаза Утесова в саду «Эрмитаж». В понедельник начнут демонстрировать фильм «Остров сокровищ».
Из открытого окна доносились звуки популярной песни «Любимый город…» – пели молодые голоса.
Как провести воскресенье? Поехать на дачу в Серебряный Бор под Москвой или поехать с детьми на открытие водного стадиона в Химки?
Надо будет утром решить. Заехав домой в Ржевский переулок и забрав жену с детьми, он отправился на дачу.
Рассказ Тюленева ясно показывает, что, даже если Сталин в субботу днем понял неизбежность войны с Германией, ощутил необходимость срочных мер, он скрыл это от военного руководства. Нет сведений и о каких-либо других мерах предосторожности, предпринятых им в субботу до пяти часов вечера, когда были наконец вызваны в Кремль маршал Тимошенко и генерал Жуков.
В это время в Кремле Политбюро обсуждало возможность германского нападения в субботу ночью или в воскресенье. Рассказал потом об этом заседании лишь один человек – маршал Семен Буденный, однако рассказ его рождает ощущение какой-то нереальности[15]. Присутствующим предложили высказаться о том, как следует поступить. Буденный предложил приказать войскам, находящимся к востоку от Днепра, двигаться в направлении границы: «Нападут немцы или нет, войска будут на позиции».
Ни Буденному, ни другим, кажется, не пришло в голову, что такой план двинул бы тысячи солдат по шоссейным и железным дорогам, сделав их удобной мишенью для германских пикирующих бомбардировщиков.
Кроме того, Буденный предложил снять канаты со всех самолетов, привести их в боевую готовность № 1. Обычно советские самолеты прикреплялись к земле веревками и проволокой. Предложение Буденного означало, что самолеты высвободят и советские пилоты будут сидеть в своих кабинах, готовые к взлету.
Буденный предложил также, чтобы на Днепре и Западной Двине от Киева до Риги была создана линия глубокой обороны. Он предложил мобилизовать население с лопатами, ломами и превратить берега этих рек в непреодолимые противотанковые заграждения. Он полагал, что такая линия обороны, очевидно, понадобится, поскольку немцы в полной боевой готовности, а советские войска нет.
Последовало обсуждение. Вмешался Сталин: «Буденный, кажется, знает, что делать; вот пусть он и командует».
И Буденный тотчас был назначен командующим советской Резервной армией с непосредственной задачей – создать Днепровскую линию обороны. Георгия Маленкова назначили комиссаром. Это было сделано за 9 часов до немецкого нападения. Для осуществления задачи у Буденного не было ничего – ни штаба, ни войск, ни техники, ничего совершенно. Он поспешил на улицу Фрунзе, где должен был находиться штаб его армии, предупредив Маленкова, что позвонит ему, как только сформирует штаб[16].
Адмирал Кузнецов полагает, что примерно в это время Сталин, должно быть, решил привести советские вооруженные силы в состояние боевой готовности и приказать в случае необходимости оказывать немцам вооруженное сопротивление.
Вот отчего перед Тимошенко и Жуковым лежала кипа телеграмм, когда в воскресенье в 11 вечера Кузнецов прибыл по вызову в Наркомат обороны. Они, полагает Кузнецов, работали по указанию Сталина, составляя для воинских частей приказы о боевой готовности. Эти приказы фактически не были отправлены до 12 часов 30 минут дня 22 июня. Видимо, указания, которые Сталин мог дать на заседании Политбюро, должны были выполняться в зависимости от дальнейших событий этого вечера, например от возможной встречи с Риббентропом[17].
Кроме того, было сделано следующее. В пограничные военные округа и на флоты направили специальных представителей Верховного главнокомандования, чтобы предупредить об опасности, а также дать указания о переводе частей на боевую готовность.
Именно по такому поводу оказался в субботнюю ночь генерал Мерецков в поезде «Красная стрела», направлявшемся в Ленинград. Но поскольку представителей Главного командования отправили в железнодорожных поездах, которые не могли прибыть раньше воскресенья (а в отдельных случаях – понедельника), вряд ли в Кремле существовала уверенность, что немцы нападут через несколько часов[18].
Тексты предупреждений, которые рассылали Тимошенко и Жуков (многие были получены уже после нападения немцев), лишь призывали к осторожности. Частям предписывалось быть в готовности, но запрещалось осуществлять разведку на территории противника. Строго предписывалось избегать провокаций.
В ту субботнюю ночь у адмирала Кузнецова возник серьезный вопрос.
«Я не мог отделаться от мучительных мыслей, – вспоминал он впоследствии. – Когда нарком обороны (Тимошенко) узнал о возможности нападения фашистов? Когда ему приказали перевести войска на боевую готовность? Почему приказ о боевой тревоге на флотах не отдало правительство (Сталин) вместо наркома обороны? Почему все это сделали так полуофициально и так поздно?» Через 25 лет на вопрос адмирала все еще не было исчерпывающего ответа.
Медленно тянется ночь
Сообщение адмирала Кузнецова о возможном нападении немцев в воскресенье рано утром не было для командования Балтийского флота неожиданностью. Фактически, как затем вспоминал адмирал Пантелеев, начальник штаба флота, они ждали «с минуты на минуту следующей телеграммы или звонка с ужасным словом – война!».
Приближалась полночь, когда Пантелеев был вызван к Трибуцу, командующему Балтийским флотом. «Началось!» – подумал он, торопясь в кабинет адмирала. Кроме Трибуца, там был член Военного совета М.Г. Яковенко. Трибуц сидел, откинувшись в черном кожаном кресле, нервно постукивал по колену длинным карандашом; других признаков беспокойства не наблюдалось.
«Я только что говорил с Кузнецовым, – сказал он без предисловий. – Сегодня ночью надо ждать нападения».
Пантелеев кинулся назад к своему столу, начал посылать срочные указания во все соединения флота, в штаб морской авиации, в Управление тыла и снабжения.
В сущности, флот был неплохо подготовлен к чрезвычайной ситуации. Для отражения немецкого нападения принимались меры по укреплению морских подступов к Ленинграду. Еще 7 мая адмирал Трибуц решил разместить патрульные суда у входа в Финский залив и у всех морских портов для перехвата немецких подводных лодок или надводных судов. Помешали холода, поздний ледоход, постоянные туманы. Лишь во второй половине мая одна из подводных лодок, С-7, заняла позицию в Ирбенском проливе, открывающем путь в Рижский залив. 27 мая патрульная подводная лодка С-309 заняла позицию у входа в Финский залив. Одновременно были выставлены дозорные корабли у полуострова Ханко в Финском заливе, у Либавы (Лиепаи), самого западного советского порта, от которого до советско-германской границы 120 километров, а также у Таллина и Кронштадта.
До 1 июня все советские крейсеры, большая часть миноносцев, подводных лодок и плавучая база для подводных лодок были отведены назад из Либавы в Усть-Двинск близ Риги, крепость и военно-морскую базу, где противовоздушная оборона была сильнее, чем в незащищенной Либаве. Специальный минный заградитель «Ока», с оборудованием для установки противолодочных сетей, был направлен из Либавы в Таллин, а линкор «Марат» возвращен из Таллина в Кронштадт на свою прежнюю базу.
И командующему Балтийским флотом Трибуцу, и его начальнику адмиралу Кузнецову Либава не особенно нравилась: открытая гавань; всего несколько минут лету от немецких аэродромов, расположенных в Восточной Пруссии; неподходящая для военного времени база. У командования Российского императорского флота было такое же мнение. С самого начала Первой мировой войны все военные корабли были выведены из Либавы в соответствии со стратегическими планами Российской империи.
Когда в июле 1940 года Прибалтийские государства вошли в состав Советского Союза и Либава стала советской, Сталин поднял вопрос о ее стратегическом значении. Он хотел поставить там линейный корабль. Адмирал Кузнецов решительно возражал. Сталин, молча выслушав, наконец согласился разместить в Либаве только легкие военно-морские суда, в основном бригаду подводных лодок.
Одновременно, в качестве уступки Сталину, два старых линкора, «Марат» и «Октябрьская революция»[19], были переведены из Кронштадта, с надежной, хорошо оснащенной базы, на новую базу в Таллин. Там они стояли на открытом рейде в ожидании, когда будет построен мол. Работы, которые выполняло НКВД с помощью своих трудовых ресурсов, шли крайне медленно (как и все строительство баз и укреплений в Прибалтике).
В апреле адмирал Пантелеев и несколько других представителей командования флотом поехали в Ригу для совещания с недавно образованным штабом Особого Прибалтийского округа, которым командовал генерал-полковник Ф.И. Кузнецов.
Командиры, армейские и военно-морские, долго сидели над своими картами. Восемь месяцев прошло с тех пор, как Советский Союз включил в свой состав Прибалтийские государства. Немало было сделано, многое еще предстояло сделать. Укрепления вдоль новой границы далеко не закончены. Прибалтийскому округу не хватало войск, танков, зенитных орудий, самолетов. Очень медленно шло строительство аэродромов для новых скоростных истребителей и бомбардировщиков дальнего действия (которые еще предстояло получить). Хуже всего, утверждали военные, что строительство невозможно ускорить, поскольку оно находится в руках НКВД.
У моряков были столь же серьезные недовольства. Сильно задержалось строительство новых береговых батарей, включая и те, что должны защищать Либаву от нападения с моря. Новые морские базы на Балтийском побережье только начали создаваться. Даже в Риге оборудование не закончено, будет готово лишь к 25 мая. Восемьдесят процентов морской авиации пришлось расположить на тыловых базах, далеко от возможного театра военных действий, поскольку не готовы летные полосы. Офицер, инспектировавший передовые укрепления, поражен был, увидев бетонные орудийные гнезда так близко от границы, что перед ними не было ни прикрывающих минных полей, ни заграждений. У орудий не было вращательных установок; стволы, направленные на запад, нельзя было поворачивать, и стоило неприятелю зайти в тыл, как орудия становились бесполезными. Некоторые амбразуры были слишком узки для предназначавшихся для них орудий.
Береговые батареи в Либаве установили к маю, но не было защиты со стороны суши. Военно-морское командование отвечало за оборону со стороны моря, а действиями на суше ведает Прибалтийский особый военный округ. Их взаимодействие не было разработано.
Штаб армии находился в Риге, штаб флота – за 300 километров от Риги, в Таллине. Не был решен вопрос о высшем командовании в случае войны. Аналогичная ситуация была на всех балтийских базах Ленинградского оборонительного района, исключение составлял полуостров Ханко, где командовал флот.
Отношение сухопутных сил к происходившим событиям кратко выразил генерал-полковник Ф.И. Кузнецов, командующий Прибалтийским округом. Когда адмирал Кузнецов хотел обсудить со своим однофамильцем план строительства круговой обороны Либавы и Риги, генерал Кузнецов с возмущением воскликнул: «Неужели вы думаете, что мы допустим противника до Риги?»
Трибуц, опытный моряк, человек сильный, энергичный, стремительный, не мог скрыть свою тревогу и продолжал настаивать. Лишь тогда была послана 67-я пехотная дивизия занять сухопутные оборонительные позиции у Либавы. Но это произошло перед самой войной; даже в полночь 21 июня вопрос о взаимодействии армии и флота официально еще не был урегулирован[20].
Таким образом, предложение адмирала Трибуца вывести корабли из опасного, незащищенного порта Либавы имело элементарный здравый смысл. Но существовало, и немалое, препятствие: Сталин был другого мнения. Он хотел еще летом 1940 года поставить в Либаве линейный корабль и не мог одобрить дальнейшее ослабление базы.
«Мы были уверены, что для Либавы это слишком, и, когда возросла военная угроза, было предложено перевести часть кораблей в Ригу, – отмечал Кузнецов. – Но поскольку известно было мнение Сталина, я не решался отдать приказ без разрешения сверху».
Кузнецов медлил, но в конце концов согласился поставить вопрос на обсуждение в Высшем военном совете флота в присутствии Андрея Жданова. Жданов – партийный функционер, 45 лет, лицо одутловатое; один из наиболее могущественных сподвижников Сталина. Жданова тогда многие считали возможным преемником в случае смерти Сталина – так высок был в 1941 году его престиж. Он возглавлял партийную организацию Ленинграда, в связи с этим ведал и Прибалтийским округом и более, чем другие члены Политбюро, был причастен к военно-морским делам.
В Кремле обязанности распределялись весьма странно. Нарком иностранных дел Молотов одновременно в качестве заместителя председателя Совета Народных Комиссаров отвечал за Наркомат военно-морского флота. Но именно Жданов, руководитель Ленинграда и активный претендент на место Сталина, будучи одновременно секретарем ЦК, осуществлял политическое (и фактическое) руководство флотом.
За полчаса до заседания Высшего военного совета флота, состоявшегося в конце апреля или в начале мая, Жданов появился в кабинете Кузнецова.
«Что вы хотите переводить из Либавы и почему? – спросил он.
Факты и цифры были у Кузнецова наготове. Он сообщил Жданову, что в Либаве советские военные корабли «как сельди в бочке», а около Риги есть прекрасная база и оттуда удобно двигаться в любом направлении.
Но Жданов это мнение не поддержал, буркнув: «Посмотрим, что другие скажут». На Военном совете никто не возражал, но Жданов настаивал, чтобы решение принял Сталин.
Кузнецов обратился к Сталину – ответа не было. Сохраняя копию своего донесения, он решил, как только представится случай, лично переговорить с вождем. В середине мая удалось добиться его согласия, и Кузнецов немедленно позвонил Трибуцу: «Действуйте! Согласие получено!»
Адмирала Трибуца беспокоила судьба двух линейных кораблей в Таллине. Порт был открыт для нападения с севера и пока – ни заграждений, ни сети для защиты кораблей от торпед. Он попросил разрешения перевести корабли в Кронштадт и в канун войны добился его. К вечеру 21 июня «Марат» благополучно вернулся в Кронштадт, но крейсер «Октябрьская революция» еще стоял на Таллинском рейде и был выведен оттуда лишь в начале июля.
На таллинском побережье ночь 21–22 июня была прохладной. Отправив уведомления о боевой тревоге, адмирал Пантелеев вышел из здания морского штаба. С моря дул сырой ветер. Аромат нескошенных трав доносился с ближних полей. Бледный сумрак, хотя время уже за полночь, – совсем как в Ленинграде.
Уже вышел в море траулер «Крамболь», чтобы усилить патрулирование вокруг Таллина.
Начальник тыла генерал-майор Москаленко просил у Москвы разрешения направить в Усть-Двинск груженный мазутом танкер «Железнодорожник», находившийся на пути в Либаву, а танкер № 11 – из Кронштадта в Таллин. В обоих пунктах нехватка топлива, оно им очень понадобится в случае войны. Разрешение пришло через два часа.
В 1 час 40 минут ночи Пантелееву доложили, что весь флот и все базы перешли на боевую готовность № 1. Командованию Либавы приказано отправить оставшиеся подводные лодки типа «М» (кроме трех дозорных) в Усть-Двинск, а другие плавсредства в Вентспилс, расположенный севернее Либавы на латвийском побережье. Командиру военно-морской базы Ханко приказано перевести подводные лодки и торпедные катера на другую сторону залива, на базу Палдиска, западнее Таллина. В Таллиннском порту было несколько новых, еще не совсем достроенных кораблей. Трибуц приказал: те, которые можно использовать, утром включить в состав флота; те, которые еще нельзя использовать, немедленно вернуть на ленинградские верфи.
В полночь Кузнецов позвонил Трибуцу, затем Головко в штаб Северного флота в Полярном и в Севастополь.
Черноморский флот закончил весенние учения. Кузнецов сначала не знал, разрешить ли маневры, но потом решил, что в случае войны флот может с таким же успехом находиться в море, как и на базах.
Учения закончились 18 июня, и 20 июня флот вернулся в Севастополь, на понедельник 23 июня был назначен разбор учений.
Сразу по прибытии в порт была объявлена готовность № 2. Тем не менее в субботу вечером на берегу на Графской пристани гуляли офицеры и матросы. Между берегом и кораблями усердно сновали катера. В Доме флота продолжался большой концерт, на котором присутствовал командующий флотом Ф.С. Октябрьский. На Краснофлотском бульваре шел фильм «Музыкальная история», советский вариант зарубежной картины с Фредом Астером и Джинджер Роджерс.
Некоторые из московских офицеров, прибывших на маневры, уже уехали; начальник политуправления контр-адмирал И.М. Азаров, старый морской волк, прослуживший во флоте всю жизнь, еще находился в Севастополе. Вечер он провел в летнем ресторане Дома офицеров со старым другом – балтийцем А.В. Солодуновым, руководившим теперь гидрографическими исследованиями Черноморского флота. Оба пили пиво, беседовали и не думали уходить домой. Завтра воскресенье, можно будет выспаться.
Вдруг Азаров заметил, что директор Дома офицеров и другой офицер что-то сказали группе командиров за соседним столиком, которые, тут же схватив фуражки, поспешили к выходу. Проходя мимо столика Азарова, один из них нагнулся и сказал: «Объявлена готовность № 1».
Азаров пошел прямо в штаб. Он узнал там, что начальник штаба И.Д. Елисеев собирался уже уходить домой, но раздался телефонный звонок и последовало предупреждение от Кузнецова. Дежурный офицер, капитан Н.Г. Рыбалко, провел вечер спокойно. В 22 часа 32 минуты он, позвонив на Инкерманский и Херсонский маяки, приказал зажечь огни, чтобы из гавани отбуксировали, как обычно, баржу с мусором.
В начале второго ночи Азаров стоял у окна кабинета. Как положено при готовности № 1, стали гаснуть огни Севастополя, зазвучала сирена, грохнули сигнальные выстрелы с батарей. Радио повторяло: «Внимание… Внимание…», вызывая моряков на посты.
Городские власти, полагая, что происходят очередные учения, звонили в штаб, возражая против затемнения. «Почему так быстро затемнили город? Флот вернулся с учений. Дайте людям отдохнуть».
Им велели подчиняться приказам и не задавать вопросы. Тем временем из штаба флота позвонили на электростанцию. Ток был выключен, город погрузился во тьму.
В кромешной тьме город и флот, но с двух маяков лучи еще светили. Оказалось, телефонная связь с маяками нарушена. Может быть, саботаж? Наконец туда отправили мотоциклиста, огни погасли.
Тут и там зенитные батареи выпускали пробные очереди трассирующих пуль. Истребители запускали моторы. По сигналу «боевая тревога», данному в 1 час 55 минут ночи, поток матросов и командиров устремился на корабли. К 2 часам ночи дежурный Рыбалко отметил, что флот готов отразить нападение.
Часа в 3 ночи или чуть позже с береговых акустических установок Евпатории и мыса Сарыч сообщили, что слышен шум авиационных моторов. Запросив командование морской авиации и военно-воздушного флота, дежурный Рыбалко выяснил, что в воздухе нет советских самолетов. Из ПВО позвонил лейтенант И.С. Жилин, попросил разрешения открыть огонь по «неизвестным самолетам».
Рыбалко позвонил командующему флотом адмиралу Октябрьскому, тот спросил: «Какие-нибудь из наших самолетов есть в воздухе?»
«Нет, наших самолетов в воздухе нет».
«Запомните, – сказал командующий, – если в воздухе есть хоть один наш самолет, вы завтра будете расстреляны».
«Товарищ командующий, – упорствовал Рыбалко. – Разрешите открыть огонь!»
«Действуйте по приказу», – прервал Октябрьский.
Тогда он обратился к вице-адмиралу Елисееву. Настолько уклончивым был ответ, что Рыбалко, офицер молодой, не знал, как поступить.
«Что же ответить Жилину?»
«Приказать ему открыть огонь», – решительно сказал Елисеев.
И Рыбалко сообщил Жилину: «Открывайте огонь».
Понимая, чем рискует, Жилин сказал: «Учтите, за этот приказ вы несете личную ответственность. Я делаю запись в оперативный журнал».
«Пишите, что хотите! – крикнул Рыбалко. – Но открывайте по этим самолетам огонь!»
В это время раздался гул самолетов, летевших на низкой высоте к Севастополю, треск зенитных орудий, вой падающих бомб. Лучи мощных прожекторов рассекли небо. Стали падать на землю объятые пламенем самолеты. Первый сбила батарея № 59. Над гаванью – грохот рвущихся бомб.
Произошло это после трех часов ночи. Двадцать второго июня. В воскресенье.
В Москве адмирал Кузнецов прилег на кожаном диване в углу своего кабинета. Было около трех ночи. Сон не шел. Мысли о флотах, о том, что может произойти.
Больше всего беспокоил Балтийский флот. Он с трудом удерживался, чтобы не снять трубку и опять не позвонить адмиралу Трибуцу. Но пересилил себя, вспомнив изречение Мольтке: после того как отдан приказ о мобилизации, остается только лечь спать, поскольку машина уже действует сама. Но сна не было.
Резкий телефонный звонок заставил его вскочить. Было уже совсем светло.
Он поднял трубку.
«Докладывает командующий Черноморским флотом».
По взволнованному голосу Октябрьского Кузнецов понял, что произошло нечто необычное.
«В Севастополе воздушный налет, – задыхаясь, проговорил Октябрьский. – Наши зенитные орудия отгоняют самолеты противника. Несколько бомб упало на город…»
Кузнецов взглянул на часы: 3 часа 15 минут. Началось! Нет сомнений. Началась война[21].
Он опять взял трубку и попросил кабинет Сталина. Дежурный военный ответил: «Товарища Сталина нет. Я не знаю, где он».
«У меня сообщение исключительной важности, я немедленно должен его передать лично товарищу Сталину», – сказал Кузнецов.
«Ничем не могу помочь», – ответил дежурный и спокойно повесил трубку.
Кузнецов тут же позвонил наркому обороны Тимошенко и с точностью передал ему то, что сказал Октябрьский.
«Вы меня слышите?» – спросил Кузнецов.
«Да, слышу», – ответил Тимошенко спокойно.
Кузнецов повесил трубку, через несколько минут он пытался дозвониться к Сталину по другому номеру. Ответа не было. И опять он звонил дежурному в Кремль и просил: «Пожалуйста, скажите товарищу Сталину, что немецкие самолеты бомбят Севастополь. Это война!»
«Сделаю, что смогу», – ответил дежурный.
Через несколько минут зазвонил телефон Кузнецова.
«Вы понимаете, что вы доложили?» – Это был голос Георгия Маленкова, члена Политбюро, одного из ближайших сподвижников Сталина. Голос был, как почувствовал Кузнецов, раздраженный.
«Да, понимаю, – сказал Кузнецов. – Я докладываю на свою ответственность. Началась война!»
Маленков не поверил, сам позвонил в Севастополь, и его соединили с Октябрьским как раз в то время, как в кабинет командующего входил Азаров. Так Азаров услышал конец разговора.
«Да, да, – говорил Октябрьский. – Нас бомбят…»
В этот момент раздался взрыв, зазвенели стекла. «Вот сейчас, – взволнованно крикнул Октябрьский, – разорвалась бомба, совсем близко от штаба».
Азаров и его друг переглянулись.
«В Москве не верят, что Севастополь бомбят», – сказал друг Азарова. И он был прав[22].
В течение часа Тимошенко четырежды звонил генералу Болдину, заместителю командующего Западным особым военным округом. И даже в ответ на сообщение Болдина, что идет наступление немцев, горят города, гибнут люди, каждый раз Тимошенко рекомендовал: воздержаться от действий в ответ на немецкие провокации.
Маршал Николай Воронов, начальник противовоздушной обороны, весь вечер провел за своим письменным столом в ожидании приказов. Около четырех часов утра ему впервые сообщили о бомбежке Севастополя, о налетах на Вентспилс и Либаву. Он поспешил к Тимошенко и застал там Л.З. Мехлиса, начальника Главного политуправления РККА, близкого приятеля начальника НКВД Лаврентия Берии. Воронов доложил о бомбежках. Тогда Тимошенко, вручив ему большой блокнот, попросил тут же записать это сообщение. За спиной Воронова стоял Мехлис, проверял каждое слово и затем приказал подписать. Отпустили без каких-либо указаний, распоряжений. И это в момент, когда, Воронов чувствовал, дорога была каждая минута, каждая секунда.
«Я ушел из кабинета с камнем на сердце, – вспоминал он потом. – Я понимал: они не верят, что война уже фактически началась. Мозг работал лихорадочно. Признает Наркомат обороны этот факт или нет, ясно, что началась война».
Он вернулся в свой кабинет. Стол завален телеграммами, где сообщается о воздушных налетах от Финского залива до Черного моря. Из расположенного рядом Управления бронетанковых войск прибежала дежурная, молодая женщина в берете, с револьвером на поясе, взволнованно сообщила, что в «секретном» сейфе Управления есть большой пакет с множеством печатей и надписью: «Вскрыть в случае мобилизации». Мобилизация не объявлена, а война уже началась. Что делать? Воронов ответил: «Вскрывайте пакет и действуйте!» Сам он тоже стал отдавать приказания своим командирам.
Война действительно началась, но, когда начальник Генерального штаба генерал Жуков доложил Сталину, что немцы бомбят Ковно, Ровно, Одессу и Севастополь, Сталин все еще настаивал, что это провокация «немецких генералов». Шло время, час за часом, но его невозможно было убедить.
Рассвело за окнами кабинета Кузнецова, а он все еще ждал от кого-нибудь официального приказа о начале войны или хотя бы указания сообщить флотам о наступлении немцев. Ничего! Телефон молчал. Очевидно, как пришлось ему впоследствии отметить, надежда уклониться от войны еще теплилась.
Он не мог иначе объяснить, отчего налет на Севастополь вызвал такую странную реакцию.
Он больше не мог бездействовать. Направил адмиралу Трибуцу и другим командирам короткий приказ, в котором говорилось:
«Германия предприняла нападение на советские базы и порты. Отражать силой оружия любую попытку нападения со стороны противника».
В штабе флота в Таллине адмирал Пантелеев сидел за письменным столом в длинной сводчатой галерее. Помещение береговой артиллерии служило Трибуцу командным пунктом; галерея, выстроенная еще в Первую мировую войну, была полностью под землей, не имела окон и освещалась лишь электрическими лампочками, свисавшими на голых проводах.
У одной из стен – столики телеграфистов и радистов; на огромном столе в центре помещения – карты Балтийского района.
Стол Пантелеева находился у входа в это шумное помещение. Входили и выходили офицеры, телефон звонил непрерывно. Пантелеев должен был отбирать наиболее срочные сообщения и передавать их Трибуцу.
Из Кронштадта позвонил капитан Ф.В. Зозуля: «У входа на Кронштадтский рейд сброшено 16 мин. Фарватер остается чистым». Пришло сообщение из Либавы. Капитан Михаил Клевенский докладывал, что вскоре после 4 часов утра на военный городок и в районе аэродрома были сброшены бомбы.
Из Балтийского пароходства была передана радиограмма капитана парохода «Луга» В.М. Миронова, возвращавшегося в Ленинград из порта Ханко. Ночью около 3 часов 30 минут его судно подверглось нападению немецкого самолета. Пароход был обстрелян, легко ранен матрос С.И. Клименов. Примерно в то же время, около 3 часов 20 минут, латвийский пароход «Гайсма», который вез в Германию лес, был атакован и торпедирован четырьмя катерами в районе шведского острова Готланд. На оказавшихся в воде советских моряков немцы направили пулеметы и убили несколько человек, включая капитана Николая Дуве. Это были, видимо, первые жертвы советско-германской войны.
Пантелеев огляделся. Звучали громкие команды военных. На стенных часах 4 часа 50 минут утра. Зазвонил телефон, вызывали к адмиралу Трибуцу. Когда он вошел, Трибуц с карандашом в руке стремительно шагнул к столу и устало взглянул на Пантелеева, который молча протянул телефонный бланк. Медленно заполняя бланк, адмирал читал вслух: «Германия начала нападение на наши базы и порты. Отражать противника силой оружия…»
Он вздохнул, разом поставил четкую подпись. Офицер Кашин быстро взял телеграмму, и через мгновение она уже мчалась по гудящим проводам на каждую базу и каждый корабль Балтики.
К 5 часам 17 минутам утра в каждое подразделение Балтийского флота донеслись слова: «Отражать нападение немцев».
Так, по крайней мере на одном участке – на жизненно важных морских подступах к Ленинграду – советские войска знали, что началась война, что немцы совершили нападение, что надо сопротивляться изо всех сил.
Пантелеев опять вернулся к письменному столу. Он испытывал облегчение. Кончилась неопределенность. Война.
Всходило солнце. Море было спокойно. В Суропском проливе буксир вел караван барж к таллинской гавани. Моряки спешили: уже видны гавань, дом.
Они еще не знали, что началась война.
22 июня, рассвет
Утром 22 июня командование военного округа размещалось, как и в предшествующие сто с лишним лет, в здании Российского Главного штаба в Ленинграде. Этот грандиозный ансамбль, возможно лучшее архитектурное творение России, строился в течение десяти лет – с 1819 по 1829 год. На Невском проспекте против Зимнего дворца – два крыла, соединенные аркой, воздвигнутой в честь победы России над Наполеоном в 1812 году.
Главный портал шириной в шесть метров, а высотой – в двадцать пять: три этажа ярусами и 768 сияющих окон.
Памятник российской военной славы! Неделю назад, 15 июня, сюда вернулся начальник инженерного управления полковник Б.В. Бычевский (ныне генерал-лейтенант) из инспекционной поездки по укрепленной зоне. Зона строилась для защиты военной базы на арендованной территории Ханко от нападения со стороны Финляндии. Он увидел, что работа идет неплохо, на обратном пути в Ленинград с радостью наблюдал из машины, как детишки съезжаются на лето в лагеря и детские сады Карелии. После холодной сырой весны какая зелень, какая свежесть в лесу!
Бычевский молод, энергичен. Голубые глаза; волосы, начавшие слегка редеть. Ему было известно, что в Ленинграде получены тревожные сведения (в особенности от военно-морских постов и подразделений, расположенных вдоль финской границы). Известно и о прибытии в Финляндию германских войск. Но в здании Генерального штаба все, казалось, шло в прежнем темпе. Генерал-лейтенант Маркиан Попов, как намечалось, отбыл в расположение войск. А с его отбытием здание наполовину опустело, поскольку большинство лейтенантов и старших помощников сопровождали генерала. Наводили скуку военные сводки из Западной Европы за субботу и воскресенье. Почти единственной примечательной новостью было сообщение министерства иностранных дел США о потоплении германской подводной лодкой грузового судна «Робин Мур» у побережья Бразилии.
А уж опубликованное в субботних газетах заявление ТАСС, под которым стояла дата: 13 июня, пятница, вообще ослабило напряжение в Ленинграде (и во всем Советском Союзе).
В заявлении (врученном заранее германскому посольству для отправки в Берлин) опровергались слухи об угрозе войны между Россией и Германией. В нем говорилось, что слухи распространялись перед отъездом из Москвы британского посла сэра Стаффорда Криппса, и особенно после его прибытия в Лондон. Скрытый смысл заявления состоял в том, что слухи инспирированы Криппсом или вообще англичанами.
Сообщается, говорилось также в заявлении ТАСС, что Германия предъявила различные территориальные и экономические требования, что Россия их отвергла, в результате чего Германия начала сосредоточивать войска на советской границе и теперь советские войска сосредоточиваются на германской границе.
Несмотря на очевидную абсурдность этих слухов, говорилось в заявлении ТАСС, ответственные круги в Москве сочли необходимым, ввиду усердного распространения этих слухов, уполномочить ТАСС заявить, что эти слухи являются неуклюже состряпанной пропагандой враждебных СССР и Германии сил, заинтересованных в расширении и развязывании войны.
В заявлении также говорилось, что, по мнению советских кругов, слухи о намерении Германии нарушить пакт о ненападении и напасть на СССР лишены всяких оснований и происходящая в последнее время переброска германских войск, завершивших операцию на Балканах, в восточные и северные районы Германии происходит по причинам, не имеющим отношения к советско-германским отношениям… таким образом, все слухи о том, что Советский Союз готовится к войне с Германией, являются лживыми и провокационными.
Под влиянием этого заявления многие командиры успокоились. «Москва знает, что делает», – говорили некоторые. Другие утверждали, что, должно быть, Сталин прав, он ведь знает все факты. Особенно успокаивало то, что даже на секретных заседаниях партийной элиты никто не упоминал, не предупреждал, не предполагал, что война близко.
В Ленинграде успокоились еще больше, когда стало известно, что секретарь обкома и горкома партии Андрей Жданов, член Военного совета Ленинградского военного округа, секретарь ЦК и правая рука самого Сталина, уезжает в летний отпуск.
19 июня в четверг Жданов поездом выехал в Сочи – любимый курорт на Кавказском побережье Черного моря. Сочи – белые особняки, субтропическая растительность, пляж, довольно каменистый. Здесь отдыхал и Сталин. Жданов часто приезжал к нему в Сочи на 2–3 недели. И уж если Жданов теперь поехал в Сочи, наверняка ничего серьезного не случится; так казалось многим. Пресса это поддерживала. В четверг «Ленинградская правда» напечатала единственное сообщение из Берлина – о подписании германско-турецкого договора о дружбе.
Бычевский ежедневно выезжал в Карелию для контроля за строительством укреплений. Он был там и в пятницу, когда вдруг позвонил генерал-майор Дмитрий Никишев, начальник штаба.
«Немедленно приезжайте, – приказал Никишев. – Немедленно!»
Через три часа Бычевский прибыл в Главный штаб.
– Хорошо, что я вас нашел, – сказал Никишев, – такое дело, друг, ситуация немного осложняется… На Карельском перешейке начинают активизироваться финны. Придется организовать боевую защиту границы. Понятно?
– Не совсем.
– Готовьте саперов к постановке на границе минных полей.
Бычевский возразил, что весь его личный состав на фортификационных работах.
– Отзови!
– А из Москвы есть указания? Я думаю, сейчас нельзя прекратить строительство укреплений.
– Мало ли что ты думаешь! – отрезал Никишев. – Собери все мины, какие есть на складах, и выдай саперам. А мы дадим приказ по армии.
Никишев удалился и заперся в кабинете с разведчиками и руководством оперативной службы, а Бычевский, вытащив из папок планы срочного минирования в непредвиденных случаях, стал составлять приказы для 14, 7 и 23-й армий, развернутых вдоль границы с Финляндией от Баренцева моря до Финского залива. Граница протяженностью в 1400 километров, не так просто ее заминировать.
А тем временем Никишев приказал генерал-лейтенанту П.С. Пшенникову, командующему 23-й армией, прикрывавшей Карельский перешеек севернее Ленинграда, переместить одну дивизию из тыла на передовую позицию у Выборга, на финской границе.
Южные и западные подступы к Ленинградской области не входили в Ленинградский военный округ. Когда в 1940 году Прибалтийские государства были включены в состав СССР, эти районы из Ленинградского округа перешли в новый Прибалтийский особый военный округ, штаб которого находился в Риге. К югу и к западу от Ленинграда у ленинградского командования войск не было, кроме нескольких артиллерийских частей, направленных в лагеря на летнюю учебу.
Но в последние недели Бычевский по распоряжению Главного штаба сосредоточился на строительстве укреплений в районе Пскова – Острова для Прибалтийского особого военного округа. Укрепления располагались примерно в трехстах километрах юго-западнее Ленинграда вдоль реки Великой. Эта зона должна была стать глубокой линией обороны в случае наступления на Ленинград с юго-запада.
Весь день в пятницу Бычевский работал над планами новых минных полей вдоль финской границы.
Он обычно поддерживал связь с генерал-майором В.Ф. Зотовым, командовавшим саперными частями в Прибалтийском особом военном округе, но в субботу был так занят, что не позвонил. Позже Зотов сказал, что в субботу занимался тоже минными полями. Он начал установку мин вдоль участка границы с Восточной Пруссией, мобилизовал часть местных жителей на рытье окопов и траншей. Но работы пришлось прекратить, чтобы не создавать панику: колхозные коровы попадали на минные поля и подрывались.
В субботу до позднего вечера Бычевский просидел в Главном штабе. Едва он добрался домой, как уже через час позвонил дежурный с сообщением, что объявлена тревога. В штабе толпились командиры, все спрашивали, что случилось, никто, видимо, не понимал причин, по которым их вызвали. Никишев ничего не объявлял. Все же Бычевский узнал, что на границе неспокойно, и приказал саперам быть наготове, если срочно придется выехать в пограничные части.
Что же происходило за сценой?
Ситуация сложилась трудная. Командующий Ленинградским военным округом генерал-лейтенант Попов (и почти все высшее военное начальство) находился на маневрах, секретарь ленинградской партийной организации Жданов был в отпуске, советские руководители второго-третьего эшелона не привыкли действовать без точных указаний сверху. А указаний не было.
22 июня в Ленинграде оставался заместитель Жданова, 2-й секретарь горкома и обкома Алексей Кузнецов.
Человек худощавый, с глубоко посаженными синими глазами, умный, энергичный, бдительный. В субботу он понял, что на границе складывается опасное положение. И он знал, что уже в течение нескольких недель немецкие самолеты нарушали границы. Он знал, что с базы Ханко сообщили о высадке немецких войск в Финляндии; знал, что все до последнего немецкие торговые суда ушли из Ленинграда, многие – не дожидаясь погрузки. Управление Балтийского торгового пароходства обращалось к нему в связи с очевидным задержанием советских судов в германских территориальных водах.
Когда после заседания в субботу вечером руководящие партийные работники Ленинграда уходили из Смольного, именно Кузнецов подошел и тихо предложил быть поближе к телефонам на случай крайней необходимости.
Он также пошел к полковнику Лагуткину, начальнику противовоздушной обороны, и спросил, где тот собирается провести воскресенье.
– А что?
– Положение на границе тревожное, – сказал Кузнецов. – Надо быть начеку.
Он чувствовал: большего сделать нельзя, иначе обвинят в распространении паники, но все же где-то около полуночи пригласил к себе в Смольный несколько наиболее ответственных руководителей. Он весьма сожалел, что Жданов был в отпуске.
Неизвестно, когда именно в Ленинградский военный округ пришла телеграмма наркома обороны Тимошенко и генерала Жукова о введении боевой готовности. Обычные советские источники утверждают, что не раньше 12 часов 30 минут ночи наркомат обороны в Москве отправил телеграммы в Ленинградский, Прибалтийский особый, Западный, Киевский и Одесский военные округа. Вполне вероятно, что в штаб Ленинградского военного округа телеграмма пришла около двух часов ночи[23].
И около двух ночи в Ленинграде штабных командиров опять начали вызывать в здание Главного штаба; а генерал Никишев с несколькими помощниками отправился в Смольный, где секретарь партийной организации созвал заседание ленинградского руководства.
Один за другим прибывали партийные руководители, быстро поднимались по лестнице на третий этаж, где находился кабинет Кузнецова. Кабинет был ярко освещен, шторы предусмотрительно задернуты. Здесь были секретари обкома и горкома, председатель исполкома Ленсовета П.С. Попков, генерал Никишев с помощниками.
Каждого, кто прибывал, приглашали занять место у длинного стола, покрытого красной скатертью. Кузнецов сидел во главе стола, молча курил. Он молчал, пока все не прибыли, наконец, взглянув на часы, показывавшие 3 часа ночи, произнес: «Давайте начинать, товарищи».
Никишев прочел собравшимся переданную из Москвы телеграмму, предупреждавшую о возможности внезапного нападения 22 или 23 июня на некоторые пограничные области, включая Ленинградскую. В телеграмме подчеркивалось, что нападение может быть спровоцировано какими-либо действиями, и строго предписывалось воздерживаться от подобных действий, но быть в полной готовности отразить удар.
В отличие от краткого предупреждения, которое дано было флоту, наземные и военно-воздушные силы получили подробные приказы, выполнить которые надлежало до рассвета. Что касается Ленинграда, то, конечно, рассвет пришел сюда раньше приказов.
Приказами предусматривалось:
A. В течение ночи 22.6.41 тайно занять огневые позиции в укрепленных пограничных районах.
Б. До рассвета 22.6.41 рассредоточить по военным аэродромам все самолеты, в том числе военные, тщательно их замаскировав.
B. Все воинские части привести в боевую готовность; войска рассредоточить и замаскировать.
Г. Противовоздушной обороне объявить боевую тревогу без увеличения личного состава. Принять все меры для затемнения наших городов и объектов.
Не принимать никаких других мер без особого разрешения.
Чтение кончилось, наступила тишина. Наконец кто-то спросил: «Как понимать телеграмму? Что это? Война?»
«Возможно, что война», – осторожно ответил Кузнецов.
Очевидно было, что ленинградское военное командование не могло выполнить приказы в течение 100–130 минут, остававшихся до немецкого нападения. А указания насчет секретности, маскировки нелепы в условиях ленинградских белых ночей.
Заседание в кабинете Кузнецова все еще продолжалось, когда раздался телефонный звонок из Москвы. Было около 5 часов утра.
Кузнецову сообщили, что немецкие самолеты бомбили Киев, Минск, Севастополь, Мурманск. Он объявил об этом собравшимся с обычной невозмутимостью.
Пока в Смольном совещались, военные в Главном штабе ждали и волновались. Переговариваясь между собой, они ожидали приказов начальства. То же происходило в других советских военных штабах: люди, поднятые ночью по команде «тревога», собрались, но не знали, что происходит и что они должны делать.
На подступах к Ленинграду отражать наступление немцев из Восточной Пруссии должен был Прибалтийский особый военный округ под командованием генерал-полковника Ф.И. Кузнецова. Войска генерала Кузнецова были разбросаны по территории, раскинувшейся на сотни километров. Многие части отбыли на учения в летние лагеря, другие в это время перемещались на новые позиции. Генерал Кузнецов – очень старый офицер с большими теоретическими знаниями, но малым практическим опытом по командованию войсками. Раньше он преподавал в Академии имени Фрунзе, впоследствии станет командующим Центральным фронтом, затем 25-й особой армией, участвовавшей в обороне Крыма. Деятельность его на всех постах оценивалась весьма невысоко. По мнению окружающих, человек нерешительный, плохой организатор, он отличался таким апломбом, что неспособен был воспринимать чужое мнение и быстро действовать в критических ситуациях. Трудно было найти более неподходящего человека для столь ответственного руководства в условиях того хаоса и неустойчивости, которые сложились к этому времени.
Недостатки генерала Кузнецова повлияли на ситуацию, в которой оказался Прибалтийский особый военный округ.
Один из офицеров, генерал-майор М.М. Иванов, командир 16-го стрелкового корпуса, спокойно приказал своему корпусу занять оборонительные позиции вдоль границы и доставить на передовую снаряды. Но Кузнецов приказал вернуть боеприпасы на склад. Иванов приказа не выполнил, в результате, когда немцы атаковали его корпус, нападение было отбито.
Нерасторопность Кузнецова проявилась и в том, что лишь 15 июня он обратился в Москву с просьбой ускорить доставку затребованных ранее 100 тысяч противотанковых мин, 40 тысяч тонн взрывчатки, 45 тысяч тонн колючей проволоки.
18 июня он распорядился начать затемнение городов и военных объектов Прибалтики, но, когда из Москвы Жуков приказал отменить затемнение, Кузнецов послушно согласился. Рига, Каунас, Либава, Шяуляй, Вильнюс, Даугавпилс были освещены по-прежнему[24].
В начале июня начались обычные учения. Около Паневежиса Кузнецов с помощниками организовали полевой штаб. А вечером 21 июня почти во всех воинских частях 11-й армии, одной из трех, которыми командовал Кузнецов, побывала большая группа политработников из Главного политуправления Красной армии. Политработники убеждали командиров и красноармейцев, что войны не будет, что слухи о войне – провокация. Поскольку заверения исходили от Москвы, некоторые командиры перестали соблюдать предписанные ранее меры предосторожности. Работы по установке минного поля близ Таураге приостановили.
Около 2 часов 30 минут ночи 22 июня, когда пришло сообщение Тимошенко о введении боевой готовности, Кузнецов приказал своим армиям занять передовые позиции, выдать боеприпасы, произвести установку минных полей, подготовить противотанковые рвы, быть готовыми отразить любые серьезные действия немцев, но не вести огонь по их самолетам и не отвечать на провокации. Немногие из частей, находившихся на передовой, успели получить этот приказ; большинство, совершенно не представляя обстановки, неожиданно оказались втянутыми в бой[25]. Генерал-лейтенант П.П. Собенников командовал 8-й армией Прибалтийского особого военного округа. Ему поручена была оборона приморских районов на границе с Восточной Пруссией. Как вспоминал потом Собенников, нападение для большинства явилось полной неожиданностью.
В предрассветные часы он успел приказать некоторым частям начать продвижение к границе. Но тыловые части понятия не имели, что происходит западнее, где уже началось немецкое наступление.
В Ленинграде в здании Главного штаба ситуация не была столь катастрофической. Генерал Никишев примчался в штаб из Смольного часов около 5 утра, вызвал в кабинет ожидавших его командиров:
«Это война, товарищи! Фашистская Германия совершила нападение. Приступайте к выполнению мобилизационных планов».
Командиры ринулись в свои кабинеты, дрожащими руками вставляли ключи в замки огромных сейфов и, достав опечатанные красные пакеты с мобилизационными приказами, вскрывали их.
«Неожиданно, – вспоминает Бычевский, – на нас навалились груды незавершенных дел. Два инженерных полка и один понтонный полк надо было переформировать в отдельные батальоны, подготовить и отправить на усиление армейских подразделений. Пришлось прекратить бетонирование укреплений».
Но и тогда не все командиры поверили в необходимость действовать.
Майор Николай Иванов усомнился: «Может, с этим не надо спешить? Из Москвы ведь нет приказов».
Но Бычевский твердо велел исполнять свой приказ. Бросить на второй армейский рубеж весь наличный запас цемента и стали.
Иванов с минуту подумал, протер белым носовым платком очки, потом с уверенностью сказал: «Значит, действительно война. Ладно, будем воевать!»
В Главный штаб был срочно вызван и генерал Духанов; он в дальнейшем прославился как героический командир 67-й армии, одной из наиболее стойких на Ленинградском фронте. Старый кавалерист, начинавший военную карьеру еще в царской армии. В последние годы он был инспектором военных академий.
В эту ночь его разбудил телефонный звонок. Еще не успев одеться, он заметил возле дома ожидавшую его штабную машину.
Улицы были пустыми. В машине, которая мчалась по бульвару Профсоюзов мимо Адмиралтейства, он что-то ворчал насчет «идиотов, которые поднимают тревогу в мирное время».
Он вошел в кабинет и едва успокоился, как сообщили о нападении немцев. Машинально взглянув на календарь, он с удивлением обнаружил, что там новая дата. «22 июня, воскресенье», – тревожно надвигались красные буквы. И черными буквами – «Год 1941». Это его адъютант вчера, уходя из кабинета, сорвал очередной листок.
В пределах часа Духанов получил приказ: отправиться в Кингисепп, находившийся юго-западнее, в ста километрах от Ленинграда, с приказом 191-й пехотной дивизии – развернуться вдоль берега Финского залива от Кунды до Усть-Нарвы для защиты песчаного побережья от высадки немецких десантов.
Шофер ждал его у здания Главного штаба. Лучи утреннего солнца освещали широкую свежевымытую Дворцовую площадь, розовые отблески играли в окнах Зимнего дворца, резче выступали очертания сероватых скульптур. Солнечным заревом была охвачена александрийская колонна.
Духанов сел на переднее сиденье рядом с шофером. Под аркой здания Главного штаба возникла юная пара, молодой человек обнял девушку, нежно поцеловал. В утренней тишине звучал ее счастливый смех.
Скоро, думал Духанов, эту светлую радость задушит страшное слово «война!». И, повернувшись к шоферу, сказал:
«Поехали! Дорога у нас долгая».
Рано утром Духанов прибыл в штаб 191-й дивизии. Дежурный привычно откозырял: «Никаких происшествий не было».
Беседуя с командиром 191-й дивизии, Духанов не мог мысленно отделаться от слов: «Никаких происшествий не было».
Неспокойно прошла ночь в большом каменном доме в Леонтьевском переулке – узеньком проходе, ведущем от улицы Горького через старую купеческую часть Москвы к Никитским воротам. Дом № 10.
У массивной двери стоят на страже мощные колонны. С улицы незаметно, чтобы там внутри происходило что-либо необычное, между тем в эту ночь в германском посольстве не спали. Поздно вечером, после встречи с Молотовым в Кремле, посол граф Шуленбург вместе с верным другом Густавом Хильгером сели составлять последнее донесение из России.
Задача нелегкая. Уже несколько дней посольство было занято уничтожением секретных документов. Шуленбург знал: скорее всего, война вспыхнет перед рассветом, лишь внезапный, неожиданный поворот событий мог удержать Германию от войны с Россией. Тоска охватывала от этой перспективы. Хильгер тоже ощущал подавленность, даже еще острее. Родившись в Москве, в зажиточной купеческой немецкой семье, он отдал жизнь России, почти в той же мере был русским, как и немцем.
И он, и посол все сделали, чтобы предотвратить войну. Они даже рискнули предостеречь Деканозова, русского посла в Берлине, когда тот в середине мая приезжал в Москву. Дали ему понять, с той мерой откровенности, какую могли себе позволить, что Гитлер готовит нападение. Ведь это государственная измена, их расстреляют, если Гитлер когда-нибудь узнает, что они сделали. Но Деканозов, с упорством прислужника, прошедшего истинно сталинскую выучку, не хотел слушать: не может он говорить о таких вопросах, только Молотов может.
Наконец фон Шуленбург и Хильгер, крайне разочарованные, оставили свои рискованные попытки[26].
И теперь, в ночь с 21 на 22 июня, Шуленбург составлял телеграмму в Берлин, в министерство иностранных дел, в которой сообщал о странном разговоре час назад с Молотовым в Кремле. Он терпеливо информировал руководство о вызывавших почти жалость усилиях Молотова начать новые переговоры, выполнить любые требования Гитлера, когда армии Гитлера уже двигались к границе, чтобы на рассвете начать войну.
Ни Шуленбург, ни Хильгер не рассчитывали, что телеграмма повлияет на решение Берлина. Зная, что жребий брошен, они лишь хотели выполнить свою задачу до конца.
Телеграмма составлена, зашифрована, отправлена в 1 час 17 минут. Посол ушел в свою квартиру ждать событий; с ним один из помощников, Гебхардт фон Вальтер. Хильгер остался в посольстве. Там еще было несколько человек. Не только женщины, дети и представители немецких деловых кругов уехали, но и немецкие эксперты, выполнявшие здесь различные задачи (главным образом связанные с поставками). Исчезли немецкие специалисты, завершавшие в Ленинграде постройку крейсера «Лютцов», как раз в тот вечер уехал последний – военно-морской атташе капитан фон Баумбах. И консульства собрались в путь. Все собрались, кроме небольшой группы немцев, ехавших в транссибирском экспрессе из Токио в Москву.
Было утро 22 июня. Уже неделю посол знал, что в этот день начнется наступление. Скорее всего, в 4 часа утра, эту новость привез вчера из Берлина Вальтер.
Внезапно раздался звонок дежурного. Из Берлина передают длинную телеграмму. Вполне можно себе представить о чем. Посол вздохнул и пошел обратно в канцелярию. Три часа ночи. В начале телеграммы стояло: «Очень срочно. Государственная тайна». Вручить следовало лично послу.
Прочитав первые слова, он уже знал, что идет дальше. Начало было такое:
«С получением этой телеграммы все оставшиеся шифры уничтожить. Радиопередатчик вывести из строя. Уведомите, пожалуйста, немедленно господина Молотова, что для него имеется очень срочное сообщение и поэтому вы хотели бы сразу же с ним встретиться…»[27]
Посол устало поглядел на Хильгера и Вальтера. Те покачали головами. Телеграмма была длинная, на передачу и расшифровку ушел час. Поручили сотруднику позвонить в Кремль. Лимузин опять подкатил к подъезду посольства.
В начале шестого фон Шуленбург и Хильгер быстро мчались по улице Герцена в направлении Кремля. Машина свернула на Моховую, затем влево мимо Александровского сада к Боровицким воротам Кремля. Город спал, но было уже светло, почти как днем. За кремлевскими стенами из красного кирпича тихо и плавно протекала Москва-река, ее зеркально-спокойные воды. Воздух был пропитан ароматом акаций и первых роз, цветущих в Александровском саду.
Кремлевские часовые, коснувшись красных с синим фуражек, отдали честь, поглядели, знаками показали, что можно въезжать в Кремль.
И около 5 часов 30 минут утра фон Шуленбург и Хильгер вошли в кабинет Молотова, расположенный в кремово-желтом правительственном здании.
Молотов пригласил их сесть за длинный стол, покрытый зеленым сукном. Лицо у него было усталое, измученное, суровое. Фон Шуленбург извлек телеграмму, стал читать: «В настоящий момент министр иностранных дел рейха вручает советскому послу в Берлине меморандум…»
«Уже три часа идет страшная бомбежка!» – вырвалось у Молотова, не сумевшего сдержаться.
Оторвавшись от бумаги, фон Шуленбург молчал. Затем десять минут продолжал монотонно читать и заключил: «Таким образом, советское правительство нарушило свои соглашения и намеревается с тыла напасть на Германию, которая борется за свое существование. В связи с этим фюрер приказал германским вооруженным силам противодействовать этой угрозе всеми имеющимися в их распоряжении средствами».
Последовало несколько мгновений полного молчания. Казалось, Молотов старается всеми силами сохранить полнейшую невозмутимость. Наконец он сказал: «Это надо понимать как объявление войны?»
Шуленбург беспомощно пожал плечами.
Тогда Молотов с возмущением стал говорить. Эта телеграмма – не что иное, как объявление войны. Ведь германские войска уже перешли границу, бомбят советских граждан. «Небывалое злоупотребление доверием». Германия напала на Россию без всякой причины, все приведенные оправдания – лишь отговорки. Утверждения о сосредоточении советских войск – чистейшая выдумка. Если у германского правительства имелись претензии, то следовало послать ноту советскому правительству, а не развязывать войну.
«Мы этого, во всяком случае, не заслужили», – сказал Молотов.
Посол в ответ попросил, чтобы персоналу посольства было дано разрешение покинуть Советский Союз в соответствии с международным правом. Молотов холодно ответил, что отношение к немцам будет строго основываться на взаимности.
Посол и Хильгер пожали руку Молотову, снова сели в машину. Тихо урчал мотор, машина мягко шла по удобному пологому спуску. Хильгер потом вспоминал, что, выезжая из Кремля, они видели, как подъехало несколько машин; он узнал некоторых генералов, занимавших в армии высокие посты.
От Кремля до посольства меньше пяти минут езды. На обратном пути они молчали. Хильгер с детства знал этот район. Проезжая по улицам, он с замирающим сердцем думал о том, что никогда их больше не увидит[28].
В 3 часа ночи зазвонил телефон в советском посольстве в Берлине, прервав неспокойный сон советника Валентина Бережкова. Незнакомый голос уведомил, что министр иностранных дел Риббентроп находится в министерстве и желает немедленно видеть посла Деканозова. Незнакомый голос, официальный тон. Бережков почувствовал внезапный озноб, но отогнал опасения. Он рад, что в ответ на неоднократные просьбы министр готов принять Деканозова.
«Мы не знаем ничего о просьбах, – неприветливо ответил тот же голос. – Мне поручено вам передать, что рейхсминистр Риббентроп желает немедленно видеть советского представителя».
Какое-то время понадобится, чтобы разбудить Деканозова и вызвать машину, объяснял Бережков. Но ему ответили, что у подъезда советского посольства стоит машина, посланная Риббентропом.
Выйдя на Унтер-ден-Линден, Деканозов и Бережков увидели ожидавший их черный «мерседес». Их сопровождали офицер дивизии СС «Мертвая голова», у которого на фуражке мерцало изображение черепа, и сотрудник протокольного отдела, тоже в форме. Всходило солнце, уже первые лучи осветили Бранденбургские ворота. Наступал чудесный, ясный, теплый день.
При въезде на Вильгельмштрассе они увидели толпу. Вход в министерство иностранных дел освещали прожектора. Фотографы, кинооператоры, журналисты, официальные лица. Чувство тревоги не покидало Бережкова. Они с Деканозовым поднялись по длинной лестнице, прошли по коридору. Люди в форме стояли вдоль стен коридора, браво отдавали честь, щелкали каблуками. Направо был кабинет Риббентропа – огромная комната, в глубине которой за письменным столом сидел министр в серо-зеленом мундире. Справа от двери – группа нацистских чиновников; они остались на месте, когда вошли русские. Деканозов молча пересек огромный кабинет, а Риббентроп молча встал, наклонив голову, подал руку, предложил гостям сесть у стоявшего рядом круглого стола. Бережков заметил, что лицо у Риббентропа обрюзгшее, землисто-серое, глаза воспаленные. На ходу он слегка пошатывался. «Да он пьян!» – подумал Бережков. Когда сели к столу и министр начал говорить, глотая слова, стало ясно, что он действительно пьян.
Деканозов принес текст последних предписаний, полученных из Москвы, но Риббентроп эту тему отклонил. Есть другой вопрос. Немецкому правительству стало известно о концентрации советских войск вдоль германской границы. Оно уведомлено о враждебной позиции советского правительства, представляющей серьезную угрозу для германского государства. Советские вооруженные силы неоднократно нарушали государственные границы Германии.
Он представил меморандум, где подробно перечислялись претензии нацистов. Советское правительство готовится нанести смертельный удар по немецкому тылу в момент, когда Германия ведет борьбу не на жизнь, а на смерть с англосаксами. Фюрер не может допустить такую угрозу и приказал войскам принять соответствующие ответные меры.
Деканозов прервал его, напомнив, что искал встречи, что имел от правительства предписание обсудить с Риббентропом ряд вопросов о советско-германских отношениях.
Риббентроп резко прервал Деканозова. Ему нечего добавить к сказанному, кроме одного: действия Германии нельзя считать агрессией. Он встал, немного пошатываясь, и произнес: «Фюрер приказал мне официально сообщить вам об этих мерах по защите Германии».
Поднялись и русские дипломаты. Риббентроп выразил сожаление, что дело приняло такой оборот, сообщил, что всерьез хотел строить отношения между двумя странами на здоровой, разумной основе. Деканозов тоже выразил сожаление. У германского правительства совершенно неверное представление о позиции Советского Союза.
Когда русские дипломаты выходили из кабинета, Риббентроп догнал их; торопливо, хриплым шепотом, бессвязной скороговоркой прозвучали его слова: «Передайте Москве, что я был против нападения».
Они вышли на улицу. Было уже совсем светло. Защелкали фотоаппараты, стрекотали кинокамеры. Вернувшись в посольство, они пытались вызвать Москву. Четыре часа ночи (в Москве 6 часов утра). Телефонная связь прервана. Пробовали отправить посыльного на телеграф. Ему отказали. Но сзади посольства имелись ворота, Бережков проскользнул в них на маленьком автомобиле «опель-олимпия», добрался до главного почтамта, подал телеграмму.
– Москва? – удивился почтовый служащий. – Вы разве не слышали, что произошло?
– Все равно посылайте! – сказал Бережков. – Пожалуйста, сделайте.
Но телеграмма так и не дошла до Москвы.
Что же происходило в Кремле, когда при всех гитлеровских искажениях и уловках война была официально объявлена? Ответить на этот вопрос до сих пор нелегко.
Директива № 1 Наркомата обороны за подписью маршала Тимошенко и генерала Жукова была объявлена лишь в 7 часов 15 минут утра; уже 4 часа шло немецкое наступление. А в ленинградский Главный штаб она поступила в 8 утра. И приказ был сформулирован странно. В нем не говорилось, что фактически Германия и Россия находятся в состоянии войны. Казалось, те, кто составлял документ, вовсе не были в этом уверены. Неудивительно, что советские вооруженные силы были сбиты с толку.
Советским командирам приказали атаковать и уничтожить противника, вторгшегося на советскую территорию, но переходить при этом на германскую территорию запретили. Производить над территорией противника воздушную разведку и налеты можно было, но не более чем на 100–160 километров. Разрешили бомбить Кенигсберг и Мемель, но летать над Румынией или Финляндией без специального разрешения запрещалось.
Если это война, то, видимо, ограниченная. Когда ленинградское командование узнало о запрещении полетов над Финляндией, оно утратило дар речи: ведь уже сбит (один, во всяком случае) немецкий самолет, базировавшийся в Финляндии.
Полковник Бычевский встретил в коридоре Главного штаба начальника разведки П.П. Евстигнеева. Они давно вместе служили в Ленинграде.
– Читал приказ? – спросил Евстигнеев.
– Читал. Как думаешь, Петр Петрович, финны будут участвовать?
Евстигнеев сердито бросил:
– Еще бы. Немцы метят на Мурманск и Кандалакшу, а Маннергейм мечтает о реванше. Их авиация уже действует.
В Москве адмирал Кузнецов нервничал все больше. Уходит время. Две главные заботы – возможность высадки десанта в Прибалтике, в тылу советских войск, и воздушные налеты немцев на военно-морские базы Балтийского флота. Кремль молчит. Это тревожило больше всего. Звонок Маленкова был последним из Кремля. Маленков говорил неприветливо; раздраженно выразил недоверие, когда Кузнецов доложил о налетах немцев на Севастополь. И никаких указаний из Кремля, никаких указаний от наркома обороны. Правда, на собственную ответственность он приказал флотам противостоять нападению немцев, но только «оказывать противодействие противнику» недостаточно. Пора дать приказ вооруженным силам нанести противнику ответный удар как можно скорей и эффективней.
Но даже он, самый независимый из советских командиров, не смел дать подобный приказ на свою ответственность.
«Флот не мог действовать один, – замечает Кузнецов. – Необходим согласованный план и совместные действия всех вооруженных сил».
Он знал, его флоты подготовлены и сумеют достойно ответить на вызов. Но что на самом деле происходит в Либаве, Таллине, на Ханко и на балтийских подступах к Ленинграду?
Настало утро, прекрасное, солнечное, свежее. Около десяти утра. Кузнецов больше не мог ждать. Он сам пойдет в Кремль и доложит о сложившейся ситуации. Улица Коминтерна. Движение небольшое, народу в центре немного, все уже отправились за город. Нормальная мирная жизнь. Иногда лишь стремительно промчится машина, распугивая пешеходов.
И вокруг Кремля тишина. Багряно-красным пламенем горели недавно посаженные цветы в Александровском саду. Дорожки заново расчищены и посыпаны красноватым песком в ожидании воскресного гулянья. На скамейках уже сидели, греясь на солнце, бабушки с внучатами.
Часовые у Боровицких ворот, в парадных белых кителях и синих брюках с широкими красными лампасами, лихо отдали честь, заглянули в машину и сделали знак проезжать. Машина адмирала помчалась по склону, свернула во внутренний двор у Дома правительства.
Кузнецов поглядел внимательно вокруг. Нет машин. И нет людей. Все опустело, тишина. Выехала одна машина, остановилась, пропуская адмирала через узкий проезд.
«Руководство, видимо, заседает где-то еще, – решил Кузнецов.
– Но почему все еще нет официального сообщения о войне?» Где же руководители? Что происходит?
Всю дорогу он размышлял об этом, а вернувшись в Наркомат военно-морского флота, спросил дежурного: «Кто-нибудь звонил?»
«Нет, – ответил дежурный. – Никто не звонил».
Весь день Кузнецов ждал. Но правительство молчало. И молчал Сталин. Вечером наконец позвонил Молотов. Спросил, как дела на флоте.
Что слышал Сталин
Беломраморный с позолотой огромный Георгиевский зал в Кремлевском дворце был переполнен. 31 декабря 1940 года здесь собрались военные. Уже две недели в Москве шло совещание командиров, стоявших во главе армии, эти несколько сот человек обсуждали неотложные вопросы. Командующий Западно-Сибирским военным округом М.И. Калинин вспоминает, что всех тогда волновал один главный вопрос: нападет ли Германия и когда это может произойти?
«Очевидно было, что фашисты спешат, – вспоминает М.И. Калинин, – они все, что могли, делали, чтобы проверить нашу силу».
Официально ничего не говорилось о Германии до самого новогоднего вечера, на котором должен был выступить Сталин. «Он этот случай использует и предупредит, что до войны с Германией, быть может, остаются считаные месяцы», – думали многие командиры. И об этом они тихо говорили между собой, прогуливаясь по дворцовому паркету, разглядывая белые мраморные таблички, на которых золотом были высечены имена георгиевских кавалеров. Георгиевский крест (в Англии ему соответствовал Викторианский крест) был высшей военной наградой в царские времена. Давно пал царский режим, но имена российских героев полностью сохранились.
Вдруг зал охватило волнение. Появился Сталин. Выйдя откуда-то из внутренних помещений дворца, он стоял перед залом и привычно хлопал в ладоши, по русскому обычаю, пока длилась овация.
Наконец аплодисменты стихли, все ждали, затаив дыхание. Сталин загадочно улыбнулся и сказал: «С Новым годом! С новым счастьем!»
Еще несколько обычных приветствий, и, поручив маршалу Клименту Ворошилову вести прием, Сталин ушел. Ворошилов также поздравил всех с Новым годом, чуточку теплее, и на этом прием закончился.
Командиры в недоумении вышли из Кремля. Была снежная ночь. Многие отправились в Центральный дом Красной армии на веселую встречу Нового года – с водкой и таким количеством тостов, что запомнить их способен далеко не всякий.
«Пока, видимо, нельзя говорить об этом», – решили М.И. Калинин и его товарищи. Они больше ни о чем не спрашивали, давно усвоив, что Сталин непостижим и задавать вопросы – занятие не только бесполезное, но часто опасное.
Военное совещание продолжалось до 7 января. Затем командиры менее высокого ранга вернулись к месту службы, а для командиров более высокого ранга проводились военные учения с 8 по 11 января. За этим последовала конференция в Кремле – с участием Сталина и Политбюро. Перед этой аудиторией Сталин на этот раз упомянул о растущих симптомах надвигающейся войны, однако не говорил, когда она может, по его мнению, начаться. Он говорил о возможности войны на два фронта – с Германией на западе и Японией на востоке, о том, что Россия должна быть к этому готова. Полагая, что война будет маневренной, он предлагал увеличить мобильность пехотных частей, сократить их численность; предупредил, что война будет массовой, поэтому важно сохранить превосходство в людях и технике над возможным противником из расчета два к одному или три к одному. Использование подвижных моторизованных частей, оснащенных автоматическим оружием, потребует особой организации баз снабжения и больших технических резервов. Некоторых слушателей удивили подробные рассуждения о том, как мудро поступило царское правительство, заготовив на случай войны запасы сухарей. Сухари – очень хороший продукт, говорил он, особенно если их запивать чаем.
Другие слушатели крайне встревожились, когда Сталин сказал (а остальные преданно его поддержали), что превосходство из расчета по крайней мере два к одному требуется для успешного наступления не только в районе главного прорыва, но и по всему фронту военных действий. Реализация такой доктрины потребует невиданных людских ресурсов, техники, тылового обеспечения. Советские командиры соглашались, что подавляющее превосходство необходимо в районе прорыва, но не понимали, зачем такие огромные скопления войск на спокойных, второстепенных участках.
Еще больше их тревожило, что планы и подсчеты, которые должны были усилить Красную армию, дать ей возможность противостоять германской угрозе, предполагалось завершить лишь к началу 1942 года. Но война, быть может, не захочет столько ждать.
По коридорам Кремля и Наркомата обороны ползли слухи, и все же чувствовалось, что действия, предпринятые после совещания, продиктованы вовсе не кризисом, не чрезвычайными обстоятельствами. Среди командного состава новые перестановки. На должность начальника штаба вместо маршала Мерецкова назначили генерала Жукова главным образом потому, что доклад Мерецкова о маневрах, сделанный 13 января в Кремле, не понравился[29].
Генерала М.П. Кирпоноса перевели из Ленинграда в Киев, а генерала Маркиана Попова – с Дальнего Востока на место Кирпоноса в Ленинград.
По мнению советских маршалов, переживших войну, в январе 1941-го главная ошибка была в том, что Сталин не хотел верить в близость войны и не отдал приказа о подготовке срочных планов.
Конкретной информации о намерениях Германии накопилось у Сталина вполне достаточно, и ее количество заметно росло. Первым намеком на то, что может произойти в будущем, явилось донесение, которое Кремль получил в июле 1940-го от советского разведывательного управления (НКГБ). В нем сообщалось, что нацистский Генеральный штаб запросил у германского министерства путей сообщения данные о возможности перебросить по железной дороге войска с запада на восток. Именно в это время Гитлер и его Генштаб начали серьезно рассматривать вопрос о нападении на Россию; к 31 июля 1940 года составление военных планов уже шло полным ходом[30].
Нет указаний на то, что Сталин или еще кто-нибудь из высших советских руководителей обратили внимание на первые предупреждения разведки. Лишь после недружественных переговоров между Молотовым и Гитлером в Берлине в ноябре 1940 года, когда выявились германо-советские разногласия по поводу сфер влияния и раздела мира, среди советских военных начались разговоры об изменении в отношениях с Германией и о том, что это может привести к войне. Маршал А.М. Василевский, сопровождавший Молотова в Берлин, вернулся с уверенностью, что Германия нападет на СССР. Его мнение разделяли многие военные. «Молотов, конечно, сообщил Сталину о всеобщей уверенности, что рано или поздно Гитлер нападет, – думал Василевский, – но Сталин не поверил». Осенью 1940 года Главное командование дважды представляло правительству мобилизационные планы стратегического развертывания советских вооруженных сил в случае нападения немцев, но они не возымели действия. Еще в сентябре 1940 года советские командиры на западной границе говорили о гитлеровском «дранг нах остен», о том, что Гитлер носит в кармане портрет Фридриха Барбароссы. Анализировались военные учения, основанные на предполагаемом нападении немцев, но при этом политработники осуждали генералов за «германофобию».
Для военных было небезопасно открыто высказывать свои мысли о Германии, пока Сталин упорно надеялся, что Гитлер будет выполнять советско-германский пакт. После переговоров Гитлера с Молотовым Сталин и Молотов стали отмечать, что Германия не так точно и тщательно, как прежде, выполняет связанные с пактом обязательства. Однако серьезного значения этому не придавали.
18 декабря Гитлер утвердил план «Барбаросса», план вооруженного нападения на Россию. На следующий день в полдень он принял нового советского посла В.Г. Деканозова, который почти месяц ждал в Берлине возможности вручить свои верительные грамоты. Гитлер очень любезно принял Деканозова, извинился, что «был очень занят военными делами» и не мог встретиться раньше. Через неделю, в первый день Рождества, советский военный атташе в Берлине получил анонимное письмо с предупреждением, что немцы готовятся напасть на Россию весной 1941 года. К 29 декабря в руках советской разведки были основные сведения о плане «Барбаросса», его масштабах и намеченном времени осуществления.
К концу января в Москву из Берлина вернулся японский военный атташе Ямагучи. О своих впечатлениях он рассказал сотруднику советской военно-морской дипломатической службы. Немцы, сказал он, весьма недовольны Италией, им нужно другое поле деятельности.
«Не исключаю возможности конфликта между Берлином и Москвой», – заявил, в частности, Ямагучи.
Маршалу Ворошилову доложили об этом 30 января 1941 года.
К концу января Наркомат обороны был достаточно встревожен, стали составлять общую директиву для пограничных частей и флотов, при этом впервые Германия упоминалась как возможный противник в будущей войне.
Примерно в то же время Главное политуправление Красной армии обратилось к Жданову, который возглавлял идеологическую работу партии, с предложением об усилении в армии основ пропаганды. Если слишком подчеркивать «всепобеждающую силу» Красной армии, постоянно убеждать, что она слишком сильна и никто не осмелится на нее напасть, создается чрезмерная уверенность. Надо подчеркивать, настаивал Главпур, что необходима бдительность, готовность, сознание того, что существует опасность нападения. Но Сталин категорически запретил такой подход, боясь, что немцы его сочтут подготовкой к нападению.
В самом начале февраля в Наркомат военно-морского флота стали почти ежедневно приходить сообщения о прибытии немецких военных специалистов в болгарские порты Варна и Бургас и о подготовке к размещению береговых батарей и зенитных частей. Седьмого февраля об этом доложили Сталину. В то же время ленинградское командование сообщило о передвижении германских войск в Финляндии, о переговорах немцев со шведами насчет переброски германских войск через шведскую территорию.
Где-то около 15 февраля в советское консульство в Берлине явился немец, рабочий типографии. Он принес немецко-русский разговорник, который у них печатали огромным тиражом. Там были такие фразы: «Где председатель колхоза?», «Вы – коммунист?», «Как фамилия секретаря партийного комитета?», «Руки вверх, или буду стрелять!», «Стой!», «Сдавайся!».
Ясно было, что имелось в виду.
Посольство в Берлине отмечало, что в немецкой печати все больше появляется заметок о «военных приготовлениях» на советской стороне германской границы. Такие же зловещие сообщения появлялись перед нападением Германии на Польшу и Чехословакию.
Но казалось, ни одно из этих донесений не в силах было нарушить олимпийское спокойствие Сталина. В День Красной армии, 23 февраля, Наркомат обороны по указанию Мерецкова издал приказ, в котором Германия была названа возможным противником и пограничным районам предлагалось произвести необходимую подготовку. Но к этому времени на место Мерецкова назначили Жукова; новый начальник Генерального штаба не особенно много сделал во исполнение приказа Мерецкова. Решено было создать 20 новых механизированных корпусов, увеличить количество частей ВВС, но толку было мало, поскольку отсутствовали необходимые для этого танки, самолеты и прочая техника.
В ежедневных бюллетенях Генерального и Главного морского штабов стали появляться заметки о приготовлениях Германии к войне против России. В конце февраля и в начале марта почти ежедневно совершались разведывательные полеты германских самолетов над Балтикой. Органы госбезопасности получили сведения, что нападение Германии на Британские острова отложено на неопределенное время – до конца войны против России.
Немецкие самолеты так часто летали над Либавой, Таллином, островом Эзель и Моонзундским архипелагом, что адмирал Кузнецов дал разрешение Балтийскому флоту без предупреждения открывать заградительный огонь. Приказ Кузнецова был утвержден 3 марта. А 18 марта над Либавой появились германские самолеты, и по ним был открыт огонь. Появлялись нацистские самолеты и в небе под Одессой. После одного из таких инцидентов адмирала Кузнецова пригласили в Кремль. Сталин был вдвоем с начальником НКВД Берией. Кузнецова спросили, чем вызван приказ обстреливать германские самолеты. Он пытался отвечать, но Сталин, прервав его и сурово отчитав, заставил отменить приказ. И 1 апреля приказ был отменен, опять германские самолеты вовсю летали над советской территорией. Ведь приказ Кузнецова был нарушением приказов Берии, запрещавших генералам в пограничных районах и вообще всем военным частям обстреливать немецкие самолеты[31]











