Читать онлайн По следам Луны
- Автор: Ольга Ракитянская
- Жанр: Young adult, Городское фэнтези, Русское фэнтези
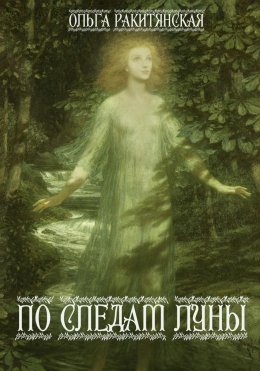
Глава 1
Аурика пригнулась, понюхала воду, поморщилась. Нет, пробовать она не будет: все и так было ясно. В воде плавали противные белесые пятна, едва уловимо мерцавшие болезненным зеленоватым светом, как поганки на гнилушке. Одними глазами этого, пожалуй, не увидеть – но Аурике показывал все чувствительный нос, умевший видеть получше иных глаз. Да, именно поэтому улитки и подохли. И те же самые белесые пятна были у них на брюшках.
Она увереннее прижала к груди сверток из лопуха – с теми, кто выжил. Можно было бы, конечно, взять узелок в зубы – но зачем, ей удобно и так, а торопиться сейчас нет никакой нужды. Раз дело в том, что деревенские жители – а может быть, дачники – опять слили в ручей какую-то гадость, она просто отнесет улиток чуть выше по течению, туда, где чистая вода. И там уж – кто выживет, тот выживет. Во всяком случае, шансы у них будут.
Узелок чуть заметно зашевелился – одна глупая улитка, кажется, уже решила, что она в полной безопасности, высунула рожки, расправила мягкую брюхоногу и собиралась отправиться на поиски новых приключений.
А может, отнести их чуть подальше – к старому колодцу? Тому, что на самом берегу ручья? Там бьет холодный, как лед, подземный родник, вся деревня ходит туда за чистой водой – и там уж никто не посмеет ничего отравить…
Аурика осторожно пробиралась сквозь густую прибрежную траву, сквозь кусты – на двух ногах, чуть пригнувшись. Можно было бы, наверное, и не таиться, ведь уже стемнело, и вечер стоял безлунный – но колодец был все же совсем рядом с деревней. И излишек осторожности в таких делах – всегда лучше, чем наоборот.
Предчувствие в очередной раз ее не обмануло – запах дымка она почувствовала издалека, и сразу же услышала голоса.
– Пацаны, удочку достать надо! А то бабка узнает, что я купался!
– Откуда? Скажешь, просто рыбу ловили, в воду только у берега заходили, там тепло…
– Ага, так она и поверила!
Ребятишки. Ничего опасного, но зачем их пугать? Аурика пригнулась еще ниже, добавив теперь и третью точку опоры – ей все еще было лень брать узелок в зубы. Теперь она совсем скрылась в густой траве, да и прибрежные кусты надежно прятали ее от лишних глаз. Она умела двигаться бесшумно.
Но ребятишки каким-то чутьем – оно еще сохраняется у многих человеческих детей – похоже, все-таки догадались о ее присутствии.
– Пацаны, там под берегом ходит кто-то!
– Твоей бабки кошка, что ли? Ходит…
– Да нет, большой кто-то… Ушел уже…
– А если вернется?
– Лиса, небось!
– Волк!
– Рысь!
– Анаконда! Шшшшш, ща как подползет и удуууушит!
Им нравилось пугать друг друга ночными страхами, дикой водой и лесом – чем, видно, по вечерам пугали друг друга их крестьянские бабки и городские матери с отцами. Мальчишки с упоением корчили страшные рожи, завывали на разные голоса, и рыжие отблески рыбацкого костерка из прутьев плясали на их лицах.
Только один мальчик сидел чуть в стороне. Он не участвовал в общем веселье. Глаза его задумчиво и одновременно сосредоточенно всматривались – куда? Нет, не туда, где только что прошла Аурика. Он словно бы вглядывался в ночь, вслушивался в шелест ручья, и – показалось или нет? –ноздри его чуть подрагивали…
Присмотреться бы к нему… Но не сейчас. Позже. Сейчас надо доделать дело.
Аурика уже совсем близко подошла к колодцу – и вдруг остановилась, чуть слышно заворчав. Там кто-то был. Человек. Она почувствовала запах немолодого тела, старой ткани, жести – ясно, к какому-то деревенскому деду нагрянули на ночь глядя внуки из города, вот он и решил побаловать их чайком на родниковой воде. Что ж, придется ждать. Она легла – осторожно, чтобы не придавить улиток – прикрыла глаза. Уши и нос расскажут ей обо всем. А сюда, к ней, дед не пойдет – они все ходят по человеческой тропинке…
…Она проснулась как-то вдруг, не сразу сообразив, где она и что с ней. Потянулась всем телом, не открывая глаз, пошевелила ноздрями, ловя утренние запахи – ах, так это был сон! Раннее зимнее солнце уже щекотало ей нос, и сосна за окном, прямо у изголовья, празднично посверкивала инеем. Под одеялом было жарковато, и Аурика сбросила его, оставшись под одной простыней. Рядом на подушке сонно посапывал Бер – это его запах мягким, уютным и одновременно будоражащим облаком окутывал ее, как всегда по утрам. Он даже во сне окружал ее ласковой защитой – и даже во сне ей хотелось прижаться к нему, слиться с ним в одно целое…
– Береле…
Он уютно причмокивал губами во сне, как младенец – и ей было жалко будить его. Но утреннее солнце так играло на его тонком, с горбинкой, соколином носу, на рыжеватых, с чуть заметной проседью усах, что невозможно было не поцеловать его…
…Они очнулись спустя час – или два, или полтора? Бер мягко высвободился из ее объятий – она-то была готова обнимать его хоть круглые сутки! Но у него всегда четко работали «лесные часы».
– Рикеле, солнышко, сейчас, наверное, уже часов двенадцать… Ну вот, видишь – двенадцать ноль две. Тебе не хочется позавтракать?
Она снова потянулась – блаженно, как на теплом облачке.
– А куда торопиться? Сегодня же первый день новогодних каникул! Можем спать, до скольких хотим! Делать, что хотим! А чего не хотим, того не делать!
– Можем, конечно, – он улыбнулся ласково, словно ребенку. – Но, знаешь, мне кажется, сегодня что-то… Одним словом – пошли пить кофе с тортом!
Ну разве можно было не подскочить на кровати после таких слов?
…На кухне первым делом зажгли гирлянду – ее разноцветные огоньки заискрились на пухлых сугробах, укрывших и клумбу за окном, и кусты жасмина, и старую кряжистую яблоню.
– Здравствуй, яблоня! – сказала Аурика. Она всегда здоровалась с яблоней по утрам. – Ты такая красивая сегодня! Как Снегурочка!
Яблоня не ответила. Она спала долгим зимним сном и видела, должно быть, сны о лете.
Пока Бер доставал из холодильника торт, накрывал на стол и зажигал свечи в узорных подсвечниках – Аурика принялась молоть к завтраку кофе. Электрическая кофемолка весело жужжала, по кухне теплыми волнами растекался запах свежего кофе, тело все еще блаженно переживало утренний полет – и Аурике, как всегда, вот уже много-много утр подряд, захотелось петь и танцевать. Она обернулась к Беру, хлопотавшему у стола, прижалась лицом к его плечу, вдохнула запах…
И тут раздался звонок с дверь.
В первый день новогодних каникул? Кто бы это мог быть?
Аурика и Бер переглянулись – и оба поспешили к двери.
На пороге стояла девочка лет четырнадцати-пятнадцати. Худенькая, кареглазая – как и сама Аурика. Щеки раскраснелись от мороза. Из-под зеленой шапки с помпоном выбилась рыжая прядка, и девочка украдкой дула на нее, чтобы не лезла в нос. Руки у нее были заняты – она, стараясь не помять, держала небольшую коробочку из серебристого картона.
Увидев Бера, она неуверенно произнесла – голос у нее оказался удивительно низким, может быть, от смущения:
– Борис Михайлович? Аурелия Ионовна?.. Это вам от Василисы Ивановны, она очень просила именно сегодня передать… Это наша учительница музыки – ну, вы знаете, наверно… И еще просила… – передав коробочку Беру, она порылась в кармане серебристого пуховика с надписью Girl Power по шву, достала телефон. – Вот, я записала, чтобы не забыть! «Пусть в новом году найдется потерянное!» Это Василиса Ивановна просила передать – ну, поздравление, наверное…
Аурелия и Бер снова переглянулись. И девочке показалось, что в их глазах – темно-карих у Аурелии, серебристо-синих у Бера – блеснули зеленоватые искорки.
– А тебя-то саму как зовут?.. Аня? Спасибо, Анечка, ты даже не представляешь, как ты нам помогла – и нам, и Василисе Ивановне. А ты знаешь, что в этой коробочке?
Аня мотнула головой.
– Нет. Василиса Ивановна дала уже закрытую. Я вообще курьером подрабатываю – накопить хочу на… В общем, подрабатываю. А Василиса Ивановна сказала…
– Анечка, а ты не хочешь зайти? – Аурелия почувствовала, что пора вмешаться в разговор. – Чего стоять на пороге – тем более сегодня Новый Год! Заходи, выпьешь кофе с тортиком! Ты не очень торопишься?
Аня снова мотнула головой – на этот раз как-то грустно.
– Нет, не очень. Чего я там не видала… А папа знает, куда я пошла. Я всегда ему… ну… адреса сообщаю…
Она взглянула как-то настороженно, чуть исподлобья. Понятно, уже напугали. Типичный современный подросток. А впрочем, наверное, это и правильно – здесь, в этом мире, излишек осторожности иной раз лучше, чем наоборот…
Аурелия ободряюще улыбнулась ей. И Аня решительно переступила порог.
Глава 2
– Я ведь раньше думала, что музыка – это о… ну, скучища, – рот у Ани был набит шоколадным тортом, она шумно прихлебывала из миниатюрной чашечки с золотистым ободком ароматный кофе с какими-то специями и даже сама уже не удивлялась своей болтливости. – Гаммы там, шла собака по роялю…
– Наступила на мозоль! – тут же подхватил Бер.
– И от боли закричала – до-ре-ми-фа-соль! – это уже Аурика.
– Ага! Ты, собака, не форси, что украла – принеси! –а стишок-то с бородой, раз даже взрослые его знают. Или с усами. С рыжими…
– Я украла колбасу!
– Завтра утром принесу!
– Принесет она, как же,– Аня фыркнула прямо в чашку: Борис Михайлович изобразил хитрую собаку таким уморительным лицемерным голоском, что удержаться было невозможно. Кофе выплеснулся на скатерть – такую красивую, льняную, с узором из синих снежинок…
Ух, будь это у бабушки, попало бы ей сейчас!
Но Аурика, не говоря ни слова, каким-то незаметным движением промокнула капли неведомо откуда взявшейся в ее руке салфеткой – и, о чудо, на скатерти не осталось и следа от пролитого!
Аурика снова ободряюще улыбнулась съежившейся было Ане.
– Не расстраивайся, скатерти для того и живут на свете, чтобы на них все просыпали и проливали! Так что ты говорила про скучную музыку?
– То, что она вообще не скучная! Когда Василиса Ивановна… У нее… Знаете, у нее ноты прямо танцуют! На линейках! И все понятно, а когда она на фортепьяно играет… Мой папа, когда услышал, даже не поверил, что это «Лунная соната»! Он думал, соната тягомотная, а Василиса Ивановна… У нее это вообще не про луну! И без соплей!
– Ну почему же – может, как раз про луну, – добродушно усмехнулся Бер. – Только не про такую, которая в сопливых стишочках… А твой папа что – любит музыку?
– Ну… наверное, любит, – Аня как-то неуверенно скривилась. – Он этот… как его… бард. То есть вообще-то он айтишник. Про компьютеры знает вообще все! Мне в классе все завидуют, даже мальчишки просят – мол, спроси батю, как то и это… Ну и – на гитаре еще играет, песенки сочиняет… На фестивали ездит, я с ним даже пару раз была.
– И как, понравилось?
На лице у Ани снова отразилась внутренняя борьба.
– Да так, ничего… – Бер и Аурика смотрели на нее с внимательным интересом, и она вдруг решительно мотнула головой. – А по правде сказать, хе… ну, чепуха полная! Соберутся ста… не очень молодые… – она тут же с опаской покосилась на Бера.
– У нас это называлось «старперы», – охотно подсказал он и подмигнул гостье.
– То есть «старые перечники»! – радостно выкрикнула Аурика и даже запрыгала на стуле.
– Ну, Рикеле, зачем уж так… Юное поколение и без нас расшифрует! Может, еще и поинтереснее! Например, старые пе…
– Вот-вот! – воодушевленная поддержкой, Аня воспряла. – Они же даже играть не умеют! Прямо кровь из ушей! Хотя за столько лет-то можно было научиться? Небось в прошлом веке еще начали! Но им там по… все равно, наверное. Они только хвалят друг друга все время. Лишь бы хвалить. Даже если слова в песне тупые-претупые, как у одного деда, он про вампиров чего-то пел… Лучше бы честно сказали! Но они не скажут, тогда ведь и про них кто-нибудь по-честному… А я терпеть не могу, когда нечестно! А еще они улыбаются, а сами сожрать друг друга готовы и подставить, чуть что не так… Они думают, я мелкая, ничего не пойму, а я…
– А ты?
– Я – чувствую. Я с детства – чувствую. Когда люди правду говорят, а когда врут. Меня ма… В общем, меня «барометром» называли… – она вдруг насупилась. – Вы только не подумайте, мой папа не такой. Он, конечно, играет… не очень. И стихи у него… Но он туда не поэтому ездит. Понимаете, не поэтому! Ему просто надо…ездить куда-то. А они… Знаете, мне кажется – им нравится, что ему плохо. Что можно вокруг него собраться и кудахтать. Или не кудахтать, а лицо куриной… гузкой делать: ну да, чего ты хочешь, жизнь… плохая. И у нас плохая, и у тебя плохая, как у всех. А я не хочу, чтоб уныло и как у всех!
– Мда, – Бер кашлянул. – Ну, а тебе самой… Какая музыка нравится?
– Как у Василисы Ивановны! Чтобы по-настоящему! Чтобы как будто лимонад пьешь, и он в носу щекочет! Или когда на лыжах бежишь, и от мороза щеки красные! А вообще… Я меломанка, мне все нравится. Если песня хорошая, или там мелодия… Не все ли равно, кто сочинил? Да хоть блогер А4!
– Понятно, то есть ты – как тот кирпич, что с крыши свалился: лишь бы человек был хороший!
Тут уже Аурика, не сдержавшись, фыркнула в чашку. Все дружно рассмеялись, и Аня почувствовала себя совсем легко и просто. Ей уже все здесь нравилось: и эти маленькие, как наперстки, тонкие чашечки (дома они с папой пили чай из больших толстых кружек), и запах специй в кофе – что там, корица, кардамон, что-то еще неведомое? – и разноцветная гирлянда на окне, и два золотистых подсвечника в виде пальм, с недогоревшими длинными свечками, на подоконнике… Интересно, почему хозяева не зажгли эти свечи сейчас? Вон ведь у них мерцают другие, в двух красных глубоких подсвечниках, и еще в третьем, в виде странной голубой розы… Разве розы бывают голубыми? А впрочем, не все ли равно! Пусть идет, как идет, так даже интереснее!
– Хотите, я вам фотку покажу? Там Василиса Ивановна… Мы с ней на отчетном концерте…
Она выскочила в прихожую, сунула руку в карман пуховика… Да где же телефон? Только что ведь был тут!
– Гершель, не шали, – вполголоса произнес Борис Михайлович. – Это же гостья!
Аня недоуменно оглянулась – нет, в маленькой квартирке, кроме них, по-прежнему никого не было. А телефон… Да вот же он, на стуле! Прямо там, где Аня только что сидела! И когда это она успела туда его переложить? Вот балда, еще и задницей на него уселась и не заметила!
В набитом шкафу за спиной что-то недовольно завозилось, но Аня уже не обращала внимания: наверно, пальто какое-нибудь свалилось с крючка. Она увлеченно показывала Аурике фотки на телефоне, а Борис Михайлович как-то незаметно исчез из кухни.
Появился он минуты через две – и Аня виновато заерзала на стуле: в руках у него была гитара. Правда, не такая, как у папы и разного фестивального народа: не цветная, не с подключкой и не «палка со струнами». От этой гитары веяло чем-то старинным и основательным – и одновременно бесшабашным. Пожалуй… специями?
Борис Михайлович удобно уселся на стуле, привычным движением положил гитару на колено, едва заметно переглянулся с Аурикой:
– А ну-ка, Анечка, что ты скажешь об этой музыке?
Он тронул струны – и Аня услышала… фортепиано. Звук был такой непривычной для гитары силы и глубины, что девочке невольно показалось: в кухню внесли большой инструмент, похожий на доброго кита, и стены раздвинулись, чтобы вместить музыку.
Нет, это все же была гитара. Струны ее рассыпались колоколами и колокольцами, снежной искристой пылью, плясали, пели и хулиганили, сталкивая в воздухе разноцветные снежинки – и те звенели новогодним хрусталем. И тут же струны серьезнели, наливаясь синим зимним вечером, стараясь рассказать о чем-то печальном, пока не избытом, подспудном… И вдруг выплывали утренней светлой звездой из глубины колодца.
Аня слушала и не могла поверить: это – гитара?
Она очнулась только минуты спустя после того, как последний колокольный отзвук замер в воздухе.
– Что… это? Такое знакомое вроде…
– Это Бах, Анечка. Чакона.
– Как… Бах? Его разве можно… на гитаре? И… Я думала, он серьезный, как не знаю что!
– А он и есть серьезный. У него все – настоящее. Поэтому он – всякий. Он – во всем. И с ним можно – все!
Аурика задумчиво улыбнулась, провела рукой по глазам.
– Береле… А спой – нашу! Мне кажется, Ане…
Борис Михайлович хитро сощурился и, нагнувшись, ласково почесал ее пальцем за ухом.
– Скажи Гершелю, чтоб каподастр вернул, хулиган. Он, похоже, только тебя теперь и слушается… Нашу – так нашу!
Он снова тронул струны – и Аня очутилась в сказке.
Это была песня, чем-то похожая на те, что Аня слышала на бардовских фестивалях – и одновременно непохожая на них. Тут не было и следа раздражавшей ее натужной «душевности», когда большие тетки пытались зачем-то пищать и прыгать по сцене, как маленькие девочки, а большие дядьки изо всех сил изображали то простых, как три копейки, рубах-парней, то седо… не будем говорить, каких мудрецов, накрепко познавших жизнь («…за гаражами», ехидно добавляла про себя Аня, невольно вспоминая некоторых одноклассничков, которые несли нечто подобное, только не со сцены). Не было и вечного, не менее натужного ерничества. Песня вообще была странная, и музыка странная – скачущая, летящая, зовущая за собой и одновременно – не уговаривающая. Хочешь – лети за мной, навстречу чему-то незнаемому! А не хочешь – что ж, дело твое, мне пора!
Неужели это сочинил Борис Михайлович? И Аурика? Она же сказала – «нашу»…
– Борис Михайлович, а так научиться… можно?
Она сама испугалась своей смелости.
– Ну, не совсем так… Но хоть чуть-чуть похоже…
Борис Михайлович усмехнулся.
– Что, понравилось?.. А почему бы и не так? Тут, собственно, ничего такого особенного… Поставить руку, пальцы… Заниматься регулярно… Я ведь преподаю гитару. Как раз таким, как ты.
– Правда? – у Ани дух захватило от враз открывшихся перспектив. Вот это она удачно зашла, Василиса Ивановна к кому попало не пошлет!..
Но тут же в мозгу ехидно засипела противная мысль: а деньги? Кто будет оплачивать твои уроки? Папа и так… А курьерские заработки – она пока накопила едва ли треть…
Заметив ее враз поникшую физиономию, Аурика поняла, что снова пришло время вмешаться.
– Знаешь что, Анечка… Ты же сказала, что работаешь курьером? Ну, подрабатываешь… А нам с Бером как раз иногда нужно кое-что кое-кому передать. Не очень часто, раз в неделю-две. Хочешь, договоримся – ты будешь развозить наши поручения – что-нибудь вроде этой коробочки, как сегодня – а Бер станет давать тебе уроки? Правда, Береле, как удачно все получается?
Аня задумчиво, слегка насупленно молчала. Интересно, как на это посмотрит папа? Ему и так не очень по душе ее курьерские подвиги. «Смотри, заставят еще наркотики развозить, а ты и уши развесишь!» И бабушка туда же. Вечно у нее везде наркоманы и сутенеры…
– Мне надо с папой посоветоваться. А… коробочку вы так и не открыли?
Аурика улыбнулась – как показалось Ане, чуть грустновато – погладила пальцами серебристый картон.
– Мы и так знаем, что в ней. Хочешь, покажу?
И, прежде чем Аня успела ответить – развязала ленточку.
В серебристой коробочке лежала луковица. Просто – розовая луковица. И какое-то белое перышко, почти невесомое – попало, должно быть, случайно, откуда-нибудь из подушки.
– И это все?
«Вот так подарок на Новый Год…»
Борис Михайлович задумчиво крутил луковицу в руке.
– Знаешь, Анечка, так бывает: кто-то теряется – и сам не знает, что потерялся. Все вокруг его уверяют, что он… например, лук. И действительно, вроде похож. Кинь его в ящик с луком – никто и не отличит, и пустит, пожалуй, на суп. А потом станет плеваться да жаловаться, что луковица, мол, некачественная попалась. На что нужен такой лук, если он даже луком приличным быть не может? А посади такую луковицу туда, где ей следует быть… Вот, например, в этот горшок… Да поставь на окно, на солнце, в тепло… И расцветет – гиацинт.
Аурика двумя пальчиками осторожно взяла белое перышко, пощекотала Беру птичий нос.
– А из гадкого серого утенка может вырасти белый лебедь. Только не на курином дворе, там он не доживет – зарежут да набьют подушки! С куриных дворов надо вовремя уходить…
…Аня покидала этого чудной дом в легком обалдении. Она еще сама не знала, что с ней только что произошло и как ко всему этому следует относиться. Но новое знакомство прямо-таки звенело обещанием приключения – и этого было, пожалуй, пока достаточно.
В кармане пуховика болтались неизвестно откуда взявшиеся леденцы с имбирем и лимоном – хотя Аня могла бы поклясться, что никто из хозяев к ее одежде и близко не подходил. А в голове все крутилась странная песня Бориса Михайловича – Бера – и Аурики.
В детстве дальнем, на границе
Между явью и мечтой
Простучали мне копытца
Антилопы золотой.
Рыжей молнией промчалась
Вслед за солнечным лучом…
И с тех самых пор мечтаю
Я неведомо о чем.
Не богатство и не слава,
Не хозяйство и покой -
Манят даль меня и травы
За таинственной рекой,
На лесных звериных тропах,
Что уводят в небеса,
Там, где поступь антилопы
Вторит птичьим голосам.
В час веселья, в час печали,
В дни, когда звенит весна -
Золотой небесной далью
Моя полнится казна.
Я иду сквозь зимы, лета
И плачу за стол и кров
Неразменною монетой
Песен, музыки и слов.
Все пройдет, все снегом станет,
Как осенняя вода -
Только нежность и скитанья
Не истают никогда:
Там ликующим галопом
Вдоль ноябрьской межи
Золотая антилопа
Через сны мои бежит.
Глава 3
Солнце после Нового Года резко повернуло на весну – и на мороз. Пушистый снег под окном так и искрился в его лучах, собачьи и птичьи следы лежали на нем глубокими синими тенями, а небо было таким голубым, что Аурике на миг показалось – это март. В воздухе словно запахло скорым теплом, близким половодьем – и хрусткой корочкой наста, по которому так хорошо бежать на лыжах…
Аурика улыбнулась, вспомнив тот далекий мартовский день, одну из первых их с Бером лыжных прогулок.
Они неслись тогда через заснеженный лес, по лыжне, сначала укатанной, потом чуть подтаявшей, а позже снова подмерзшей – лыжне, на которой самым трудным было не продолжать бег, а остановиться. Не было ни ветерка, небо было жемчужно-серым, словно крылья лесного голубя-вяхиря – но с веток сосен и елей, под которыми пробегали лыжники, время от времени, как бы ни с того ни с сего, срывался снежный ком и попадал точнехонько за шиворот Беру или Аурике. Разгоряченные бегом, они хохотали, ничуть не обижаясь – в этот день, на самой кромке зимы и весны, им тоже хотелось шутить и дурачиться.
А потом – меж берез и туч вдруг блеснула пронзительная синева. Жемчужно-серое раздвинулось медленно, будто занавес в старинном театре – и пошло, и пошло, и синее сверкало все ярче, а потом из самой его сердцевины вдруг хлынуло – золотое. Золотистый снег, золотые и розовые стволы берез, словно облитые пламенем стволы сосен. Стая сорок, сорвавшаяся вдруг откуда-то с веселым тарахтеньем. И победная свирель снегиря над самой головой.
– Спасибо, братья! – закричала она тогда, высоко подняв руки с лыжными палками. – И вас с новым годом! И вы… будьте!
И понеслась вниз под гору вслед за Бером.
А потом они сидели у костра на краю поляны, подбрасывали в огонь смолистые поленья из сухой елки и, прижавшись друг к другу, просто смотрели на искрящийся мир вокруг. Сидели не просто так – в кустах у поляны обнаружился – что бы вы думали? – настоящий диван! Вернее, несколько старых диванных подушек. Кто и когда, а главное – как завез их сюда, прямо в лесную чащу – гадать можно было долго и не догадаться никогда. И Бер с Аурикой особенно не старались – они только весело посмеялись над новой шуткой леса и, поблагодарив, подтащили подушки поближе к костру. В мартовском заснеженном лесу сидеть на диване и смотреть на костер – остроумный символ всей их новой жизни, разве не так?
– Мы никогда не состаримся, Бер! Никогда! Даже если проживем тут сто двадцать лет!
– Да, Рикеле. Никогда.
…Аурика, все так же улыбаясь воспоминанию, открыла фарфоровую крышечку маленького белого чайника. Тонкий носик чайника чуть изгибался, будто древесная ветка, а на боках у него нарисованы были золотисто-зеленые травы. Каждый раз, глядя на них, Аурика вспоминала лето, июльский зной, терпкий запах полян и лугов, где они собирали с Бером душицу и зверобой, таволгу и дикую мяту, кипрей и малину… Да разве все упомнишь! Вот они, летние травы, пучками лежат и висят в маленьком шкафчике-кладовой, берегут душистое тепло для холодных зимних дней. Кинем в чайник немного таволги, малины, добавим ягод шиповника… Чуточку душицы – сколько ее кладет Бер? Убежал на урок, хоть и каникулы – ну, да что с ним поделаешь, ему ведь так всегда хочется передать ученикам еще хоть немного музыки… Ничего, к его приходу все будет готово. Не добавить ли зверобоя?..
– Гершель, иди пить чай!
Обиженная тишина была ей ответом.
– Гершель, ну что же ты? Попробуй чаек, а то опять скажешь, что я главу семьи не тем с дорожки напоила!
Тишина.
– Гершель!
Скрипучий надтреснутый голосок донесся откуда-то сверху, из-за корзины, с которой летом они с Бером ездили на базар за специями:
– Гершель, Гершель, всем вдруг нужен стал старый Гершель! А когда надо, его и не спросят, забудут!
– О чем это ты?
– О чем! Да разве старому Гершелю не больно глядеть, как хозяйка с хозяином отпустили ребенка голодного на мороз?
Голосок чуть слышно всхлипнул.
– Не догадайся я положить ей в кармашек хоть чуточку леденцов… Тех самых, лечебных, от горла и кашля, их так любила зимой мадам Зельда… Да что там леденцы – в такой мороз разве можно отпускать ребенка, не напоив куриным бульончиком, да с кнейдликами, да с булочкой? Уж я намекал, намекал, да разве молодые хозяева станут слушать старого Гершеля. А кофе с тортиком – фе, новая мода, годится, может быть, для Вены или Варшавы, но разве в такой мороз этим наестся бедный ребенок?
За корзиной снова всхлипнули и трубно высморкались.
– Гершель, мода лет двести как не новая. Попробуй накорми современного подростка кнейдликами, когда в поле зрения – шоколадный торт… А ты ворчишь, как старая бабушка! Смотри, если ты вдруг устал, надоело тебе – я тебе и шапку сшить могу! Красную! – Аурика шутливо погрозила корзине пальцем.
– Шапку, шапку – все норовят обидеть бедного старого Гершеля… Чтоб у врагов твоих, хозяйка, типун на языке повыскочил – вот такой горький, как мои слезы! Я ведь еще бабке твоей служил, чтоб ей райский сад достался, и только доброе от нее слышал…
– Это от бабушки-то? Только доброе?
– А как же! – голосок затуманился мечтательной поволокой. – Мадам Зельда… Она была… Как сейчас помню: «Гершеле, старый ты поц, чтоб тебя перевернуло, как лук – головой в земле и задницей в воздухе! Где опять мои очки? Для чего в доме шрейтеле, если средь бела дня очков не отыщешь?»
Аурика фыркнула.
– Очень добрые слова, ничего не скажешь!
– Так ведь про шапку ни полслова! Она бы и не вспомнила про шапку… О, мадам Зельда! – голосок довольно хихикнул. – Когда она родилась, во рту у нее сразу торчал целый зубик! Самый настоящий острый зуб! Совсем она была наша… Ваша то есть… А впрочем, что наши, что ваши – не все ли одно… И когда пан доктор, да встретятся они в райских кущах, перевернул малышку, чтоб шлепнуть ее, извините, по попке – она даже не закричала, а только крепко укусила пана доктора! Ух, как она… А впрочем, пан доктор тут же сказал, что будь это мальчик – назвать бы его в честь деда Владимира, Вольфом, Велвлом, волкодлаком, но раз это девочка, и имя Вольф никак ей не годится, то можно ведь вспомнить, что на священном языке Вольф – это Зев, а Зев – это почти уже Зельда… И представь-ка себе – так ее и назвали!
– Еще как представляю, – кивнула Аурика. Ей нравилось слушать Гершеля, когда он пускался в воспоминания.
– А раз мадам Зельда потребовала от меня извести муравьев… Ну, то есть как извести – изгнать их из дому, чтобы и духа не было! Знаешь ведь, ваши не любят всех этих порошков, да и все мы не любим. И я решил подшутить над мадам Зельдой! Да, подшутить! Она всегда любила добрую шутку… Я нашел в хлебнице черствую булку – мадам Зельда сберегала ее на котлеты, ну да черствой булкой можно ведь и пожертвовать раз в году. Я внушил муравьям, что вкусней этой булки ничего не может быть, что она даже лучше остатков сладкого субботнего вина из зеленой бутылки, и что им немедленно стоит переехать жить в эту булку всем муравейником! О, старый Гершель тогда еще умел убеждать… И вот муравьи со всего дома собрались в черствой булке и копошились там, как лантухи в сахаре. А мадам Зельда как раз собиралась готовить котлеты, потому что хозяин должен был вернуться со службы. «Что это?» – говорит она. «Никак булочная расщедрилась и сыпанула в булку маку?» А потом надела очки… Ох, как она ругалась! Но уж потом мы вынесли всех муравьев вместе с булкой подальше от дома и наказали не возвращаться!
Аурика рассмеялась, и голосок за корзиной тоже рассыпался дробным старческим смешком.
– Помню эту историю, помню! Бабушка рассказывала!.. Но скажи ты мне вот что, Гершеле, – она вдруг посерьезнела. – Что все-таки делать с Бером? Я слышала, как он играл вчера – да и ты слышал… Там, внутри, у него все еще сидит… остаток боли. Знаешь, так странно: вокруг уже весна, и май, и цветы, и зелень – а где-то в низинке маленькое озерцо никак не хочет оттаять. Что с этим делать, Гершель? Ему же больно… Но разве я мало делала? Ну, скажи – мало?
Голосок виновато кашлянул.
– Ты делала много, хозяйка. Ты делала все, что надо. И старый Гершель, кажется, немного тебе помогал…
– Ты мне очень помогал, Гершель. И продолжаешь помогать. Еще с тех пор, как мы условились – что вместе будем делать Беру хорошо, уютно и безопасно…
– Да, приходя домой, глава семьи должен чувствовать себя царем, даже если там, за воротами, он распоследний портняжка – так всегда говорила мадам Зельда, а еще до нее… А уж если он музыкант! И не просто музыкант – а один из них…
– И ведь мы все делали, Гершель, правда? И продолжаем делать. Так почему же…
– Правда, хозяйка. Но послушай старого Гершеля: хозяин такой, как мы с тобой – и не такой, как мы с тобой. Он из ваших – но он из них. Им всегда труднее, чем всем вам, и даже чем нам: они правят – и потому они служат. Служат потяжелее, чем даже мы, шрейтеле. Им ведь не масло сбивать, и не муравьев выводить – они цари и слуги всему миру. Пляшут, чтобы он плясал, поют, чтобы он пел, смеются и плачут, чтобы он смеялся… Думаешь, легко? И потом, не забывай: у тебя с детства была семья. Твоя семья. И какая! У меня была мадам Зельда, а до нее – реб Шепсл, а еще до него… А что было у хозяина?.. Они цари, служащие всем – и потому их всякий может обидеть…
– Да, его замучили, – Аурика поскребла скатерть согнутыми пальцами, и глаза у нее блеснули зеленым огнем, верхняя губа чуть вздернулась. – Мы слишком долго были в разлуке, и пока меня не было, его успели замучить. Ох, как бы я хотела их…
– Хозяйка, хозяйка. – забеспокоился голосок за корзиной. – Злость – дорогой товар, надо его побе… Ай, гляди! Хозяйка – там, в окне!
Но Аурика уже все увидела и сама. Еще вчера вечером кто-то сверху – должно быть, соседи с третьего этажа – уронил бутерброд с расплавленным сыром. Бутерброд повис на ветке яблони и тут же застыл на морозе, как часы на картине Дали. Сейчас сыр весело клевало несколько больших синиц и одна маленькая лазоревка с голубой шапочкой на макушке. Рядом почирикивал воробей – ждал своей очереди. А по соседней ветке к увлекшимся птичкам подбиралась полосатая кошка…
Аурика знала эту кошку. О ее характере никто не мог бы сказать лучше, чем ее собственная хозяйка – соседская бабка. Как-то раз летним вечером Аурика, возвращаясь домой, разминулась с двумя парнями, выгуливавшими на поводке огромного датского дога. И тут же из вечерней мглы донесся пронзительный бабкин голос:
– Ой, мальчики, вы осторожно, тут кошечка моя гуляет… Как бы она вашу собачку не обидела!
Сейчас лопатки остро ходили у кошки на спине, ей оставалось до птиц каких-нибудь полпрыжка, она вся подобралась… И тут же всей шкурой ощутила взгляд, никогда и нигде не суливший кошкам ничего хорошего. Тот взгляд, который любая кошка должна уметь почувствовать вовремя – или умереть.
Аурика, не сдержавшись, заворчала, хотя кошка за толстым оконным стеклом вряд ли могла ее услышать. Но этого было и не нужно: полосатая мародерка подпрыгнула на ветке с округлившимися в ужасе глазами – и исчезла. Аурика даже не успела заметить, куда. Только со стороны помойки донесся знакомый пронзительный голос:
– Ой, Мурочка, бедненькая, кто ж тебя так напугал-то, сердешную?
Птицы разлетелись, но это не беда – вернутся. Лишь бы не у кошки в лапах.
Кстати, надо бы им вместо этого бутерброда… О! Вот это и будет первым Аниным заданием!
Аурика, совсем позабыв про злость, чуть ли не вприпрыжку побежала в комнату – за телефоном.
Глава 4
Когда телефон хлопнул и задребезжал открытой крышечкой пива (ох, и здорово было этим рингтоном шокировать взрослых, особенно учителей!) и в Вотсапе высветилось «Аурика», Аня чуть не запищала от радости. Остановило только то, что она в этот момент сидела в маршрутке рядом с какой-то бабкой, уже и так неодобрительно косившейся на нее из-за «пива». Пришлось ограничиться коротким «йеее!» сквозь зубы – и тут же начать лихорадочно прокручивать в голове: когда же, когда же съездить?
Только сейчас Аня с облегчением поняла, как ждала этого сообщения – и как боялась в глубине души, что оно никогда не придет. Мало ли что взрослые говорят – а потом «ну ты же должна понимать, столько дел в голове – закрутился». И приключение кончится, не начавшись. Останутся только Бах, рассыпавшийся в воздухе искристыми снежинками, да странная песня про антилопу… Еще одно несбывшееся в ее пока не особенно длинной жизни.
С тех пор, как она побывала в этом странном доме – Аня почему-то не могла перестать вспоминать слова Бориса Михайловича. «Потеряется кто-то – и не знает, что он потерялся». Как это – не знает? Почему? И что при этом чувствуешь, интересно? С гиацинтом-то все понятно – он действительно похож на лук, хотя Аня могла бы и повнимательней присмотреться. А – человек?
И сама она, Аня… А вдруг она тоже – потерялась? То есть вроде бы непохоже – вот же она, вот папа, вот бабушка, вот дядя и тетя, вот школа, все знают ее, как облупленную, и всегда так было. Но Борис Михайлович же сказал – «не знает, что потерялся». Может, это про сирот каких-нибудь? Из детдомов? Но они ведь как раз точно знают, что потерялись.
А вдруг и… Что, если и – мама?
…Аня не помнила маму, и слово это всегда звучало для нее чем-то привычно далеким, не вызывавшим особых чувств – примерно как «прадедушка», которого она тоже никогда не видела, разве что на фотографии. Хотя маму она, конечно, все же видела – но в памяти осталось очень немногое. Обрывки какой-то мелодии – то ли мама напевала ее, то ли слушала, а может быть, и играла – они звучали где-то на краю сознания, так что Аня, несмотря на хороший слух и некоторый музыкальный опыт, никогда не могла их толком ухватить. Странный запах – резкий, как будто пряный, но не похожий ни на одну из известных ей пряностей. А впрочем, запах этот, как и мелодия, тоже всплывал в памяти размытой тенью – и, может быть, только поэтому его было не с чем сравнить. Длинные волосы, щекочущие нос…Вот, пожалуй, и все.
Ей было три года, когда мама ушла. Именно так это называлось – ушла. И потому, наверное, Аня в глубине души никогда не могла представить маму умершей, а себя – сиротой. Сироты – это в детдомах, или как Данька Чижов, у которого отца сбила электричка. Про это потом даже «ВКонтакте» писали, в районном паблике. А она – она ведь никогда не видела маму мертвой. И никто не видел…
Аня с детства привыкла думать о маме с некоторой досадой: ушла – значит, бросила ее. Не то чтобы это причиняло ей особенные душевные страдания – она ведь и не знала никакой другой семьи, кроме папы с бабушкой, и не чувствовала горечи утраты. И обделенной себя тоже не чувствовала – много у кого родителей не полный комплект, подумаешь, невидаль. Просто у кого-то – мама и бабушка, а у нее – папа и бабушка, только и всего. Но обида все-таки жила в душе, и сгущалась порой темным облачком, когда откуда-нибудь из недр папиного компьютера всплывала рыжеволосая девушка в белом коротком платье, широким жестом кидавшая за спину свадебный букет, или она же – улыбалась с пухлощеким младенцем на руках. (Особенно неприятно Ане было думать, что это у нее, Ани, были в детстве такие пухлые щеки. Бабушка умилялась – «как грибок-боровичок», а Аня про себя злилась – «жирдяйка»). Больше фотографий, кажется, не было – по словам тети, мама очень не любила фотографироваться. А может, это просто Ане их не показывали. А она и не искала.
Вообще в семье было не принято говорить о маме. Нет, из этого не делали никакой тайны – все знали, и Аня тоже, что мама утонула, купаясь в одиночку где-то на стремнине. Это даже вроде бы видели с берега какие-то люди – хотя тело потом так и не нашли. Но говорить об этом – просто не говорили. А впрочем – что тут обсуждать? Только однажды бабушка, в ответ на вопрос десятилетней, кажется, Ани – мол, а мама же твоя дочка, какая она была? – как-то горько поджала губы: «Дура она была, Ленка. Хорошая, но дура. И погибла по дурости своей». Спрашивать дальше сразу расхотелось. И еще позже, когда Анина классная предложила организовать в школе турклуб и пригласила ребят в пробный поход с инструктором – бабушка только покачала головой: «Что, хочешь как мама быть? Та тоже вечно – скинет тебя, малявку такую, на меня или на Колю – и усвистала куда-то в лес, только ее видели… Как только мужик терпел. Я-то ладно, я – мать. Вот и добегалась…»
Аня не пошла в поход.
А папа… Папа так мрачнел и сникал при одном упоминании маминого имени, так далеко уходил в себя, в какие-то ведомые ему одному глубины горя – что спрашивать его Аня вообще не решалась. Но сердилась на маму и за него тоже.
Только совсем недавно это привычное раздражение при мысли о маме дало вдруг трещину. И совершенно, казалось бы, случайно: просто Аня вернулась из школы раньше обычного – заболел физрук, урок отменили – и, открыв дверь своим ключом, услышала обрывок разговора бабушки с тетей на кухне.
– …абсолютно права! Абсолютно, мама! Музыка – то, что надо. И на концерт, если что, мы с Пашей ее свозим. Может, нормальной девочкой вырастет, а не как Ленка – простигосподи…
Услышав в прихожей шуршанье Аниных ног о коврик, они, конечно, тут же замолчали. Но в Ане уже успело закипеть раздражение – на этот раз в адрес тети. Нормальной девочкой? Это какой же? Красить губы, носить узкие джинсы, стричься «под Барта Симпсона» (это Аня, конечно, так прозвала, на самом деле у прически наверняка было крутое модное название), вечно думать о фигуре и изображать перед дядьками, как ты ничего без них не можешь, чтоб они побежали все делать за тебя – хотя в реальности ты крутая программистка и чуть ли не начальница где-то у себя в офисе? Нет, вообще она была теткой неплохой – но Ане становилось дико скучно при мысли, что вот это и есть взрослая женская судьба. Да и «нормально» – противное какое-то слово… Как будто кто-то уже решил все за нее. А может, она решит сама – какой она хочет быть? Может, она вообще еще не определилась? Вот возьмет, вырастет и… сменит пол! Станет «нормальным мальчиком», то-то тетка позеленеет!
Аня хихикнула, представив себе лицо тети при этом известии. Нет, на самом деле ничего менять она не собиралась, ей нравилось быть девчонкой. Только не такой, которая «нормальная», потому что взрослые так решили.
Да и музыка… Знала бы тетя, чему их учит Василиса Ивановна! Небось думает, что там нежные девочки чинно играют гаммы. Нет, гаммы, конечно, тоже были, как без них. Вот только Василиса Ивановна…
Аня вспомнила, как у нее не выходило одно место в пьесе – получалось как-то бесцветно, неинтересно. Бабушка, конечно, все равно умилялась – но это же бабушка, ей все хорошо, даже если любимая внученька «собачий вальс» сыграет. А Василиса Ивановна покачала головой:
– Анечка, а давай представим… Вспомни какой-нибудь случай, когда ты рассердилась! Прямо очень разозлилась, пар из ушей!
– …огонь из… одного места, – хихикнула Аня. Но честно вспомнила: когда Данька на уроке исподтишка ронял у нее учебник с подставки. Все ронял и ронял, и тут Аня как встанет… Прямо на глазах у училки… И как треснет его этим учебником по голове! Конечно, класс заржал, учительница возмутилась – «да что вы сегодня, как обезьяны!» – но Аня ликовала.
И вот тут пьеса у нее пошла.
А Света Чичкина, когда Василиса Ивановна сказала ей что-то в этом же роде – ответила своим бесцветным милым голоском (ох, как же он Аню бесил!):
– А я никогда не злюсь. Это же некрасиво.
Не злится она, как же. Такого не бывает. Но сколько Василиса Ивановна ни билась, называя всякие чувства и ситуации – Светка все так же мило и тихо отвечала:
– Нет, у меня такого не было. Честно не было, Василиса Ивановна.
Кто ее знает, эту Светку – может, и правда бывают такие люди. Но Ане все же чудилось в этом что-то ненастоящее, как маски у персонажей в аниме. Нарисована на маске улыбающаяся мордаха с румяными щечками – а поди знай, что там, под ней. Может, даже монстр, который тебя сожрет.
Аня вспомнила тогда, как Василиса Ивановна водила их на концерт старинной музыки в Гнесинке. Там играли на клавесине, а одна певица – Мария Остроухова – так пела старинные немецкие песни разных композиторов, что Аня потом нашла ее в Ютубе и подписалась на канал. И Василиса Ивановна спросила их после концерта – мол, ну как вам, ребята?
Светка тогда глубоко вздохнула и улыбнулась:
– Василиса Ивановна… Здесь очень хорошо душе!
И лицо у нее при этом было такое благостное, что Аню аж затошнило. Она не любила благостность. Но взрослым нравится такое, так что Светку можно было понять.
Впрочем, Василиса Ивановна, кажется, немного огорчилась.
– Ты как-то общо, Светочка… А что такое – хорошо душе?
Светка продолжала мило улыбаться, но Аня ясно читала у нее на лице, как она мучительно ищет – что бы такое сказать, чтоб педагогу понравилось? Ищет – и не находит… Может, она и сама не знала, что имела в виду?
И Аня тогда нарочно сказала, с вызовом – обидятся, ну и пускай:
– А мне не кажется, что тут хорошо душе. Ну, то есть, не плохо, конечно. Но и не хорошо. А грустно даже немного. Потому что человек сидел, сочинял для клавесина… А на клавесине только в Гнесинке и играют теперь. И еще – вот они сидели, наверно, пели эти песни…
– Пили пиво… – хихикнул Васька.
– И пиво тоже, а что! Главное, что вместе. Такая стая, как у гиеновых собак… Я видео смотрела…
– У каких собак? Гиеновых? Ну ты даешь…
Васька заржал, а за ним и все – и Ане ничего не оставалось, как тоже заржать. А потом у нее пару месяцев была кличка «Гиена», но это быстро забылось, все-таки музыкалка, а не школа. И все равно – ей было так жаль, что не удалось тогда рассказать Василисе Ивановне про этих собак: как они облизывают друг друга, валяют по траве, как им здорово вместе бежать по саванне. Или что у них там в Африке… А потом как-то не было случая. Она только скинула Василисе Ивановне то видео в Вотсап. Наверно, та поняла.
Кстати, о Вотсапе!
«Аня, привет! Помнишь наш уговор? Есть первое поручение: съезди, пожалуйста, в Зоомузей, привези мне питательные шарики для птиц. Спросишь на входе Виту Семенцову и скажешь, что от меня. Она в курсе. Сможешь?»
А то нет! Кстати, где там этот Зоомузей…
Аня полезла в карты на телефоне и только чудом не проехала свою остановку.
Приключение продолжалось!
Глава 5
В Зоомузей удалось выбраться только в пятницу. Сначала бабушка потащила Аню в гости к тете, на день рождения – «надо навещать родственников, они же самые близкие люди!» – и там старые… ну, не очень молодые… дядьки и тетки неуклюже топтались под попсу, обсуждали какого-то Павла Петровича из третьего отдела и ели селедку под шубой. Единственным подростком, кроме Ани, был тетин сын, Анин двоюродный братец Костик. Но он, как всегда, уткнулся в телефон, где то ли играл во что-то, то ли решал очередную шахматную задачку – он был членом шахматного клуба в школе или еще где-то. В любом случае, все это было Ане очень скучно. Она потягивала свой приторный лимонад («лучше бы честно пивка налили, а то они не знают, что мы все его давно попробовали!»), водила от нечего делать пальцем по узору на скатерти, глазела за окно, где, как на грех, даже ни одной синички не прыгало по кустам – и, хоть убей, никак не могла почувствовать этих людей «самыми близкими». Не только гостей и очередного тетиного бойфренда – эти-то ладно, они не семья – но даже саму тетю Наташу, братца и дядю Пашу. Может, бабушка и права: подрастешь – поймешь. Но только Ане отчаянно не хотелось вырастать так, чтобы это понять. Она изнывала от скуки.
А потом была вечеринка у одноклассницы, на которую Аня давно обещала прийти. Там не было попсы – Ирка фанатела по хип-хопу, даже на танцы ходила и мечтала попасть на сцену. Пили под шумок пиво, и разговоры были не про Павлов Петровичей, а про школу и про то, кто в какой лагерь поедет на лето. Но все равно – Аня и тут места себе не находила. Ей было не то чтобы скучно – просто что-то непонятное грызло ее изнутри, не давало покоя. Словно бы потеряла что-то и никак не может найти – да и было ли оно вообще, это «что-то»?
«Потеряется кто-то – и сам не знает, что потерялся»…
А может быть, она просто не могла дождаться – когда же продолжится приключение? И любое другое занятие – пусть даже школьная вечеринка – казалось досадным препятствием на этом пути.
…Аня уже подходила к дверям Зоомузея, раздраженно шлепая серебристыми сапожками-дутиками по раскисшей бурой каше – понадобилось же кому-то везде рассыпать эту мерзкую соль! – когда ей вдруг пришло в голову: а ведь Аурика даже не дала ей телефона или «Вконтакта» этой самой Виты Семенцовой. «Спроси Виту, она в курсе». А если ее сегодня вообще нет на месте? Ну да что уж теперь – Аня толкнула тяжеленные музейные двери, сделанные будто бы из целых древесных стволов (а может, так оно и было?), и очутилась в гулком сумеречном пространстве вестибюля.
Музей начинался прямо отсюда – из дальнего угла под лестницей (хотя можно ли было назвать эти высоченные пролеты «углом»?) на Аню уставился пустыми глазницами кряжистый бурый скелет мамонта. Она даже поежилась, как когда-то давно, в детстве – а впрочем, именно в детстве этот скелет ее скорее привлекал. Одновременно пугал и тянул к себе. Было в нем что-то, дышавшее немыслимой древностью, темными глубинами времен, куда так и подмывало заглянуть, свесившись через край. Наверное, так тянут к себе пропасти. Аня никогда не видела ни гор, ни пропастей, только читала о них в книжках – но каждый раз при этом невольно вспоминала того мамонта.
Она была в Зоомузее всего пару раз за всю жизнь. Оба раза это были школьные экскурсии – в первом классе и в шестом, когда у них началась биология. Походы эти ей запомнились мало: училка что-то говорила скучным голосом, тыкала то в одну витрину, то в другую, а они бесились и вопили, так что в какой-то момент к ним даже подошла ругаться тетка-смотрительница. Мальчишки ржали возле витрин с глистами – «Вау, глисты! Прикинь, в тебя такой заползет!», толпились вокруг нильского крокодила с распахнутой зубастой пастью. А Данька втихомолку попытался что-то нацарапать гвоздем на брюхе у акулы, которая висела безо всякой витрины, просто подвешенная к потолку. Конечно, у него ничего не вышло – до акулы он не достал, кто-то обозвал его дебилом, и они всей ржущей толпой отправились дальше – пугать смотрительниц.
И все же Аня постоянно чувствовала спиной присутствие мамонта. Даже когда хихикала над Данькой-дебилом с его гвоздем и над глистами. Мамонт был там все это время, смотрел на нее сквозь пролеты и стены пустыми глазницами, из самой пучины времен – пугал и звал. И еще была жаба-пипа. И лисята. Да, были еще лисята…
Странно, почему ей до сих пор не приходило в голову, что сюда можно было прийти и одной, без толпы одноклассников? И без училки?
За столиком в вестибюле, как и тогда, давным-давно, все так же скучала пожилая тетенька в теплой жилетке. Когда стукнула тяжелая дверь, тетенька оживилась – наверное, ждала, что Аня купит билет. Больше тут никого не было, музей казался совсем пустым и непривычно тихим – и оттого каким-то другим, не таким, как в те экскурсии. Каким-то… таинственным?
Аня решительно подошла к тетеньке:
– Мне бы Виту Семенцову. Я от Аури… Аурелии Ионовны. По поручению. Она в курсе.
Тетенька, чуть поварчивая для порядка, принялась куда-то звонить, а Аня запоздало спохватилась: Вита Семенцова… Она же даже не знает ее отчества. И полного имени – или это и есть ее полное имя? А вдруг сейчас придет такая же пожилая тетенька…
Странно, Аурика как-то сразу стала для нее просто Аурикой. Отчество совсем с ней не вязалось, да и полное имя звучало слишком напыщенно. Пожалуй, Аня могла бы даже сказать ей «ты». Борис Михайлович… Наверное, тут все дело было в его усах, да еще с проседью. И еще – в Бахе. Аня немного робела перед тем волшебством, с каким его пальцы тогда плясали на струнах, и звуки рассыпались из-под них серебряной пылью. Наверное, так же она робела бы, если бы перед ней явился настоящий волшебник из сказки, или Дед Мороз – а впрочем, разве Борис Михайлович не был настоящим? Как Василиса Ивановна? Как Аурика? Да, дело было в этом, а не в возрасте.
Но эта Вита… Кто ее знает.
– Привет! Это ты – Аня?
Как ей удалось подойти так незаметно?
Аня обернулась – и все сомнения сразу отпали. Перед ней стояла… девушка? Женщина? – чем-то неуловимо похожая на Аурику.
То есть вообще-то они были совсем непохожи. У Аурики волосы были темные с чуть заметной рыжинкой, слегка вьющиеся – а у Виты прямые и светлые, как солома, с сероватыми подпалинами. И глаза у нее были не карие, а серые, и нос без горбинки… И все же было в обеих что-то необъяснимо сходное.
Может, они родственницы? Дальние?
Вита смотрела на нее, улыбаясь широко и добродушно – даже, пожалуй, радостно ухмыляясь. Она была высокая, поджарая и голенастая – «неженственная», сказала бы бабушка, но в Вите это казалось вполне естественным.
«Она похожа на гиеновую собаку», почему-то подумалось Ане.
– Ты ведь за шариками? Они у меня в тринадцатой комнате. Пошли, отдам, заодно и чаю попьем. Ты ведь не торопишься?.. А то я сегодня на-ра-бо-та-лась! – она сладко потянулась все телом, изогнулась, раскинув в сторону руки – и вдруг резко бросила их вниз, замотав головой и весело фыркнув. Совсем как собаки, когда выбираются из воды.
…Они сидели за столом в тринадцатой комнате, среди каких-то папок и бумаг, перышек и косточек – странный беспорядок, от которого веяло совсем не отсутствием аккуратности, а чем-то одновременно серьезным и бесшабашным. Пожалуй, ветром дальних странствий. Как будто люди не наводят здесь порядок не потому, что ленятся или им и так сойдет – а потому, что все равно скоро уйдут отсюда куда-то далеко, на неведомые тропы, и принесут оттуда еще больше всяких странных вещей, вроде вон того птичьего гнезда из мха и глины, и все равно эта комната снова окажется завалена… И еще – все эти косточки и бумаги нужны им прямо сейчас, должны быть всегда под рукой, нет смысла убирать их в шкаф – потому что здесь постоянно идет какая-то безумно интересная работа, от которой трудно оторваться ради уборки.
Странно, Ане никогда не приходило в голову, что в Зоомузее может быть что-то еще, кроме залов с экспонатами. А тут, прямо над головой бурого от времени мамонта – они прошли мимо него, поднимаясь вверх по лестнице – оказался целый город из комнат и залов, которые Вита называла аудиториями.
Вита подливала ей в кружку с мамонтом (и тут он!) ароматный чай из каких-то травок – безумно вкусный, только Аня никак не могла догадаться, из чего он сделан. Он пах одновременно сладкими цветами и чем-то свежим, холодящим, мятным… Наконец, она решилась спросить. Вита довольно ухмыльнулась – видимо, ждала этого вопроса.
– Это таволга, дикая мята, зверобой, душица, листья малины и что-то еще – кажется, земляника… А Бер с Аурикой разве тебя таким не угощали? Это ведь они собирали.
– На даче?
– Почему? – Вита, кажется, удивилась. – В лесу, конечно.
«Ага, Аурика, наверно, биолог. Может, ботаник».
Аня вдруг поняла, что ничего про нее не знает.
– А Аурика… Она кто?
Вита пожала плечами.
– Она – Аурика. Поэт.
– Работает поэтом? В издательстве каком-то?
Вита воззрилась на нее так, будто перед ней вдруг вылезла жаба с коровьими рогами – и тут же расхохоталась, да так весело, что Аня даже забыла обидеться.
– Ну, ты даешь! Разве можно работать поэтом? Поэтом можно только быть. Жить. Вот ты – Аней работаешь, что ли?
– Так кто же она тогда – на самом деле? В смысле, кем работает?
– А разве то, кто ты на самом деле – это работа?
– Ну вот вы – биолог, наверно. И в Зоомузее работаете.
– Я здесь зимую, – Вита беспечно откинулась на спинку стула, закинула за голову тонкие руки. – Работаю, конечно. Лаборанткой. Но это до весны. А весной – поеду в заповедник, на Камчатку, учитывать птиц. Это тоже работа. А летом – на Белое море, буду нырять с аквалангом и помогать снимать фильм про морских ежей. И это – работа. А осенью – только меня и видели, буду на теплых морях учить людей плавать! И кто же я после этого?
«Бабушка сказала бы – бездельница, болтается по жизни, как…»
Аня откуда-то знала, что, если она это скажет – Вита только рассмеется.
Но разве это – правда?
– Вы… путешественница.
– Ну вот, видишь. И Аурика – тоже путешественница. И поэт.
«А я – Аня и… Интересно, кто же я? Вот дебилка, и сказать-то нечего…»
– И еще она моя ученица.
– Ваша… ученица?
Не может быть. Они ведь ровесницы, Вита и Аурика! Хотя – что Аня о них, собственно, знает?
– Сколько же ей лет?
– Знаешь, я как-то не спрашивала. У нас это не принято. Я просто учила ее – орнитологии. А она меня – языку… Греческому.
– Почему – греческому.
Вита пожала плечами, будто это само собой разумелось.
– Потому что английский я уже знаю.
У Ани уже голова шла кругом. Ей надо было за что-то зацепиться – что-то привычное…
– А… Борис Михайлович? У него усы седые. Он сильно ее старше?
– По паспорту – наверно, да. Я не задумывалась, но, – Вита что-то быстро прикинула в уме, – лет на двадцать, должно быть. Он что-то такое упоминал насчет Олимпиады 80-х, где мишка улетал… Но это по паспорту, не по нашему счету. А так – мне иногда кажется, что он ее ребенок. А чаще – что ровесник. А иногда – что старше, но насколько – не так уж и важно.
Вита вдруг подобрала ноги, уселась на стуле, обхватив колени руками, оперлась о них подбородком. Светлые волосы свесились двумя широкими прядями по сторонам головы.
– Знаешь, паспорт – это так скучно… Никогда не понимала, чего люди так с ним носятся. На самом-то деле – мы всегда разного возраста. Сидишь, например, над диссертацией, и такой взрослой-взрослой себя чувствуешь… А потом ныряешь с аквалангом – а на дне ежи, звезды морские, всякие рыбы, водоросли! И все, ты ребенок. Прямо как в первый раз видишь мир, и восторг телячий! Но и взрослая – тоже. С аквалангом нырять – это ответственность, знаешь ли… Взрослая и ребенок – одновременно, понимаешь?.. А еще бывает – человеку по паспорту, скажем, лет двадцать – а по мозгам он скучный старикашка. Все-то ему понятно, все-то у него расписано, да чтоб попрактичней – как он квартиру купит, машину, детишек нарожает, а они будут учиться и зарабатывать… А скажешь такому – путешествия или там музыка – он и вылупится на тебя: типа, а это еще зачем, в свободное время можно на дачу сгонять или там на гитарке чего-нибудь сбацать под хороший обед, вот и довольно. Тоска пенсионерская, как по мне. А еще бывает – человеку сорок или даже пятьдесят, а он все не знает, что же ему в жизни интересно, кроме компьютерных игр или там выпивки, живет – ни себе, ни другим, и ничего ему не доверишь, даже питательный шарик кому-нибудь передать, потому что ответственности у него – как у трехлетки. А еще бывает… И вот ты мне скажи, при чем тут паспорт?
«Ага, на некоторых пацанов как посмотришь – детский сад на выгуле. А Светка Чичкина – тети Наташин идеал, такая девочковая девочка, как старые тетки любят, они б, наверно, задружились, хоть и возраст. А я… А я – какая?»
Но ведь не спросишь…
– Слушай, а ты в Музее-то бывала?
– Конечно, бывала. С классом.
– Понятно, – вздохнула Вита. – И вы, конечно, ржали и бесились, тыкали пальцем в глистов и крокодила, а кто-нибудь из вас пытался нацарапать на пузе у акулы…
– Вы что, были там? Вы нас помните?
– Да нет. Просто все школьники ведут себя одинаково. Ну, почти все.
– А мне запомнился мамонт, – вдруг, неожиданно даже для самой себя, сказала Аня. Уж очень ей не понравилось это «все вы одинаковые». – И жаба пипа, у нее еще из спины лягушата вылуплялись. И…
«Рассказать ей про лисят? Или…»
Вита смотрела на нее своими странными светлыми глазами, все так же добродушно ухмыляясь. Пряди волос свисали по бокам головы…
– И еще мне было жалко лисят. Они там как бы играют… Но их же убили, чтоб чучело сделать. Таких маленьких.
Вита слушала ее с явным интересом, чуть склонив голову набок.
– А взрослых зверей и птиц тебе не было жалко? Их же тоже убили.
Об этом Аня как-то не задумывалась.
– Но маленьких же… жальче?
– Почему? В дикой природе всех едят, и маленьких тоже. Даже наоборот: чем ты меньше – тем больше желающих тебя съесть. И умирают – тоже все одинаково. И никто этого не хочет – ни маленькие, ни большие.
– Все равно, – Аня мотнула головой. – Если тебя съели – так хоть польза… кому-то. Кто-то поел и не сдох. А чучело… Я же не сдохну, если на него не посмотрю! И ради этого умирать?
– Все равно биологам нужен материал для изучения. А шкуру ведь не выкидывать потом. Хотя, знаешь – в чем-то ты права. Я тоже не люблю убивать ради чучел. Вот когда мы с практикантами дохлого коростеля в поле нашли… Как раз тогда Аурика у меня училась… А хочешь, – она вдруг выпрямилась на стуле, в глазах зажегся янтарный огонек, – хочешь, покажу тебе живое? Дикое? Приходи в воскресенье ко мне на экскурсию! Буду водить народ по лесопарку, показывать разных птиц. Бинокль у тебя есть?.. Ну ничего, выдадим из запасов. Придешь?
«Как мама хочешь быть?» – неприятно зазвучало в голове. «Та тоже – раз, и усвистала в лес…»
Но тут же навстречу знакомому голосу поднялась волна злости.
«А может, и хочу. Моя жизнь. Не заставите быть нормальной! И вообще… Это же не поход. Экскурсия, вроде школьной. Точно, так и скажу бабуле: в школе задали проект по биологии!»
– Приду. Только вот… Мне же шарики надо передать Аурике. А она на экскурсии будет?
Вита ухмыльнулась, потрепала ее по волосам своей худощавой рукой – как щенка по шерстке.
– Не торопись. Они все равно, скорее всего, уже в лесу. И раньше ночи воскресенья не вернутся.
– Как в лесу? На дачу поехали? А что там сейчас делать?
– Да что ты все про эту дачу, – как-то устало вздохнула Вита. – Говорят же тебе – в лесу. На болоте.
– Что, и ночуют там?.. Но сейчас же зима! Холодно!
– Не беспокойся, – весело фыркнула Вита. – Подозреваю, что вдвоем они не мерзнут!
Глава 6
Аурика прошла по краю большого сугроба, у самого ствола рябины, осторожно ступая широкими лыжами точно поверх утреннего заячьего следа: зайцам ведь тоже не хочется провалиться, и они выбирают места, где снег поплотнее. Хотя они с Бером, конечно, потяжелее зайцев – тем более с рюкзаками… Чуть поодаль, вырываясь из снежной норы, под сугробом тихо струился черной торфяной водой незамерзающий ручей. Он выглядел вполне мирно, но провались в такой на морозе – лыжи мигом обледенеют. И хорошо, если только лыжи.
Это был уже третий – последний – ручей, и Аурика внутренне перевела дух: они почти пришли! Пробираясь сюда, им с Бером пришлось попотеть, прокладывая путь по глубоким, по пояс Аурике, пушистым сугробам, снег в которых ещё не успел слежаться и постоянно проваливался даже под широкими лыжами. Сначала вел Бер, как это обычно бывало в лесу – но ведь у него, как обычно, и ноша была тяжелее. Поэтому где-то на половине пути Аурика просто молча вышла вперед и принялась тропить. Бер знал, что в такие моменты с ней лучше не спорить. Хотя несколько раз он еще пытался снова взять тропление на себя – но она, весело восклицая «Мне нравится тропить!», убегала вперед, проваливаясь в пушистый снег, принюхиваясь на бегу к заячьим и беличьим следам, и ему ничего не оставалось, как следовать за ней.
Ей очень хотелось, чтобы он отдохнул.
Как же Аурика обрадовалась, когда из черноольшаника справа вырвалась вдруг и пошла вперед – точно туда, куда им было нужно! – глубокая колея, пробитая лосем. И не просто пробитая – колею даже немного утоптали… Аурика пригляделась, принюхалась… да, утоптала стая. Судя по всему, бежали они за лосем. Идти по такой колее было куда легче, чем по нетронутому снегу. Аурика знала их всех – и лося, и стаю – и ей, конечно, хотелось пройти по следам подальше, посмотреть, чем же там кончилось. Но километра через два колея свернула к болоту, а им с Бером нужно было в другую сторону. Солнце уже клонилось к закату, и ничего не оставалось, как помахать следам рукой – скорее всего, лосю опять удалось укрыться в болоте – и идти своей дорогой.
И вот, наконец, они успешно перескочили через последний из трех ручьев. Зайцы не подвели – снег выдержал их обоих.
– А вот и наш пень! Помнишь, ты еще в него топор втыкал! Проскочим его – и дома!
Миновав пень, они перекатились через давно знакомую упавшую осину – и остановились на краю небольшой поляны. Впрочем, поляной назвать это место – да и вообще заметить его – мог, наверное, только тот, кто знал о нем заранее: скорее это была небольшая чистинка, просвет среди частых стволов елей, осин и сосен. По краям чистинки пушился обычно еловый подрост, веселые стайки совсем еще юных елочек – но сейчас едва ли только верхушки самых старших из них торчали из-под сугробов. Зима в этом году выдалась особенно снежная. А там, на другом краю…
Аурика и Бер встали рядом, взявшись за руки.
– Здравствуй, Мать елей! Здравствуй, бабушка Елка!
Мощная трехсотлетняя ель, возвышавшаяся над чистинкой, казалось, хранила молчание – но в молчании этом Аурика и Бер ясно услышали ответ: «Здравствуйте, внучата!» Нижние ветви ее, давно высохшие, торчали из неохватного ствола, будто кости древних зверей, в густо-зеленой хвое наверху розовели налитые шишки. Ель, казалось, улыбалась – одновременно сурово и ласково – приветствуя пришедших. К стволу ее шла аккуратная строчка косульих следов, огибала его вплотную и уходила спокойно дальше, в чащу. Косуля будто знала, что в этом месте ей ничего не грозит.
Аурика скинула лыжи, поскорее поставила их стоймя к сосновому стволу – и с веселым визгом прыгнула прямо в снег. Он принял ее, как принимало летом лесное озеро, осенью – палая разноцветная листва, а весной – рябиновые заросли, и она с восторгом каталась в нем, вздымая искрящуюся пыль.
– Береле! Береле, иди сюда! Ой, как же я соскучилась!
– За две недели? – Бер смотрел на нее, улыбаясь в заиндевелые усы, как на ребенка.
– Конечно! Я бы всегда тут жила, будь моя воля, ты знаешь! А бабушка Елка, думаешь, не соскучилась? А косуля? А остальные? Мы же сказали им, что придем на Новый Год, и не пришли!
– Да, нехорошо получилось. Но что же делать, если мы…
– Да, приболели! Да, они понимают! В лесу это тоже случается… Слышишь, Бер, ты же слышишь – они все понимают!.. Ну, ничего, бабушка Елка, ничего, братья – Новый Год у нас всегда с собой! Мы все равно его отпразднуем – все вместе!
Аурика вскочила, быстро отряхнулась – и вдруг прыгнула прямо к Беру, обхватила его за шею, лизнула в нос, чуть не повалив прямо в снег.
– Доставай скорее дощечку, будем откапывать нашу сидушку!
…Они сидели, обнявшись, на двух толстых бревнах, удобно выдолбленных под скамейку. Такие же толстые, смолистые бревна – даже, пожалуй, еще толще – пылали сейчас в костре, выбрасывая снопы искр, как маленькие фейерверки, и заливая теплым медовым светом всю полянку посреди сгустившейся синей темноты. Дрова эти Бер с Аурикой заготовили еще в прошлом году, спилив несколько сухих смолистых сосен – таких немало стояло здесь, в потаенном уголке леса, где, несмотря на близость деревень, им ни разу не встречались следы людей. И теперь здесь, посреди сугробов, им было даже жарко. Они сняли шапки, расстегнули куртки; усы Бера чуть мерцали серебром, а в темных рыжеватых волосах Аурики поблескивали золотые отсветы костра. Где-то за лесом – не так уж и далеко – залаяла деревенская собака, простучал по рельсам одинокий вагончик-«кукушка». Но звуки эти доносились как бы из другого мира. Аурика и Бер лениво, вполуха вслушивались в них вместе с остальным лесом – так же, как и он, невидимые и неслышимые деревне из-за темной стены деревьев.
Чуть поодаль, натянутая между двух сосен, стояла их палатка – их гнездо на эту ночь, как и на много, много других ночей, зимних, летних, весенних… Под палаткой настелены были сухие еловые лапы, пружинившие, как матрас, а внутри палатки – уже приготовлен мягкий пуховый спальник. Хорошо и тепло будет спать в нем сегодня среди снегов, под шепот снежинок и веток – да и не только спать…
За краем огненного круга, в выдолбленном пне, лежали куски каменной соли – новогодний подарок косуле. На ветвях елей покачивались цветные фонарики с зажженными внутри свечами, бросая на сугробы красные, зеленые, желтые и оранжевые отсветы; сразу два таких фонаря держала, довольно пошевеливая ветвями и кивая верхушкой, сама бабушка Елка. Ей нравился этот праздник, который уже не первый год дарили ей Бер с Аурикой – а до этого, за триста лет, подумать только, никто и не догадался…
Бер запустил руку в сугроб за бревнами, достал бутылку шампанского. Пробка чуть слышно хлопнула – они чокнулись кружками и засмеялись.
– Ну, с Новым Годом! С Новым Годом, бабушка Елка! С Новым Годом, братья!
Что-то негромко проскрипело в вышине, качнулось пламя костра.
– Прости, бабушка, как это я забыл!
Бер поднялся, прошел по сугробам к мощному стволу, вылил немного шампанского под корни.
– Твое здоровье!
Ветви с фонариками довольно пошевелились.
Когда Бер вернулся к костру, Аурика потерлась носом о его плечо.
– А помнишь, как ты привел меня из леса?.. Как раз на Новый Год… И все здешние веселились у нас на свадьбе! И бабушка Елка тоже!
Бер молча, крепко обнял ее – как обнимают найденное нежданно, еще не успев поверить, что оно не исчезнет снова. Где-то в темноте треснула сухая ветка. А откуда-то сверху, разомлев от жара костра, свалился снежный комок – прямо на нос Аурике. Она фыркнула и рассмеялась.
– Болотные говорят – лось опять убежал… И хорошо, мне было бы жаль, если бы нашего лося съели. Он красивый. А стая голодать не будет, еды сейчас много…
Она потянулась всем телом, положила голову Беру на колени.
– Ой, Береле, какой же костер ты сделал!.. Хорошо бы всегда тут жить, правда? И зачем нам люди с их проблемами?
Бер задумчиво почесал ее за ушком, улыбнулся ласково и грустно.
– Знаешь, совсем без людей – все-таки…
– Нехорошо. Да, ты прав – нехорошо. Тогда не с кем будет делиться. То есть можно, конечно, только друг с другом, но… Им ведь нужнее. Иначе какой в этом смысл? Остались бы предки дома, да и все.
– Хорошо знать своих предков…
– Конечно, хорошо. Тогда и про себя понятнее – почему ты такая, как есть, и для чего. И что от тебя требуется. Знаешь, я даже как-то не очень… доверяю тем, кто про свой род ничего не знает. Может, они и хорошие, но… Они же, получается, живут, как слепые! И сами не знают, чего от себя ждать.
– Мда… – Бер смущенно кашлянул. Аурика тут же вскинулась, обняв его за шею – глаза ее блестели в свете костра рыжим и зеленым светом.
– Береле, я же не про тебя! Не про тебя, что ты! Ты же – другое дело, ты же… не виноват, что тебя подарили… не тем! Что они тебя мучили, что хотели, чтоб ты… забыл. Ты же ни при чем, это наши ошиблись, так тоже бывает, ты знаешь!
– Теперь – может, и знаю. Но сколько же лет… И если б не ты…
– Ага, так и верил бы, что ты правда сын… этих. Но, Береле, ты же знаешь! Теперь-то ты знаешь, мы же все выяснили! Помнишь, как ты играл в лесу, на краю болота – и они пришли тебя послушать? И птицы? И даже норка вышла на берег?
– Помню, – улыбнулся Бер. – Такое не забудешь. Ополовники тогда со мной разговаривали…
…Две маленьких синички-ополовника, похожие на комочки мартовского снега с темными черточками палой хвои. Солнце пригревало, с веток уже капало – и одна из синичек, повиснув на лапках вниз головой, что-то пропищала Беру.
– Привет, ополовничек! – улыбнулся он и тоже попробовал просвистеть в ответ.
Синичка покрутила белой пушистой головкой, снова просвистела – на этот раз чуть наставительно. Бер попробовал еще раз – и теперь, кажется, получилось. Ополовничек довольно запищал, зажурчал, будто мартовская капель.
– Хочешь привести подружку? Да пожалуйста! Пусть тоже послушает, у нас тут концерт для всех!
Вторая синичка робко крутилась поодаль – и первая подлетела к ней, принялась что-то журчать, убеждая…
Вскоре они уже обе прыгали по ветвям ивы и ольхи прямо над головами Бера и Аурики, повисали на лапках, слушали. А над весенним болотом разносились далекие крики журавлей, где-то блеял первый бекас – и хрустальные звуки музыки рассыпались последним мартовским снегом…
…– Ну вот, видишь. Тебе просто не повезло. Если бы тебя подарили хорошим людям… Если бы не ошиблись… Как нашего самого первого…
– А кто был у вас самым первым? Ты знаешь, как он жил?
– Конечно, знаю. Его звали Алтер-Вольф. У тех людей до него дети все умирали и умирали – ни один не выживал.
– Это что… нарочно? – в его голосе звучал скрытый испуг.
Аурика удивленно посмотрела на него – ах да, он пока еще не привык…
– Да нет, вряд ли. Зачем? Тогда у многих дети умирали. Особенно в штетлах, жизнь-то там была… И вот поэтому, когда тем людям подарили… они добавили второе имя, Алтер. По обычаю, чтобы дожил до старости.
– И он дожил?
– А как же? Зачем его дарили? Дожил чуть не до ста – по тому времени прямо чудо. И, знаешь, в приемной семье его все любили. Ему с ними было хорошо.
– Еще бы не любить, раз он единственный выжил.
– Нет, дело не только в этом. У них потом еще родились, свои, и не умерли – конечно, им помогали, за Алтер-Вольфа, но они-то про это не знали. Дело не в этом. Понимаешь, они сумели принять… что он не такой. Непохожий. Играл на скрипке, сочинял стихи, бродил один по лесам – и что-то приносил оттуда, ягоды, грибы…
– Зато зарабатывать не умел, – горько усмехнулся Бер. – Угадал, да?
– Да при чем тут это? – Аурика фыркнула, в глазах зажглись злые зеленые огоньки – но тут же погасли. – Зато он умел то, чего не умели они. И те люди это ценили. В общем, это даже разумно – роду же надо время от времени… обновляться, что ли. Они просто умные были. Кстати, он спас их однажды в голод… А вот что удивительно – так это его жена, Хая. Алтер-Вольф ведь женился на обычной девушке. И она смогла его принять. Значит, любила. Я думаю, он был с ней счастлив.
– Почему ты так уверена?
Аурика пожала плечами.
– А откуда же тогда мы точно знаем, что семья – это для счастья? И что счастье положено нам по праву?
Она повозилась, устраиваясь поудобнее у Бера на плече. В канах над костром медленно таяли снежные комья с темными черточками веток и хвои, похожие на ополовников.
– А старшей дочерью Алтер-Вольфа была Штерна-Фейга… – ее голос звучал таинственно и чуть сонно, будто она рассказывала сказку – или былину. – Она тоже вышла замуж за человека. От них мы все и пошли. И живем с тех пор тут. И ты тоже должен был стать таким родоначальником, как Алтер-Вольф… Нет, даже лучше, даже выше…
Снежинки тихо шуршали по тенту над их головами – незаметно начинался снегопад.
«Они приходят – Алтер-Вольф и Штерна-Фейга. Это ведь они приходят ко мне каждый месяц, каждую полную луну. Они так хотят стать твоими, чтобы ты создал их заново… И я говорю им – нет. Пока – нет. А когда? Спрашивают они. И мне нечего им ответить…»
Аурика зарылась лицом в волосы Бера, чтобы он не увидел темного блеска ее глаз.
Она не скажет этого Беру. Снова – не скажет. Пока – не скажет. Она просто молча пойдет вперед – и будет тропить снега, пока они не доберутся до дома.
Ей так хотелось, чтобы он отдохнул.
В тишине снегопада, из тьмы – вдруг кто-то рявкнул, резко и глухо. Бер вздрогнул от неожиданности – и тут же выдохнул: «Фффух…» Аурика вскинула голову, щелкнула зубами, ловя снежинку – и засмеялась.
– Ага, все никак не привыкнешь!
– Да уж… Сейчас я хоть знаю, кто это. А в первый раз… Сначала думаю – собака. А через пару секунд осознаю – да какая собака ночью в сугробах, в той стороне ведь глухие леса, деревня-то – за ручьями!
– Косуля умеет удивить!.. Знаешь, когда у нас весенняя практика была, и мы в палатке жили, один студент… Кстати, забыла тебе сказать, – она вдруг посерьезнела. – Когда мы с тобой собирали ветки для подстилки… В общем, я видела там следы. Ты заметил? Большие, розочкой, похожи на кошачьи.
– Нет, не заметил. Рысь?
Аурика кивнула.
– Я думаю, это она. Я ее чую. Это она приходила.
– Она уже знает?
– Конечно. Ты же сам учил меня говорить… с теми, кто за чертой. Вот я и поговорила. И знаю, что она давно вернулась. Она ждет.
– Я думал, она…
– Нет, давно уже нет. Та выдра погибла пять лет назад. Это мне тоже сказали. Она – здесь, в лесу. Ей так хотелось. И ей разрешили.
– Зачем?
– Так проще. Люди боятся воды больше, чем леса. И те, кто вырос среди людей… тоже. Ты же сам до сих пор боишься заплывать на глубину.
По лицу Бера пробежала быстрая тень – но Аурика успела ее заметить. Она засмеялась, затормошила его, боднула шутливо в бок головой.
– Береле, давай зажжем бенгальские огни! У меня в рюкзаке целых три пачки!
Бабушка Елка кивнула – довольно и понимающе. И где-то в лесу снова хрустнула ветка.
Глава 7
Хорошо, что в телефоне у Ани был навигатор – без него она бы ни за что не нашла это странное место, где Вита собирала экскурсию. В сообщении в Вотсапе все выглядело просто – экоцентр такой-то, улица такая-то, номер такой-то. А вот на деле…
Сначала Аня долго шла вдоль какого-то подозрительного рынка, где, судя по его виду, торговали вообще чем угодно – и не всегда тем, что одобрила бы бабушка. Вокруг сновали личности с баулами и огромными клетчатыми сумками, переругиваясь на самых разных языках. Пройдя чуть дальше, Аня поняла, откуда они брались – там был автовокзал. Но ничего похожего на экоцентр пока видно не было. А впрочем, откуда ей знать, как он должен выглядеть – этот самый экоцентр? Что это вообще такое? Виту она тогда спросить постеснялась – подумает еще, что Аня совсем дебилка. Лучше разобраться самой, на месте. Ну вот и разбирайся теперь…
За автовокзалом неожиданно начинался самый настоящий лес – видимо, край того самого лесопарка – и Аня вздохнула свободнее: все-таки, видимо, шла она правильно. Правда, лес был отгорожен от дороги высоким забором из металлических прутьев, и вдоль него идти пришлось так долго, что Аня чуть было не начала снова волноваться – но тут в заборе вдруг открылся широкий проход, даже безо всяких ворот, и туда, в лес, уходила широкая тропа, почти дорога, плотно набитая множеством ног. Навигатор уверенно указывал это направление – и Аня свернула туда. Тем более что другого пути все равно не было.
Тропа привела ее к еще одному забору, на этот раз глухому, деревянному. На нем не было никаких опознавательных знаков, и Аня уже хотела свернуть налево или направо – тропа раздваивалась – но синяя стрелка навигатора упорно тыкалась прямо вперед. И тут, присмотревшись, Аня увидела неприметную калитку. Она была закрыта – но, может быть, не заперта? Аня решительно толкнула ее – и оказалась словно в другом мире.
Нет, внешне ничего не изменилось – здесь росли все те же сосны и какие-то, совсем голые сейчас, лиственные деревья, что и в лесопарке вокруг. Но изменились – запахи, звуки? Здесь совсем не чувствовалась близость большого города – хотя там, за досками забора, Аня явно ощущала спиной его дыхание, слышала вдалеке шум машин. В этом странном месте даже воздух, казалось, был немного другим – тягучим, медленным, как мед, который бабушка привозила из деревни, и он стекал с ложки ленивой янтарной струей, пахнувшей неведомыми цветами. Кстати, а что это там стоит – неужели ульи?
Аня не смогла бы точно назвать это неведомое нечто, даже если бы задумалась. А задумываться было особенно некогда – время экскурсии приближалось. Как бы не опоздать… Она оглянулась вокруг – среди сосен стояли две избушки. То есть вообще-то это были деревянные двухэтажные дома – но выглядели они, как на рисунках в детских книжках, про какое-нибудь «Зимовье зверей». И так же, как там, окна в рассохшихся деревянных рамах светились теплым огнем – желтым и чуть красноватым, будто там, внутри, топилась печка.
Только сейчас Аня заметила, что день стоял вовсе не серый и пасмурный, как показалось ей с утра, при выходе из дома. Нет, солнце и правда светило неярко, и небо было плотно затянуто облачной пеленой. Но пелена эта была не грязно-серой, как в городе, среди панельных высоток Аниного района – здесь она была какой-то мерцающей, как дымчатый жемчуг на старинных костюмах в музее, куда их в прошлом году водила историчка. И от этой мерцающей дымки воздух вокруг будто бы тоже светился – теплым приглушенным светом, как настольная лампа за занавеской. И еще – здесь пахло свежим снегом.
На одной из избушек висела большая табличка из дерева, с нарисованной белкой и надписью «Экоцентр». Ага, вот туда-то ей и надо!
Избушка встретила ее нежарким теплом- в самый раз, чтобы расстегнуть куртку, но не вспотеть – и желтизной бревенчатых стен. Справа от двери к стене была прибита сучковатая коряга – похоже, вешалка, потому что на сучках уже висели чьи-то шапки и куртки. Вверх, на второй этаж, уводила крутая лестница с перилами из изогнутых древесных ветвей (интересно, как это удалось их так согнуть?) – и оттуда, как из дупла, вдруг высунулась голова Виты со светлыми свисающими прядями.
– О, привет! Здорово, что пришла! Проходи в семинарскую, вон туда – минут через пятнадцать выйдем. Тут опаздывает кое-кто!
В большой комнате с деревянными половицами, которую Вита назвала семинарской, вокруг длинного стола уже собралось человек десять. В основном это были взрослые, мужчины и женщины в спортивных куртках, с какими-то небольшими темными сумочками через плечо. На вошедшую Аню никто не обратил особого внимания – кто-то разговаривал, кто-то листал книги у самодельного стеллажа, кто-то рассматривал рыбок в маленьком аквариуме на окне, между плетеной корзинкой с сосновыми шишками и пучком пестрых перьев. А один пожилой дядька с бородой сидел за столом и… Аня чуть не задохнулась от восхищения: дядька задумчиво настраивал явно профессиональный зеркальный фотоаппарат с таким крутым телеобъективом, какие ей до сих приходилось видеть только на картинках. Даже в тех магазинах оптики, куда она время от времени забредала, чтобы помечтать – таких не водилось. Или она просто не решалась посмотреть в ту сторону, где они выставлялись?
Аня и сейчас смотрела на дядькину технику без тени зависти – только с почтительным восхищением, как смотрят на луну или звезды. Какой смысл завидовать небожителям? Конечно, ей на такой телевик нипочем не накопить, даже если она будет работать курьером сто лет подряд. Ей бы набрать хоть на самую простую, пользованную зеркалку где-нибудь на интернет-распродажах…
Аня давно мечтала о художественной фотографии – еще с тех пор, как подсела на один паблик, где какая-то девушка из Южной Африки (подумать только, с той стороны Земли!) размещала свои фотографии: капли росы на паутине, как усыпанный жемчугом кружевной воротник на старинных картинах, таинственная зелень мхов на пне, пушистая ночная бабочка, присевшая в сумерках на окно, будто лесной дух… Фотографии были странные, совсем не похожие на те, что щелкали смартфонами взрослые из Аниной семьи – всякие там «мы с Наташей на шашлыках», «я на фоне крутого памятника». Наверно, бабушка сказала бы, что они неуютные. Действительно, на холодильник, в магнитной рамке из сердечек, такую фотку не прилепишь. Но бабушке Аня тот паблик и не показывала. А папе, как всегда, было не до того.
Поэтому Аня просто молча копила на фотоаппарат.
Дядька с телевиком, кстати, тоже не выглядел богачом: поношенная темно-зеленая флиска, лыжные штаны, прожженные в паре мест, непонятного цвета ботинки… Но он был взрослым. Взрослым-то хорошо – им все работы доступны, и платят не как старшеклассникам. Заработал – и сам решил, на что потратить: хочешь на ноут, хочешь на машину, а хочешь – на телевик. Эх, поскорей бы стать взрослой!
Заглядевшись на фотографа, Аня не сразу почувствовала, как чей-то взгляд, будто осторожные пальцы, тихонько ощупывает ее затылок. Зато уж когда почувствовала – развернулась всем телом в ту сторону. И увидела в самом конце стола – двух подростков, девчонку и парня, лет на пару постарше ее самой. Девчонка улыбнулась ей, а парень помахал рукой. И как это она сразу их не заметила?
– Привет! Ты откуда? Вита тебя привела? Из кружка при музее, да?
Они выглядели вполне дружелюбно – светловолосая девчонка в голубой флиске и пунцовом жилете и темноглазый парень в куртке внакидку. Здесь, похоже, все были одеты спортивно, флиски и все такое, только одна Аня притащилась в дебильном свитшоте с пингвином на сноуборде. Впрочем, флиски у нее все равно не было – бабушка считала, что это некрасивая одежда, «для мужиковатых баб». Посмотрела бы она на эту стильную девчонку!
Аня осторожно заглянула обоим в глаза – нет, никакой насмешки в них не было, только приветливый интерес. Хотя неспортивный пингвин отлично был виден из-под расстегнутой куртки. И пахло от них… чем-то необычным, кажется, травами, как от кухонного шкафчика со специями. Или, может быть, цветочным медом?
– Тебя как зовут?.. Меня Лика. А он – Юра. Так угадала про кружок, да?
– Не-а, – мотнула головой Аня. – То есть вообще-то да, меня Вита пригласила. Но я не из кружка. Просто я… в музыкалку хожу, и моя учительница Виту знает.
Не объяснять же всю цепочку – от Василисы Ивановны к Аурике и Борису Михайловичу, от Аурики к Вите… А впрочем – может, они и правда все друг друга знают. Что-то было во всех них неуловимо похожее.
– О, музыкалка! – встрепенулся Юра. – Я тоже ходил. По классу скрипки. Только… бросил потом. Понял, что Когана из меня не выйдет – а пилить просто так, как некоторые, чтоб родственники умилялись, а остальные уши зажимали… Это себя не уважать. Лучше в биологи пойду. Там музыкальный слух тоже нужен.
– Ага, «ходят бешеные волки по дороге скрипачей», – хихикнула Аня, вспомнив где-то вычитанную фразочку. Из мема какого-то, что ли…
Ох, не надо ей было этого делать.
– Не ходят, а бродят, – снисходительно посмотрела на нее Лика. – Ты хоть знаешь, откуда это?
Не скажешь же теперь: «из мема». А вообще – бешеные волки, мемы… Рок-группа какая-то, наверное.
– Честно говоря, я рок не очень…
– Ну ты даешь! – откровенно прыснул Юра. – Рок! Это же Гумилев! Поэт такой был, знаешь? «На, владей волшебной скрипкой, посмотри в глаза чудовищ…»
– Училок из музыкалки, – фыркнула Лика.
– Типа того. В школе, конечно, этого не проходят. Ты в каком хоть классе?
Гумилев! Это ж надо было так облажаться. Любимый поэт Василисы Ивановны! Она им столько про него рассказывала, столько… Аня помнила и про Африку, откуда ветер приносит сны (привет, таинственная девушка-фотограф!), и про леопарда-призрака, и про любимую с волосами цвета тысячелетнего меда, и много еще про что. Только вот этого, про бешеных волков, Василиса Ивановна им не читала. А как красиво было бы – небрежно бросить: «Знаю, конечно. Николай Гумилев. Я вообще люблю, чтоб не из школьной программы…»
А теперь эти ребята решат, что она малолетняя дебилка, кроме попсы и мемчиков, ничего не знает. Вон уже как смотрят снисходительно…
И тут вдруг она вспомнила. Вспомнила тот день мелодекламации в прошлом году, когда они друг другу аккомпанировали. Василиса Ивановна тогда еще говорила, что навыки импровизации надо развивать…
Ну, сейчас она им покажет волков!
– А вот это вы знаете?
На засов тугой закрыла дверь, в очаг подбросила дров,
Потому что увидела блеск когтей и услышала хнычущий зов.
Распелся в хижине огонь и озарил потолок,
И увидел сон Единственный Сын, едва на полу прилег.
Последний пепел упал с головни, и почти потух очаг,
И проснулся опять Единственный Сын и тихо крикнул во мрак:
«Неужели я женщиной был рожден и знал материнскую грудь?
Мне снился ворох мохнатых шкур, на которых я мог отдохнуть.
Неужели я женщиной был рожден и ел из отцовской руки?
Мне снилось, что защищали меня сверкающие клыки.
Неужели я – Единственный Сын и один играл у огня?
Мне снились товарищи мои, что больно кусали меня.
Неужели я ел ячменный хлеб и водой запивал наяву?
Мне снился козленок, ночью глухой зарезанный в хлеву.
Мне снились полночные небеса, и в чаще полночный крик,
И тени, скользящие прочь от меня, и красный их язык.
Целый час еще, целый час еще до восхода круглой луны,
Но я вижу как днем, как светлым днем, потолок и бревна стены.
Далеко, далеко водопады шумят – там оленей ночной водопой,
Но я слышу блеянье оленят, за самкой бегущих тропой.
Далеко, далеко водопады шумят – там зеленой пшеницы поля,
Но я слышу: рассветный ветер идет, колосья в полях шевеля.
Открой же дверь, я ждать не могу, мне сегодня не спится тут,
Узнаю: сородичи ли мои или волки за дверью ждут?»
Сняла засов, открыла дверь – вокруг рассветная мгла,
И волчица к Сыну вышла из мглы и у ног покорно легла.
– Киплинг, перевод Гутнера! – Аня посмотрела торжествующе в их ошарашенные лица. – Не из школьной программы, конечно…
…Далекий мартовский день, фортепианный класс, солнце бьет в глаза так, что больно смотреть, растекается медовыми лужицами на полу. Ей аккомпанирует Катя Беспалова, пытается играть что-то мрачное – волки же! – но солнце сбивает ее, хохочет под пальцами, путает ноты. И Аня сейчас – на стороне солнца: ей вовсе не хочется мрака, стихи несут ее, пьянят, будоражат. Ей хочется самой бежать за лунным светом, перепрыгивать водопады, кататься в росистой траве – и в рассветном тумане почувствовать на языке вкус крови и свободы. А потом – встретить солнце, вот это самое солнце, на которое так больно и так радостно смотреть…
А бабушка еще советовала ей выбрать «что-нибудь из Фета»!
…– Ну ты даешь! – на этот раз в голосе Юры звучало уважение. – Надо бы это Володе прочесть, ему бы понравилось – скажи, Лик?.. Так в каком ты классе, говоришь?
Услышав ответ, он слегка помрачнел.
– Ясно. То есть к нам в кружок тебя бесполезно звать. В смысле, пока бесполезно. У нас тут – 16 плюс.
– В какой кружок?
– При экоцентре. Походно-биологический. Мы по средам тут собираемся, беседуем про всякое, к нам интересные люди приходят. Однажды Артур Мурзаханов приехал, прикинь?.. Ладно, потом объясню. А по выходным мы в походы ходим, ездим во всякие интересные места, исследуем, животных наблюдаем. Но это только для взрослых.
«Тоже мне, взрослые!»
– Сам-то больно велик! А почему 16 плюс? Вы что там… на эти темы общаетесь, что ли?
– Да нет, – вздохнула Лика, по-прежнему немного снисходительно. – То есть и на эти темы тоже, почему бы и нет. Но дело не в этом. Просто мамаши ваши уж больно нервничают, что их деток в поход ведут, а там сыро и туалета нет. Кого-нибудь комарик укусит – скандал, кружок потом с головы не счешет, это ж от-вет-ствен-ность. Оно нам надо?
«У меня нет мамаши», хотела было огрызнуться Аня. Но тут же вспомнила бабушку…
Юра по-своему понял ее враз поникший вид.
– Да нет, ты не думай, мы тут не бюрократы. Если честно, я и сам сюда в четырнадцать пришел… Правда, у меня маманя долбанутая, – это было сказано с таким уважением, как будто он произнес «она у меня королевской крови». – Я знаешь, с какого возраста с ней на байдарке хожу?.. С года! Даже не говорил еще толком, мое первое слово «эка» было, река то есть. Так что ей эти походы выходного дня – проще, чем в школу отпустить.
– Давай, вспомни, как вы с ней по Онежскому озеру шли, – фыркнула Лика.
– Было дело. Это в мои двенадцать. Мы пошли, а там шторм. Настоящий. Возвращаться никак, до ближайшего выхода далеко. Гребем как психи, я устал, весло выпускаю, а мама сзади орет: «Юрка, греби, чем больше ты гребешь, тем дальше мы от смерти!»
Аня поежилась.
– А вы что, правда… могли…
– Конечно. Это же Онега. Там шторма знаешь, какие? Но жив, как видишь.
– Страшно было?
– Не особо. Но ты не думай, я не хвастаюсь. Просто… я же мелкий был. А рядом мама. Она же придумает что-нибудь. Это сейчас уже понимаешь…
– У меня родаки тоже ничего так, – Лика закинула ногу на ногу, обхватила коленку руками. – Не такие долбанутые, конечно, как тетя Катя – Юркина мама то есть, – Ане показалось, что в ее голосе прозвучало некоторое сожаление. – Но тоже туристы – будь здоров. Я с пяти хожу. Могла бы и раньше, но только я старшая, а сестрицы как начали рождаться! Мама сначала одну кормила, потом другую… В итоге папка плюнул на это дело и начал сам меня водить, а мама с девчонками потом подтянулись. Умора была, знаешь, – она фыркнула. – Как-то раз меня папа будит с утра пораньше – мы в поход одним днем собирались, ничего особенного, конечно, но там на лодке надо было реку переплывать. Мне шесть было, а младшей сестрице четыре. Она бы туда не дошла. И прикинь, проснулась случайно! Увидела меня с рюкзаком – и как заревет: «Аааа, папа, я тоже хочу, почему ты только Лику берешь?» Папа ей и так, и этак объясняет – там далеко, там тяжело, комарики кусаются, мокро – она головой кивает, типа поняла. Папа ей: «Ну что, не будешь больше плакать?» Она: «Не буду… Но все-таки – ну почему только Лику?» И давай реветь по новой…
– Так и не взяли ее?
– На следующий год взяли. У папы не забалуешь!.. А ты сама как, ходишь?
– Я… у меня…
Аня съежилась, понимая, что сейчас окончательно и бесповоротно скатится в пропасть в глазах этих двоих. И тут – ее взгляд снова упал на фотографа.
– Слушай, а что это за мужик – с крутым телевиком? Профи, наверно?
– А, это Андрей. Андрей Владимирович, в смысле – но вообще-то мы тут все по именам. Профи, конечно. Видела в коридоре фотки?.. Ну, еще посмотришь. Это он делал. Его фотографии всегда на выставки берут! И в журналы. Фотограф-анималист, животных фотографирует. Он даже в фото-экспедиции ездит – в Калмыкию, в Дагестан – потом кучу всего оттуда привозит. И вот прикинь, он в нашем кружке! Доклады у нас делает, ходит с нами. Сейчас пойдем – он постоянно щелкать будет.
В дверь просунулась Витина голова.
– Ребята, Володя не придет, у него бабушка заболела! Выметаемся, и так уже опоздали!
…Если бы Ане кто-то сказал еще недавно, что ей понравится экскурсия – она бы не поверила. Ведь экскурсии – это когда училка скучно тычет указкой в экспонаты, и никто ее не слушает, как на уроке, а стоит тебе хоть чем-то заинтересоваться – тебя тут же тащат дальше, мол, не отставай от класса. Или как они с бабушкой и тетей Наташей ездили на экскурсию в Суздаль – толпа взрослых бродит за экскурсоводом, кто-то исподтишка пьет медовуху, остановиться подольше у чего-то интересного, свернуть в сторону, поваляться на траве где-нибудь на валу и помечтать, как оно все было много лет назад – нельзя…
Здесь было совсем, совсем по-другому. Они вышли за калитку с другой стороны Экоцентра – еще более неприметную, чем та, через которую пришла сюда Аня – и Вита сразу же вскинула руку:
– Слышите? Гудок снегиря!
Все затихли на несколько мгновений, и в наступившей снежной тишине Аня сначала не могла ничего разобрать – а потом вдруг услышала тихое гудящее поскрипывание, как будто кто-то наигрывал на странной лесной дудочке. Услышь она такой звук в городе – нипочем бы не обратила внимание. А может быть, даже и слышала? Там ведь столько всего гудит, свистит, скрипит…
Она не сразу поняла, откуда доносится голос – но потом догадалась проследить за взглядами остальных, особенно за телевиком Андрея, который тот, конечно, немедленно направил куда-то вбок и вверх и защелкал, защелкал спусковой кнопкой. Аня посмотрела туда же и…
Наверно, если бы она рассказала об этом Лике и Юре, те бы только поржали. С их-то опытом – подумаешь, снегирь. Но когда Аня увидела в сплетении заснеженных ветвей рябины живое алое облачко, поскрипывавшее задумчиво и негромко – у нее будто что-то сжалось внутри, а потом, наоборот, расправилось, потекло теплой, спокойной рекой освобождения. Так бывает, когда отпускает привычная боль. Странно, она и не замечала, чтобы у нее когда-нибудь что-то болело.
Аня вдруг поняла, что до сих пор видела снегирей только на картинках. А впрочем…
…«Анечка, видишь красных птичек? Это снегири. А рядом такие же, только серенькие – это их девочки. Люди думают, они только зимой к нам прилетают. Но я покажу тебе летом, где их гнездо – мы пойдем в лес, и я тебе покажу… Если папа отпустит…»
Давнее, давнее, забытое, где-то на краю сознания… Да и было ли это на самом деле?
…Аня даже не сразу вспомнила про бинокль – такой же, как у остальных, в небольшой сумочке на ремешке – который ей перед выходом выдала Вита. А когда вспомнила – было уже поздно: снегирь вдруг сорвался с ветки и полетел куда-то вглубь парка. На ясень – сказала Вита. Там крылаток много, он их любит.
Но ничего. Это не имело совсем никакого значения.
Это все равно был ее – Анин – снегирь.
А потом они долго бродили по парку – то бродили, то бегали, когда вдали вдруг раздавалась интересная позывка – и Аня вместе со всеми прыгала по сугробам вслед за Витой (трудно было угнаться за ней, с ее длинными ногами, которые словно бы перелетали через все препятствия!), и восхищалась огромным черным дятлом-желной в красной шапочке, долбившим сухое дерево с таким громким стуком, будто взрослый мужик работал топором (Аня и не знала, что бывают такие дятлы!) И Вита рассказала ей, что есть много видов синичек, они даже нашли целых три – большую, лазоревку и московку – а возле птичьей кормушки в кустах зимовала, оказывается, зарянка, круглая оранжевая птичка, прыгавшая по снегу, будто оживший новогодний мандарин… И Андрей вскидывал свой телевик, а в какой-то момент даже навел его на Аню – она и опомниться не успела, и сделать красивое лицо для фотки, вот, наверно, уродкой получится – и Лика с Юрой пихнули ее в снег на горке, а потом она пихнула их, а потом пролетел ястреб-перепелятник, и все побежали туда, а потом…
И над всем этим алым пушистым облачком – парил, царил, свистел лесной задумчивой флейтой – Анин снегирь.
…– Ты знаешь, что… Ты приходи к нам все равно. Если даже тебя в поход не отпустят – приходи по средам, это же просто занятия. Типа бесед с посиделками. Тут, в экоцентре. Скажешь своим, что у нас тут педагоги…
– Ага, и бесплатно все. Им тратиться не придется. Приходи, Анька, правда. У нас же круто, ты видела.
– Приду. В эту среду будет?..
Конечно, она придет. И снова увидит Виту. И Лику, и Юру. И, может быть, осмелится попросить Андрея хотя бы потрогать его телевик…
И увидит снегиря. А может быть, даже найдет его там, у себя в районе. Ведь у них тоже есть ясень с крылатками. И маленький парк. А она теперь научилась слышать.
Воздух пах свежим снегом, древесной корой – и почему-то рябиной.
И еще – давно пора было договориться об уроке с Борисом Михайловичем…
Именно теперь, казалось ей, она имеет на это право.
Глава 8
Снег пошел густо, сыпался тихо, беззвучно, крупными хлопьями, будто перья из мягких совиных крыльев. Тишина встала над лесом; а небо в просветах между верхушками елей – вот странно – все так же светилось неярким голубоватым перламутром. Откуда же сыпались эти хлопья? Они будто рождались из воздуха, из лесного дыхания, замерзавшего кружевами на легком морозе и так же легко, невесомо оседавшего на еловые лапы, кусты, на красный новогодний шарик, неведомо кем и когда подвешенный в черноольшанике, на утренние заячьи следы и на большой зеленый рюкзак Бера, бежавшего впереди. Где-то совсем рядом каркнул ворон; Аурика обернулась и успела еще увидеть его, делавшего круг над лесом.
Хорошо, что пошел снег.
Лыжи скользили по свежей белизне небыстро, но легко – Бер позаботился хорошенько смазать их перед тем, как вставать на лыжню. Аня с силой толкала тело вперед, наслаждаясь тем, как оно ее слушается – такое бывало у нее до сих пор только с пальцами, во время занятий музыкой, а теперь все тело будто превратилось в гибкие, послушные пальцы! – и одновременно наливаясь, как темной водой, непривычной усталостью. Ноги уже начинали порядком болеть, ступни сводило, в груди покалывало – но нет, нет, она ни за что этого не покажет, она не станет слабачкой в глазах тех двоих – Аурики в рыжей шапочке и Бера с его зеленым рюкзаком – которые бегут сейчас впереди легко и свободно, как звери.
«Бродят бешеные волки по дорогам скрипачей…»
Интересно, и пианистов тоже?
Только тогда уж не бешеные. Вон как они замедляют ход, приноравливаются к ней, поджидают. Думают, глупенькая Аня ничего не заметит. Ну ничего, это в первый раз, с непривычки, а уж потом-то… Уж она-то…
Аня бежала на лыжах сквозь живую пушистую завесу, по следам звериным и человечьим – и сама едва верила тому, что все это происходит с ней.
…Когда Аня дома объявила о том, что собирается брать уроки игры на гитаре и будет для этого ездить в другой район города каждое воскресенье – бабушка, конечно, разворчалась для порядка, но неожиданно быстро согласилась. Музыка, видно, и правда казалась ей чем-то вроде защиты от всего «ненормального и неженственного», угрожавшего любимой внученьке со всех сторон – и она была только рада, что Аня нашла себе еще одно занятие в этом же духе. Знала бы она… Но, разумеется, Аня и не собиралась ее просвещать.
Папа, услышав про новые уроки, только хмыкнул – и неожиданно снял с гвоздя свою собственную гитару. Ту самую, синюю и блестящую, со стильным вырезом на боку и встроенным усилителем, которую он брал на фестивали! У Ани аж дух захватило. Она была уверена, что папа выдаст ей старенькую гитарку, которая давно валялась в чехле на шкафу, и никто к ней не прикасался – то ли там усилитель было никак не поставить, то ли гриф рассохся, то ли еще что… А тут!..
Аня с восторгом схватила синюю красотку, живо представив, как она придет к Борису Михайловичу на первый урок и с шиком достанет ее из чехла. Борис Михайлович небось тоже ждет, что она явится с какой-нибудь учебной чепуховиной, вроде той, что на шкафу. А она-то как даст!
Но тут же в душе у нее что-то почти неощутимо, но неприятно защекотало: она вспомнила сказочный инструмент самого Бориса Михайловича. Смуглую гитару-испанку, пахнувшую солнцем и специями, искры ее голоса, рассыпавшиеся в воздухе, звучавшие органом под пальцами Баха…
Она осторожно – так, чтобы не заметил папа – принюхалась к синей гитаре. Гитара ничем не пахла – только, пожалуй, немного металлом, от усилителя и новых струн, которые папа поставил, готовясь к очередному фестивалю. Аня зажмурилась – ей не хотелось разочаровываться. Может, она просто не чувствует. Или гитары пахнут только у крутых музыкантов. Или просто инструменту надо разогреться. Вот начнет Аня играть на ней, заниматься – и синяя гитара тоже запахнет специями, и голос ее начнет рассыпаться искрами и снежинками, и…
А можно ли играть Баха – с усилителем?
Когда Аня пришла на первый урок, она уже не была так уверена во впечатлении, которая синяя гитара произведет на Бориса Михайловича. И достала ее из чехла без особого шика – хотя все еще с некоторой надеждой.
Правильно сделала.
– Хм, – сказал Борис Михайлович.
«Муха моя, как пряник – толстая и блестит».
Это он правда сказал или ей послышалось?
Хотя нет, у него даже губы не двигались. Наверное, показалось. Да и слова какие-то дебильные…
Борис Михайлович взял синюю красотку в руки, привычным движением положил на колено, тронул струны. Гитара ответила ему легким дребезжанием – ничего общего с тем снежным и солнечным, глубоким и пряным, что было тогда, на кухне. Он взял несколько аккордов, сыграл начало какой-то мелодии…
– Китаянка, конечно. Приличная для китаянки, но… Струны, гляжу, металлические. Впрочем, на эту нейлоновые и не пойдут, она тогда совсем голоса лишится. Пальчики будут болеть поначалу, уж извини. Хотя – у кого они не болели… Хм, а если вот так…
Аня слушала его, слушала синюю гитару – и сердце у нее все падало, падало куда-то вниз. Она вдруг с тоской вспомнила бардовские фестивали, куда несколько раз ездила с папой – особенно тот, последний, где старый дядька, которому, похоже, очень хотелось казаться молодым, плохонько тренькал со сцены и козлиным голоском пел что-то дебильное про мужика, который вчера напился и ищет свои ботинки у соседки, и припев еще – «не думай ни о чем»… И все эти разговоры потом в коридорах – совсем не про музыку, а только про то, кому дали какой фестивальный диплом, кто как солит помидоры и чего бы выпить…
И как только она могла вообразить, что на этой… блестящей мухе («синей фестивальной мухе, то есть навозной, ну да это одно и тоже» – подумала она нарочно, со злостью, чтоб стало еще больней) можно играть Баха?
Борис Михайлович вдруг резко перестал играть и взглянул на нее поверх очков. Глаза у него без линз были какие-то детские, добрые, и странного цвета – то ли синие, то ли серые, с золотыми искорками и пятнами. Апрельское небо бывает такого цвета.
– Эээ, солнышко, да у тебя глаза на мокром месте. Ты чего, Анечка, а?
– И ничего не на мокром, – сердито сказала Аня и тут же некстати шмыгнула носом. Вот еще не хватало, что ей, пять лет?
– Я хотела… Хотела Баха играть. Как вы. А на этой… наверно, нельзя, да?
– На этой вряд ли получится, – Борис Михайлович понимающе кивнул. – Но ты не расстраивайся. Мы все равно начнем не с Баха – до этого пока далековато, уж извини. Начнем со звукоряда, с аккордов, с песенок… Для этого всего она пока годится. А там – придумаем что-нибудь. Тебе какую бы песенку хотелось первой сыграть?
– «Золотую антилопу», – выпалила Аня, не задумываясь – неожиданно даже для самой себя. – Ну, ту, которую… вы в прошлый раз пели.
Сказала – и внутренне съежилась: вдруг подумает, что она подлизывается. Как Светка Чичкина к Василисе Ивановне…
– Хм, – снова сказал Борис Михайлович – на этот раз весело. – Ну, «Антилопа», пожалуй, сложновата для первой песни… Но ваш ход мысли мне нравится, юная донья. Дойдем и до «Антилопы». А пока – давай-ка начнем разбираться со звукорядом. Что такое ноты и интервалы – тебе, надеюсь, объяснять не надо?..
…С тех пор так и пошло: Аня приезжала в этой район каждое воскресенье, топала по хрусткому снежку к дому с соснами, яблоней и гирляндой в окне первого этажа – и Борис Михайлович показывал ей сначала звукоряд, потом аккорды, а потом даже простенький этюд. Это был, конечно, еще далеко не Бах – но все-таки уже музыка. Пальцы у Ани вскоре перестали болеть, подушечки на кончиках затвердели, и металлические струны больше не резали кожу. Аня даже успела помириться, а потом и подружиться с синей гитарой. В конце концов, она ведь не виновата, что родилась такой – толстой и блестящей, предназначенной совсем не для Баха, а для простеньких песенок и, может быть, для ученического этюда. Ее такой сделали, и она честно и добросовестно выполняла свою работу – а большего с нее и требовать было бы несправедливо. Да и можно ли по-настоящему учиться музыке – и мечтать когда-нибудь дойти до Баха – если втайне презираешь собственный инструмент?
Аню немного заедало, что Аурика больше не дает ей никаких курьерских заданий – ведь договаривались же, что это будет как бы платой! Ане претила мысль, что с ней могут заниматься забесплатно из жалости или еще из чего-то подобного – она не нищая и не «несчастная сиротка», ей хотелось быть на равных с этими людьми. Но Аурика только отмахивалась и хитро смеялась: «Это просто время такое – конец зимы, спячка, а вот начнется весна – ты у меня попляшешь, будешь ездить туда и сюда, только пятки засверкают. Сразу за все расплатишься!»
Аурика обычно и открывала ей дверь в ответ на звонок – а потом уносилась куда-то в глубину квартиры, где принималась щелкать клавишами компьютера или позвякивать чем-то на кухне. Странно, дома Аню раздражало и то, и другое – это были звуки повседневной взрослой жизни, которые как бы говорили ей с противной деловитостью: «Нам не до тебя, мы тут серьезными вещами занимаемся. И ты пошла бы, занялась бы делом!» Но здесь, у Бера и Аурики – те же самые звуки оказывались частью воскресного уюта, когда все дома, и можно никуда не торопиться, и впереди – такой же уютный вечер с чаем в узорных чашечках, и хорошей книгой, и музыкой, и объятиями.
После урока они все действительно пили чай, и болтали о разном, Борис Михайлович рассказывал всякие байки про музыкантов или походы, Аурика смеялась, и Аня не отставала от нее. Ей было с ними как-то легко – так легко, как никогда не бывало раньше со взрослыми, даже в кружке, куда она теперь ходила каждую среду, и уже успела стать там своей, и Андрей-фотограф объяснял ей всякое про художественную фотографию и даже дал один раз примериться к своему телевику. Но все-таки даже там – она иногда задумывалась, стоит ли сказать то или другое, как отреагируют на это старшие. А здесь – казалось, можно ляпнуть что угодно, и все только посмеются.
Это, конечно, было не совсем так. Аня надолго запомнила тот первый и единственный случай, когда она, похоже, залезла куда-то не туда. Это было еще в первый ее урок, когда после занятий Аурика и Бер угощали ее домашним вареньем, и Борис Михайлович спросил с веселой иронией:
– Кстати, а дома-то не возражали против уроков? Бабушка не разнервничалась, что ты к посторонним людям ездишь домой? А то как ни откроешь новости – там опять педагог-маньяк…
Аня хмыкнула с набитым ртом:
– Я не дура. Когда бабушка про вас расспрашивала, я сразу сказала, что Аурика по воскресеньям всегда дома, и дверь в комнату открыта. А еще, – она хихикнула, довольная своей находчивостью, – сказала ей, что у вас двое детей, мальчик и девочка, и они постоянно в комнату забегают. Откуда же у маньяков дети, ага? Бабуля сразу расслабилась.
– Двое детей? – Аурика вдруг посерьезнела, как-то снизу заглянула ей в лицо расширившимися темными глазами. – Почему – двое? Почему – мальчик и девочка? А… как их зовут, ты не сказала?
Она очевидно ждала ответа – ждала напряжено, странно. Кто-то едва слышно всхлипнул на кухонном шкафу, за плетеными корзинками. Борис Михайлович нервно кашлянул.
– Рикеле, это не к ней… Пока. Она, наверное, просто так…
Съежившаяся было Аня благодарно посмотрела на него – она и не думала, что ее находчивое вранье может затронуть что-то большее, что-то, о чем она и не догадывалась – да и не хотела догадываться, пожалуй.
– Ну да, я просто… Чтоб бабушку успокоить. Просто первое, что в голову пришло. Врать нехорошо, конечно…
– Да нет, ничего, – Аурика вздохнула, потрепала Аню по рыжеватым волосам, темный нервный огонь в ее глазах погас. – Понимаю. Я просто подумала… Хочешь еще варенья?
И Аня съела тогда еще целую мисочку удивительного варенья из яблок, слив, вина и специй, и все опять было легко и просто. Только она поняла, что темные воды лучше не трогать.
И совсем не удивилась, когда в кармане куртки у нее снова оказалась горсточка леденцов – на этот раз с прополисом.
Однажды, придя в воскресенье вечером на очередной урок, Аня уже с порога почувствовала незнакомый запах – терпкий и пряный, как будто копченый, от которого раздувались ноздри и хотелось немедленно куда-то бежать – вот только куда и зачем? Борис Михайлович и Аурика, похоже, сами только что вернулись домой – оба были в походных штанах и флисках, у двери стояли мокрые лыжные ботинки, а странный запах исходил от курток в неплотно закрытом шкафу.
Немного подумав, Аня догадалась, что это, наверно, был запах костра.
– Вы… ночевали в лесу, да? – спросила она, припомнив давнишние слова Виты и замирая от восхищенного ужаса.
– Да нет, – улыбнулся Борис Михайлович. – В этот раз не ночевали. Так, прогулялись на лыжах по области, километров пятнадцать, не больше. Сейчас время самое лыжное. Кстати, как у тебя с лыжами? Ходишь?
Аня неопределенно пожала плечом. Лыжи связывались для нее только с одной картинкой: тягомотный урок физкультуры, все плетутся за физруком вокруг школы – один круг, второй… «Как будто мы зеки в тюрьме на прогулке», – тупо шутят мальчишки. Она не любила физкультуру.
Но в этом странном доме – в этом странном мире, открывшемся ей с тех пор, как она принесла Беру и Аурике луковицу гиацинта от Василисы Ивановны – все обычно оказывалось совсем не таким, к чему она привыкла. Все было вроде то же – да не то. И поэтому Аня ничего не сказала про лыжи, втайне ожидая – что-то будет дальше?
– Кстати, можешь как-нибудь с нами сходить, – Аурика вышла из комнаты, поправляя закрученные узлом тяжелые волосы. – В следующее воскресенье, например. Мы в лес ездим, там интересно. Не как в городе в парках. Следы звериные, запахи, птицы уже потихоньку петь начинают… Хочешь?
И Аня неожиданно для себя, еще не успев подумать – кивнула. Только потом ей пришла запоздалая мысль – а что на это скажет бабушка?
Впрочем, это ведь тоже не поход, а просто прогулка. Оздоровительная, или какое там слово бабушка любит. Да и плохие отметки по физкультуре надо будет невзначай упомянуть…
…Бер вдруг остановился, всмотрелся в заснеженные ветви справа от лыжни – и, вскинув лыжную палку, ловко притянул к себе одну из веток. А на ветке… Аня даже зажмурилась на мгновение: ей показалось, что там висела горстка рубинов. После того новогоднего шарика в черноольшанике можно было, наверно, ожидать и такого. Но нет, это были, конечно, не рубины – ягоды. Ягоды в зимнем лесу?
– Рикеле, калина!
Аурика легким движением скользнула к нему, встала бок о бок, чуть наклонила голову – и принялась объедать ягоды прямо с ветки, без рук. Алый сок тек по ее губам, будто лесная кровь, она слизывала его острым розовым язычком, а Бер поворачивал гроздь туда и сюда, чтобы ей было удобнее, и ласково улыбался.
Потом он свободной рукой сорвал еще одну гроздь и протянул ее Ане:
– Попробуй-ка! Калина с мороза – самая сладкая!
Они оба смотрели, весело ухмыляясь, как Аня осторожно отправляла в рот первую ягодку. Сок на губах Аурики кроваво алел, блестели белые зубы, и снег все продолжал, продолжал падать пухлыми совиными хлопьями.
Аня ждала чего угодно – горечи, кислоты, неожиданной сладости – но вкус этой морозной ягоды она, пожалуй, не взялась бы описать, даже обещай ей за это русичка Нина Петровна пятерку за полугодие. Здесь было все: и горечь, и кислота, и сладость, и хрусткая свежесть снега, и крик ворона над лесом, и запах еловой хвои на Новый Год, и кровь на губах Аурики. Ане почудилось, будто калина, как молодильное яблочко из детских сказок, вливает в нее новые силы, и отступает темная вода, и она может, пожалуй, легко пробежать еще километр или два – и еще, и еще, по следам тех двоих, вперед, через лес и снежную пелену…
Впереди под сугробами переплетались, дымясь на морозе, черные струи незамерзающего ручья. Белые хлопья падали в темную воду и таяли не сразу. Лыжня вела дальше прямо через ручей, по утоптанному снежному мостику, над которым склонялись ветви калины – и Аня вслед за Бером и Аурикой безо всяких сомнений устремилась прямо туда.
Глава 9
– Пожалуй, здесь, – сказал Бер, снова остановившись и кивком указав куда-то влево. – Как думаешь, Рикеле?
Аурика задумчиво-деловито поглядела туда, куда он указывал, и тоже кивнула.
– Хорошее место. Вон и осина поваленная, готовая сидушка, ничего делать не надо. Становимся?
Аня смотрела туда же, ничего не понимая. Нет, она уже знала, что где-то на полпути Бер с Аурикой собираются делать костер – об этом они сказали ей еще в электричке, когда она заметила привязанную к зеленому рюкзаку большую двуручную пилу. Но она была уверена, что делать это они будут где-нибудь на ровном, расчищенном месте – мало ли, может, у них в лесу беседка оборудована, или еще что… Папа на даче зимой, когда они ездили туда проверить, не полопались ли трубы, тоже разжигал костер из обломанных сучьев и веток, нападавших во двор – для этого он расчищал летнее шашлычное место под навесом, обложенное кирпичами. Костер весело трещал и даже немножко грел – если наклониться совсем близко. Минут через десять от веток уже ничего не оставалось, а бабушка потом ворчала, что Аня «как курящая какая, волосы дымом пахнут». Так что сам по себе зимний костер – это было Ане понятно.











