Читать онлайн Непарадный Петербург в очерках дореволюционных писателей
- Автор: Сборник
- Жанр: Документальная литература, Популярно об истории
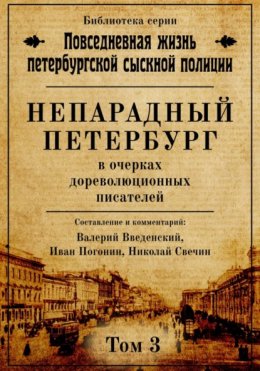
Предисловие
Этот сборник – для тех, кто хочет оказаться «на дне» дореволюционного Петкербурга: «похристрадничать» в рубище нищего, покопаться крюком в помойных ямах, прокатиться на козлах извозчиком, подкрепиться в Обжорном ряду, попьянствовать в трактире, заночевать в ночлежном доме, попасться полицейским во время облавы и после заключения в съезжем доме отправиться этапом на родину.
В первом томе «Повседневной жизни» петербургскому «дну» – мазурикам, ворам, нищим и т. д. – посвящена глава «География зла». Но из-за ограничений по объему книги мы были вынуждены опускать многие известные нам сведения, которые, мы уверены, интересны нашим читателям. Поэтому и собрали этот небольшой сборник. Как и в предыдущих томах, мы попытались, насколько возможно, снабдить текст культурологическими и топонимическими комментариями.
Коротко об авторах произведений, включенных в сборник:
Николай Николаевич Животов (19 (31) августа 1858 года —26 июня (08 июля) 1900 года). Происходил из дворян. В 1877 году сдал экзамен на звание учителя начальных училищ. С начала 80-х годов начал работать в петербургских газетах, считался одним из самых умелых репортеров столицы. Некоторые его очерки, в том числе публикуемые здесь «Петербургские профили», после публицикации в газетах выходили отдельными изданиями. В 90-х годах Н.Н.Животов, кроме репортажей, писал также криминальные романы. Похоронен на Смоленском кладбище Петербурга;
Николай Платонович Карабчевский (29 ноября (11 декабря) 1851 года – 22 ноября 1925 года). Сын полкового командира. В 1868 году окончил Николаевскую реальную гимназию, в 1875 году – юридический факультете Санкт-Петербургского университета. С 1879 года служил присяжным поверенным. Был защитником обвиняемых в самых громких дореволюционных судебных делах: «процессе 193-х»; «деле И.И. Мироновича»; «деле Ольги Палем»; «деле мултянских вотяков»; «деле М.Бейлиса». Кроме публицистических и юридических статей, сочинял и беллетристику. После 1917 года жил в эмиграции. Умер и похоронен в Риме;
Николай Иванович Свешников (16 (28) августа 1839 года – 25 июня (7 июля)1899 года). Сын мещанина, торговца холстом. Окончил приходское и уездное училищи в городе Углич. В 1852 году был отправлен отцом в Петербург, где сперва служил «мальчиком» в свечной лавке, трактире и булочной, затем сторожем в балагане, печником и т. д. С 1859 года торговал книгами в разнос. Из-за присрастия к алкоголю, постепенно «опустился». В 1870 году за кражу со взломом был приговорен к заключению в работном доме, где начал писать воспоминания. В 1899 году их фрагмент под своим именем опубликовал Н.С.Лесков (очерк «Спиридоны-повороты»). В 1896 году книга Свешникова «Воспоминания пропащего человека» уже под именем автора была напечатана полностью в журнале «Исторический вестник». После смерти Н.И. Свешникова отдельным изданиям вышел сборник его очерков «Вяземские трущобы», которые размещен в данном издании;
Анатолий Александрович Бахтиаров (3 (15) июля 1851 года – 23 ноября (16 декабря) (или 21 сентября (4 октября)) 1916 года). Сын чиновника. Окончил Московскую учительскую семинарию военного ведомства. Сужил преподавателем русского языка в Петербургской военно-фельдшерской школе. С 1884 года параллельно стал писать статьи для газет и журналов. Затем его репортажные очерки по физиологии Петербурга были изданы в сборниках: «Брюхо Петербруга» (1887 год), «Пролетариат и уличные типы»)1895 год), «Отпетые люди» (1903 год) и др.;
Всеволод Владимирович Крестовский (11 (23) февраля 1839 года —18 (30) января 1895 года). Дворянин польского происхождения. Учился в 1-ой Санкт-Петербургской гимназии и на юридическом факультете Санкт-Петербургского университета. Литературную славу Крестовскому принес его дебютный роман «Петербургские трущобы». В жанре физиологического очерка написал три книги: «Петербургские типы», «Петербургские золотопромышленники», «Фотографические карточки петербургской жизни» (1865). Могила В.В. Крестовского ныне находится на Литературных мостках Волковского кладбища.
Основные источники, использованные составителями для комментариев:
• Адресные книги города С. – Петербурга под редакцией П.О. Яблонского» (1892–1902 гг.);
• Адресные и справочные книги «Весь Петербург – Весь Петроград» (1894–1917);
• Большая Топонимическая Энциклопедия Санкт-Петербурга: 15000 городских имен / [под ред. А.Г. Владимировича]. – Санкт-Петербург: ЛИК, 2013;
• Алянский Ю.Л. Увеселительные заведения старого Петербурга / Юрий Алянский. – СПб.: Аврора: Стройиздат СПб., 2003;
• Демиденко Ю. Б. Рестораны, трактиры, чайные..: из истории общественного питания в Петербурге XVIII – начала XX века / Юлия Демиденко. – Москва: Центрполиграф: Санкт-Петербург: Русская тройка-СПб, 2011;
• Векслер А. Ф., Крашенинникова Т. Я. Такая удивительная Лиговка / Аркадий Векслер, Тамара Крашенинникова. – Изд. 2-е, дораб. и доп. – Москва: Центрполиграф; Санкт-Петербург: Русская тройка-СПб, 2012;
• Город С.-Петербург с точки зрения медицинской полиции: Сост. по распоряжению г. С.-Петерб. градонач. ген. – майора Н.В. Клейгельса врачами Петерб. столич. полиции при участии и под ред. ст. врача И. Еремеева. 1897 г. – Санкт-Петербург: тип. Ломковского, 1897;
Николай Николаевич Животов «Петербургские профили»[1]
1. Среди бродяжек – шесть дней в роли оборванца
Я достал старые дырявые тиковые[2] шаровары, такую же рубашку, весь в дырах засаленный сюртучишко, опорки[3] без подошв, портянки… В таком наряде, подмазав физиономию и надвинув ветхий картуз с разъехавшимся козырьком на глаза, вышел из своей квартиры по чёрной лестнице…
Мне предстояло ознакомиться с закулисной внутренней стороной жизни бродяжек, число которых определяется в Петербурге тысячами. В одну ночь нас, оборванцев, полиция забрала при обходе ночлежных домов более тысячи человек. Я в число арестованных не попал, во-первых, потому что у меня "безупречный" паспорт находился при себе, а во-вторых, чиновник сыскной полиции, руководивший обходом, знал меня лично… Впрочем, этих наблюдений за шестидневное скитание по притонам и трущобам подпольного Петербурга у меня накопилось довольно. Я почти не касался внешности притонов, с такой полнотой описанных до меня, не касался и грязи, вони трущоб, составляющей заботу санитарных комиссий… Меня исключительно интересовала жизнь бродяжек, их быт, прошлое, настоящее и будущее.
Ведь каждый бродяжка – человек не из глины и песочка, а из тела и души, как все мы с вами, читатель. Скажу более. Большинство из нас, ожиревших, равнодушных ко всему, кроме собственной утробы, представляют серую картину будничного прозябания: вчера как сегодня, завтра как вчера и так вся жизнь от купели до гроба. Между тем, среди бродяжек, что ни субъект, то драма, трагедия или, по меньшей мере, ряды поучительных злоключений, о которых можно сказать, что это было бы смешно, если бы не было грустно!
Что вы скажете, например, о чиновнике, дошедшим до большого чина и служебного положения, который такой же бродяжка как и я, обнял меня и со слезами расцеловал за… за… один стаканчик водки! Эти дрожащие, чёрные от грязи руки, когда-то писали предписания и распоряжения, а теперь протягиваются только за копейкой и за стаканчиком… Неужели это не драма? Разве не интересно проследить, как этот субъект совершил своё превращение, к ужасу всех своих близких? А вот купец-гостинодворец, имевший свои кладовые, лавки и дома… Он дрожит, не попадая зуб на зуб, от холода, а сквозь дырья одежды просвечивает старческое тело…А сколько таких «перекувырнувшихся» богачей, когда-то спаивавших целые орды прихлебателей в «Зимних садах»[4], «Палекристаллах»[5] и других веселых уголках… Если бы тогда им показать их теперешнюю фотографию?
Да, среди бродяжек много жизни гораздо более интересной, чем мы видим на театральной сцене, в гостиных знакомых, в салонах, клубах и собраниях! И эта жизнь стоит наблюдения, но наблюдения не в монокль или с высоты бельэтажа. Так вы ничего не увидите, и ни один бродяжка не станет с вами говорить! У каждого из них есть свое самолюбие, кладущее холодную печать равнодушия, когда он встречается с «господином»…Вот почему только в роли оборванца можно сойтись с бродяжками как с людьми и увидеть близко их жизнь. Бывший начальник сыскной полиции И.Д. Путилин отлично знал эту особенность быта бродяжек и потому, когда он хотел что-либо узнать, его чиновники переряжались в арестантов и «подсаживались» к бродяжкам; результаты всегда получались удовлетворительные. А на официальном допросе этот бродяжка был только «арестант за номером таким-то», с лаконичными ответами на вопросном листе.
Было холодное осеннее утро, когда я вышел из дома в своем новом наряде.
– Но где можно достать прямо рваный наряд? – спросит читатель.
Бродяжки имеют всё свое собственное: поставщиков, биржи, рестораны, отели, клубы и все прочее. Есть специальные лавочки и маклаки, которые переодевают бродяжек. Например, бродяжка куда-нибудь отправился: оделся более или менее прилично, но ему хочется выпить, а выпить не на что… Он идет к маклаку. Здесь с него снимают костюм, одевают лохмотья и разницу выдают наличными деньгами, на которые он может хорошо выпить. А костюм? На что бродяжке костюм? Он и голым вышел бы, если бы не забирали нагих в полицию. Ему решительно всё равно, в чем он одет, если только на дворе не лютая стужа, а в кармане есть один или два пятака на выпивку. Вот последнее обстоятельство нередко доводит бродяжку до преступления, не исключая грабежа, потому что честным трудом достать гривенник бродяжке почти невозможно: на место служить его не возьмут; в поденщину его бракуют как слабосильного; рабочих домов у нас нет; нищенство запрещено… А голод ведь не тетка, особенно если душа требует стаканчика. Требует так сильно, что подвернись случай – бродяжка мог бы совершить геройский подвиг; но подвертывается чаще всего случай стянуть что-нибудь, не исключая дубинки у приятеля…
Десятки раз я наблюдал воспаленные глаза бродяжки, трясущиеся руки, стучащие зубы и губы, шепчущие мольбы… Он бросается, мечется по сторонам, лихорадочно хватается за окружающее, забывает все на свете и готов идти на каторгу за стаканчик в эту минуту. Скажите ему: «на, выпей», и он заплачет от радости, бросится вам в ноги и исполнит всякое ваше приказание. Зато, если надежда на стаканчик исчезает и «душа» не удовлетворена, он становится страшным! В такие минуты он способен на всё, и, мне кажется, большинство преступлений совершается именно при таком состоянии. Все лицо бродяжки искривляется, кулаки сжимаются, глаза застывают в состоянии не то гнева, не то ужаса…Смотреть в такие глаза жутко.
Попробовал и я однажды пригубить предмет страсти бродяжки, то есть стаканчик в питейном доме на углу Лиговки и Обводного канала[6]! Боже правый! Что за водка? Это какая-то отрава, дурман, нечто совсем невозможное! Очень вероятно, что питейные дома просто отравляют своих посетителей, медленно приучая их к отраве, как приучают себя морфинисты? Это положительно не водка.
Первый день своего интервью я посвятил Обводному каналу с его чайными, кабаками, ночлежными приютами. Второй день – Лиговка, ночлежный дом Общества благотворителей и чайная Общества трезвости[7]. Третий день – Сенная, Таиров[8] переулок, Никольская площадь. Четвертый день – Выборгская сторона и Петербургская. Пятый – застава, и шестой – гавань с «Дерябинскими казармами». Я приобрел до ста «друзей» среди бродяжек, записал более двухсот бытовых историй, осмотрел несколько сот трущобных заведений! Никогда я не думал, что размеры бродяжного Петербурга так велики, что так много людей, живущих без пристанища, в рубище.
Разве этот мир не заслуживает нашего внимания, не стоит описания и не представляет бытового интереса?
В первый день моего «интервью в роли «оборванца» я больше всего страдал от холода…Буквально зуб на зуб не попадал, а согреться рюмкой водки я не мог: в кабаке водку пить невозможно – это, как я сказал, отрава, мутящая душу и дурманящая голову, а в сносный трактир меня не пускают. И странное это обращение! Прямо за плечи и в шею! В самом деле, почему же с бродяжкой нельзя иначе разговаривать, как по шее? Только приоткрыл я дверь и вошел в полугрязный трактир на Обводном, как «услужающий» бежит навстречу, берет за плечо и толкает обратно в дверь… Я открыл рот для протеста и… бежит другой «услужающий»… Готовилась формальная выставка и пришлось от греха уходить…
Очень странное чувство испытываешь, когда идешь бродяжкой по улице… Вот уж воистину по костюму встречают! Городовой зорким взглядом осматривает с головы до ног и провожает долгим взглядом, раздумывая: «взять его или не стоит?» За что взять? Вот ещё вопрос! Мало ли за что бродяжку можно взять? Он, наверное, что-то сотворил, а если не сотворил, наверное, сотворит…Уже одно то, что бродяжка – говорит за нелегальное его существование в столице.
Но ещё более тяжелое чувство вызвали встречи с «господами»…Какой-то барин в цилиндре окинул меня презрительно гневным взглядом и обозвал «дрянью», хотя я ровно никому ничего не сделал и каждому смиренно спешил дать дорогу. Каждая встречная дама испуганно от меня сторонилась и крепко прижимала к себе свою ридикюль, точно я собирался броситься на неё грабить! Неужели в самом деле довольно выйти в оборванном костюме, чтобы от тебя как от чумы или прокаженного все бегали? Неужели все бедняки непременно воры, грабители, убийцы?
С такими мыслями дошел я до скрещения Лиговки с Обводным каналом, где Лиговка перестает носить честное название улицы-бульвара[9] и превращается в вонючий канал… Тут я вздохнул свободнее, почувствовал себя как рыба в воде…Тут не встретишь ни важного барина, ни благодетельного купца 1-й гильдии, ни шикарной дамы, слабые нервы которой не переваривают бродяжек… Тут наш квартал, квартал оборванцев, пропойцев и бесприютных бродяжек. Мы встречаемся тут друг с другом без антагонизма. Я не только перестал сторониться, но не боялся даже заговорить со встречающимися, тогда как заговори я с «барином» на Невском, он, наверное, отправил бы меня в участок за покушение на грабеж, а «барыня», если бы не упала в обморок, то заорала бы на всю улицу: «Караул!»
Впрочем, самый отвратительный для нас, бродяжек, народ – это «рвань-баре», как мы зовем швейцаров, дворников, лакеев. Это положительные гроза и мучители бедняков, перед которыми они считают себя важными особами! Я, например, за шесть дней не слышал ни одного бранного слова от городовых (мимо них я всегда семенил мелкой рысью; с одной стороны это почтительно, с другой стороны – ускорительно, то есть, скорее минует опасность), не имел ни одной неприятности или столкновения с прохожей публикой, а швейцары, дворники и лакеи не пропускали меня без глумлений, издевательства и чуть ли не побоев, решительно без малейшего с моей стороны повода! Например, такие случаи. Иду я по Загородному около Подольской… Дворник стоит в тулупе с бляхой на груди и руки в кармане. Я дрожу, не попадая зуб на зуб…
– Стой- с…! – раздается команда.
Я не обращаю внимания и продолжаю идти.
– Ты не слышишь? – кричит дворник.
Я обернулся и посмотрел на «собаку» (так у нас зовут дворников).
– Ты куда пошел? – обращается дворник, поднося грязный кулак к самой моей физиономии.
Я не знал, что ответить, не желая заводить скандала; если бы я вломился в амбицию, то раньше, чем моё инкогнито было бы раскрыто, я рисковал потерять несколько ребер…
– Я тебя…
И опять непечатная ругань. Я всё молчу и именно поэтому «собака» утихла….
– Пошел назад! – сказал он мягче и отвернулся.
Я вернулся.
В другой раз я шел по Разъезжей. Жирный с наглой физиономией швейцар схватил меня за рукав, и без того рваного сюртучишка; добрая половина рукава осталась у него в руках. Раздался веселый смех… Швейцар бросил в меня лоскутом, и, гогоча, проговорил:
– Эй, ты, бархатный барин, давно ли с Казачьего плаца[10]?
Я не стал, разумеется, защищать свои права, и продолжил путь…
По Невскому проспекту, Морской улице и другим людным местам дворники не только ворчали меня с криком: «Вон, рвань!», но нередко «травили», то есть гнали с кулаками, заставляя бежать от греха.
В нашем квартале нет дворников и швейцаров: последние совсем отсутствуют, а первые относятся к нам, как к местным обывателям, довольно снисходительно. Здесь, после путешествий по Загородному и Разъезжей, мне даже вонь Лиговки мила, а грязь улиц и дворов показалась чем-то родным. На откосе Обводного канала лежало человек 15 бродяжек и я направился к ним. Внизу по обмелевшему каналу двигалась барка, копошились рабочие, бабы полоскали бельё, свесившись над водой, а на высоком зеленом берегу лежали бродяжки.
Все они лежали на спине, с плохо прикрытой наготой и подложив под головы руки. Среди них было три женщины и десять мужчин. Когда я стал приближаться, некоторые повернули головы, но сейчас же, приняв прежние позы, не обращали больше на меня внимания. «Нет», – услышал я короткое замечание и больше ни звука. Прежде чем приблизиться к компании, я осмотрел их издали. Среди мужчин было большинство бородатых, заросших волосами и грязью стариков, но два-три совсем молодые парни. Женщин с трудом можно было отличить от мужчин только вблизи. Это какая-то пародия на женщин: сухие, беззубые, с корявыми лицами, в коротких рваных юбках на голом теле…
Минут пять я простоял, не будучи в состоянии дать себе отчета в мыслях. Отвращение, жалость, брезгливость и холод все вместе заставляло меня дрожать и у меня появилась мысль бежать, снять с себя «мундир» и отказаться совсем от «интервью». Что это: малодушие, трусость или просто нервное состояние? Однако «взялся за гуж – не говори, что не дюж!» Я сделал над собой усилие и подошел совсем близко к компании. В одном кармане у меня была запасенная бутылка столовой водки, а в другом хлеб и колбаса. Я сел рядом с компанией и, доставая провизию, сказал громко:
– Не хотите ли, братцы, могу поделиться?
Если бы в эту минуту там, внизу, перевернулось бы вверх дном несколько барок, впечатление, наверное, не было бы сильнее. Все бродяжки, мужчины и женщины, вскочили с травы и мигом меня окружили.
– Э…э… да у него «поповка»[11], – закричал старик, – ты это из каких же, милый человек, что «поповку» пьешь?
– Это у него бутылка только «поповская», – заметил другой, – смотри, не вода ли там?
– Ну, соси[12] сам сначала и передай нам, – скомандовал один из них.
Раньше я не мог рассмотреть его физиономии, а теперь он стоял к лицу передо мной. Я взглянул и…бутылка вывалилась у меня из рук. Этот бродяжка, этот несчастный оборванец – старый литератор, автор нескольких прекрасных идейных романов и недавно ещё газетный сотрудник. Я уставил на него глаза и не слышал хохота кругом.
– Ты ли это? – назвал я его по фамилии.
– Да, я, а ты откуда меня знаешь?
Через полчаса мы сидели с Иван Ивановичем (псевдоним) в одной из «рестораций» в деревянном домике с цветными ставнями, как в провинции. «Ресторация» состояла из буфетной комнаты и двух небольших каморок со столами без скатертей и табуретами; в одной из каморок полулежали на столе и спали двое бродяжек. Мы сели в смежной каморке и Иван Иванович заказал «двоим чаю на шесть копеек». Впрочем, в чашки мы налили вместо чая моей водочки и, «пропустив», закусили колбаской. Вид моего собеседника сразу принял радужное выражение, глаза сделались масляными, губы сложились как-то умильно, голова склонилась немного на сторону и он тихо начал:
– Да, вот где нам довелось встретиться! Ну, я-то пьяница запоем, забулдыга, одинокий, а ты, ты-то как дошел до этого вида? Ведь у тебя семья была!
Я рассмеялся и успокоил его на свой счет.
– Нехорошо! Зачем издеваться над нашим несчастьем?
– Да кто же тебе говорит, что я издеваюсь? Вовсе нет! Напротив! Я хочу испытать на себе ваше положение и рассказать в печати свои впечатления, чтобы установить правильный взгляд на вас, бродяжек. Публика считает вас мазуриками, мошенниками, тогда как вы в большинстве случаев глубоко несчастные люди и только! Ты вот сам пишешь, а рассказать свое положение не можешь, потому что сжился с ним, не замечаешь его; все равно, как мы, петербуржцы, живя здесь, не замечаем красот города, а приедет провинциал и сейчас все осмотрит, восторгается. Если же я пошел бы в своем костюме, я ничего не увидел бы и не услышал… Вот чем объясняется мой маскарад! Неужели ты думаешь, что мне очень приятно переживать эти дни?
– Ну, Бог тебе судья! А я вот шестой год наслаждаюсь прелестями Обводного канала и ночлежным домом Кобызева[13]…
– Ты, я думаю, можешь быть моим проводником по трущобам?
– О, нет! За шесть лет я не был нигде, кроме здешних трущоб. Даже в Вяземской лавре[14] не был, а про острова и заставы даже не слышал ничего…
– Постой, что же ты, однако, делаешь, чем питаешься?
– Как тебе сказать…Птица небесная…В прошлом году напечатал рассказ в … Получил 120 рублей и в неделю их спустил, долги заплатил; весной тут на барке работал, дрова катал, но большей частью ничего не делаю и живу надеждой…
– На что?
– Напиться. Другой цели у меня нет. Сегодня я напьюсь?
– Пей, что ж, я могу поделиться…
Пока мы говорили, Иван Иванович успел четыре раза подлить себе в чашку и бутылка почти осушилась…Он проделывал это так искусно, что я ни разу не заметил его маневра…
– У меня, брат, чистота в карманах, да и бутылочка того…
Я достал рублевую бумажку, и Иван Иванович шмыгнул как на крыльях из «ресторации»…Через минуту он вернулся ликующий…
– Я полштофа[15] взял, прости, ведь и ты выпьешь?
– Так рассказывай же ещё про себя.
– А ты написать не вздумай. Ещё чего доброго кому-нибудь до меня дело окажется, помогать вздумают; ради всего прошу – ни слова!
– Фамилии твоей я не напечатаю, а про встречу расскажу.
– Ну, это можешь. Пиши – Иван Иванович.
– Это твой псевдоним.
– Э…плевать. Мне теперь на всё плевать.
– Что же, тебе, пожалуй, можно позавидовать! Ты, как Диоген, не имеешь никаких привязанностей к жизни.
– И хорошо! А вы все зависите от других, от среды света, окружающих. Это тоже кабала! Ты ведь помнишь, отчего я первый раз запил? Умерла моя невеста. Мне тогда было 24 года. Вот когда я узнал, что значит страшная привязанность! Можно сказать, что с тех пор я не отрезвлялся, разве только по необходимости, когда не на что выпить. Но с годами это состояние прошло, и осталась одна страсть к водке.
– Видишь, как ты сам себе противоречишь: разве страсть к водке не та же привязанность, кабала, зависимость?
– Пожалуй, только у нас такое количество кабаков и водка так дешева, что зависимость от этой кабалы не страшна.
Иван Иванович стал заметно хмелеть, язык заплетался и через час он уснул на столе. Усилия растолкать его были тщетны, и мне пришлось уйти, не попрощавшись. Скорее на воздух! Мне становилось невыносимо душно в этой смрадной атмосфере в присутствии этого погибшего товарища.
В романах люди спиваются как-то скоро, а тут пятнадцать лет уже прошло и кто знает, сколько ещё лет впереди.
При выходе из «ресторации» я наткнулся на толпу бродяг, о чем-то шумно толковавших.
– Полковник, – кричали бродяжки, – давай две косушки[16], ты сегодня католик!
«Полковник», «католик» – я ничего не понимал и остановился около толпы. «Полковник», детина лет сорока, среднего роста, плотный, с когда-то черной, но сильно поседевшей бородой клином; из-под рваного картуза выбивались пряди войлокоподобных волос; правильно-продолговатый нос и впалые карие глаза свидетельствовали о минувшей красоте «полковника».
– Товарищи, – закричал я, – хоть я и не «католик» на две косушки «настрелял»[17].
– Волк его забодай, да ты «итальянку ломал»[18] или «торгаш»[19]? Все равно, веди в «стойку»[20]…
Мы направились в соседний питейный дом.
Описывать ли внутренности этого «дома», пропитанного сивушным запахом?[21] Отмечу только, что при самом входе на дне опрокинутой бочки какой-то бродяжка писал письмо в деревню. Нас встретил «капитан», состоящий на посылках у целовальника и получающий за свои услуги иногда стаканчик. «Капитан» всех вошедших знал и только на меня покосился, а остальным приветливо махнул головой, приглашая к прилавку… Он увивался, очевидно, рассчитывая на стаканчик, и обиженно отошел в сторону, когда узнал, что угощает «новичок».
– Капитан, позвольте и вам поднести? – обратился я к нему.
Он не сразу согласился, боясь, вероятно, сделаться предметом шутки, но когда я сказал целовальнику[22] налить восемь стаканов, он юркнул в толпу и первым протянул руку к прилавку.
Познакомлю вкратце читателей с биографиями «полковника» и «капитана». Это, конечно, их прозвища, они никогда не были в таких чинах, но оба они интеллигентного общества. «Полковник» – мелкий чиновник из асессоров, а «капитан» был управляющим какой-то богатой дамы, получил гимназическое образование и жил когда-то на 300–400 рублей в месяц. Оба спились, потеряв места. Сначала они искали места, занятий, но потом примирились со своей участью и совершенно акклиматизировались в трущобах Обводного канала. «Полковник» получил свое прозвище за постоянное главенство и предводительство «католиками», то есть бродяжек, занимающихся катанием тачек с углём и дровами. «Капитана» прозвали так потому, что жил у вдовы капитана.
Один из нашей компании особенно привлёк моё внимание.
Это старик 80-ти лет, весь белый с пожелтевшей сединой и глубокими морщинами, избороздившими всё лицо. Длинная, прядями, такая же белая борода свешивалась до пояса. Из-под густых желтых бровей светились живые, как у юноши, глаза с огоньком, то ярко вспыхивавшим, то вдруг погасшим. Брови ходили поминутно вверх и вниз, как у орангутанга, с которым старик имел ещё большее сходство по выдающимся широким скулам и приплюснутому бесформенному носу. Он сильно горбился, ходил с палочкой, едва передвигая ноги, и одет был в какой-то длинный балахон, совершенно истлевший и весь разодранный.
Старик, как я заметил, пользуется уважением среди бродяжек и прозывается «странник Чередеев». Чередеев его настоящая фамилия, когда-то купеческая; ему принадлежала лавка в Гостином дворе и кладовая в Апраксином рынке. Чередеев схоронил семью, состояние, друзей, знакомых и и остался один-одинешенек на белом свете, найдя вторую семью среди бродяжек и сохранив железное здоровье, отличное зрение, память и аппетит. Питаясь в самых отвратительных харчевнях и ночуя в грязнейших постоялых дворах, он никогда ничем не хворал, не имел никаких болезней и благополучно пережил все эпидемии холеры, тифа, оспы и других зараз. Я познакомился и сошелся с Чередеевым почти на дружескую ногу. Ему понравилось, что я, прокрутив большое состояние и сделавшись бродяжкой, не потерял весёлого и бодрого духа.
– Ты видишь, я всё потерял, а не потерял только бодрости и совершенно счастлив.
– От чего ты, дедушка, не просишься в богадельню, – спросил я его.
– Молод ты еще и глуп, – отвечал Чередеев, – меня раза четыре сажали в богадельню и я убегал. Зачем мне богадельня? Я сыт, бываю пьян, нос в табаке и живу как вольная птица: хочу – иду к Макокину[23], хочу – к Кобызеву, а нет так и в «Ершовку» затешусь.
И старик лукаво подмигнул, подняв брови под самой картуз.
– Кто же тебе питает, дедушка?
– Кто? Христовым именем, сынок, живу… Строгости только ныне пошли, ну да ничего, на мой век хватит. Я, случается, и на костыль выйду, и руку подвяжу или спрячу, спрячу, и вожака возьму как слепой, значит. Под разными случаями, примерно, Но главное – годы, старость. За то и подают!
– Давно ли ты в Петербурге?
– Годов шестьдесят будет, при царе Николае переселился сюда.
– И помнишь старину?
– Как не помнить, Я ведь женатый тогда уже был. Всё помню.
После первого знакомства я условился встретиться с Чередеевым на другой день, но он не пришёл. После я увидел его в «Дерябинских казармах». Оказалось, что его забрали на улице за прошение милостыни, хотя он, схватив костыль под мышку, пробовал удрать с резвостью мальчика. Вместе с ним забрали одну бабу, стоявшую на углу с грудным ребёнком; завидев полицию, они оба бросились бежать, и баба швырнула своего ребёнка через забор. Оказалось, что у ней в пеленках была завернуто полено. Чередеев, смеясь, рассказывал мне это и прибавил:
– Таких «матерей» среди нас множество.
Очень тяжелое впечатление произвел на меня бродяжка Иван. Это старик, сапожник по профессии, начавший сильно заговариваться и страдающий галлюцинациями. Этот сапожник когда-то имел мастерскую, Но всё пропил и остался нищим. Теперь он все дни, когда его отпускают из комитета, проводит в чайной на Фонтанке и в кабаке на Обводном. Здесь за стаканчик он устраивает даровые спектакли и, ломаясь паяцем, потешает бродяжек и кабацких служителей. Больно смотреть на этого несчастного, когда жирный целовальник с красной наглой физиономией и хамской сивушной душой, заставлял его кувыркаться, становиться на голову, бить себя по щекам, целовать пустую косушку, и стоять, разинув рот, в ожидании «стаканчика».
Я пробыл с партией бродяжек в кабаке около получаса, и больше у меня не хватило сил оставаться в этой атмосфере. Воздух, совершенно синий от махорочного дыма и насыщенный сивушным запахом, дурманил голову. В кабаке теснота, шум, крики, ругань, возгласы – всё это обращало его в ад и нужно иметь верёвочные канаты вместо нервов, чтобы просиживать здесь часы и проводить целые дни. К довершению всего, согласно питейных правил, в кабаках нет ни стульев, ни скамеек, чтобы присесть; при водке нет никакой закуски, так что можно только пить и пить… Может быть, эти условия имеют какое-нибудь основание, но что они действуют разрушительно на организм, тоже верно. Человек целый день стоя пьёт – как же ему не напиться? В кабаке, о котором я говорю, большинство постоянных посетителей, то есть таких, которые проводят здесь время с утра до вечера, отлучаясь только на добычу: украсть или пострелять (просить милостыню). И в течение многих часов эта публика стоит на ногах и, опрокидывая стаканчики, закусывает собственным языком. Воля ваша – это отрава.
День уже склонялся к вечеру, когда я вышел из кабака и направился по Обводному к Расстанной. Мне хотелось зайти на Волково кладбище. Местность здесь – «серая», населенная чёрным людом, и заведений для бродяжек достаточно. По дороге я завернул в чайную, квасную. Везде много народу. Странное дело! Чем же в самом деле все эти люди живут, просиживая дни в вертепах? Ведь, положим, чай здесь стоит 4 копейки, полный обед 9 копеек и так далее. Но как всё это не дёшево, эти 4 и 9 копеек надо ведь достать, надо заработать. А они сидят!
Этот вопрос меня больше всего занимал и к концу своего интервью я вывел такую табличку: число бродяжек в Петербурге достигает цифры не менее 10–15 тысяч. В это число не входят поденщики и чернорабочие, которые по внешности и достатку очень близки к бродяжкам. Средства к жизни бродяжек в процентном отношении можно выразить следующими числами, которые будут довольно приблизительно точны:
Попрошайки…………………………………10%
Шантажисты……… …………………………5%
Обиратели и вымогатели……………………15%
Работники…………………………………….8%
Промышленники……………………………12%
Денные и ночные нищие……………………20%
Воистину несчастные………………………20%
Мазурики, воры и другие преступники….. 10%
Итого……………………………………….100%
Табличка эта требует пояснений:
Попрошайки — это субъекты, который по старой памяти обращаются к прежним знакомым за подаянием. И последние из жалости оказывают помощь. Такие подаяния, разумеется, скудные, имеют характер чуть ли не пожизненной пенсии. Например, бывший купец, чиновник и т. п. всегда найдёт нескольких приятелей, которые не откажут прислать ему рубль-другой.
Шантажисты — это пропойцы, которые под угрозой скандала и за то, что не показываются туда, куда они по положению могли бы войти, получают постоянное ежемесячное содержание. Они аристократы среди бродяжек и самые циничные пропойцы.
Вымогатели — это близкие родственники каких-либо порядочных людей, спившиеся и сбившиеся с круга. Например, отец служащего сына или сын богатого отца, дяди, наследники часто громких фирм; они прямо вымогают у своих родных или даже воруют, зная, что против них дела не начнут.
Промышленники — это люди с инициативой. Они появляются иногда газетчиками (без блях), продавцами, например, старого зонтика, грошовых запонок, кружев, букетов цветов и тому подобное, что не требует для торговли имения жестянки (собственные изделия). Такие бродяжки, часто вдвоём, продают один зонтик или запонки; первый продаёт, второй покупает и громко предлагает известную сумму; смотрит прохожий, заинтересуется, набавит пятачок и купит за полтинник то, что стоит двугривенный.
Работники – бродяжки, которые иногда идут в поденщики – идут, когда решительно нечего есть и голод подкашивает ноги.
Преступники — это тоже промышленники, только перешагнувшие границы уголовщины. Те и другие готовы украсть, надуть, обмануть, но первые пока ещё этого не сделали, довольствуясь афёрой, а вторые перешагнули. Конечно, эти бродяжки самые опасные, вредные и отвратительные, способные нередко на грабеж и убийство.
Я дам читателям несколько наиболее типичных субъектов из моей галереи бродяжек, чтобы нагляднее иллюстрировать моё процентное деление оборванцев на группы.
Первая категория – попрошайки. Самое видное место в этой категории принадлежит графу Z. Разумеется, если бы не страсть к водке, доходящая до пропойства, граф Z. никогда не дошел бы до положения бродяжки и мог бы, напротив, занимать видное положение в обществе. Он скитается по притонам и пьёт около 25 лет. Ещё не старым человеком дошёл он до лохмотьев и перестал стыдиться своего положения. Некий фактор[24] сделал ему такое предложение:
– Ты – граф, ты носишь громкую фамилию; у меня есть дама по званию крестьянская девица, но занимающая целый отель и проживающая 40 тысяч рублей в год. Не хочешь ли ты поехать с этой дамой под венец с тем, чтобы прямо из церкви разъехаться и никогда больше не видеться?
– А что же я за это получу?
– 30 рублей в месяц пожизненно и тысячу рублей единовременно.
– Согласен, по рукам.
Граф через неделю сделался «молодым». Из его рассказов я узнал, что когда-то он имел свои дома, имения, рысаков. А теперь ему приходится ночевать хотя и на дворянской половине ночлежных приютов, но эта половина много хуже благоустроенной конюшни или кухонной комнаты для прислуги его бывшего дома… Я несколько раз охотно беседовал с графом за графинчиком водки и он нисколько не стеснялся моего костюма, хотя его пальто и было чище моего рваного сюртука. Это добрый, простой, очень симпатичный человек, которого от души жаль, в его поступках, словах и взглядах на вещи проглядывается барство, покрытое густым слоем бродяжной грязи. У него нет озлобленности против счастливых и богатых людей, как у многих оборванцев, бывших в другом положении и дошедших до ночлежного приюта. Зато нет у него и стеснения принять подачу самого унизительного свойства, если он знает, что может выпить и особенно выпить хорошей водки в трактирчике средней руки. Неразборчив он и на знакомство, что, впрочем, вполне понятно, потому что мы, бродяжки, пользуемся безусловным равенством и не судим ближнего, будь хоть он беглый каторжник и душегубец. Одного только граф терпеть не может – вспоминать своё прошлое и говорить о своём происхождении. Если он пустился со мной в откровенность, то это большая редкость и свидетельствовало об его расположении ко мне.
Глубоко жаль этого несчастного старика, когда он рассказывал, как валялся несколько дней больной в грязи, без всякого присмотра. В больницу он не хотел идти, а близких у него ни души. Круглая сирота на земном шаре, никому ненужный и ни для кого не дорогой, он на смертном одре понял это роковое одиночество, и, поняв, сам хотел умереть, горячо молился о ниспослании ему смерти, но Провидению было угодно продлить его жизнь и он опять скитается по притонам. Вот год уже как он потерял способность быть весёлым и улыбки не видно на его лице. Не будь водки, в который можно потопить свои мысли, заглушить гнетущую тоску, забыть горе, он решился бы на самоубийство – так невыносимо это положение. А надежды? Лет 20 тому назад он еще мечтал, надеялся, давал зароки бросить пить и рисовал себе перспективу мирного приличного житья. Увы, теперь он понял, что для него нет возврата. Он не может бросить своей жизни, не волен переменить обстановку…
– Как же не выпить в такие минуты? – говорил он мне, поднося к губам стаканчик.
Я не находил сказать ему что-либо утешительное. И что можно ему посоветовать? «Выпьем!»– вот одна отрада в этом роковом положении…Отчаяние особенно сильно стало гнести графа Z. после смерти его родственника-миллионера. По закону он являлся наследником известной части, но родственник оставил духовное завещание, в котором забыл о нём. И забыл не случайно, а заведомо, мстя за женитьбу. Мысль о наследстве в минуты трезвости была для графа той соломинкой, за которую хватается утопающий… Теперь и эта соломинка пропала.
Последний раз я встретил графа в ночлежном приюте Общества ночлежных домов… Он испугал меня: страшные воспалённые глаза, руки и ноги трясутся, на лице выражение ужаса…
– Что с вами, граф? – спросил я удивленно
– Се…се… годня двадцать-цать пер…пер…вое…
Я понял его. Действительно, это самое ужасное, и я думал об этом. Что он будет делать, если жена вдруг прекратит выплату пенсии? Худо ли, хорошо ли, но он теперь обеспечен по крайней мере в куске хлеба; если он пропьет пенсию, ему оказывают кредит до 20 числа, зная, что он заплатит. В этом отношении он всегда был безупречен. А ну как пенсия будет прекращена? Вчера было 20-е и он не получил своих 30 рублей. Это первая неаккуратность за двадцать лет.
– Вероятно, какая-нибудь задержка произошла, – сказал я, хотя понимал, что едва ли это неаккуратность.
Самые неприятные и беспокойные из числа бродяжек-попрошаек – это так называемые спившиеся интеллигенты. Эти господа бравирует нередко своими опорками и часто требуют подаяние повелительно. Один такой бродяжка, увидав у меня рублевую бумажку, набросился с руганью, требую немедленно разделить её пополам с ним.
– Вас давно бы в живых не было, если бы не мы, интеллигенция. Вас только и в Петербурге терпят, потому что среди такой рвани как вы, вращаемся мы.
– Постой, да что ты из себя ломаешь? Где твои заслуги и права? Из себя изображаешь… – прижал я его к стене в присутствии десятка бродяжек.
– Ну, ну, ты того, не очень-то
– Нет, говори, чем ты кичишься перед нами! Мы люди без развития, средств, слабый воли, больной души, неспособные к труду умственному и физическому, а ты?! Ты получил образование, получил в руки карьеру, будущность. А что ты сделал? Куда пришёл? И ты смеешь ещё бросать камень в других?!
– Я жертва, жертва…
– Жертва Бахуса и низких страстишек. Если бы ты точно был жертвой случая, то не мог бы сделаться тунеядцем-бездельником, которым пренебрегают даже простолюдины, считающие себя выше такого бездельника.
– Ну, ты, потише…
– Да я и говорить с тобой не хочу. Я сомневаюсь только, что ты когда-нибудь был студентом… Ты просто лжешь, самозванствуешь…
Бродяжка нахмурился, надвинул на глаза картуз и отошёл в сторону. Бродяжки, видимо, были довольно его «конфузом», потому что он и им надоел своей наглостью, грубостью и покровительственным тоном. Он, как говорят, действительно был на втором курсе юридического факультета, но больше десяти лет числился в бродяжках, и, вероятно, разучился даже мыслить. Высокого роста, чёрный от загара, с всклокоченной головой, он имеет вид тех молодцов, которых в доброе старое время встречали с дубинами на больших дорогах; куцый пиджак в дырах на голом теле и старые резиновые калоши на босых ногах составляют его костюм, в котором он день и ночь проводит не первый уже год. Говорят, что он частенько «просит» милостыню таким тоном, что ему отдавали весь кошелек, только отпусти душу на Покаяние. Разумеется, он – горький пьяница без просыпа, и, разумеется, никогда не принимался ни за какую работу, хотя порывы у него бывали. Попрошайствует он, главным образом, среди своих же бродяжек, урывая где косушку, где стакан чая или порцию щей. И мирные, безобидные бродяжки покорно поят и кормят, платя ему дань за наглость и бесстыдство,
Другой интересный экземпляр – это «офицер» в ветхой шинели. Он держится стороной от бродяжек, хотя посещает кабаки и ночует в ночлежном приюте. Он горд. Ему под 60 лет, так что офицером он был лет 35 тому назад и в чине, кажется, прапорщика вышел в отставку. Небольшого роста, седенький с баками и стеклянными глазами. Сравнительно с бродяжками он состоятельный человек, потому что арена попрошайства у него обширная.
Обыкновенно, он является в совершенно незнакомый дом, нередко к довольно видной особе, и приказывает о себе доложить. Лакей, видя мундир, исполняет приказание и гостя «просят» в гостиную.
– Здравствуйте, как поживаете? – развязно протягивает он руку хозяину. – Сегодня отличная погода (или дурная)…
– Садитесь… Чем могу быть полезным?
– Ах, мерси, я заранее уверен, что вы не откажите мне, старому солдату… Здоровье вот только плохо становится… Ревматизм в правой ноге, простудился несколько лет тому назад…
– Но что вам собственно угодно?
– Это будет зависеть от степени вашего великодушия. Всякое даяние, конечно, благо, но мне нужно рублей пять-десять…
– Извините, я вас совсем не знаю…
– Пустяки, познакомитесь, я знал ещё вашего брата…
– У меня нет вовсе брата!
– Или родственника, зятя, свата, кума…
Конечно, просителю приходится иногда ретироваться ни с чем, но случается получить просимое, и кутнуть потом основательно в трактирчике.
Вот что достойно особого внимания и сбыта бродяжек-попрошаек – это долголетие их. Здесь есть юбиляры, по 50–60 лет занимающиеся нищенством, есть старики и старухи 80–90 лет, ещё в молодости впавшие в бедность, а в возрасте 60–70 лет попадаются на каждом шагу. И какие все бодрые, молодцеватые, даже с ампутированными членами! Кровь с молоком, хотя едят они какую-то падаль, и то не ежедневно; ночуют, случается, под открытым небом… Я сделал такой статистический опыт. В трёх ночлежных приютах, где я ночевал за время своего интервью, было 239 бродяжек; из них 170 седых старцев, из этих 170-ти самый молодой 58-ти лет, а самый старый 103-х лет. Попрашайством и нищенством занимаются 162 человека, а 8 рабочих. Я опросил на выдержку человек 30 и из них только один «недавно» впал в бедность, а остальные «всю жизнь маются».
Что эти цифры доказывают? Во-первых, что нищие бродяжки ведут сравнительно спокойную от душевных волнений и забот жизнь… Их потребности – грошовые, удовлетворяемые подаянием, их заботы ограничиваются тощим желудком и полицейским обходом. Между тем, сколько душевных волнений и тревог приходится переживать нам с вами, читатель, особенно имеющим семью? У бродяжек не бывает ни порока сердца, ни нервных ударов, апоплексии, подагры и т. п. Во-вторых, у бродяжек нет сидячей жизни, развивающей хронические болезни, нет простудных заболеваний, потому что организм их привык ко всему, нет у них и ожирения органов, так как жиреть им ни с чего. Ещё профессор Тарханов[25] в своих лекциях а «Долголетии» заметил, что бедность есть спутник долголетия и все цифры вполне это подтверждают. Иногда бродяжки сами тяготятся своим долголетием и недавно ещё 89-летний старичок бродяжка повесился, а старушка 82-х лет выбросилась из окна. Напрасно, впрочем, думают, что всем бродяжкам плохо живётся на свете, что они мучаются. Я за свои шесть дней перевидал тысячи бродяжек и могу засвидетельствовать, что громадное большинство не только не мучается, но вполне довольно и счастливо своим положением, не желая ничего лучшего и бегая от всяких богаделен и приютов. Они так свыклись с этой атмосферой, средой, обстановкой, что лучшего им ничего не надо, а о лучшем они вовсе не мечтают. Некоторые из них «мучаются» только с похмелья, но это мучение ещё не большой руки. Сначала и мне казалось, что люди, живущие в этих трущобах, очень несчастны, но оказывается, что подобное мнение совершенно ошибочно. Глубоко несчастны только семейные бедняки, которых не видно на улице и в кабаке, а мои сотоварищи бродяжки, право, счастливее многих богачей и капиталистов.
Второй тип бродяжек – «вымогателей» имеет много общего с первым, т. е. «попрошаями», только они ещё наглее, циничнее и чаще попадаются в уголовщине, например: кражах, грабежах. Этот элемент бродяжного населения столицы самый, по моему мнению, опасный и вредный, так что полиция постоянно принуждена иметь за ним особое наблюдение.
Мне попалось несколько экземпляров, достойных кисти художника.
Старушка лет 80-ти, Пелагея. Пьянствует много лет, так что в трезвом состоянии никогда не бывает. Грязна, отвратительна, зла, сварлива и скандалистка. У неё очень приличный почтенный сын, где-то служащий. Старушка постоянно делает ему скандалы, преследуют его на улице и несколько раз таскала к мировому.
– Ты мать не почитаешь! Заставляешь на старости лет нищенствовать! На улицу выгнал!
Положение несчастного сына достаточно критичное. Держать в доме такую женщину, которая постоянно пьяна, скандалит и лезет драться – нет возможности, потому что домохозяин просит очистить квартиру, не говоря уже про собственные неприятности. Нежелание же совместного жительства вызывает ежедневные требования денег под угрозой жаловаться за отказ матери в средствах к жизни. Приходится давать, зная, что сколько не дай сегодня – завтра будет пропито, а между тем у сына своя семья, свои нужды и сравнительно ограниченное содержание.
Но как не отвратительна пьяница-старуха, обирающая собственного сына, ещё хуже пропоец-муж, сосущий кровь у несчастной труженица-жены и выколачивающий в довершение всего у ней душу. А таких мужей среди бродяг немало. Вот, например, пропоец лет 45-ти, грязный, оборванный с опухшей рожей, который живёт тем, что аккуратно через день делает нашествие к своей жене, служащей кухаркой в приличных домах. Он, смеясь, рассказывает, что жену из-за него не держат на местах, что она глаза все из-за него выплакала и, хвастаясь, показывает одну или две рублевки, «вырванные из горла» жены. Рублёвки тут же пропиваются, а через день он опять идёт. Если у несчастной действительно случается ничего дать, он поднимает скандал, шум и требует жену «к себе».
– Я муж! Если я позволяю ей служить, она должна мне давать деньги, а нет – пойдём вместе.
– Куда?
– «Где голова, там и ноги». Жена по закону должна быть при муже; у меня угла нет – значит, ходи сзади.
Пропоец, делая скандал, ничем не рискует, а бедная женщина теряет место и ради этого волей-неволей принуждена откупаться.
Другой муж ещё лучше. Его жена имеет давно отдельный вид на жительство, но это не мешает ему караулить жену на улице для скандала, если она не поспешит сунуть ему несколько рублей. Он понимает, что гадок до отвращения, что он сам во всём виноват и не имеет даже юридических прав на жену, но всё-таки она жена его и этого для шантажиста довольно.
Мужья, совместно живущие с жёнами и детьми и пропивающие из дома всё, что можно стащить, до жениной кацавейки[26] включительно, считаются среди бродяжек заурядным явлением
– Иди, унеси что-нибудь, – посылают они друг друга.
– Да ничего уже…
– А башмаки у бабы?
– В самом деле, она недавно исправила полусапожки. Иду!
Идёт и уносит ужины последние сапоги с ног, пропивая их за несколько двугривенных. Я сам был свидетелем такой сцены… По Обводному бежит босой оборванец с голой головой, в переднике, у него в руках женские башмаки. Сзади догоняет молодая женщина, тоже босая, с растрепанной головой и выражением ужаса на лице. Женщина мчалась и догнала оборванца, вцепившись прямо в башмаки. Завязалась борьба: оборванцу, несмотря на большую силу, не удалось вырвать башмаки у женщины, которая вцепилась в них как утопающая за якорь спасения. Тогда оборванец повалил женщину и начал её бить с плеча, пока та не выпустила злосчастные башмаки. Схватив добычу, оборванец бросился бежать, а избитая женщина с трудом поднялась с земли и со стоном, хромая, поплелась обратно. Я не забуду выражение её глаз, дико установившихся в след бежавшего с башмаками оборванца… Глаза выражали такое отчаяние, точно она рассталась с дорогим существом или сокровищем.
Подобные сцены в понедельник или вообще после праздника происходят десятками среди бродяжек. Рыночные маклаки, зная это всё, послепраздничные дни дежурят около вертепов и скупают здесь у бродяжек всё, что последние «упрут» из дома. Почему после праздников? Потому что жёны или вообще домашние, работая неделю, покупают к празднику обновки, а вымогатель-муж тут и накроет; ему самому особенно дорог двугривенный в понедельник, чтобы опохмелиться…
После вымогателей-мужей чаще всего попадаются вымогатели-сыновья. Таких, особенно типичных, я встретил трех: двоих из купеческой богатой семьи, прошли огонь и воду, отцов они боятся пуще огня, а шантажируют матерей, нередко прибегая просто к краже из родительского дома.
Третий же – так называемый «Монах». Он особенно интересен. Ванька, парень лет 22-х, успевший прожить тысяч сорок и сделать долгов тысяч на двести. Отец взял его в опеку, заплатил долги, жестоко выдрал и поместил в один из монастырей для исправления и покаяния. Ванька из монастыря удрал и явился вновь на горизонте Петербурга, не смея, однако, показаться отцу. Он скитается по ночлежным притонам, командируя товарищей-бродяжек с записками к матери. Добрая старушка тайком от мужа посылала блудному сыну деньги, вещи, провизию, но всё это скоро спускалось, прокучивалась, и посланец опять шёл с запиской. Иногда он и сам рисковал сходить, когда ему хотелось получить больший куш или посланник возвращался от матери с пустыми руками.
Ванька – красивый мальчик-блондин, худощавый, болезненного вида с изнурённым старческим лицом. Он циничен до мозга костей и хотя не пробовал прибегать к настоящим преступлением уголовного свойства, но, кажется, способен на всё. Я столкнулся с ним у Московской заставы, и мы вместе ходили к «Рогатке» – версты две за заставой, где находится один из притонов «загородных», т. е. бродяжек, не имеющих право жить в столице и ютящихся на границе. Публика здесь воистину такая, что только оборванцем и можно сюда попасть, а то положительно небезопасно пройти даже днём.
Представьте себе конуру, разделенную на четыре каморки и битком наполненную оборванцами, так что за их спинами скрывается Божий свет. Всё это, пожалуй, и не бродяжки, а форменные бродяги с железными кулачищами, зверскими физиономиями и настолько темным прошлым, что терять им нечего. Они даже, нисколько не стесняясь, громко рассказывают: как одного барина прижали по дороге и обчистили донага; барыню одну за косу схватили – она всё и отдала, что у ней было. Правда, где и когда это происходило, не говорится, но по самому тону слышно, что представься такой случай сейчас, они не задумываются проделать то же самое.
Ванька, оказывается, свой человек в этом притоне и знаком со всеми. Публика встретила его радушно и ему уступили место в центре за одним из столиков.
– Это наш, новоиспеченный, – отрекомендовал меня Ванька публике и очистил для меня место рядом с собой. – Деньги есть? – обратился он ко мне, когда мы сели
– Есть около полтинника.
– Ну, на голодные зубы годится…
Появилось угощение, начались оживленные разговоры.
– Ах ты, старая хрычёвка, – произнёс Ванька, обращаясь в пространство, – я тебе покажу!
«Хрычёвка», как после оказалось, относилось к доброй старушке – его матери, которая заливается слезами каждый раз, когда от сына является посланец.
– А что на сухую? – спросил один из публики.
– Благословение шлёт…
Публика загоготала.
– А ты её сам благослови хорошенько, – сострил кто-то.
– Уж будет меня помнить. Сегодня ночью явлюсь…
– Ванюха, расскажи как ты из монастыря удрал? – обратились к нему.
– Как удрал? Вот тоже диковинка! Я из-за острога удрал, из настоящего каменного мешка, это похитрее! Без напилка решётку выпилил, вот ты что скажи!
– Молодец, одно слово, – поддакнул голос из толпы, – а денег всё-таки нет.
– Будут и деньги, хочешь – сейчас будут!
– Хочу, ну-ка…
– Слушай, – обратился он ко мне, – сходи к моей матери с запиской, она теперь одна в лавке.
– Нет, не пойду, – отвечал я.
– Тебе за ходьбу я заплачу, ты не бойся.
– Нет, не пойду…
– Давай я схожу, – вызвался седой оборванец с синяком во всю левую скулу и в балахоне с торчащей ватой.
– Вали… Эй, услужающий, бумаги и карандаш!
Ванька что-то написал.
– Готово, действуй, только скорей, а мы пока выпьем…
– Выпьем, выпьем, – послышались голоса.
Началась оргия. Ванька охмелел, и сделался особенно словоохотлив, но всё его рассказы отличались непечатным остроумием. Даже старые бродяжки выражали удивление:
– Полно тебе врать, озорник этакий.
Ваньку тешил этот героизм, и он старался даже наврать на себя, прикрасить свои подвиги для пущего эффекта, но если десятая доля из его рассказов верна, то и тогда этому юноше единственное исправление – петля! И как мог выработаться в порядочной купеческой семье такой нравственный урод, как дошёл он до этого падения и цинизма? Этот вопрос меня больше всего интересовал, и я старался наводить его на воспоминания детства…
Отец до него, как и до других детей, не касался, они почти его не видели; суровый мрачный старик был грозой дома, перед которыми трепетали жена и дети. Конечно, отца обманывали, от него всё скрывали, и мать, не чаявшая души в Ванечке, первая лгала и изворачивалась, чтобы избавить сынка от родительского гнева. С десяти лет Ванечка начал делать непозволительные шалости, а в четырнадцать его встречали уже в кафе-шантане, в трактирах, на тройках и в обществе девиц. Его отдали в коммерческое училище, но, просидев два года в классе, он был исключен; отец взял его в лавку и Ваня получил возможность добывать деньги уже без содействия маменьки – он таскал из выручки, посылал приказчика закладывать и продавать товар. И когда лавку запирали, отправлялся кутить. Если отец спохватывался: «где Иван?», что было очень редко, мать спешила отвечать: «Он спать ушёл, ему нездоровится, голова болит». Тем и кончалось. Пробовала она сама иногда выговаривать сыну, упрекать его, но он или лаской, или грубостью прекращал неприятный разговор. Годы шли. К девятнадцати годам Ванечка сумел сделаться таким завсегдатаем шато-кабаков, что его знали все посетители и посетительницы и он не мог одного вечера посидеть дома.
Только случай открыл всё. Отец произвел генеральную поверку магазина и недосчитался товару тысяч на двадцать. Началась расправа. Приказчики выдали сынка с головой и представили доказательства. Появились его векселя. Старик пришёл в ярость и жестоко выдрал Ваньку, после чего отправил его в монастырь. Ну всё это было уже поздно. Ванечка уже не имел силы «переродится». Напротив, расправа отца ожесточила его, уронила нравственно ещё ниже, и он пошёл по наклонной плоскости. Из монастыря он удрал без труда. Его, как беспаспортного, забрали где-то в острог, он удрал и оттуда, начав совсем бродяжную жизнь. И вот случай столкнул его со мной как раз в то время, когда он только что погрузился в омут трущобы. Если бы его сейчас извлечь оттуда, примирить его с жизнью, повлиять на него разумом, сердцем – может быть, он и был бы спасён, ведь он еще юноша полный сил, здоровья. Но если он поживёт с бродяжками несколько лет, познакомиться с этапами, острогами и тюрьмами, не трудно предсказать, что из него вырабатывается.
Пока мы пили, явился посланец, размахивая красненькой бумажкой.
– А что я сказал, – скачал Ванька, – ай да я, это ли не молодец? Пей, ребята!
Его голос осип, глаза посовели, движение сделались неопределенны, нетверды; он пьянел, а предстояло ещё много выпить.
«Удивительно, как это оборванец не убежал с десятью рублями», – подумал я.
Но после мне пришлось убедиться, что в этом мирку тоже есть свои понятия о честности, да им и невозможно обманывать друг друга, потому что они живут слишком тесной жизнью… Среди них бывали случаи жестокой расправы за попытки обмануть «своего».
С получением красненькой бумажки Ванька сделался совсем центральной личностью; кругом его увивались, ему услужливо кланялись, благодарили… Ванька чувствовал свое «величие» и вошёл в роль трущобного креза. Я незаметно ускользнул из компании…
Ваньку мне пришлось встретить ещё раз на Петербургской стороне. Он опять травил свою маменьку, изыскивая план вымогательства.
– Долго ли, однако, это будет продолжаться? – спросил я его. – Ты чуть ли не каждый день мучаешь свою несчастную мать.
– Тебя не спрашивают, ты и не суйся, – огрызнулся «монах».
– Неужели стыда у тебя совсем уже нет?
– Ты на себя бы посмотрел, а после и говорил. Тоже хорош гусь…
Перехожу к самой многочисленной и самой симпатичной группе – несчастных бродяжек, очутившись в этом положении по воле судьбы или по собственной слабости тела и души. Они не пьяницы и не пропойцы, не лентяи и тунеядцы. Это просто неудачники, мученики своих не осуществленных задач и стремлений, жертвы людского эгоизма и бессердечия, хроники-больные и, наконец, полупомешанные или совсем помешанные, не находящие себя, однако, пристанища в больницах для умалишенных. Беседуешь с этими бродяжками, входишь в их положении – сердце обливается кровью и при всём своем эгоизме можно отдать им последний рубль. И странно – эти бродяжки менее всех получают помощи, внимания, сочувствия! Их положение во много раз тяжелее даже профессиональных бродяг – им чаще приходится ночевать под забором, не есть ничего два-три дня и покорно переносить невероятные страдания. Бродяжки-вымогатели и шантажисты живут, как мы видели, сравнительно привольно; нищие и беспаспортные забираются в обходах, поступая на казённое иждивение, где у них «готовый стол и дом», а эти несчастные совершенно предоставлены самим себе, милостыню им не подают, потому что руки они не протягивают; полиция их не трогает, потому что паспорта у них в порядке, в нищенских комитет, в часть, в арестный дом их не берут, потому что туда «доставляют за номером таким-то», а «с улицы» приходящих не пускают даже обогреться или похлебать арестантских щей. А с какой радостью они отведали бы этих щей после двухдневной голодовки! Филантропический учреждения, вроде ночлежных домов, дешёвых столовых и пр. для них недоступны – «дорого», потому что 5–6 копеек целое «состояние», которое надо достать. А где достать? Было время, они зарабатывали эти 5–6 копеек клейкой картузов в «Доме Трудолюбия»[27], но теперь в этом единственном рабочем доме устроено школа рукоделия, а бродяжки-рабочие изгнаны!
Вот несколько моих трущобных друзей.
Вторую ночь своего «интервью» я провёл в отвратительнейшем притоне Обводного канала, хотя и без вывески «ночлежный дом», но с ночлежниками. Таких притонов в Петербурге немало. Нас ночевало шесть человек в крошечной комнате с пропитанным сыростью и затхлостью спертым воздухом. Вдоль печки, занимающий полкомнаты, были развешены мокрые от пота портянки бродяжек, на печи спали хозяева: муж, жена и трое детей. Мы, бродяжки, спали на голом полу, подложив под голову своё верхнее платье. Я говорю – «спали», но это не вполне верно, потому что я всю ночь не сомкнул глаз, а мой сосед, не переставая, кашлял удушливыми чахоточными приступами; кто-то всхлипывал, ребенок плакал, не переставая, а миллионы насекомых совершали такие ожесточенные походы, что заставляли некоторых выскакивать и громко ругаться.
Да не подумает читатель, что я преувеличиваю: обстановка именно такая и я хотел было бежать, но меня удержало желание познакомиться с соседом, который, как и я, не сомкнул глаз. При свете лампады лицо этого мученика – бледного, с впалыми глазами, производило тяжкое удручающее впечатление. Все черты когда-то красивого молодого ещё лица искажены страданиями; роскошные светлые кудри свешиваются беспорядочными прядями, глаза подняты вверх… Он молился, но приступы кашля душили его…
– Вы, кажется, нездоровы? – спросил я его.
– Да, чахотка у меня, – отвечал он так просто, точно речь шла о простом расстройстве желудка.
– Отчего вам не лечь в больницу?
– Не берут ни в одну больницу. Чахотка неизлечима, что же им увеличивать процент смертности?
– Простите, вы, вероятно, пьёте запоем?
На его лице появилась печальная улыбка:
– Я в жизни не брал в рот рюмки вина…
– Это с моей стороны нескромный вопрос, вы не рассердитесь? Как вы дошли до такого состояния?
Его глаза устремились вдаль, и на щеке появилась слеза, которая сейчас же высохла: он весь горел.
– Это долго рассказывать, да и к чему? Мои дни сочтены, я только жду не дождусь смерти.
– Если это вам не очень тяжело, расскажите мне ваше прошлое…
– Я учитель. Я с золотой медалью окончил гимназию и держал потом экзамен на учителя. Получил место в №, пробыл два года, а теперь третий год без места… Пожалуй, в настоящем положении я и не мог бы уже служить…
Он страшно закашлялся, и яркий румянец заиграл на щеках. Приступ продолжался несколько минут. Один из ночлежников начал ругаться:
– Шёл бы в больницу умирать, только людям спать не даёшь…
Опять та же горькая улыбка. Он кивнул головой в сторону говорившего:
– Его правда… Вот, ночуй хоть на улице, нельзя же ведь мешать им выспаться за свои три копейки. Им тоже силы нужны к утру…











