Читать онлайн Собрание сочинений. Том 2. Мифы
- Автор: Генрих Сапгир
- Жанр: Русская классика
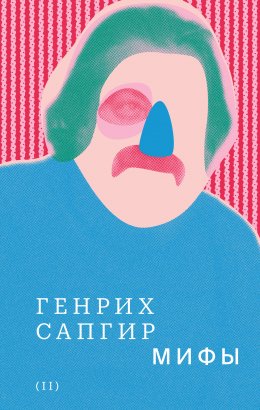
Генрих Сапгир
Мифы
Том 2
Новое литературное обозрение
Москва
2023
УДК 821.161.1
ББК 84(2=411.2)6
С19
Руководитель редакционной коллегии – Ю. Б. Орлицкий
Генрих Сапгир
Собрание сочинений. Том 2: Мифы / Генрих Сапгир. – М.: Новое литературное обозрение, 2023.
Новое собрание сочинений Генриха Сапгира – попытка не просто собрать вместе большую часть написанного замечательным русским поэтом и прозаиком второй половины ХX века, но и создать некоторый интегральный образ этого уникального (даже для данного периода нашей словесности) универсального литератора. Он не только с равным удовольствием писал для взрослых и для детей, но и словно воплощал в слове ларионовско-гончаровскую концепцию «всёчества»: соединения всех известных до этого идей, манер и техник современного письма, одновременно радикально авангардных и предельно укорененных в самой глубинной национальной традиции и ведущего постоянный провокативный диалог с нею. Во второй том собрания «Мифы» вошли разножанровые произведения Генриха Сапгира, апеллирующие к мифологическому сознанию читателя: от традиционных античных и библейских сюжетов, решительно переосмысленных поэтом до творимой на наших глазах мифологизации обыденной жизни московской богемы 1960–1990‐х.
В оформлении обложки использован фрагмент фотографии Г. Сапгира. Фотограф И. Пальмин. Москва, 1975 г.
ISBN 978-5-4448-2351-9
© Г. В. Сапгир, наследники, 2023
© Ю. Б. Орлицкий, состав, послесловие, 2023
© Н. Агапова, дизайн обложки, 2023
© ООО «Новое литературное обозрение», 2023
ПСАЛМЫ
(1965–1966)
ПСАЛОМ 1
- 1. Блажен муж иже не иде на сборища нечестивых
- как-то
- не посещает собраний ЖАКТа
- и кооператива
- не сидит за столом президиума —
- просто сидит дома
- 2. Соседи поднимают ор —
- не вылезает в коридор
- (не стоит на пути грешных)
- 3. Три страшных
- удара
- в дверь
- – Убил! Убил! – из коридора
- 4. Лампу зажги
- хочешь – можешь прилечь
- о законе ЕГО
- размышляй день и ночь
- сосредоточь…
- 5. И вот —
- дерево
- омываемое потоками вод:
- и ствол
- и лист
- и цвет
- и плод
- 6. Весь от корней волос
- до звезд
- ты медленно уходишь в рост…
- 7. Внизу подростки – гам и свист
- бьют железом по железу
- один на другом
- ездят верхом в пыли
- – Дай ему! дай!
- – Ай!
- – Пли! —
- две пули в фотокарточку
- 8. – Тань! А, Тань!
- 9. Встань
- закрой форточку
ПСАЛОМ 2
- 1. Зачем мятутся народы и племена?
- Какого рожна?
- 2. Сидели бы в районных городишках
- и разговор вели
- о женах о детишках
- Но восстают цари Земли
- 3. Солидные мужчины
- а что кричат с трибуны
- – Арахмонес!
- – Остались в одних трусах! —
- поцы
- 4. Живущий на небесах
- посмеется —
- ведь Господь на то Господь
- чтобы псалмы ему петь
- 5. Прошел один
- пришел другой
- и третий
- «Хоть я (говорит) не в зуб ногой
- но возвещу определение
- Господь сказал мне:
- ТЫ СЫН МОЙ!»
- 6. А вы все – сукины сыны!!!
- Яростью своей
- приведу вас всех в смятение!
- Не оставлю камня на камне!
- Железным жезлом
- буду бороться со злом!
- Как дам
- дам
- по глиняным головам!
- 7. Итак вразумитесь цари Земли
- и входя в учреждение
- за дверьми
- оставляйте ваше мнение
- Служите господу со страхом —
- и с кресел бархатных вставахом
- почтите Сына
- сукины сыны!
- 8. Ну-ка ребята спляшем
- чтоб вам не погибнуть на пути вашем
- Блаженны светочи веры —
- идиоты и пенсионеры
ПСАЛОМ 3
- 1. Господи бегу!
- 2. Оглядываясь вижу
- как умножаются мои враги —
- или во мне горят их рожи?
- Мания —
- беги беги
- 3. Испания Германия
- Польша Россия
- Что так жжет босые
- пятки?
- Этот пепел
- еще тепел
- Господи освободи!
- 4. – Нет ему спасенья в Боге!
- – Нет ему спасенья в Боге!
- – Нет ему спасенья в Боге!
- А вот вам – фигу фигу фигу
- бегу
- 5. И плачу и смеюсь
- и не боюсь
- 6. Здесь лег и спал
- а Бог мой сон оберегал
- 7. Не убоюсь
- пусть будет вас
- больше в десять тысяч раз
- потому что Он – мой щит —
- даст в зубы – челюсть затрещит
- 8. Господи уповаю но бегу
- ибо
- не бежать не могу
- бегу как заяц полы подобрав
- бегу из собственного дома
- от сына (мерзавец)
- Авессалома
- от братьев и жены бегу
- 9. Бегу и мыслю на бегу
ПСАЛОМ 6
- 1. Господи в смерти не будет памяти о Тебе
- червек – гспди червек – гспди червек – гспди
- 2. Ни о воде —
- В – О – О – О!
- 3. Ни о солнце —
- СОЛХЧШ – Ш – Ш – Ш!
- 4. Ни о небе —
- – Эге – ге – гей
- 5. Ни о самой тончайшей травинке —
- муравье – винки – винки – винки
- 6. Ни о снежинке
- ………………………
- 7. Кто будет славить Тебя во гробе Господи?
- червек – гспди червек – гспди червек – гспди
- 8. Иссохшие кости —
- склкст
- 9. Пощади меня Господи
- А – О – А – О – А – О – И
- 10. В эти весенние дни —
- Э – И – Э – И – Э – И – И – Э – И – И
- 11. Сохрани – склкст
- СОХРАНИ – склкст
- Господи – склкст
- ГОСПОДИ – склкст
ПСАЛОМ 16
- 1. Услышь Господь правду
- Вот я Господи
- весь на виду
- воззри на правоту
- человечью
- 2. Ты искушал мое сердце
- ночью
- страхом смерти
- Да! я завидовал мухам
- фанатикам – социалистам
- хотел быть просто листом
- травы
- 3. Трава по-своему права —
- какой-нибудь комар
- (комарис вульгарис) комар обыкновенный
- летает словно царь вселенной
- Два – три дня
- тоже вечность
- 4. Господи прояви человечность —
- почтовой маркой сделай меня
- 5. Нет? Не хочешь?
- Так что же Ты меня морочишь?
- В делах человеческих я не отступал
- от Слова Твоих Уст
- Я такой какой есть
- Пусть —
- их удел в жизни этой
- Ваше Преподобие
- Я – Твое подобие
- и я хочу остаться не у дел
- 6. – Водки!
- – Женщин!
- – Легкой жизни! —
- Господи заткни им глотки
- Или бомбой дербалызни
- 7. Укрой меня Господи в тени Твоих
- Крыл от лица нечестивых
- Укрыл
- Спасибо
- 8. Одних удел – чрево
- Других удел – слава
- А мой удел – слово
- 9. Господи честное слово
- в правде Твоей взираю на Лице Твое
- пробуждаясь насыщаюсь образом Твоим
ПСАЛОМ 55
- 1. Человек хочет поглотить меня человек
- но что сделает мне человек?
- 2. Человек хочет поглотить
- Кого?
- Меня
- Да да! человек
- А что?
- Человек хочет
- 3. Кого?
- Меня?!
- Кто?
- Человек?!
- Ха ха! человек хочет
- ну ну – человек
- 4. И все же меня хочет
- 5. Ну что?
- Что? Что? Что? Что?!
- Что сделает мне человек?
ПСАЛОМ 57
- 1. Подлинно ли правду
- говорите вы судьи
- …………………..
- 2. ………………….
- …………………………………….
- …………………….
- ………………..
- 3. Заклинаю вас
- вашими актами
- протоколами
- заклинаю вас
- невеселыми
- фактами
- заклинаю вас
- неурожаями
- заклинаю вас
- уважаемый
- вашей серой
- карьерой
- 4. Боже поставь их пинком на карачки
- Сокруши им Господи челюсти
- ниспошли им болячки
- и болести
- чтоб увидели и услышали
- Или мыши вы?
- Или выкидыши? —
- что не видите солнца
- Или в землю вы влипли
- как сопли?
- 5. Монголы вы
- Прежде нежели ваши головы-котлы
- ощутят горячий дух соломы
- и зеленое и отгоревшее
- унесет вихрь
- 6. Это все глубоко наболевшее
- и простое как доктор Живаго
- Листья есть
- птицы есть —
- небо есть —
- и воистину есть
- Судия всего живаго
ПСАЛОМ 69
- 1. Боже поспеши избавить меня
- «от собственного корреспондента Правды»
- 2. Поспеши Господи на помощь мне
- «новые происки империалистов»
- 3. Да посрамятся ищущие души моей
- САЛАКА В ТОМАТЕ
- желающие мне зла
- САЛАКА В ТОМАТЕ
- говорящие мне: хорошо хорошо
- ЧЕЛОВЕК В КОСМОСЕ
- 4. Да возрадуются
- «Легенды и мифы Древней Греции»
- ищущие Тебя во мне
- ДИЕТИЧЕСКИЕ ЯЙЦА 10 штук
- спасение мое в Тебе
- ПОВИДЛО И ДЖЕМ
- ПОЛЕЗНЫ ВСЕМ
- 5. Боже! поспеши ко мне
- 253. 71. 47.
- Господи! не замедли —
- 2 звонка
ПСАЛОМ 116
- 1. Хвалите Господа все народы:
- аиды и оды и рады и веды
- 2. Прославляйте его все племена
- и на О
- и на У
- и на И
- и на А
- 3. Ибо милость Его
- даже милость Его
- ибо даже ничего —
- Алилуйя!
- 4. Не желая ничего
- Алилуйя
- валяюсь пьяный на полу я
- Алилуйя
- и во мне – из меня
- все народы времена
- вопиют:
- Боже – на!
- На! На! На!
- Алилуйя!
ПСАЛОМ 132
- 1. Хорошо летом в солнечный вечер
- на даче
- двум сочувствующим
- 2. Листья – и доски – и свет и трава
- и мысли— отсутствие мыслей
- просвечивает и дышит
- греет и гладит
- и кладет свои тени
- 3. Это – как драгоценный елей на голове
- стекающий на бороду
- бороду Ааронову
- 4. Как роса Ермонская
- сходящая на горы Сионские
- благословение и жизнь навеки
ПСАЛОМ 136
Овсею Дризу
- 1. На реках Вавилонских сидели мы и плакали
- – О нори-нора!
- – О нори-нора руоло!
- – Юде юде пой пой! Веселее! —
- смеялись пленившие нас
- – Ер зангт ви ди айниге Нахтигаль
- – Вейли башар! Вейли байон!
- – Юде юде пляши! Гоп-гоп!
- 2. Они стояли сложив руки на автоматах
- – О Яхве!
- их собаки-убийцы глядели на нас
- с любопытством
- – О лейви баарам бацы Цион
- на земле чужой!
- 3. Жирная копоть наших детей
- оседала на лицах
- и мы уходили
- в трубу крематория
- дымом – в небо
- 4. Попомни Господи сынам Едомовым
- день Ерусалима
- Когда они говорили
- – Цершторен! Приказ № 125
- – Фернихтен! Приказ № 126
- – Фернихтен! № 127
- 5. Дочери Вавилона расхаживали среди нас
- поскрипывая лакированными сапожками —
- шестимесячные овечки
- с немецкими овчарками
- – О нори-нора! руоло!
- Хлыст! хлыст! —
- Ершиссен
- 6. Блажен кто возьмет и разобьет
- младенцев ваших о камень
ПСАЛОМ 143
- 1. Господи что есть человек
- и что Ты знаешь о нем!
- Ночью – один
- днем – другой
- и совершенно нагой
- то есть абсолютно голый
- 2. Господи у Тебя характер
- тяжелый
- как трактор
- Господи Ты – постоянный вектор
- А человек – дуновение – фу!
- Тень эта белая
- что она делает —
- просто тьфу!
- 3. Господи
- наклони свои небеса
- и сойди
- хоть на полчаса
- 4. Пусть вопят: мол не я не я!
- Но Господь как молния —
- в пламени от головы до пят!
- Неистов! —
- (по утверждению специалистов)
- 5. Боже новую песнь воспою Тебе
- на псалтыри
- на гитаре
- на пустыре
- и на базаре – воспою Тебе!
- 6. Господи зачем Ты нас оставил?
- Господин
- Это против правил
- 7. Мы достойны Хиросимы
- Все же Господи спаси! мы
- так хотим чтобы нас
- хоть кто-нибудь спас
ПСАЛОМ 148
- 1. Хвалите Господа с небес
- все ангелодемоны
- все бесоархангелы
- все солнцемолекулы
- все атомозвезды
- 2. Он повелел – и сотворилось
- злодобро и доброзлом
- завязаны узлом
- Да здравствует Твоя жестокомилость!
- 3. Хвалить – хули
- Хулить – хвали
- Хвалите Господа с земли
- при том хулите не боясь
- равнинопад
- и дождеясь
- и тигробык
- и овцегад
- и нищекнязь
- и святогнус
- и англонегр
- и немцерус
- и старцедев
- и умоглуп
- и всякий зев
- и всякий пуп
- хвалите Атеистобог!
- 4. И ухорук
- и глазоног
- и хвосторог —
- Алилуйя!
ПСАЛОМ 150
- 1. Хвалите Господа на тимпанах
- на барабанах
- … … … (три гулких удара)
- 2. Хвалите Его в компаниях пьяных
- …………… (выругаться матерно)
- 3. Хвалите Его на собраниях еженедельно
- …………… (две – три фразы из газеты)
- 4. Нечленораздельно
- ……………. (детский лепет праязык)
- 5. Хлопая в ладоши
- … … … (три раза хлопнуть в ладоши)
- 6. Хвалите Его по-собачьи
- … … … (три раза пролаять)
- 7. По-волчьи
- … … … (три раза провыть)
- 8. Молча ликуя
- ………………. (молчание)
- 9. Все дышащее да хвалит Господа
- ……………… (кричите вопите орите стучите —
- полное освобождение)
- Алилуйя!
- (12 раз на все лады).
МОСКОВСКИЕ МИФЫ
(1970–1974)
ПАРАД ИДИОТОВ
- Иду. А навстречу
- Идут идиоты
- Идиот бородатый
- Идиот безбородый
- Идиот ноздреватый
- Идиот большеротый
- Идиот угловатый
- Идиот головатый
- Идиот – из ушей пучки ваты
- Идет идиот веселый
- Идет идиот тяжелый
- Идет идиот симпатичный
- Идет идиот апатичный
- Идет идиот нормальный
- Идет идиот нахальный
- Идет идиот гениальный
- Идет идиот эпохальный
- Одни идиоты прилично одеты
- Другие похуже – небриты помяты
- Одни завернулись по-римски в газеты
- Другие – в свои чертежи и расчеты
- Иные свой стыд прикрывают зарплатой
- Иные ученостью эти – работой
- Большие задачи
- Несут идиоты
- Машины и дачи
- Несут идиоты
- Идет идиот чуть не плача
- «Несу я одни неудачи
- Жена – истеричка
- Начальник – дебил
- И я – неврастеник
- Себя загубил»
- Идут идиоты – несут комбинаты
- Заводы научные институты
- Какие-то колбы колеса ракеты
- Какие-то книги скульптуры этюды
- Несут фотографии мертвой планеты
- И вовсе невиданные предметы
- Идут идиоты идут идиоты
- Вот двое из них избивают кого-то
- А двое из них украшают кого-то
- Какого-то карлика и идиота
- Идиоты честные
- Как лопаты
- Идиоты ясные
- Как плакаты
- Идиоты хорошие в общем ребята
- Да только идти среди них жутковато
- Идиотские песни поют идиоты
- Идиотские мысли твердят идиоты
- И не знают и знать не хотят идиоты
- Что однажды придумали их идиоты
- Идут работяги идут дипломаты
- Идут коллективы активы и роты
- И вдоль бесконечной кирпичной ограды
- Идут идиоты идут идиоты
- Играет оркестр «Марш идиотов»
- Идут – и конца нет параду уродов
- И кажешься сам среди них идиотом
- Затянутым общим круговоротом
- А может быть это нормально? Природа?
- И есть и движенье и цель и свобода?
- Недаром же лезли на ствол пулемета
- Как листья осенние гибли без счета…
- Так пусть же умру за мечту идиота
- С блаженной улыбкою идиота
МОСКОВСКИЕ МИФЫ
- Мамлеев с Машей в Вене или в Риме
- Сиамский кот повсюду ездит с ними
- Мелькают километры города —
- И у Мамлеева усы и борода
- Мамлеева избрали кардиналом
- И кардинальша Маша ходит в алом
- Но мрачный точно тысяча волков
- Их ждет в Нью-Йорке Генрих Худяков
- Он перевел Шекспира на английский
- Он в каждом баре хлещет джин и виски
- «Ли быть иль нет! не быть!» В трусах и в майке
- Бежит от предприимчивой хозяйки
- А грустный Бахчанян как армянин
- Открыл универсальный магазин
- Там Купермана книга продается
- Названье книги МАТЬ ТВОЮ ЕДРИТ!
- А по Гарлему ходит хиппи Бродский
- И негритянок ласковых кадрит
- В своем коттедже рыжий и красивый
- Он их берет тоскуя по России
- Лимонов! Где Лимонов? Что Лимонов?
- Лимонов – обладатель миллионов
- Лимонов партизанит где-то в Чили
- Лимонова давно разоблачили
- Лимонов брюки шьет на самом деле
- Лимонов крутит фильм в Венесуэле
- Лимонова и даром не берут
- Лимонов – президент ЮНАЙТЕД ФРУТ
- И так же изменяется мгновенно
- Его жена прекрасная Елена
- Оставила Лимонова Елена
- И вышла говорят за манекена
- Попала в лапы гангстеров Елена
- Перестреляла – вырвалась из плена
- Там где Елена – кружева и пена
- Блеск доллары и страсти непременно
- Ах мы в Москве стареем и скучаем
- Пьем водку и беседуем за чаем
- И мысли за столом у нас простые
- И стулья за столом у нас пустые
- Ау! Друзья-знакомые! Ау!
- Не забывайте матушку-Москву
УМИРАЮЩИЙ АДОНИС
- Я – Адонис
- Я хромаю и кровь течет из бедра
- Я корчусь – червяк на ладони
- Не отворачивайся Природа будь добра
- Я – сын твой Адонис
- Меня погубила дура из бара
- Обступили какие-то хмуро и серо
- Я падаю – мне не дожить до утра
- Мне дурно
- Вот приближается рокот мотора
- Меня освещает белая фара
- – Как твое имя парень?
- – Адонис
- «Адонис? Латыш наверно или эстонец»
- Я – Адонис
- Я совсем из другого мира
- Там апельсины роняет Флора
- Там ожидает меня Венера
- И о несчастье узнает скоро
- Дикие вепри
- Бродят на Кипре…
- – Ах ты бедняжка!
- «Понял! он – итальяшка»
- Я – Адонис!
- Я чужой этим улицам и магазинам
- Я чужой этим людям и трезвым и пьяным
- Поездам телевизорам телефонам
- Сигаретам газетам рассветам туманам
- «Нет
- Скорей
- Это
- Еврей»
- Я – Адонис
- Я сквозь дебри за вепрем бежал и дрожал
- Меня ветки за пятки хватали пытали
- Меня били! любили! хотели! потели!
- Я любезен богине Венере
- Я не здесь! Я не ваш! Я не верю!
- – Сумасшедший ясно
- – Но откуда он?
- – Неизвестно
- Я – Адонис
ГЛАВТИТАН
- Сизиф толкал вагоны в гору
- Атлант держал свою контору
- Когда он поводил плечами
- Машинки яростней стучали
- Гул проходил по коридору
- У Прометея ныла печень
- Он был болезнью озабочен
- Не радовали даже ляжки
- Слоноподобной дуры Нюшки
- Шурупы мучили Тантала
- Ему шурупов не хватало
- Он нервничал – и снились трупы
- В зубах зажавшие шурупы
- Так жили мрачные титаны
- Катились под гору вагоны
- По коридорам шлялись люди
- Шурупов не было на складе
- Не вспоминалось даже детство
- И было некуда податься
- Атланта стукнула кондрашка
- Тантала увезли в дурдом
- А Прометея – неотложка —
- Ушла к другому дура Нюшка
- И лишь Сизиф свои вагоны
- Толкал и двигал на подъем!
ЗЕВС ВО ГНЕВЕ
- За столиком расположив
- Свое вместительное тело
- Пил в ресторане у вокзала
- Античная мускулатура
- Костюм буграми распирала
- Официантка подавала
- И Зевс глядел на это хмуро
- Сидел сидел – и вдруг из головы
- Родил сердитую Афину
- Я видел страшную картину
- Как развернулся этот боров
- Как бил он всех: милиционеров
- Официантов и швейцаров
- И доброхотов всех размеров
- Он так работал кулаками
- Как будто молнии сверкали…
- Военный прислонился к стенке
- Официант – лицо в солянке
- Милиционер ползет в сторонку
- Швейцар схватился за мошонку…
- Какой-то пьяный мужичонка
- Икал и ойкал от восторга
- А местная пьянчужка Шурка
- Кричала: Глянь-ка глянь-ка Ирка!
- Глядели все: котлеты куры
- глядели с потолка амуры
- Со стен цветы и помидоры
- Портреты надписи узоры…
- От жара тучен и багров
- Следил за битвой повар-шеф
- – Ну кто еще? – спросил Юпитер
- – Не горячись постой приятель —
- О фартук руку повар вытер
- И в зале будто свистнул ветер…
- И только брови сдвинул Брежнев
- Что громовержец был повержен
- Ведь был он бог и древний грек —
- Простой советский человек
ДИОНИС
- Накануне праздника Сбора Картофеля
- На главной улице Города
- Привлекая всеобщее внимание
- Появился смуглый юноша
- В венке из виноградных листьев
- Мальчишки бегут глядеть. Женщины
- Становятся на цыпочки. Кто-то
- Выронил сверток. Резко
- Тормозит голубой автобус
- – Смотрите смотрите! артисты
- И верно – по улице имени
- Великого Основателя
- Двигается процессия
- Вида непристойного и дикого
- Ухмыляются рогатые бородатые
- Щеки и носы раскрашены свеклой
- Груди и зады едва прикрыты
- Беспокойно – что они изображают?
- И зачем их так ужасно гримируют?
- Там какие-то растерзанные бабы
- На осле везут лысого пьянчужку
- И выплясывают и вопят в небо
- Алое от флагов и полотнищ
- – Эвоэ! Эвоэ!
- Что-то в Городе заметно изменилось
- Люди побежали в магазины
- И как будто грянули с двух сторон вразнобой
- Духовые оркестры
- У прилавка винного отдела
- Напирают – чуть не дымятся
- За стеклом – две продавщицы
- Тычут им серебро и бумажки
- А они в ответ суют бутылки
- Без конца – серебро и бумажки
- Без конца – зеленые бутылки
- Что за суетливая спешка?
- Что за непонятная жажда?
- Будто весь многовековый Город
- С парками вокзалами домами
- С памятниками в бронзе и камне
- Разом в этот день решил напиться
- А на площади имени Поэта
- В свое время
- Сочинившего Оду Государству
- Уже – драка
- Развернулась как на экране
- (кадр)
- Кто-то гонится за кем-то через площадь
- (кадр)
- Двое лупят парня в кожаной куртке
- (кадр)
- Лицо зашедшееся в крике
- (кадр)
- Человек в разорванном костюме
- Шарит очки на асфальте
- (кадр)
- Один обливается кровью
- А другой его поспешно уводит
- (кадр)
- Башмак давит очки с хрустом…
- Завывает желтая машина
- И мигает синей вертушкой
- И за всем за этим наблюдает
- Юноша с античной улыбкой
- И повсюду где он проходит
- С козлоногой и блаженной свитой
- Водка льется в праздные глотки
- Красное вино течет по лицам
- Песни крики драки поцелуи
- И творится что-то неприличное
- Явно непредусмотренное
- Правительственной Комиссией
- По организации Праздника
- Впрочем кто-то там распорядился…
- Но плющом опутало машины
- И в руках блюстителя прядка
- Превратились дубинки в тирсы
- Автоматы – в толстые бутылки
- И стреляют пробками и пеной
- Лопаются звезды фейерверка!
- А на площади имени Поэта
- В свое время
- Оказавшего услугу Государству —
- Синий дым прожекторов
- Топчется и двигается площадь
- Люди наслаждаются свободой
- Инженер танцует с наядой
- Плосконосый сатир – с иностранкой
- А военный танцует с вакханкой
- Продавщица осла обнимает
- Ее в танце осел понимает
- А студентка на фавне повисла
- Ах как много в движениях смысла
- С нимфой топчется пьяный рабочий
- Нимфа пьяного дядю щекочет
- Ее ловит взъерошенный дядя
- И хватает другую не глядя
- И танцуют какие-то твари
- И хохочут какие-то хари
- И кричит Калибан с Магадана
- Вскидывая нелепые ноги
- – Свобода! Свобода! Свобода!
- Девочки из ресторана
- Обнимают и уводят лысого Силена
- С фасада соседнего дома
- Памятным лицом пятиметровым
- Смотрит Основатель Государства
- А у памятника Поэту
- Улеглась огромная кошка
- Поблескивая лунными зрачками
- И танцуют люди и птицы
- Лилипуты крысы и мокрицы!
- Но безумье и ночь на исходе
- Прочь уходит длинная пантера
- А за нею – фавны и менады
- Опустела площадь
- На дощатой эстраде
- Пианист уснул за пианино
- Барабанщик спит на барабане
- Пьяный музыкант
- Вливает в медное горло
- Своей трубы
- Уж не помнит которую бутылку
- – Пей приятель!
- Лишь один еще стоит качаясь
- И струна гудит в пустое небо
- – Д И О Н И С!
- – Д И О Н И С!
ИЗ КАТУЛЛА
- С яблоком голубем розами ждал я вчера Афродиту
- Пьяная Нинка и чех с польскою водкой пришли
НА ПОКУПКУ КНИГ
- Сумерки. Март. Люди – по магазинам
- Я – в магазин где продаются книги
- Вдруг достают из-под прилавка —
- О нищета и богатство духа!
- Так приобрел Шиллера и Шекспира
- В издании Брокгауза и Ефрона
- Мерцают золотым обрезом
- Ну же! досыта ешь книгоежка
СВИРЕПАЯ
- Начало было довольно невинно
- Над городом появились
- Крылатые мальчуганы
- Болтают в воздухе пятками
- Строят потешные рожицы
- И внезапно нацелясь
- Пикируют на прохожих
- Забираются под рубашки под платья
- Щекочутся и хихикают
- С балкона подросток
- Пускает высокий фонтан
- Красавица рукой зажавши юбку
- Спасается в подъезд
- В недоумении толстяк
- Младенца держит на руках
- Пока раскачивались городские власти
- И нашлись добровольцы
- Испарились мушиные хулиганы
- И о них моментально забыли
- Как забывают обо всем что выходит за
- И только у двух влюбленных
- Сердца забились чаще
- И столик придвинув к постели
- Решили они не вставать
- На следующее утро
- Все было гораздо серьезней
- Появились голые женщины
- Пахнущие сандалом и мускусом
- Попадались и китаянки
- Прикрывающие лицо веером
- Вот выходит человек из дома
- На уме ничего такого кроме ясного утра
- И вдруг – померещилось что ли? —
- Наплывают ночные ароматы
- И – навстречу голая как яйцо
- На цепочке ведет пантеру
- Лишь на щиколотках позвякивают браслеты
- Или в автобусе
- Вдруг почувствует живое интимное
- К пиджаку прижалась белая грудь
- И в жар его бросает и в холод
- Видели их или не видели
- Но были свидетели
- И замешательство
- Появилась милиция и дружинники
- Но голых не обнаружили
- Закрыли бани и тем ограничились
- И только двое задернув плотней занавеску
- Предались всем видам любви
- Которые изобрели в древности
- О которых прочли
- И которые придумали сами
- И вот на третье утро
- Изнутри ударило в двери
- городского музея
- Двери соскочили с петель
- И вывалились на площадь
- Разгневанная Кибела
- Зашибив по дороге
- Двух – трех пенсионеров
- И в лепешку смыв дежурную машину
- Каким-то образом вскоре
- Очутились на студии телецентра
- И такая там всегда неразбериха
- – Статую поставьте поближе
- Режиссер махнул рукой: начинайте!
- – Слепые кролики – сказала богиня
- – Вы только знаете что размножаться
- А потом всю жизнь прикованы к тачке
- Где вопящий младенец
- Ни амуры ни мои гетеры
- Не зажгли вас не расшевелили
- Не помчались вы скинув одежды
- Вдоль по улицам вереницей
- О наездник верхом на подруге!
- О полет причудливо сплетенных!
- Нет свои божественные члены
- Обнажаете вы только в туалете
- Или ночью – в темноте – украдкой…
- Я б могла наказать вас лихорадкой
- Чтоб все женщины стали нимфоманки
- А мужчины – сексуальные маньяки
- Но себя вы хуже наказали
- Всею вашей размеренной прозой
- Телеманией вещами санузлами
- Бездуховным в мерзости соитием!..
- Тут экраны исказились замигали
- И сказали: по техническим причинам…
- То-то был переполох в телецентре
- Впрочем
- Многие зрители решили:
- Показывали что-то из Эсхила
- Двое юных влюбленных
- Сбросив простыни и одеяло
- Голова ее – на его предплечьи
- И лицо его – в волосах ее летящих
- Спали
- Телевизор был выключен
МРАМОР
- Наполовину отбитая левая грудь
- Афину Палладу
- Целовали туда
- Длинноволосые девушки —
- Сколок изнутри розовел просвечивая
- Афродиту зрелые женщины —
- Безрукую обнимали сзади
- Казалось богиня ласкает сама себя
- Эти полные руки скользящие
- По мраморному животу!
- Эти круглых четыре колена!
- Этот сдвоенный круп!
- А та что всегда бежит прекрасным безносым лицом
- Диана приманивала девчонок
- В лунном свете ее волос
- Скользили безмолвные псы
- И подростки-лунатики шли
- Опустив безвольные плечи
- Протянув безвольные кисти
- О богини! Я ваших возлюбленных знаю
- Они любят нравиться и мужчинам
- Но я отличать их умею
- Они спокойно снимают платье
- Они ложатся – пожалуйста возьми меня —
- Вдруг открывают веки
- Остывают каменеют
- Глупый мальчик ты обманулся
- Эта девушка не невинна
- Эта женщина не фригидна
- Их любили
- Богини
ТРЕТИЙ РИМ
- Вокруг Москвы белеют корпуса —
- Инопланетные становища
- И бродит в парке ЦДСА
- Зеленомордое чудовище
- Стоит киоск у Сретенских ворот
- Толкует возле выпивший народ
- Интеллигентных несколько бород
- И подняла головку саламандра
- В углу где подозрительные пятна
- Как этот город вся невероятна
- На Выставку приезжий из Рязани
- Глядит осоловелыми глазами
- Широкотазы полновесногруды
- Чиновные экстазы и причуды
- Колонны завитки порталы шпили —
- Быка с мудями тоже вылепили!
- За окружной сверкают чудеса —
- Инопланетные становища
- И воет в парке ЦДСА
- Широкоротое чудовище
МОЛОХ
- Волох и Вулох и шизики все и подонки!
- Юра Мамлеев – брюхатое божество!
- Лорик и Шурик и все его дочки —
- Бледные девочки – темные почки
- Вы поклонитесь слоновьим копытам его!
- Фикус зеленым пером осеняет его
- Возле пивной толковище и зной
- Сколько мужчин возжелавших общенья и пива!
- Сколько мужчин избегающих женщин и секса!
- И между них добродушный и сальный —
- Сверх-эротический! Вне-сексуальный!
- И воют собаки обнюхавши желтые ссаки!
- Вы поклонитесь слоновьим копытам его!
- Волох и Вулох – и все эти пресные черти
- До смерти сами себе надоевшие! Будда
- Мамлеев с портфелем пришел ниоткуда
- И у помойки для них сотворил это пошлое чудо —
- Кошек и мух голубей и московское лето
- Свадьба горланит за окнами где-то —
- Пиво и трусики! гроб и газета!
- И да поклонятся брюху и лапам его!
- Козлобородый Фридынский примчался вприпрыжку
- Наболтал начадил – и другой уже вертится бес…
- Вежливо к ним проявляя ко всем интерес
- Тискает гладит и щиплет трехцветную кошку…
- И красногубый Дудинский и громогласный Трипольский
- И головастик Бакштейн (впрочем он в Израиле давно)
- Весь этот русский еврейский татарский и польский
- Дух поклоняется духу и брюху его!
- Волох и Вулох ползут в переулок
- Лорик и Шурик впорхнули во дворик
- Тупо глядит алкоголик по имени Гарик
- Пиво и трусики! гроб и газета!
- В это – вне времени – душное лето
- Падаль астрал и абстракцию склеив
- Просто вас выдумал душка Мамлеев!
- Да поклонюсь многодумному заду его!
ВОЗВРАЩЕНИЕ В ИТАКУ
- На стене висят часы не старинные но все же
- Покачнулся корабельный медный шар под потолком
- На каюту и часы моя комната похожа
- На минуту и весы – что сказать что сказать
- Под тахтой улегся пес – но что сказать неизвестно
- У кого-то есть жена и в кого-то влюблена
- У кого-то есть душа – что сказать неизвестно
- В нашем доме тишина – бьют тарелки – тишина
- Эта белая махровая – что сказать что сказать
- Эта женщина суровая – что сказать что сказать
- Говорят она больна – но что сказать неизвестно
- Я не знаю что сказать что сказать что сказать
- Я не знаю что сказать – что сказать неизвестно
- У чужих все чужое – что сказать что сказать
- У чужих все чужое и у каждого свое
- Я вернулся из Варшавы и не знаю что сказать
- И почти помимо воли! – я не знаю что сказать
- Подчиняются слова но что сказать неизвестно
- Разве то что в Кракове каждый час на ратуше
- Плачет маленький трубач из Средневековья
- А на площади туристы – что сказать что сказать
- Как на святочной открытке – что сказать что сказать
- Плачет маленький трубач – но что сказать неизвестно
- И тогда ее он бросил – что сказать что сказать
- Снял отдельную квартиру и туда заглядывали
- Клены и акации женщины и девушки
- Пела в клетке канарейка – плакал маленький трубач
- Пили водку и вино – веселились так сказать
- Дамы вскидывали ноги задевая потолок
- Беспокоили соседей – и не знаю что сказать
- Разве то что Карлова улица
- По-над Вислой штопором кружится
- И однажды на рассвете
- После дружеской попойки
- Ноги непослушные двигая
- Вверх по этой пьяной чертовой улице
- Говорил поэт Галчинский – что сказать что сказать
- Говорил поэт Галчинский своему приятелю
- – Посмотри заря над Вислой —
- Вкус божественный чуть кислый…
- Щ-щас мы выпьем это солнце!
- И закусим этой чертовой улицей…
- Хорошо бы выпить солнце – на стене висят часы
- У кого-то есть жена – ноги кверху вскидывали
- А на площади туристы – плачет маленький трубач
- Говорил поэт Галчинский – и не знаю что сказать
- Говорили говорили – не сказали ничего
- Есть у каждого свое что сказать что сказать
- В этом высшее блаженство и свобода и любовь
- И клены и маленький трубач
ЭПИТАФИЯ СВОЕМУ ДИВАНУ
– Хороший диван, – по-хозяйски похлопала она белой ручкой по зеленой обивке нового дивана:
– Хороший…
Из воспоминаний
- Гроб – скрип – рыдван – скрип
- Дорогой диван – скрип – рыдваныч
- Спи спокойно старый скрип
- Ящер в полоску – скрип
- Грузовик на ножках – скрип
- Переехал стольких женщин – скрип скрип
- Вдоль и поперек – скрип скрип
- Стал трехногим инвалидом – скрип
- Развалился сам – скрип скрип…
- Под пружины подложили – скрип
- Словарь Даля – скрип
- Романы Томаса Манна – скрип
- И поехали далее – скрип скрип скрип
- Спорили – скрип – об искусстве – скрип
- Рассуждали – скрип – о чувстве – скрип
- Начальство – скрип – ругали – скрип
- Ходили – скрип – ногами – скрип
- Зады – скрип – колени – скрип
- Локти – скрип – спины – скрип
- Под окном – скрип – снег – машины – скрип
- В голове – скрип – пружины – скрип
- Старый скучный русский скрип
- Скрип – скрип – скрип
ГОЛОВА СКАЗОЧНИКА
Памяти Геннадия Цыферова
- Вот голова Камилла Демулена
- Бормочет нежные слова
- Вот голова как маска льва
- Свирепые черты Дантона
- Вот Цыферова голова
- Трясет соломенной бородкой
- И распускает губы как бутон:
- – Любил я в жизни сей короткой
- Вас Робеспьер Марат Дантон —
- Само звучание имен
- – И вашу голову Людовик
- Я целовал в глаза и лобик
- Марина помнишь это лето
- Марина ах! – Антуанетта
- Была любовь… Была Москва…
- В подушках чья-то голова
- Я в руки брал ее – и это
- Была она – Антуанетта
- И вашу голову Дантон
- Я видел в Химках под мостом
- И вашу голову Камилл
- Я видел в Болшево под дубом
- Болела под осенним небом
- Дождь листья на нее лепил
- А пляска алых колпаков —
- Так листья в парке закружило!
- Я был нелеп и бестолков
- Но сердце видело и жило
- И вот новинка – гильотинка
- Над сердцем нож ее навис
- И падает сползает Генка
- В колени в кружева маркиз —
- По лестнице ногами вниз
- Я – сказочника голова
- И может быть чего-то стою
- Хоть золотистою пыльцою
- Цветов и бабочек полна
- Любили же в конце концов
- Чужие жены чьи-то дети
- Мое бугристое лицо
- Купринско-чеховские дяди
- Ах, все во мне перемешалось
- Россия… Франция… века…
- Маркизы… бабы… боль и жалость…
- И бабочки… и облака…
ЖИТИЯ
КНЯЗЮ ИВАНУ ХВОРОСТИНИНУ – ВИРШИ
- Княже Иван Хворостинин
- Край наш велик и пустынен
- Прими мои вирши
- Хоть твои вирши старше
- Но мои – горше
- Иван Хворостинин княже!
- На земле московской все то же —
- «Сеют землю рожью
- А живут ложью»
- «Глупостью мир удивляют
- А помыслить о том не желают»
- Первый русский виршеслагатель
- Подкузьмил тебя Кузьма-приятель
- Схватили тебя княже ярыжки
- Понеже писах супротивные книжки
- И что в вере нетверд уже знали понаслышке
- Лаяли тебя дьяки-собаки
- Плевались попы и монахи
- Казали тебе сраные сраки
- И паки и паки и паки…
- И решили шиши и ярыги
- – Сослать в монастырь навеки
- – Не дать ему в руки книги
- – Дабы не чтением ни писанием
- Аже и помышлением!
- Иван Хворостинин княже!
- Как пахнет телячья кожа!
- Как бумага плотна и шершава!
- Поругание князю – и слава!
II. СКЛАДЕНЬ
«И исполнилось все
Духа Святого…»
Деяния Апостолов, гл. 2, стих 4
- При тишайшем Алексей Михалыче
- Тихо на Руси – не как бывалоча
- Из патриарших келейников
- Лицом как юный Алейников
- Рисовал цветную заставку
- Буквицу и райскую травку
- И пока на бумаге сохла
- Киноварь лазурь да охра
- Пришли на ум слова приятные
- Бисер светлый дева благодатная
- Легкий детский волос клонится дыша
- И бормочет Герман – девичья душа —
- – Радуйся благодатная
- Ангел царю дарованная
- А в оконце выбеленной кельи
- Слышно ему школьное веселье
- На снегу рассыпались галки —
- Послушники играют в салки
- Даве говорил ему Никон
- – Ты из головы это выкинь
- Не возжайся с этой молодежью
- Ведай одну кротость – правду Божью
- Ну а сам-то не кроткий не кроткий
- Чьи глаза горят из‐за решетки?
- Заросли расстриги волчьей шерстью
- Лаялись творили двоеперстие!
- Ни татары ни поляки ни войны —
- Все равно на Руси неспокойно
- Не спасет ли нас многократное
- Радуйся дева благодатная
- И монах кропает акростих
- Ухватив синицу за хвостик
- Сверху вниз
- РАДУЙСЯ БЛАГОДАТНАЯ
- Снизу вверх
- РАДУЙСЯ БЛАГОДАТНАЯ
- И еще раз – по диагонали
- Чтобы силы Божьи увидали
- И когда слова все явились
- Волосы на голове зашевелились
- Со страниц подуло непонятное
- РАДУЙСЯ БЛАГОДАТНАЯ
- И пришло! И пало благодатью
- На монаха Германа на честную братию!
- И на всех на нас с полей России
- Сквозь оконце бьют лучи косые!
- О Жена Облаченная в Солнце
- Все погибнем или все спасемся?
- Петр Буслаев – протодиакон темный
- Но по детской своей вере – человечище огромный
- Служили панихиду в Успенском соборе
- По Марии Строгановой – общее горе
- Петр Буслаев диакон
- Был величав и заплакан
- Но когда дошел до «вечной памяти»
- Стал ты весь как не здесь – как без памяти
- Ты имел умозрительство душевое
- Храм наполнило воинство волшебное
- Восходили ввысь и сходили с купола
- На богатова на темнова на глупова
- Херувимами серафимами
- Лицами белея нестерпимыми
- Как мечами обоюдоострыми
- Над детьми над братьями над сестрами
- И видали – и боялись проснуться
- И тянулись их сандалий коснуться…
- Чистый хор всплеснул голосами —
- Изогнулись пламена – заплясали
- Словно многоцветными крылами
- Пламенные лица прикрывали
- И тогда из недр своей веры
- Ты извлекал т а к о е без меры
- Что – теперь и как во время о н о
- Что трубило у стен Иерихона!..
- Разом сдунуло свет – все погасло
- И стояла мгла в соборе как масло
- Лишь светила свечечка копеечная
- На икону – на лице Ея вечное
- Эрудит и философ и на лире тщится
- Не дано было тебе к духу приобщиться
- Бесом лез в политес – и во все такое
- Сладко пахнущий монах – в Софьины покои
- Черным вороном блестела в переходах борода
- О! царевна философии казалась не чужда
- Говорила по-латыни и по-гречески…
- А кругом уже решили: ворожили ворожили
- Вынимали след человеческий
- Дескать Софья на свече
- Ж Г Л А
- Курчавый темный волос
- И рука в перстнях и кольцах
- Синим холодом кололась
- Петр катит на свинье по Москве-столице
- И дано было тебе к мукам приобщиться
- Треуголка на столе клещи горы и дыба
- И забилось тело белое как рыба
- – Отпусти меня земля мать-кормилица!
- – Н Е Т —
- Зеленое сукно и чернильница
- Вздернули и растянули – ребра ходят жарко
- Ох взлетел ты высоко – выше патриарха!
- Кто-то воет и визжит – уберите кошку!..
- Снизу красное лицо плющится в лепешку…
- Унесите это тело – легче будет голове…
- Вдруг увидел будто ползает младенец в мураве
- Нет ни мамки нет ни няньки – нет на нем одежки
- Улыбаются чему-то розовые ножки
- Будто ты всю жизнь дремал а теперь проснулся
- И чего не понимал к тому прикоснулся —
- Эрудит и философ и пиит изрядный
- Оказался сей же миг в купели прохладной
- Вынимали тебя девы из купели
- Завернули в простыни – и несли и пели…
- Дьяк почесывался – вошь ела помаленьку
- – Вора и еретика Медведева Сеньку
- На Красной площади супротив Спасских ворот
- Смертию казнить – голову отсечь!
III. КАРАСЕВ
- В 10 часов Карасев
- Вышел из ресторана
- Ночь принимая вид бурана
- Валила с ног в снег
- Кремль? – ничего похожего
- Вокруг дымилась Арктика
- Умолял прохожего
- Смахнуть со спины чертика
- 11 часов – Карасев
- В Александровском саду искал невесту
- 12 часов – Карасев
- Полз по Крымскому мосту
- Прячась от пуль
- И мешая движению…
- В таком положении
- Его подобрал милицейский патруль
- Заткнули пасть
- Утром в шесть
- Дежурный
- Прошел к уборной
- Умылся и вернулся на свое место
- По-бабьи подоткнув подол
- Проститутка мыла пол
- Подать сюда прохвоста
- Который с Крымского моста!
- Дверь камеры
- Приотворилась
- А там черт знает что творилось
- В маразме
- Плавали миазмы
- Храпели странные миры
- И шевелилось нечто вроде протоплазмы
- Иерихонская труба
- Воззвала
- – КАРАСЕВА!
- Вышла рыба
- Глаза невинные как небо
- И в каждом грустный грешник нарисован
- – Ну что с тобою делать Карасев?
- – Пожалуйста возьмите штраф —
- С похмелья
- Милицию раскалывало болью
- – Ну парень наломал ты дров —
- Посмеивались окружающие
- Пал на колени Карасев
- На полу снежинки тающие…
- – Слушает дежурные 13‐го отделения
- Высылаем наряд…
- – Катись отсюда говорят
- Пока не намотали срок…
- Не помнит как
- Выкатился на порог
- И живо —
- К палатке ПИВО!
- А там уже томился длинный хвост
- Опухших рыл
- И ангел среди снежных звезд
- Парил
ЖРИЦА КУЛЬТА
- Дремлют дачники московские
- Кира, я и Брусиловские
- Парни с лыжами прошли
- По вагонам путешествуя
- Вдруг вошла танцуя шествуя —
- Из совсем другой игры
- – Будет Авель помнить Каина…
- – Вы! Забыли про хозяина!
- Сталин – мой отец и брат! —
- У старухи голос мхатовский
- Книппер-чеховский ахматовский
- И замасленный бушлат
- И кривясь улыбкой странною
- Держит пальму ресторанную
- Будто зонтик или флаг
- Приближаются кошачие
- Рыже-серые незрячие
- – Будешь помнить или как?
- Усмехнулась понимающе
- – Посоветуйте товарищи
- В общем можете идти —
- На часы гляжу растерянно
- Как плывет в другую дверь она —
- Время ровно без пяти
- Рядом девушки хихикают
- Огоньки в окошке прыгают
- Наше дело – сторона…
- Но была она – вошедшая
- Пьяная и сумасшедшая
- Величава и страшна
МЕРТВОЕ СЕЛО – ПОДМОСКОВЬЕ
- Ни движения ни шума
- Лишь на белой крыше дома —
- Голубая тень дыма
- Откуда ни возьмись
- Прикатил виляя виллис
- На пригорке вылез
- Фетровые бурки поскрипывают
- – Погляжу-ка я на вас —
- Кто-то всхлипывает
- – Как навоз?
- – Что корма?
- Немы серые дома
- Окна смотрят кротко
- Скрипнула калитка
- На снегу – следы
- – Сюда пожалуйте сюда —
- Навес. Окаменел навоз
- – Где ж у вас коровы?
- – Тут честное слово!
- И поросят штук пятьдесят…
- – Почему не хрюкают?
- – Дак они мяукают
- Хруп хруп – опорки
- Поскрипывают бурки
- И еще следы – навстречу
- Теплый голос:
- – Добрый вечер
- Темный волос – на снегу
- – Это наша птицеферма
- – Где же куры?
- – Вот – помет
- Кохиноры и леггорны
- Тыщи полторы примерно…
- А теперь прошу к столу
- Это – сало это – мед…
- Нет ни меда
- Ни народа!
- Хоть кричи отчаянно
- Нет в избе хозяина!
- Солнце село
- Тишина
- Мертвое село!
- Лишь машина —
- У колоды
- И следы, следы, следы
- Волчьи заячьи овечьи…
КРИК ЭЛЕКТРИЧКИ
- Как электричка неслась и кричала
- В ночной подмосковной пустыне!
- Как электричка неслась и стучала стучала стучала
- Всеми своими вагонами полупустыми
- Без головы и хвоста без конца и начала
- Блюдца жестянки и банки дребезжали в
- заколоченной даче
- Так электричка кричала – неслась и кричала!
- Окна таких же вагонов мелькая летели навстречу
- Светом своим мельтеша без конца и начала
- Ночь без конца и начала – одни на рабочем
- воровском полустанке
- Чудилась близость Москвы без конца и начала
- И все сильнее бренчали ведра тазы и жестянки
- Чайкою в снег электричка неслась и кричала
ПОЭМЫ
ЖАР-ПТИЦА (1995)
– Что за напасть такая на русских поэтов!
– А на русских художников?
(из разговора)
- чудовищная грозовая
- собою из себя сияя
- воссев на блюде
- на Христовом обеде
- Жар-птица кличет призывая
- усопших мастеров к беседе:
- – славные мои художники
- живые во граде
- пьяницы ругатели безбожники
- девок запрягатели
- враги-приятели
- завсегдатаи кабака
- все до последнего слабака
- прилетайте
- отведайте облака —
- птичьего моего молока
- – поднимаю крылья как знамена
- называю всех поименно:
- Краснопевцев Дима
- жил неизгладимо
- …неисповедимы —
- и не стало Димы
- только у Престола
- нечто просияло:
- сюда мое сердце
- Дима Краснопевцев!
- белый на белом
- Вейсберг Володя —
- он снова уходит
- к незримым пределам…
- и возвращается —
- вновь воплощается
- белый на белом
- …летал в пустоту —
- будто ложку ко рту —
- не вычерпать всю пустоту!
- …пусть на кумполе венок
- из украинских былинок —
- нежный Петя Беленок
- один в поле борщ варил
- анекдоты говорил
- с салом с перцем
- с Сен-Жон Персом
- сожрала
- самого Москва
- пришлым варевом жива
- – кто явился к мессе
- голый как морковь?
- – Ситникову Васе
- сядь не прекословь
- видишь радуются все
- …подмосковным летом
- стариком-атлетом
- в парке
- мастерил байдарки
- сказал: уеду —
- канул будто в воду
- …в Вене и в Нью-Йорке
- потрафлять заказчикам?
- …одержал победу
- ушел в подвал
- накрылся ящиком
- оброс мохом
- оскалился смехом
- и умер монахом
- говорят остались вещи:
- в рюкзаке – святые мощи
- Сидур Вадим
- Сидур Вадим
- давай попьем и поедим
- …на той войне
- разворотило челюсть —
- глаза остались
- скорбные вдвойне
- и после смерти
- до самой смерти
- ты верил аорте
- …чугунные
- струнные
- крики твои
- говорят о великой любви
- огромный волосатый
- сюда сюда Рухин —
- всегда в любви несытый
- и пламенем объятый
- борода твоя как дым
- завивается колечками —
- вот и умер
- молодым
- …и гласили скрижали:
- УГОРЕТЬ НА ПОЖАРЕ
- …или
- так решили
- в «Большом Доме»
- …и сотрудники рядами
- уходили на заданье
- …два холста
- сбиты в виде креста
- Юло ты помнишь в голодухи
- на Колыме взалкал о духе
- (а начальник был в дохе)
- и застывал на вдохе —
- на воздухе
- рисовала твоя лапа
- морщины – складки на горе
- «я – эстонское гестапо
- доходяга в лагере»
- – как в раю Юло —
- сытно и тепло?
- и вы что курили
- от одной сигаретки
- в темноте на кушетке
- глотали таблетки
- «вам – пир!» —
- сказал один вампир
- …такая легкость в теле
- что вместе улетели
- но воротилась
- как спохватилась
- лишь ему —
- тоннель во тьму —
- всё ярче светилось…
- но еще за неделю в марте
- рыжий Паустовский-сын
- поэта робко попросил
- посвятить ему сонет о смерти
- – подвиньтесь ребята
- ну и что – что крылаты!
- не робей рыжеватый…
- здесь Андрей Демыкин в маске
- говорит о Босхе
- с Рыбой
- у которой нос трубой
- …в Красково там на даче
- отсвечивают свечи
- и утро будто вечер
- а страшила Ворошилов
- пьет мудила
- из бездонной миски
- и не требует закуски —
- он думает что это – виски
- а Пятницкий
- пришел зеленым —
- отравился ацетоном
- стонет Жар-птица:
- – дайте!
- дайте ему причаститься —
- очиститься
- ведь тоже – частица
- (души – огненные перья
- собираю вас теперь я)
- невзгоды все преодолев
- великий Кропивницкий Лев
- размышлял: гармония —
- девы и Германия
- Фрейд и разумение…
- но (Сева!) Кропивницкий-дед
- как будто жизни знал секрет
- холст чистил мастихином
- при том читал стихи нам
- он был Сократ
- и жил в бараке —
- и русский быт
- и русский мат
- и русский стих…
- окно во мраке…
- зовет высокая труба:
- – вы крутолобы
- прейдите оба!
- и внук – художник
- ликом светел —
- от жизни улетел
- и близких встретил
- дома Парижа —
- корабли
- вы всех по лестницам
- вели
- чтоб из чердачных окон
- смотрели
- жадным оком:
- слишком серебристо
- небо слишком близко —
- и срывается с крыш
- стриж
- еще стриж…
- считал ван Гога
- превыше Бога
- …скитаться пить и рисовать
- себя как вечного ребенка:
- нос луковицей
- бороденка…
- ах лукавый мужичок
- Толя Толя Толенька!
- Зверев любит шашлычок —
- вечные Сокольники:
- шашки
- розарий
- девушки с большими глазами!
- светлый как из душа
- Харитонов Саша —
- смирная душа
- ни жалоб ни стонов —
- вознесся Харитонов
- …разноцветный бисер
- выси
- голоса
- ох горе!
- Олежка Григорьев
- …кем теперь
- коробка бабочек
- хранима?
- …видел архангелов
- и херувима
- здесь и другие —
- светятся все —
- Гуров
- которого сшиб грузовик на шоссе…
- и Длугий —
- ни звука —
- и тоже от рака…
- о други!
- – явись из бездны адской
- Ковенацкий!
- и ты зван —
- и Шагал и Сарьян —
- и Гаяна Каждан
- – кто там возник на пороге?
- – кажется Леня Пурыгин
- «Господи в Нью-Йорке
- такая жара!
- на скамейке в парке
- умер я вчера»
- счет уже на десятки:
- застрелил инкассатор
- захлебнулся в припадке
- утонул…
- от инфаркта миокарда
- у мольберта…
- слишком ярко…
- просто в Вечность заглянул
- Дерево
- вытянулось в зарево
- величава
- перспектива:
- ветви стали временем
- время – белым пламенем
- всё ярче Жар-птица —
- и тысячелица!
- и тысячеуста —
- живые Уста!
- ладони —
- долони
- от лона
- и дола —
- до неба
- и Бога
- и в яви
- и в трансе
- и в камне
- и в бронзе
- и масло
- и Числа
- и ныне
- и присно
ЛУВР (1995)
- не тот кипящий
- под стеклянной —
- площадь подземная —
- пирамида
- не тот уставленный —
- посетители
- не тот увешанный —
- потолки
- не с улицы Риволи —
- толпы туристов
- не с набережной Сены —
- солнечно и пустынно
- не с угла Комеди Франсе —
- золотая сидит на коне
- воплощая величие нации —
- и даже не из Парижа —
- из Аньера
- из квартиры моей дочери
- дверь открыл в коридор —
- и вошел
- сразу пусто и свет —
- вспомнишь Пруста:
- не то остров
- не то помещение
- просматривается насквозь
- где-то картины
- иду на авось
- трогаю: стены
- где картины?
- не видно ни стен
- ни картин —
- один
- но слышу: рядом – выше
- и дальше как бы снаружи
- перекрикиваются как на стройке
- блоки скрипят – подъемник
- ближе – кашляют шаркают
- идет развеска картин
- обернулся – весь на свету!
- бородатые в латах
- меня окружившие стражники
- один из них поднял фонарь
- я молод и зол
- я их начальник
- я скалю зубы
- будто мне всё нипочем
- слуга отвернулся
- и гладит борзую
- (дугою белая в пятнах)
- в тени мой противник
- укрылся шляпой и —
- ничего не происходит
- кинжалом клянусь мадонной!
- сейчас! напрягаю мышцы
- сыплются чешуйки краски
- холст вздулся буграми
- трещит —
- разорвался как взорвался!
- противника – пополам!
- дева выпала из окна
- из корсажа – свежайшие яблоки —
- из моего во внешнее время
- бегущее как таракан
- испачканный красками
- мой мучитель – создатель!
- еще с подмалевка
- торчат воротник и усы
- всё в той же позиции —
- ты виноват! —
- запечатлел запечатал
- (сам остался там
- на фоне сияющих окон
- как и тот – бронза
- плечом и коленом
- и кусок черствеющей булки
- две глиняных кружки вино…)
- я – письмо неизвестно куда
- хотя почему я – письмо?
- я – огонь горю в фонаре
- я потрескался запылился
- но еще освещаю лица
- бородатые – охра с сиеной
- снизу их кто-то рассматривает
- что там – не осветить
- кто там – не разглядеть
- потусторонний мир
- от которого старая рама
- оберегая лепная
- всё событие обнимая
- как мама
- что есть картина?
- сооружение
- не проще гильотины
- на уровне Нового Моста
- со всеми его зеваками
- и бледными небесами
- и смотрит в это окно
- бровастое солнце художника
- из-под потрепанной шляпы —
- обрадовалось простору
- выставленного холста
- в лавке на рю дю Темпль
- что в квартале Маре…
- обернулся к приятелю:
- «то что мне нужно
- для моей композиции
- они в Академии —
- облезлые парики
- подавай им размер для Лувра
- поедем к Мадлен!»
- прояснить реальность стараюсь —
- проясняется лишь Солярис
- где всё – игра и пена в море
- не то в потустороннем мире —
- там царствует необходимость
- и там входя в покои Лувра
- похожий на хромого мавра
- «Мадам!» – воскликнул Нострадамус:
- для Вас историей займусь!»
- …и революции и бури
- …в Бабуре —
- эдаком амбаре
- Кабак
- поставил свой барак
- и состоялся диалог
- но посрамлен ли футуролог?
- он мог предсказывать спокойно —
- «пусть принесут вино и фрукты» —
- героев
- катаклизмы
- войны
- теракты
- …и въехал дылда – англичанин
- мелькая голыми коленками
- на роликах
- со станции метро
- в подземный вестибюль музея
- (загородил меня плечами —
- ротозея)
- смотрят черные и дети:
- что там тикает в пакете?
- ТА-ТИ ТА-ТИ ТА-ТИ ТАТИ…
- – уборщик мусор не мети!
- пока на мрамор катятся обломки
- как в замедленной съемке…
- пока одни ошеломлены
- другие ползают в крови не понимая…
- пока полиция…
- пока правительство…
- все эти сиятельства и превосходительства…
- все обстоятельства…
- я создал свой Лувр
- окружил моим Парижем
- посреди моей прекрасной Франции
- шутка ли столько работы!
- картины колонны
- даже негр в униформе
- (заменю его на китаянку)
- высокая тишина —
- и эту выстроил сам
- из недалекой стены
- бьет кучерявый прибой
- и вечно летят эти брызги Курбе
- не долетая
- или оранжевый отсвет Гогена
- губы коричневым – груди колена
- …мертвых живых ли —
- не люди а вихри
- …ближе к офортам гравюрам —
- и ты обозначен
- пунктиром
- в квадратном просвете
- (одолжил покойный Малевич
- моему отцу) —
- пустыней
- задувает оттуда
- в песчаной метели
- стремительно путник в сером
- приближается как удаляется…
- не ухватишь края одежды
- а лицо – кипарисом в небо!
- у меня здесь двигаются стены
- как у Глезера на Преображенке
- открываются неожиданно
- колоннады и перспективы
- коридоры ведут не туда —
- лестницы
- легко заблудиться
- сколько чающих пропало
- в пространстве и времени
- в ином измерении
- я встречал сумасшедших
- блуждающих
- из жизни ушедших
- или о ней не подозревающих
- двое прошли
- обсуждая вопрос:
- сколько ангелов может усесться
- на ус
- Сальвадора Дали?
- я – пас…
- я меня – сердце…
- я например
- чтобы мне мой Лувр не стал кошмаром
- знаю как вернуться
- в Аньер
- на рю де ля Марн
- к внуку и жене
- как повернуться
- в замочной скважине
- откуда бьет сноп света
БЛОШИНЫЙ РЫНОК (1995)
- здесь живут шевелятся
- переулки улицы
- забитые платьем тряпьем
- море людей – кафе по краям
- праздник «старье берем»
- скалистые здания
- чуть намечены небеса
- какое-то чувствуется страдание
- прозябание
- и вращение
- колеса
- павильоны балаганы —
- кожи целые вагоны
- куртки пуговицы – медь
- можно армию одеть
- ветхие вещи
- редкие вещи
- видимость целости
- окаменелости
- камни хвощи
- впился как клещ! —
- ценная вещь
- летний зной
- липнет к лицам желтизной
- вдруг
- неизвестно как
- возник
- шелест платьев и плащей
- или что-нибудь еще…
- шорох жизни прожитой
- какое-то птичье
- течет безразличье —
- толпа человечья
- тебя окружают
- толкаясь жуют
- дынные головы
- хищные клювы
- карикатуры
- фигуры
- клошары
- кошмары Гюго и Сысоева —
- сошел с иллюстрации
- и смотрит в прострации —
- куклы говорящие
- где же настоящие? —
- не видны хозяева
- что-то пронеслось
- в мельтешенье рынка
- вроде бы в глаз
- залетела соринка
- перед собою разложили
- всё чем когда-то люди жили:
- тазы сервизы
- самовары вазы
- протезы
- всякой мелочи смешение
- и ненужного до хуя
- и на столиках – украшения
- как серебряная чешуя
- нефритовый жук
- игра
- шкура тигра
- и в куче пиджак
- с убитого негра
- а сам продавец —
- человек посторонний
- свет потусторонний
- пролетевших птиц
- растущие здесь деревья
- и те – не внушают доверья
- может быть сам Жан Вальжан
- подсвечники эти
- в руках держал
- тогда на рассвете…
- прости ему добрый священник
- опять он украл из‐за денег
- слышится свист
- странный и сонный
- росчерк мгновенный —
- почудился крест
- вынесла старуха
- целую помойку
- не боясь греха
- вещи зловеще
- глядят на хозяйку
- и чулки как потроха
- немцы Хольт и Вальтер
- смотрят: кольт и вальтер
- в кобурах из кожи —
- ужас как похожи!
- – а ну покажи!
- по-русски рявкает мурло
- на асфальте
- дышат витражи
- отсветы – цветное стекло
- звук нарастает
- тонкий звенящий
- будто стекла
- уронили ящик
- люди оборачиваются:
- что это?
- небо
- самозатачивается?
- на стуле женщина простая
- как тишина среди базара
- вяжет и вяжет
- не уставая
- что-то длинное из мохера…
- так же сидела она у дороги
- когда Робеспьера
- везли на телеге
- видела косицу и спину —
- солнце било в глаза —
- и вопила:
- «на гильотину!» —
- не переставая вязать
- звук изгибается – пение
- электропилы?
- она улыбается:
- люди злы —
- и надо иметь терпение
- в тряпках что навалом
- белым синим алым
- роятся парижанки
- быстро и жадно
- и безошибочно по-французски
- тащат из кучи
- юбки и блузки —
- удача и случай
- нет ни краски ни прически
- карие глазки
- узкие губы
- но движения бедер —
- облипает их ветер —
- млеют арабы
- звук приближается
- тонкий-тонкий
- уже не выдерживают
- перепонки
- кто-то бежит
- зажимая уши
- собака визжит —
- тоньше слуха! выше!
- столько пыли
- и мусора в этом поле! —
- кажется шкафы часы и стулья
- со всей Земли
- сто лет сюда свозили
- с бочек слетают обручи
- клепки
- треснула мраморная плита —
- кровью или вином залита…
- вижу пассажи
- мелодию даже —
- не слышу скрипки
- медь и железки
- доски на воске —
- человек
- купил сундук
- сам не зная зачем
- несет подпирая плечом
- расступаются: мерд! —
- толпой стерт
- там кто-то играет
- неслышно
- и слышно:
- душа замирает…
- что этот рынок
- толкучка и зной
- перед ослепительной —
- вот она! —
- изумительной
- новизной!
- и кто-то стремительный
- почти незримый
- как ветер свежий
- закутан до самых глаз
- кажется
- в белый атлас
- идет
- рассекая народ
- на бедуина похожий
- (а может на бабуина?)
- кто же он? кто же?
- на торге не нужен
- но неизбежен
- как вечером ужин
- люди стараются не смотреть
- отворачиваются…
- да он и ни с кем не рифмуется —
- смерть
ЖЕНЩИНЫ В КУЩАХ (1995)
СЕРДИТАЯ
- она так рассердилась
- расходилась
- так орала
- на весь магазин
- что выблевала себя
- вместе с зубами
- и всеми
- дрянными мыслями
- позывы злобы —
- с крысиным визгом —
- фонтан ярости
- не иссякал
- пока опустошенная
- бледная оболочка
- не грохнулась
- затылком о кафель…
- пластик и платье
- вымели
- вместе с мусором
- сумочку на полу
- заметил подросток —
- подхватил
- мигом выпотрошил
- и убежал радуясь
АМАЗОНКА
- внизу в парикмахерской
- молодая и быстрая —
- такая опытная
- и умелая
- сразу берет в оборот:
- завивает
- ногти на руках и ногах
- причесывает
- руки и ноги —
- покрыла лаком
- весь колтун
- на голове
- припудрила
- два голубых полушария
- (ими горжусь)
- и подкрасила
- нижние губы
- ярко
- но прежде
- в гимнастическом зале
- на снаряде
- разгибаясь сгибаясь
- (гантели с визгом
- вверх – вниз
- вверх – вниз)
- всю неделю
- развивала свои бицепсы
- трицепсы
- икры —
- теперь чувствую себя женщиной
- и как воин готова
- к любви и борьбе
- на живот и на спину приму
- несмотря на свои шестьдесят
- хоть негра-тяжеловеса
РЕМОНТ
- пригласила
- сразу четырех
- вынесли мебель
- постелили газеты
- пока двое сдирали
- обои
- промывали
- и белили потолок
- другие двое
- занимались со мной
- любовью на полу…
- потом – поменялись
- нет! мне не было скучно —
- скорее смешно:
- во-первых я видела
- кисть
- ходившую надо мной
- размашисто —
- или читала на полу газету
- во-вторых от волнения
- от возбуждения
- и те и другие
- поливали друг друга
- известкой и краской
- посмотрела на них —
- четырех —
- настоящие пестрые клоуны!
- цирк —
- не ремонт!
- а я и квартира
- свежи
- как новехонькие
БЕСЕНОК
- девочка
- высмотрела старика
- лет тридцати – сорока
- соседа-холостяка
- и так
- мелькала голыми коленками
- крутила задиком
- на лестнице
- пробегала ему улыбаясь —
- обратил внимание
- стал задумываться
- улыбаться
- сверху с балкона
- показывала ему буквы
- из картона
- красное А
- желтое З
- лиловое У —
- пробовал читать
- получалось АЗУ
- позвонила
- будто за делом
- подошла близко-близко
- выставив
- плоские две…
- не успел
- глазом моргнуть
- она уже ерзала под ним
- смуглая голенькая —
- бесстыжий бесенок —
- вся раскрылась
- когда вошел…
- «обними мои З —
- У-у как хорошо!..
- А теперь наоборот
- ты – доктор
- и будто бы это ложка —
- А-а-а…»
- приходила потом
- привык – приучила
- и вдруг перестала —
- даже встречаться в подъезде
- издали видел:
- задрав подбородок —
- чужая
- гордая девочка:
- ни А ни У ни З
МАСКАРАД
- надела юбку
- покойной бабки
- и шляпку
- с оранжевым пером
- нарядилась
- в стиле тридцатых:
- непременно —
- чулки на резинках —
- морщились
- то и дело подтягивала
- туфельки —
- каблучищи как у Марики Рокк
- «потрясающе!»
- с парти увез ее в кадиллаке
- самый старый
- и самый богатый:
- седые виски
- смеются глаза
- похож на Омара Шерифа —
- а какие зеркала и вазы! —
- разделась вдруг
- раскидала туфли юбку шляпку
- выпрямилась:
- вот я какая!
- а он – Омар Шериф
- уронил со столика виски
- видно сильно захмелел
- ползает по паркету
- мокрый на коленях
- собирает вещи
- среди осколков —
- и целует туфлю и шляпку
- и рыдает в черные чулки! —
- а глаза такие выцветшие
- в морщинах…
- собралась и ушла
- «везет мне на шизиков
- старайся для них – стариков!»
ЗАБАВЫ
- я всегда его распинала —
- привязывала
- к нашей кровати
- а теперь надела
- розовую тунику
- и вывела из ванны балбеса —
- (предварительно
- впустила и раздела)
- как он дергался
- как ругался
- называл меня такими словами…
- (у балбеса уши покраснели)
- он кричал
- а я кричала громче
- я уже визжала —
- как он плюнет! —
- кончили считай одновременно —
- он распятый
- и я на балбесе
- а потом он был Юлий Цезарь
- я была его центурионом
- на кровати
- распяли балбеса
- вниз лицом…
- тайны все же есть
- в семейной жизни
СИМУРГ
Николаю Афанасьеву
1
Перо качается павлинье хвостовое, ужасное как небо грозовое. Вот смотрит неким оком треугольным и вспыхивает светом колокольным.
От суетного мира удалясь (и каждый волосок его – цветок), святой Франциск, почти непостигаем, беседует с каким-то попугаем.
Святой прекрасно ладит с этим грифом – в тени скалы почти иероглифом.
И филин, крючконос и кареглаз, взглянул, моргнул и начал свой рассказ.
2
В начале развернулся серый свиток и стал доской из черных, белых плиток.
Живут многоугольники, ломаясь, хвостатыми хребтами поднимаясь (костей и мышц я слышу скрип и скрежет), толкаются и друг на друга лезут, их чешуя топорщится, как перья… Теперь я слышу, крылья хлопают… Терпенье…
И вот взлетают. Потянули клином – туда к гиперболическим долинам.
С запада черная стая летит, вырастая. Ей навстречу устремляется белая стая.
Высоко над землей с резким криком, стирая границы между злом и добром, вы встречаетесь, птицы.
При свете солнца и луны голубки и вороны разлетаются в разные стороны. И день и ночь сквозь птичьи контуры видны.
Их увидит слепой и не узрит их зоркий. Над домами, над нами завиваются серой восьмеркой.
И каждый белый вихрем увлеченный, смотрите, он выныривает черный. А черная при новом вираже выпархивает белая уже.
Так мир увидел Эшер в Нидерландах. Сухощавый, большеносый, с детства в гландах, узнал со всех сторон одновременно.
Карандашами на листе бумаги, иглой на меди он наметил оный, увиденный недобрым птичьим глазом. И всё на свете он увидел разом.
Так мир построил Эшер. Но прежде – Алишер.
3
Все тридцать кур сидят, как в пижмах дуры, разглядывают Эшера гравюры.
И вдруг узрели: с одного рисунка зеленоватый светит знак Симурга. Восьмиугольный странный знак. И мир в нем зашифрован так: намеки, признаки, спирали… Нет, мы признаться вам должны, что ничего мы не узнали.
– Что есть Симург? – спросила птица Рух.
И все вокруг зашевелились птицы. И начало им чудиться и сниться,
что есть Симург…
4
Над пустошами, нищенски простертыми в неведомое бледными офортами, смарагд Симурга излучает зеленый свет во все пределы, коих нет.
Сочлененья, сочетанья, назовем их организмы, гонятся с восторгом птицы – за лучами в эти бездны… Размывает их вдали…
И – из немыслимых пределов их гонит встрепанных и белых
– назад приносит корабли.
Воронка, от которой все светло, затягивает их в свое жерло…
Космос – темная вода…
Мир под крылом расходится кругами…
Что ни капля, то звезда…
5
На взмах крыла – вселенная пустая! Из мрака белый купол вырастает.
Слетаются к беседке этой птицы, чтоб в завитки, в лепнину превратиться. И бельведера белые колонны одновременно прямы и наклонны. И – это чувство, ничего нет хуже, чем быть внутри строенья и снаружи. И если даже ты построил сам нелепицу, что лжет твоим глазам. Вблизи и в то же время вдалеке. Ты – муха и сидишь на потолке.
И все это – большое полотно чудовищной картинной галереи, которая так велика – скорее все это – город, и немудрено, что удаляться значит возвратиться в беседку, где на кровле наши птицы.
6
Как рыцари, доспехами блистая и перьями всех радуг и надежд, «Симург! Симург!» – кричала птичья стая и била в барабаны всех небес.
Не тридцать птиц, а тридцать мурз носатых в тюрбанах и халатах полосатых, покачивая важно хохолками, ведут неспешный птичий разговор.
По всей вселенной паруса носило. Но что все это: Жизнь и Свет и Сила? Что есть Симург? – не знает птичий хор.
О пышном оперенье их расскажем, здесь каждое перо глядит пейзажем. Так! Сложено из тысячи ворсинок, зеленых, черных, серебристых, синих. Так! Всякая ворсинка – это мир, закрученный и в облаках летящий, где опахала – розовые чащи и бродит свой какой-нибудь сапгир…
И о глазах блестящих – мысли кроткой, – глазах лиловых с белою обводкой, глазах, где отразилось всё и вся…
И о носах – дель арте – пародийных. Играя роли башен орудийных, они сидят, тюрбанами тряся…
Так среди звезд, склоняясь над кальяном, они плывут, подернуты туманом. И поражает грусть и бледность лиц.
– Вы, птицы с комедийными носами, узнайте же! Симург – вы сами. «Си – мург» – и означает «тридцать птиц».
Сказала взводу это птица Рух. Была чадрой покрыта птица Рух. Горбатая – одна из тех старух…
Вдруг встала остролица, тонкорука, вся выпрямилась, птица – не старуха.
И горб ее раскрылся, будто веер, в лучах зари широко розовея. (Казалось, серая ворона, но развернулись все знамена…)
Виденье бирюзовых куполов в рассветном небе Самарканда. Дышать отрадно, и не надо слов.
7
Вам, перьями украшенным телегам, да! первыми плясать перед ковчегом.
Соборы встали, храмы, минареты, все радужными перьями одеты.
Из тридцати мириад сфер дрожащих возникая, всё проникая, музыка такая! – живому смерть – и чудо духам высшим. И благо нам, что мы ее не слышим.
«Тридцать витязей прекрасных все из вод выходят ясных».
Тридцать всадников гарцуют. Выставляя руки, ноги, весь президиум танцует танец всех идеологий.
Тридцать кинозвезд роскошных ниагарским водопадом к нам идут, виляя задом.
Тридцать герцогов и пэров – и султаны их из перьев.
Наступает тридцать панков – мускулистых тридцать танков.
Тридцать девушек из пластика – сексуальная гимнастика.
И танцуют тридцать пьяниц дрожжевой и винный танец.
Всем букетом в тридцать лилий пляшут тридцать баскервилей.
Пляшет русское радушье – пух из тридцати подушек!
Тридцать воплей: не надейся!
Тридцать маленьких индейцев.
Тридцать перьев сунул в волосы, на лице – круги и полосы.
Заворочались ракеты, им на месте не сидится, тоже перьями покрыты – и взмывают тоже тридцать.
Тридцать ангелов пернатых, как увидел их Иаков.
Тридцать звуков.
Тридцать знаков.
Тридцать, вы не уходите! тридцать, нас не покидайте – и все тридцать мук нам дайте – всеми тридцатью лучами быть пронзенным, как мечами!
Этот танец – катастрофа, повторится он для нас тридцать раз по тридцать раз, тридцать раз по тридцать раз в тридцати мирах…
И этот Свет, пронзенный высшим Светом, и есть Симург, что чудится поэтам.
И это Все, которое становится Самим Собой, тем самым есть Симург.
И это Я, которое по сути Все и Ничто, тем самым есть Симург.
8
Так правая рука рисует левую. А левая рука рисует правую.
Из мрака вылетают птицы белые – и купол оплетает звезды травами.
Из белизны выпархивают черные – и купол населяет травы звездами.
И радости готовые отчаяться, они встречаются – в воде качаются, и птиц и звезд живые отражения – бегут кругами – вечное кружение…
9
Под звездами, под солнцем, под оливами (страшилищами окруженный, дивами) святой Франциск – седой затылок венчиком – беседует с каким-то бойким птенчиком.
Вот – на ладони встрепанное, жалкое чего-то требует, сварливо каркая.
И снова, улыбаясь, узнает себя в творенье Вечный Небосвод.
ГРОТЕСКИ-95 – СВЯТАЯ РЫБА
ПИВОВАРЕННЫЙ ПАРЕНЬ
- шум кормежки —
- по ушам
- четыре КРУЖКИ —
- КОРЕШАМ
- ХОРОШО…
- ШАРАХНУЛ…
- ВОПИ! —
- ПИВО
- вытянулось
- поводом для драки —
- ПИВОВАРЕННЫМ ПАРНЕМ
- ростом с БАШНЮ
- БАШНЯ покачнулась
- и осела – слышно
- стала БАНКОМ
- БАШМАКОМ
- БАШМАК побежал
- шлепает ПОДОШВА —
- ШИНА крутится —
- ДВА ШВА
- шоссе шоссе
- ВЕРШИНА
- ВЕРШИНУ стерла
- ВЫШИНА
- а само СТЕРЛА
- стало
- поперек горла
- Дунайского гирла
- ведь за ним —
- СТРЕЛА и СТЕБЛИ
- СТИРКА ТЁРКА и МОТОРКА —
- ощетинились слова
ВОРОВКА
- не прибегали на бал кони
- но как узнали из газет
- воровка лезет —
- на балконе
- вся заплетается
- в веревку
- крюком! —
- забористым криком
- – мокрик! —
- забор
- стропила
- зацепила
- вывернула раму —
- в панораму
- лезет раком
- разговаривал
- я с этим стариком
- нет не желает давать показания
- я сказал
- на закоп!
- а они – в КПЗ
- выложили крюк веревку
- курево
- прут
- привезли из морга
- труп
- маска явного восторга —
- в морозилке труп окреп
- ну естественно на опознание
- положили в ряд
- ребят
- за носы их теребят —
- на мертвых хоть нассы
- сына не узнала – поздно
- но смущает переносица
- грушевик гиреват
- гиревик гниловат
- пил вино – виноват
- передача переносится…
- привезли их – и несут
- «воронок»
- в районный суд —
- наговор
- прокурор адвоката
- превратил в авокадо
- экзотический фрукт
- разложил теракт
- на кило конфект —
- эффект!
- все окончилось конечно
- тьмой кромешной
- а воровка то есть наша веревка
- по ночам кричам
- по утрам бормотам:
- украду какаду —
- будет нежен…
- лишалась рассудка
- соседка —
- мужчина нужен
- ажан
ПРИШЕЛЬЦЫ
- иду по городу —
- фасадом
- философически спокойны
- руины
- будущей войны
- над городом
- дымящим стадом
- мотаются жирафы
- катастрофы
- навстречу облачным закатам
- как рифы
- вырастает дом
- ни я ни ты там жить не будем
- и не достанется
- соседям
- увидит над балконом
- птица
- там лица
- вроде холодца
- ни стариков и ни детей —
- дом станет призраком зеленым…
- пришельца
- пальцы
- без ногтей…
- на плоской линзе телевизора
- показывают
- их по грудь
- глаза влезают:
- друг друг друг —
- как Хлестаков из «Ревизора»
- свет с потолка
- мерцает снегом…
- в гостиной —
- мокрые следы…
- уселся в кресле
- гость незваный…
- из ванной
- выплыла русалка —
- вся в мелких
- черточках мелка
- не верьте!
- им нас не жалко
- бомжи
- в подземном переходе
- (он просит есть
- и смотрит жабом)
- небритость – жесть
- и грусть на морде…
- и в кадиллаках и в комфорте
- в нечеловеческом восторге
- в огнях столицы
- они столицы
- с Венеры с Деймоса сошедшие —
- и жить хотят
- как сумасшедшие!
МУХОБОЙ
- приобрел я мухобой
- а резина смотрит рыбой
- ноздреватою губой
- моя березка
- лупит жестко
- ложатся рядышком снаряды —
- через речушку из леска
- на огороды
- у воды
- крик из толпы:
- – разлетелся в щепы!
- – а теперь попало
- в лодочный причал
- стояла Маша у причала…
- «у любимой на платочке
- даже муху
- различал»
- с размаху —
- убегают точки —
- ударило по верхней веточке
- горох —
- просыпало дождем! —
- жасмином пахли губы
- но затрубили трубы —
- поехали гробы…
- там где прошелся мухобой
- руины
- затихает бой
- приехал Борух с Украины
- говорит
- что там – в Карпатах
- на скатах —
- раненых убитых…
- и женщин видел
- этих самых
- все ходят – в поисках знакомых
- и родственников…
- туман
- заглядывают в лица —
- еще вчера мерцали
- светом —
- черты уснувших насекомых
- народ обманут
- в пять минут
- убит химическим раствором
- профессор
- смотрит в микроскоп
- а там еще какой-то мусор
- и шевеленье лап
- и скоб
- вот что меня тревожит:
- дымок
- растущий в голубой…
- что он не Бог
- а Мухобой
- и наклоняясь с неба серым
- физиономией-кошмаром
- накрыть нас может
- как ведром
СВЯТАЯ РЫБА
- смотрит круглым оком
- Бог
- серебряный Окунь
- кругом в разбег —
- поля и перелески
- густеет
- сходятся вокруг
- и в блеске солнца
- не видят лески
- – что же ты товарищ
- на груди спросонок шаришь?
- сердце забилось
- пустилось в бега
- вспомнилось… забылось…
- где она – цепочка?
- потерял
- сорвали Бога
- осквернен мемориал
- жизнь как одиночка —
- нету окунечка
- у священного бассейна
- чаша —
- пальцы окунул рассеянно
- ниша —
- наблюдают добровольцы
- отвернулся – и спеша…
- воды боится
- эта птица?
- волосы ко лбу прилипли —
- на полу
- блеснули капли
- – Веришь в Рыбу?
- – Верую в Святую Цаплю!
- Всех вас – мерзких лягушат
- оголяются грешат! —
- будет вам ужо урок! —
- предварительно надув
- в зад
- схватит Вездесущий Клюв
- поперек…
- – Самого тебя старик
- перекусит Рак!
- – святотатца бросьте в омут!
- раки плоть его возьмут
- душу водоросли примут…
- совершил он путешествие
- чтоб увидеть это шествие
- чтобы разукрасить
- чешуею проседь
- катера с утра – из порта
- наш любитель спорта
- причастился спирта
- испугался
- но взбодрился
- сдернул галстук
- скинул всё до трусов:
- пузо
- пуговицы-глаза
- пушечные ягодицы —
- этой Прорве всё сгодится
- и сплываются паломники
- на плотах на лодках – странники
- срамники
- разрисованы как пряники
- просто восхищение
- люди – угощение!
- не пускают их наемники
- с водяными ружьями
- борются в воде охранники
- жены жертвуют мужьями
- друг другом
- жертвуют любовники
- даже дети —
- кто размахивает флагом
- кто ножницами режет сети
- залив как суп
- чернеет на закате
- сейчас ракета зашипит
- суп освещаясь закипит
- свершится массовый заплыв
- из глубины
- хлынули волны
- пеной и лавой
- загрохотал
- вывалил вал
- многоголов
- в новый канал
- Лев и Нарвал —
- Левиафан
- уже и берег оседает
- и город падает в распахнутую Пасть…
- в террариуме нам читает
- в матроске гость
- Благую Весть
- сухие руки
- Рыба на обложке
- мы все – рыбешки на просушке
- квадратный воротник —
- и резки
- на солнце белые полоски
ЧУЧЕЛО ПАСКАЛЯ (совм. с К. Кедровым)
- рассуждение не ведет к вере
- однако несчастный Паскаль
- рассуждает и рассуждает
- на подставке —
- пыльный волк
- пустота —
- в его головке
- Боже мой! каждое утро
- неосознанное желание
- воссоединиться с чем-то —
- из материи трава
- растопыренные крылья —
- чучело тетерева
- съело временем и молью
- он расстегивал этот корсаж
- скрюченными пальцами —
- с частью самого себя
- призрак – расслабься
- лицо – ты ошибся
- маска из гипса
- и впивался в душистую плоть —
- родным но почему-то
- утраченным и позабытым —
- искривленными болью губами…
- эти крупные цветы —
- сразу
- не заметил ты —
- гладкие бесчувственные —
- точечки – проказу —
- искусственные
- …этим всегда кончается —
- две поглотившие
- каждая – всё
- двойное небытие
- мираж
- апрельский подсыхающий
- на солнце зеленеющий
- в одно касание
- раздувает живот и в кишках
- переворачиваются булыжники
- нет не понимает
- что напоминает
- может быть мешок
- (изнутри – смешок)
- «может быть рожаю идею
- мой младенец лезет из зада»
- но если болен —
- обезволен
- все органы
- на букву ны – уныние
- и Паскаль размышляет о Церкви —
- тело Церкви изъедено червями —
- забывая о собственной боли
- волк оскалом светит
- не вовсе без чувств
- львиная лапа
- свисает со стола
- и шипит со шкапа
- чучело орла
- «мы так плохо знаем самих себя
- что считаем себя умирающими»
- – таксидермист
- таксидермист
- пусть тебя лечит
- таксидермист!
- «в то время как совершенно здоровы»
- философа корчит от боли
- пытается записать
- «я давно равноду…
- визг и рычанье
- клекот и свист:
- – чучельник
- чучельник
- таксидермист!
- деревянные пальцы не слушаются
- сестра убегает на цыпочках
- юбки ворохом – по коридору
- Ариэль глядит
- из пламени:
- чучело
- бредущее во времени —
- это просто непристойно:
- свет и тайна
- от чела!
- (Паскаль размышляет)
- мысль составляет величие человека
- мысль составляет отличие человека
- мысль оставляет человека
- не составляет человека
- мысль – это в небе нечто птичье
- мысль – это увечье
- но если
- человек живет без мысли
- мысль проживет без человека
ИЗ СТИХОВ РАЗНЫХ ЛЕТ
«Когда слону…»
- Когда слону
- Хобот
- Надоедает,
- Слон его —
- Съедает. . .
- Когда киту
- Море
- Надоедает,
- Кит его —
- Выпивает. . .
- Перья для страуса —
- Лучшее лакомство.
- Горб для верблюда —
- Любимое блюдо…
- Когда я сам себе надоем,
- Я себя торжественно съем!..
«Пейзаж прост…»
- Пейзаж прост.
- Улица,
- Мост,
- Дом.
- В нем —
- Уют.
- Добытый с трудом.
- Горбом
- Муж лег на диван.
- Уснул.
- Газета выпала из рук.
- Читал про Ирак.
- И Ливан.
- Рядом жена.
- Живот растет.
- Думает: «Вдруг война!
- Заберут. Убьют…»
- Обняла его.
- Зарыдала…
- Он бормотал сквозь сон.
- Что-то об экономии металла.
- Появился на свет ребенок.
- Началось представление.
- Обучение с пеленок:
- Сынок,
- Скажи
- Папа
- Попа.
- Талант,
- Дант.
- Вырастет, будет хирургом
- Металлургом.
- Вырос
- Работал на железной дороге
- Оторвало ноги.
- Стал побираться
- Граждане
- Братцы
- Окажите содействие
- Умер
- Окончилось первое действие.
«Хочу певца схватить за голос…»
- Хочу певца схватить за голос,
- Поймать горящего за пламя,
- Хочу покойника за возраст
- И знаменосца взять за знамя…
- Хочу у пса погладить верность,
- Держать за милостыню нищих,
- Обнять влюбленного за нежность
- И палача за топорище…
- Хочу фрегат поднять за снасти
- И за волну потрогать море,
- Хочу счастливого за счастье
- И несчастливого за горе…
- Хочу в день казни на рассвете
- С галерки птичьего полета
- Лорнировать искусство смерти
- На карликовых эшафотах…
«Белесоглазый, белобровый…»
- Белесоглазый, белобровый.
- Косноязычный идиот.
- Свиней в овраге он пасет.
- Белесоглазый, белобровый
- Кричит овцой, мычит коровой.
- Один мужик в деревне. Вот —
- Белесоглазый, белобровый
- Косноязычный идиот.
«Я прохожу сквозь свое незримое Я…»
- Я прохожу сквозь свое незримое Я
- Которое стоит посередине комнаты
- Как манекен
- Два невидимых Я
- На фоне большого окна
- Как будто беседуют
- Мне надо выйти на балкон
- И я прохожу насквозь
- Три призрачных Я
- Теперь я стараюсь их не задеть
- В комнате становится тесно
- Три Я посередине
- И два – по углам
- Их контуры угадываются не зрением
- И вдруг я почувствовал
- Сколько Я наслоенных во времени
- Они переполняют комнату
- И землю и небо за окном
- Хорошо что Вселенная это не просто орех
КАК БУДТО ГЛАВНОЕ
- как будто главное забыл
- еще минута —
- и станет рай
- утробой
- адом…
- Что я – мало
- или много?
- ведь яблоки и гусеницы
- рядом —
- но вспомню…
- вспомнил!
- рот с ушами?
- свечка Бога?..
- вспомнил но как будто
- не мне ль дана свобода?
- Боже мой!
- в тоске и страхе
- прижимаясь к стенкам —
- жжет изнутри
- слепительная
- точка! —
- не сам ли стал
- я собственной тюрьмой? —
- из живота – ни жабы
- ни росточка…
- срастаюсь узник
- со своим застенком
- проснулся ночью
- весь в поту
- …и с визгом – в мозг —
- усвой его
- развей! —
- (малыш играет
- с голым пузом…)
- и знанье —
- от затылка
- по хребту
- (…сморчком
- и старичком-тунгусом —
- чужой зародыш
- гибели своей)
- огрызок яблока —
- вот на глазах ржавеет
- …и числа
- без смысла
- и травы неправы —
- и птицы…
- и человек
- в свою реальность
- верит?..
- остыл твой чай
- там муха плавает
- уже не шевелится
- не крылья
- вырастают у меня
- Бог смотрит
- нашими глазами:
- уходит
- прожигая кроны
- солнце
- и тень моя
- растет на склоне дня —
- вот отчего
- мы видим сами!
- так всякий атом
- в истине проснется
ВОЗМОЖНОСТЬ
- Ночь движется к закату
- Хозяин мой идет
- по саду
- вот на веранду всходит
- задом наперед
- садится на свою скамью
- не глядя
- чашка пустая
- по столу придвигается
- из темноты – сосед спиной
- сидит
- с ним разговаривая
- темный чай
- изо рта выливает —
- чашка дымится
- и наполняется постепенно
- – Ах! Удача духа —
- уловил невероятное —
- обратите внимание —
- время обратное
- как нарастанье льда
- в жару
- Я не человек
- даже не реальность
- Я – Возможность
- произойти —
- переводная
- картинка истории —
- Ах! запоздалое
- в жизни твоей
- Все могу —
- И возвращаю
- Назад назад
- Со свистом
- цветная пленка
- сматывается:
- летишь в Париж —
- аэродром в Москве
- уснул в Москве —
- проснулся на Урале
- барак и проволока
- шарят по ночному —
- из вспышки вышел
- самолетик серебряный
- проходит боль —
- стирая кровь со лба
- все зажило
- в матроске малыш
- вбегаешь задом в дом —
- захлопывается дверь
- пеленки заворачиваются
- грудь материнская —
- и нет тебя
- Все есть а ты не появился
- может быть не пожелал
- Я – греческая
- вечно юная
- Возможность
- меня называют люди —
- готова каждому служить
- Так что не сетуй
- все могло иначе
- иначе чем иначе
- и иначе —
- совсем иначе быть
- или не быть
НОСТАЛЬГИЯ ПО СОЦРЕАЛИЗМУ
- белый домик где гостим на юге
- шкаф стоит беременный – книги,
- за стеклом прогнувшиеся полки
- сплошь набиты как подсолнух полный
- и глядит на пришлых день вчерашний
- темной вавилонскою башней:
- ВЕРШИНЫ НЕ СПЯТ
- СИЛЬНЫЕ ДУХОМ
- ВЕСЕННИЕ ВЕТРЫ
- ПОВЕСТЬ О ЛЕНИНЕ
- ЗАВЕЩАЮ ТЕБЕ
- ЗЕМЛЯ У НАС ОДНА
- ПОСЛЕДНЯЯ МЕЧТА и т. д.
- за террасой – серебро залива
- на тарелке – персики и сливы
- тиражи (я помню) триста тысяч
- за стеклянной дверью Ира Васич
- говоруша хрюша – мой редактор
- Юрий Николаич – наш директор
- с характерным черепом-арбузом
- (переброшен) бывший зав. обозом
- и добрейший Главный – Юрий Палыч
- что-то в нем дворянское мечталось…
- и его сменивший хам и сволочь…
- в тех редакционных коридорах
- много терлось лиц нечетких серых…
- у вахтера – золото в оскале…
- что-то выпускали… не пускали…
- самиздатом тискали… таскали
- в КГБ…
- ты жив наш прежний перчик
- жив-здоров и весел как огурчик
- коктебельский на тебе загарчик
- вечный узник пишущей машинки
- в белых волосах твоих – пушинки
- здравствуй инженер-душепроходчик
- мастер запятых,
- разведчик точек…
- это ж эпопея! если хочешь…
- от корней росли твои герои
- ты им позволял и пить порою
- но война была не за горою…
- ржали кони
- облетали тополи
- и пальто им героини штопали
- а герои нервно шли по городу
- чтобы негодяю съездить в морду
- и тогда в романе опечаткой
- воздух пахнул дамскою перчаткой…
- (все же чаще – гром железа
- дух навоза
- общее собрание колхоза)
- жизнь по плану
- смерть по разнорядке
- плакать стану! —
- автор выпьем водки!
- будем пить – грустить напропалую
- дай тебя бродяга поцелую —
- да не лезь! —
- обрадовался весь…
- «я бы! мы бы!»
- не тебя в расшлепистые губы
- а тебя друг без которого
- получилось бы не здорово —
- уголовника с гитарою —
- отсидел – опять за старое…
- сыростью и тленом пахнут книги
- слипнутся листы плохой бумаги
- умрут в ряду как рядовые
- да они с рожденья неживые
- гром из тома в том
- как из дома в дом
- бродят фразы разговоры —
- целые страницы…
- под одной обложкой
- нам бы схорониться
- мелкою рыбешкой…
- марево…
- курево…
- жарево…
- зарево…
«Здесь – граммофонная труба…»
- Здесь – граммофонная труба
- торчит из анального отверстия
- печки – здесь – покрываясь
- медвежьей шерстью – перебегает
- из комнаты в комнату —
- похохатывая, как каленый
- пряник – «50 лет октябрю» —
- (жил – был) – и живет-поживает
- на рисунке разметав реак-
- тивные волосы летят материнские
- груди) – появляются люди —
- иностранные и московские странные
- и видят: здесь – граммофонная труба
- торчит из анального отверстия печки —
- ах, как много в тебе коммунального – и реального
- и нереального! – ура! Брусиловский!
ХУДОЖНИК
Брусиловскому
- Под рукой демиурга-художника
- Роится мир форм
- Он бросает их на лист ватмана
- Как рыбам бросают корм
- И просыпаясь от дремы
- Раздувая свою спесь
- Формы жадно хватают объемы
- Им нужен мир весь.
- Кто намеком был, кто наброском
- В сновидении, неведомо где
- Виноградно наплывшим воском
- От звезды протянувшись к звезде
- Полвселенной летит Андромеда
- Половина другая – Персей
- У него под грудью комета
- Нож в звездной росе у ней…
- Формы сподручней, чем атомы
- И строят мир твой
- Только б тебе развязаться с проклятыми
- Нервами – тучами над головой
НУДИСТЫ
- два старика
- ей нудно на него смотреть:
- сморщенные в мешочке
- будто краденые
- и всё висит
- будто чужое
- сама толста
- груди – по бокам
- живота —
- складки складки —
- нет загадки
- зато на сером пляже —
- одичавшие горожане
- палатки
- еловые ветки на брезенте
- «весь израиль
- удалился в кущи»
- приволье и праздник
- все лето
- старики приветливы
- всегда помогут
- объяснят молодым:
- в лавку в поселок —
- надеть хоть шорты
- могут побить
- она вдруг схватит
- выше локтя
- или за колено:
- «какой вы мускулистый!» —
- и скорей – о мужестве
- о спорте…
- учит он:
- «надо загорать ровно»
- «вы простите меня старика» —
- и всё гладит по спине
- плечам и шее
- девушку —
- втирает масло в кожу…
- вечером походная деревня —
- серебро реки – стихает рано
- от жары островерхие палатки
- все раскрыты:
- где костер
- где лампочка – аккумулятор
- освещают вечеряющих нудистов
- в темноте гудит пароход
- возле сосен
- лысый и костистый —
- он похож на Сологуба Федора
- и на обезьяну – гамадрила
- темная она —
- окатный камень
МАМАРДАШВИЛИ
- помню я Мамардашвили с трубкой
- блеснуло –
- Енисей
- со всеми своими притоками
- отпечатался в небе
- видел я Мамардашвили в бронзе
- и рассыпался
- сухим оглушительным треском
- похоже на тоннель
- метро…
- смуглый лоб с залысинами – крупно
- смотрит на меня из текста книги
- «все есть ничто – сказал философ —
- и обойдемся без вопросов»
- и глядя (слышу и плыву)
- на лоб его —
- и переносицу
- я успел –
- «что есть ничто?» – сказал другой
- и дрыгнул нервною ногой
- на земле
- под забором –
- каждая доска
- древесным рисунком
- подробно –
- каждая травинка
- возносится
- в свет –
- «вы есть ничто! – заметил третий —
- как жаль что нет меня на свете»
- выхватить из мрака
- жалкую
- взъерошенную мысль
ЕДИНОБОРСТВО
Эрнсту Неизвестному
- среди высоких коробов
- среди сугробов
- и гробов
- на Сретенке
- на Парк-авеню —
- и на проспекте Мира
- выпячиваясь из окон
- проламывая стенки ну! —
- (…пусти несчастный!)
- вылазит мышцами бетон —
- (…стада фигур своих пасти)
- из ящиков
- вскакивают гвозди! —
- скрипит сгибаясь арматура —
- и по Нью-Йорку
- Москве и Екатеринбургу
- по парку
- по травке в горку
- топает скульптура:
- скрюченные
- скособоченные
- раскоряченные
- развороченные
- и растянутые
- и раздвинутые
- и раздавленные
- продырявленные
- вкось разваленные
- вдоль распиленные
- думы каменные
- печи доменные
- свечи пламенные
- изнутри себя разрывающие
- раскрытые распятые
- рожающие!
- головы промеж ног держащие
- кричащие зовущие
- мычащие!
- торжествующие!
- прославляющие!
- …а помнишь мастер
- в тебе взывали великаны
- спешили вырасти
- орущие вулканы
- боли и ярости
- «кто мы?
- фантомы
- в море
- Соляриса…
- ты нас
- родил из головы
- как Зевс
- Афину!
- хоть мы мертвы
- наполовину
- но мы наполовину
- уволь яволь
- и дух и воля
- из всех углов —
- толпа голов
- чуть усомнись
- тебя мы сами —
- кубическими лбами
- носами и задами
- и плоскими ступнями – утюгами…»
- твой – стиснув зубы – смех!
- ты – сам их всех!
- …и прорастая из метро
- из книг
- возник
- сноп людей и быков
- и кентавров
- разрывая слои облаков —
- из мышц и кулаков
- и грохота литавров —
- вот памятник – двойник
- (на нем твое тавро)
- …в небе – ломаный высверк —
- силуэтом
- на том
- берегу
- …оказалось что ты и Нью-Йорк
- соразмерны друг другу —
- и окно твое в парк
- одна мастерская
- была у метро АЭРОПОРТ
- (…и сам замучился как черт
- за форматором гипс таская)
- натурщицы вращались
- превращались…
- вторая —
- на Сретенке
- (он их и лапал и лепил —
- знал все их родинки
- играя)
- …уже не помещались
- ставил к стенке
- …толпою толки
- и бутылки —
- (а я всё думал: кто кого —
- общественность ли Эрнста съест
- или в ЦеКа сожрут его
- или спасут заказчики…)
- четвертая дыра
- аж на проспекте Мира!
- уже в проекте – переезд
- …на солнце посреди двора
- сам заколачивал ящики
- а пятая – в районе Сохо
- серьезен Эрнст
- как городской пейзаж
- как пласт земли могуч и свеж
- как вопли Цадкина отверст
- и целен как сама эпоха
- о третьей и не говорю:
- там он ворчал и пил —
- такая процедура
- а не ворочал не лепил —
- «натура – дура!» —
- и вообще она была Сидура
- по совести (я понимаю
- что двух других я не упоминаю)
- там под гитару
- Лемпорта и Силиса
- так пили —
- все в памяти моей перекосилися!
- и пели пели
- с одушевленной глиной хором
- (тогда любили как лепили)
- под голой лампочкой
- со свечкой —
- и в этом нереальном свете —
- закусим сыром
- на газете! —
- плеснула – щедрая рука
- …и чья-то девичья головка —
- между Сидуром и Сапгиром
- …на Севере по крайней мере
- воздастся каждому
- по вере
- …я в мае из Москвы —
- из дому
- попал в другой
- прекрасный и не тесный
- …озера —
- Серебристо-серо
- дугой
- где валуны и сосны
- …небесный
- из иного мира
- но хмуро
- …и вдаль уходят островки
- из-под руки
- без остановки —
- иглы клест остролист
- капли влаги тяжелы…
- перемежались близи дали —
- сосны и пролысины
- …вставали Одина сыны
- на битву —
- в облачной Валгалле
- откуда лучи
- колючи —
- во лбу отверстие —
- влагали
- ключи
- четыре часа от Стокгольма —
- где на просвет леса и воды
- (там колесили мы окольно)
- еще одна твоя мастерская
- …главное друзья – энтузиасты
- …из автобуса себя выпуская
- в твой музей проходят туристы —
- непредсказуемые шведы
- кентавры северных лесов и чудовищные кресты озер —
- о них говорили в доме
- бледные рассветы светили сквозь очки директора музея
- хранитель северных камней и дум встречал в доме гостей с юга
- показывал им дом где бледные рассветы светили насквозь
- чудовищными крестами окон
- тени лесов и озер светились насквозь в небе
- кентавры северных лесов – лоси уходили в озера неба
- возле дома-музея бледный хранитель показывал женщине с юга
- чудовищные кресты и камни
- тени северных лесов в небе – женщина с юга снилась себе
- чудовищным крестом
- в доме бледный хранитель равнодушно перебирал камни —
- кентавры
- среди северных лесов и озер светились их тени: женщина с юга
- чудовищный крест и хранитель – бледный кентавр
- серьезен грозен —
- значит есть резон
- ты знаешь план
- и дисциплину
- …так мять
- ворочать глину —
- лопатами ладони
- лепят плоть
- что впору
- в Риме Юпитеру
- в Швеции Тору
- …поутру был распят
- (…пусть вопят!)
- ночью встал из гроба ты
- от напряжения работы
- дошел до рвоты —
- потрескались полезли
- ногти
- как от неведомой болезни
- (упомянуть об этом факте)
- но это после
- а сейчас – о!
- ласка вкрадчивая —
- глину – это мясо
- поворачивая
- на оси каркаса
- шлепаешь ласкаешь
- тискаешь
- не отпускаешь —
- раскурочиваешь
- целыми ломтями
- отбрасы-
- ва-
- ешь!
- в бездонной яме
- в одном объеме —
- мясник и форма
- …как парусник
- во время шторма
- …от ярости и страсти
- холодея —
- все сорвано!
- обнажена
- и вся исчерпана
- до дна!
- смотрите: вот она – идея
- без дураков!
- Эрнст Неизвестный – ты таков
- да благословит тебя Иаков
- с поврежденным бедром…
- лицом к лицу
- боролся он с Незримым
- спорил с Ним – с Неоспоримым
- (клянется: видел птицу!)
- …с ужасной силой
- как молнией
- стегал ширококрылый! —
- и выстоял хотя остался хром
ЖИРАП
- среди полей
- бегут Амбары
- в купе покупки
- сидят арабы
- и квохчут куры
- кривые лапки
- большие жёны
- цветастых негров
- глаза коров
- вся столица на столе
- а во мгле
- на холме
- серебристым силуэтом
- миной или минаретом
- серый короб – Сакрекёр
- ты знаешь лепо
- в море марта
- любить на улицах Монмартра
- вверху и мысли облаковы
- и маляры средневековы
- внизу – пожарное депо
- тебя он сразу пожирает
- собой Жирап
- вот вокзал
- Сан-Лазар
- ЛАФАЙЕТ —
- два парохода —
- плавает
- в толпе народа
- красивым росчерком пера
- выходишь ты на Опера
- кипит Жирап —
- и Монпарнас
- вдали – как шкап…
- вокруг Жирапа
- как на подушке
- раскинув ляжки
- лежит Европа
- и с ужасом глядит на нас
- не скифы мы не азиаты
- но нагловаты
- пошловаты
- не гунны мы и не сарматы
- но лбы чугунны
- жопы сраты
- хотя ни в чем не виноваты
- к тебе Жирап
- мы проложили из России
- воздушный трап
- куда и бегаем босые
- Жирап!
- ты радуешься нам
- а – рубашкам и штанам
- взалкала
- каменная баба —
- зашевелились валуны:
- Волга Вологда Валгалла,
- Жирап
- ты – каменный жираф
- рябое
- небо над тобою —
- рыба
- неописуемых размеров
- как паиньки
- садятся боинги —
- на поле в виде вееров…
- пускай
- грядет турист Егоров
- своих чудовищных омаров
- скорей на пришлых выпускай!
ВИРШИ ПАМЯТИ ХУДОЖНИКА ЮЛО СООСТЕРА НЕ ПРОЧИТАННЫЕ МНОЙ НА ВЕЧЕРЕ В ДОМЕ ХУДОЖНИКА КОТОРЫЙ НЕ СОСТОЯЛСЯ
- Недостает среди нас одного,
- Не досчитались тебя, Юло.
- Ты – первый. Теперь пойдут умирать.
- Через год – чей черед? И опять – через пять…
- Три десятка лет ожидания —
- Перемрет в основном компания.
- Какие-нибудь кретины
- Придут на наши поминки,
- Растащат наши картины,
- Любовниц, книги, ботинки!
- И отправит нас в долгий ящик
- Государство – душеприказчик.
- Да – есть бронтозавриха, братья,
- Бронированная бюрократия.
- Учрежденья-громады
- Образуют ее хребет.
- Машину для резки бумаги
- Придумал еще Гутенберг.
- Наличье замков и застежек,
- Портфель крокодиловой кожи,
- Желудок, который культуру
- Переводит на макулатуру.
- И проходишь, лицом серея:
- ТРЕДЬЯКОВСКАЯ ГАЛЕРЕЯ!
- Здесь – размазанная блевотина…
- Тут – чиновного мяса кусок…
- Там на холст какая-то гадина
- Выделяла желудочный сок…
- О, моя бедная родина!
- О, моя трудная родина!
- И как нам ни тяжело,
- По какой-то странной иронии
- Судьбы Соостер Юло
- Принадлежат Эстонии.
- Картины, рисунки его
- Принадлежат истории
- Искусства. А тех, которые —
- Кандинский, Шагал, Поляков —
- Французы во веки веков!
- О, искусство! О Вечный Жид!
- Пусть нами гордится Турция!
- А России принадлежит
- Иогансон и Фурцева…
- И поэтому нам обеспечена
- Туретчина и неметчина.
- И поэтому наше собрание
- Я сам распускаю заранее.
- На искусство БЕЗ РАЗрешения
- Посылаю НЕприглашение.
- Примите мое пророчество;
- Воздвигнитесь НА одиночество!
- Да здравствует русское творчество:
- ДУХОВИДЧЕСТВО
- И БОГОБОРЧЕСТВО!
МЕРТВЯКИ
«Как тяжко мертвецу среди людей…»
(А. Блок) – антиэпиграф
- Живут в полураспаде – с ножевыми
- раненьями… во рту растет трава…
- Пясть – косточки торчат из рукава…
- Считают что родились таковыми
- И не желают выглядеть живыми
- Пусть позвоночник держится едва
- Шопен – я слышу – в доме за углом
- Любимое занятие – хоронят
- Толпятся будто ящик со стеклом
- Несут… несут… а если вдруг уронят? —
- Поднимут в суматохе кверху дном
- И занесут в ближайший гастроном? —
- И там где кафель бел и лампы ярки
- Где очередь – и хвост ее вдали
- Где цинковый прилавок точно в морге
- Их верно встретят в страхе и восторге
- И кто-то скажет: «мясо привезли»…
- Но обошлось. Проносят гроб халтурный…
- А я шагаю в клуб литературный
- С хануриками время убивать
- Там возле двери мраморные урны —
- Прах классиков – и можно в них плевать
ПРОЩАНИЕ СО СТАРОЙ МОСКВОЙ
- Здравствуй Водолейников Мамлейников
- Борода сияет рыжим веником
- Царствуй на Москве поэт и брат
- Я опять с тобою выпить рад
- Ты притопал к нам из края вареников
- Золотоордынский хан – алей Алейников
- Будем пить с тобой вино как лошади
- Дом ломают на Пушкинской площади
- Рушат рухлядь и славу московскую
- Вас бы – бранью площадной барковскою!
- По лепным карнизам бьет ядро
- Выпьем мы сегодня хан ведро!
- По проезду где торгуют книгами
- Мы пройдем смешаемся с ханыгами
- А в парадном вермут пили вы?
- От души хлебнем с тобой Москвы!
- И на всякий случай поцелуемся —
- Попрощаемся с каждой улицей
- С Новодевичьим с Донским монастырем
- Ляжем у святыни – и умрем.
- Попрощаемся с прудами Патриаршими
- Погрузнели погрубели стали старше мы
- Только помните – еби вашу мать
- Колотить вас нас и бить – не сломать.
«НАБРИСКИ НАБРОСКИ ПО‐РУССКИ ЗАПИСКИ…»
«Белело синее…»
- Белело синее
- белое синело
- небо над высоким
- в тумане заблестело
- обняв колени
- о нем и не думая
- сейчас коридором
- прошла по росе
- стебли примятые
- не расправляются
- молочай у корней
- придавила нога
«красное чревленое жучками…»
- красное чревленое жучками
- вывернутый черемухи
- узнал сквозь жалюзи —
- сквозь папоротник ствол
- поросший колпачками
- и диск натеком серебра
- где пряталась толпа опят
- гнилого пня и щепок розовых
ПОСЕЩЕНИЕ БОЛЬНИЦЫ
- Просят ремонта
- бледные квадраты —
- были картины —
- сняты
- взгляд из коридора:
- два милиционера
- распиливают небо
- как странно выглядит
- смотреть из смерти в жизнь
- я сам себе бумажным покажусь
- возьмут и выгладят
- все содержание —
- конское ржание
- длинный свист
- крымский мост
- набриски наброски по-русски записки
- по-свински обоим тебя обойму
- мамахвостая
- грохот с утра —
- в доме дыра
- дом ремонтируют
- тайное мое эксплуатируют
- с потолка посыпалась лавина:
- мыши мячи золотые диски…
- раковина бледного вина…
- промелькнули… пролетели…
- приподнялся на постели —
- и смотрю как собственной тоски
- обнажается нутра половина
- стало грустно и темно
- на фоне небес
- желтеющих бус
- фонарей
- а рабочий горой
- заглянул в мое окно
- возмутил меня герой
- предзакатный щит
- пищит
- – повяжите красный бант
- на кран
- приближается ремонт —
- о сервант! —
- в один момент
- в мозгу возник рисунок:
- я встал и сунул
- два пальца в патрон
- ах если б можно жизнь вернуть!
- Ведь надо было лампочку ввернуть
«Причастным стать…»
- Причастным стать
- снаружи шар
- умею я
- учись учись
- весь голубой
- на клейкий свет —
- и снег с утра
- не повезло
- и двадцать семь
- тому теперь
- с балкона свет
- падение
- а в мае снег
- дождем и солнцем
- зеленый шар
«Не умею как на нас…»
- Не умею как на нас
- Посмотреть оттуда
- Если там иконостас
- Будем в виде бреда
- Если там иная плоть
- Облачная лепка
- То на эту как смотреть
- При часах и в тряпках
- Если вовсе плоти нет
- Есть хотя бы документ
<Солженицын>
- <Солженицын>
- наука жизни подражает
- но более систематична
- ей не хватает хаоса
- я избегаю рассуждений
- учить и поучать —
- сам из Литературного
- с бородкой достоевской
- наполовину выдранной
- слава Богу!
- не довелось
- хотя прочел
- две книги
- Библию и Словарь В. Даля —
- самодостаточен
«Мы звезды…»
- Мы звезды —
- мыслящие существа
- Разные виды
- и многие народы
- Многих ваши предки
- видали на земле —
- огненные шары
- сыплются на землю
- как с горы
- в то же время
- неизвестно из каких
- степей
- прискачет
- неизвестное племя —
- и остается
- розовый репей
- Мы – это вы
- но вы не знаете
- миры
- посыпались как с горы
- огнем кипящие шары
- и мы
- мы точно —
- несоизмеримы
- нас не видно
- нас не слышно
- невозможно ощутить
- мечемся всюду
- часто сталкиваемся —
- налетаем на живую плоть —
- чувство дискомфорта
- дурноты
- хотел бы увидеть
- чтобы – к ногтю
- а если – размеры не те
- и Монблан заслоняет
- такая чуждая
- такая не совпадающая
- что ходишь по улицам
- а это – кишечник
- что не предположи
- всегда угадаешь
- что хочешь увидеть
- увидишь всегда
- наоборот:
- хотели увидеть
- пришельцев —
- крабо- руко- ноги
- увидели иностранцев —
- пластиковые мозги
КОМАР
- КОМАР
- Но вот и от мыслей неотвязных
- и то что – намек
- и не в счет
- а жалит ярко и внезапно
- как отмахнуться?
«Мухи злы…»
- Мухи злы
- укусит как ожжет
- Борис Леонидович
- на огороде —
- не самое милое зрелище
- парусиновые брюки – и животик
- под солнцем потеет
- старается —
- принципиален
- интеллигент —
- для народа
«Лежит Холин…»
- Лежит Холин
- выступы скул
- старый костяк
- перед глазами
- какого заказали
- непохожий на себя
- вылупился из
- здравствуй незнакомец
«кухня адская…»
- кухня адская
- подогреть поджарить
- с гарниром
- на моих ступнях
- уже какая-то химия —
- носки с лавсаном
- под ногами —
- застывший битум
- а кругом – кубические горы
- из красной глины
- сложенные человеком
- ходят голые животные
- на голове – ошметки
- что было гривой и шерстью
«Ветер водит пальцами по сизой…»
- Ветер водит пальцами по сизой
- огромной поверхности вод
- самолеты над авиабазой
- продолжают водить хоровод
«собирались строились стояли…»
- собирались строились стояли
- то ли пересчитывали то ли спорили
- голоса впереди настояли
- от посторонних глаз себя зашторили
«следы снежного человека…»
- следы снежного человека
- следы собаки
- следы шин
СИНГАПУР
мини-роман
Бабочка в полете —
Тысяча крылышек —
Одна душа.
(хокку – XII век)
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
ГЛАВА ПЕРВАЯ
Длинная трубочка, свернутая на конус из тонкого листа латуни. На конце отогнутый назад коготь. Надела на палец и стала таиландочкой. Глаза газели улыбнулись – пощекотала мне подбородок, слегка царапнула. От тебя и пахло теперь по-другому: чем-то пряным, сладким, гнилостным. Кругом по-прежнему стены, пестрая мебель. В белом окне уходит вверх зимняя Москва, будто она такая узкая и – в горах, крыши над крышами, напоминает дагестанское селение, вот только купол с крестом золотится. Старая Москва в районе Покровки.
Ты приближаешь лицо почти вплотную. Глаза шире лица.
– Увези меня в Таиланд.
По всему вечернему Бангкоку шляются длинноволосые парни и узкобедрые женщинки, их плоские лица улыбаются. Мы их видим в просвете полураскрытой двери, там, где должен быть коридор, – неестественное солнце. Я беру тебя, легкую, узкую, как таиландку, на руки, усаживаю в твою коляску и вкатываю тебя прямо в Сиам Центрум.
Витрина элегантнейшего магазина: черные шелковые платья, разрисованные рубашки из тончайшего батика, золотые зажигалки, сумочки из кожи питона – ты остановилась пораженная, даже поехала назад.
Снизу – с тротуара протягивает к тебе, к твоим коленям, остро торчащим над выдвижной ступенькой, свои изуродованные проказой руки нищий – полусидит, толстая слоновья пятка вывернута наружу гниющим развороченным мясом. Господи! Там дальше из темной улочки вдруг повеяло чем-то сладким соевым тошнотворным, запахом густым, как соус, – тропиками, Востоком.
Испуганно я потянул кресло назад – через порог в нашу квартиру. Как это у нас получается? Не знаю, мы даже не туристы, обыкновенная женатая пара, москвичи не первой молодости, к тому же у тебя отказали ноги – и мы не можем путешествовать и ходить в походы, как бывало в студенческие годы. Может быть поэтому мы научились попадать в разные места, обычно от нас удаленные, другим способом.
Когда это нам открылось, мне показалось, никакого секрета и особой сложности здесь нет. Механизм прост. Все дело в интуиции. Иногда, обычно в сумерки, мы начинаем чувствовать особую теплоту, тягу друг к другу.
Раньше я брал тебя из кресла на руки, легкая, ты крепко обнимала меня за шею: «Какая у тебя шелковистая гривка!» – и мы оказывались вдвоем на кушетке, на полу, в ванной, где придется. Обычно ты не снимала легкой юбки, просто сдвигала шелковые трусики. Очень скоро мы начинали чувствовать себя одним – единым. И вот это четвероногое и двухголовое существо могло оказаться где-нибудь на песке у моря или на крыше нью-йоркского небоскреба, например. Нас пугали сначала такие мгновенные и странные перемещения. Открываешь глаза, а ты где-нибудь в пойме Амазонки. Скорей, скорей отсюда, в жидкой грязи уже плеснуло хвостом и задвигалось… Ну, не мешкай! – где ты? – скорей уноси нас…
И вкидывает нас обратно на холодный пол нашей кухни. Или на клетчатый плед. В общем научились перемещаться по желанию, хотя и не совсем. В последнее время все больше Сингапур нам показывают или в Таиланд заманивают. Пожалуй, ни я, ни моя жена не протестуем, хотя каждый раз это случается неожиданно и не всегда во время нашей близости. Что-то там меняется в таинственном механизме, работающем с нами и в нас, но пока что ничто не угрожает.
Глаза твои заслоняют все. Узкие смуглые руки обвивают меня. С карниза вдоль окна свисает толстый ярко узорный удав.
Головка его покачивается и тянется к нам. В кресле мой смятый халат, поперек ворсистой ткани сползает узкий пояс, нет, это бледная ядовитая змейка. На комоде, на столе, уставленном темными фигурками и цветами, сбоку на полке и в алтаре – всюду свернулись, повисли, дремотно раскачиваются в сизом дыму курений ядовитые гадюки, кобры. Ароматный дым постоянно погружает их в полусонное состояние. Одна лениво скользит плоской головкой по длинному телу своей подруги.
Служитель сказал, что можно потрогать. Опережая тебя, провожу пальцем вдоль плоской черепушки, змея на ощупь зернистая сухая – точь-в-точь кошелек из змеиной кожи. Чувствуя нажим моей подушечки, она медленно приподняла голову и уставилась на нас тусклыми бусинами. Мы замерли. Ничто, буквально, пустота смотрит на нас, раздумывая, ужалить или все равно. Или все равно ужалить.
Благородная смерть поползла вниз, серый поясок от твоего китайского халатика, сползает на колесо коляски.
Но внизу вокруг медных кронштейнов с пучком курительных палочек лежат куриные яйца, и змейка передумала. Стремительно скользнула туда – и вот уже ее головка (пятна и глазки как нарисованные) натягивается на смуглый овал яйца, как чулок.
В другом зале Змеиного храма фотографируют туристов. Я медленно вкатил тебя туда, бритый молодой монах склонился смуглым выбритым до синя затылком с ложбинкой, приглашая нас к змеиным объятиям – запечатлеться. Вдруг я окаменел. Тощая всклокоченная американка яростно хохочет всеми крупными яркими, верно, вставными зубами, руки, шею и волосы обвивают змеи, настоящая Медуза Горгона. Вокруг сверкают молнии – в три блица ее фотографируют спутники. Будет что показать дома где-нибудь в Алабаме на воскресном пикнике.
Другой монах в красном – он протягивает к тебе сразу двух удавов, они ползут к тебе по воздуху и уже готовы обвиться вокруг твоих гладких темных волос. Неожиданно вся содрогнувшись, ты уклонилась от змеиных ласк и объятий. И я вспомнил: узкая, гибкая ты принимала меня, втягивала по-змеиному – и уже в памяти растягивающаяся головка гюрзы, надетая на куриное яйцо. Видимо, ты вспомнила нечто подобное – окружающее затуманилось и механизм сработал, иначе выразиться не могу.
Мы не спеша двигаемся, скользя друг по другу, я – по твоей спине, срастаясь и разъединяясь, ты разрастаешься вокруг, и теперь уже совсем – пряный куст с желтыми цветами, в который проваливаемся мы оба…
Прозвонил телефон. Рядом с нами – на постели. В белой раме белая Москва в высоту.
ГЛАВА ВТОРАЯ
Весной я научился уходить один. В кармане у меня лежал магический предмет – хрустальная пробка. Я выходил из дома, будто бы за сигаретами. Ненадолго. Иначе были бы расспросы: куда, зачем, почему она не со мной, можно взять такси, если далеко. Шел по улице, там она могла меня увидеть, просто уходил в глубину двора и дальше – выломанный железный прут в ограде.
На пустыре среди гаражей я присаживался на длинной скамье, будто обглоданной каким-то чудовищным животным, перед четырьмя столбиками – прежде это был стол. Вынимал из кармана хрустальную пробку – она вспыхивала на солнце. И, поворачивая ее, медленно, всеми гранями, погружался в это мерцание – в транс.
На лужайке перед храмом стоящего Будды играли дети. В быстро сгущающихся сумерках Будда глядел с высоты. Плоское золотое лицо его было непроницаемо. Он стоял, прислонясь к наружной стене храма – голова выше храма. Желтый плащ паломника ниспадал вниз крупными складками. Детские голоса одиноко и пронзительно перекликались в сиреневеющем воздухе. Стриженая склелетообразная нищая лежала на каменных ступенях ничком.
В пролом от нашего дома выскочила черная собачонка, за ней следом вышел пожилой усатый (Я давно заметил: похож, похож на меня, – не на меня, с которым происходит, а на меня, который наблюдает). Конечно, он не видел ни храма, ни стриженой, иначе он не наступил бы на алюминиевую миску и не прошел бы сквозь простертое в молитве тело, да и в гранитные ступени он погружался почти по колено. Бегло кивнув мне, усатый свистнул собаке. Но меня здесь уже не было.
Между тем черненькая собачонка видела все отлично. Она остановилась, нет. Не пошла в стену. Усатый посвистел еще раз. Собачонка не посмела ослушаться: она обогнула нищенку и побежала вверх по ступеням к резной двери. Со стороны это выглядело так, будто собака плывет вверх по воздуху. Ошеломленное лицо хозяина застыло маской вне времени. Псина непринужденно спрыгнула с каменного крыльца на землю. Оглянувшись на меня (но меня здесь действительно не было), она подняла заднюю ногу и окропила незримый храм. Усатый решил: с ним что-то не в порядке, привиделось вроде. Я же вот тут был у железных баков. А меня здесь нет, я там. Да и что мне здесь делать, если я не гуляю во дворе со своим кокером. А нахожусь совсем-совсем в другом месте.
Передо мной мутно-желтая вода, в которой плавают широкие листы лотосов, кокосы, шелуха от бананов, смятые стаканчики из пластика и всякий легкий мусор. Я двигаюсь в лодке-катере по узкому каналу. Вокруг возникают жилища-шалаши на сваях под пальмами.
Жизнь вся наружу. На полу сидит женщина в чем-то синем, цветастом и рассматривает себя в ручное зеркало. Как у Гогена.
Стриженый костистый старик-таец, рядом дог мышиного цвета – оба стоят на помосте, надолбы которого купаются в воде. Старик улыбается мне всеми морщинами и кланяется, дог мрачно глядит. Мимо проплывает черный пустой кокос.
Мы пристаем к плавучему супермаркету. Здесь большеголовый слоненок, привязанный за ногу цепью, бестолково мотается в толпе туристов. Хоботом чистит бананы и отправляет их в рот. Я погладил его. Кустится жесткая шерсть – живое.
Сухой седой англичанин посадил себе на голову мохнатую обезьянку, что-то ласково говорит ей и щекочет ее шею. Обезьянка нежно обнимает его и осторожно целует. Она сидит на седой голове, как розовая пушистая шапка-ушанка.
– Монки, монки! – позвал я. – Хочешь апельсина? А банана? А яблока?
И тут случилось совсем неожиданное. Обезьянка прыгнула. Мою голову обволокло пушистое тельце. Маленькие коготки вцепились в мою шею. Я взмахнул рукой, чтобы согнать ее. Больно! Мартышка не хотела слезать. Со мной творилось что-то странное, почти непристойное. Слоненок тянул меня за рукав своим мягким и настойчивым хоботом. Я заскользил по мокрым доскам и даже осознать не успел, как мы опрокинулись в темную воду. Сразу ослепило.
Потом я увидел, что мы оба барахтаемся у помоста: я и слоненок, на голове моей, вцепившись мне в волосы, визжит розовая обезьянка. Рядом плещутся волосатые кокосы и пластик. Сверху тянутся руки, наклоняются лица. Но я не могу дотянуться, не могу закричать, я захлебываюсь, потому что шею мне обвивает не то пятнистая вода, не то толстая анаконда. Это неправдоподобно, но я видел такую в питомнике или где там их разводят… Господи, даже позвать на помощь не могу… Может быть, это сон или кино, но уж слишком все натурально… Затягивает в глубину. Так приятное превращается в гибельное ужасное… И так непоправимо… Там, дома, даже и не узнают, где и как я погиб – нелепо и случайно…
Все-таки я выплыл или меня вытащили из очень теплой и мутной воды. Слоненок выбрался сам. Но я уже не видел, чем все это кончилось. Потому что бежал через закатный двор к нашему дому. Вода текла с меня ручьями. Черная собачка кидалась и яростно лаяла на меня, чуя, видимо, запах гнилых фруктов и курительных палочек и не понимая, откуда я сейчас появился. Усатый хозяин ее, к счастью, разговаривал с дворничихой, которая опять что-то мела. Что они все время метут, ведь во дворе если не постоянная пыль, то грязь и лужи. Ну, прямо как там в далеком Бангкоке.
Я уже входил в свое парадное, кто-то ухватил меня за мокрый пиджак. Я обернулся: давешний слоненок – совсем близко, маленькие глубоко сидящие глазки, честное слово, улыбались.
– Привет.
– Привет, – повторил я машинально.
– А я к тебе, по поводу статьи, кутьи и тому подобной галиматьи…
– Послушай, – растерянно пробормотал я. – Почему ты не там, а здесь? И что за дикость затягивать хоботом и топить в гнилой воде?
– Что ты имеешь в виду? В воде, в виду или в аду? – недоумевал слоненок. – Я пришел, чтобы посоветоваться. И в журнале я тебя не топил, а наоборот…
В сером животном постепенно проступали знакомые черты: маленькие глазки, низкий широкий лоб и жесткая щетинка волос. Я сделал над собой усилие. Господи, это же Сергей из «Триумфа»! Действительно, пришел ко мне посоветоваться, как и что ему писать насчет нашей давнишней литературной группы «Конкрет».
– Да, да, конечно, – заспешил я. – Я знаю твое отношение к нашему кружку и с удовольствием тебе помогу.
– Где это ты под дождь попал?
– Дворник случайно окатил. Да ничего, надену сейчас сухое, – на ходу придумал я. И стряхнул незаметно кожуру пахучего плода с рукава, зацепилась кожистыми колючками.
Мы поднялись в мою квартиру.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
Всю ночь мне снились простодушные промытые до костей бело-розовые старушки-американки среди белых и серых непроницаемых великанских ступ и на каменных ступенях широкой лестницы в резиденции короля Рамы Пятого.
А наутро ты страшно разозлилась на меня, просто вся изжелта побледнела. Как тайка или китаянка.
– Ты был там!
– Вовсе нет.
– Не ври мне. У тебя рубашка пряностями пахнет.
– Может, от прошлого раза.
– А это тоже от прошлого раза? – и она протянула в узкой ладони смятый белый цветок.
– Так получилось, извини, – соврал я, то есть он.
Она отвернулась.
– А как же я? Как же мы? – сказала она в стену. Ноготь раскорябывал след от гвоздя.
– А мы всегда, когда захотим, – ответила стена, то есть царапина от гвоздя. Потому что, когда она была в ярости, я для нее уже не существовал.
– Сейчас. Иди ко мне, – прошептала она стене.
И стена подняла ее на руки и уложила на ковер. Потом стена сама легла на нее – углом между ног. Было непривычно больно.
– Я сама, – сказала она глухо и подняла ноги, чтобы стена вся вошла в нее.
Луч солнца коснулся темных волос, но это был прежний зимний луч. Они лежали обессиленные. Обещанной близости так и не наступило.
Перелет не состоялся.
– Прости, просто я был там слишком недавно, – прошептали руины. Но и она была не в лучшем положении. Гладкая пластиковая головка. Что могла ответить руинам кукла!
Впервые в ее головке зародился простой и коварный план. Кукла еще не знала сама, что уже решила привести его в исполнение. Я, вернее он, из нее выветрился.
– Попробуем еще, – сказала кукла Тамара из вежливости, снова отвернувшись к стене.
Но стена обрушилась. Там была дыра. Из дыры дуло. Дыра что-то невнятно говорила, обещала, уговаривала. Даже пыталась приласкать. Но как может приласкать отсутствие чего-то. А здесь было отсутствие всего, только голос, раздражающий своим вкрадчивым тембром. Кукла Тамара еле могла дождаться, когда голос удалится и смолкнет совсем. Но наступило и это – ближе к вечеру. Не хлопнула входная дверь, как обычно, будто выругалась коротко и грубо, никто не звонил. Просто вдруг в квартире ощутилось его отсутствие.
«Уйду один!» – обиженно-раздраженно подумал я, то есть какой-то посторонний во мне. «Уйду совсем». И ушел. Даже из собственной памяти. Потому что не хотелось мне ни вспоминать, ни думать, ни понимать все, что произошло между нами.
Тем временем личинка ярости, досады и непонимания совсем окуклилась. Освоившись в своей новой хитиновой броне, куколка Тамара сняла черную эбеновую трубку и тоненьким голоском попросила Сергея. Скорая помощь приехала действительно очень скоро – наверно, взял такси.
– Андрея дома нет, – сказала кукла.
Сергей удивился и стал похож на Андрея.
– Возьми меня на руки и покажи мне Бангкок. Я сама не могу, видишь. Не бойся. Нам будет хорошо.
Сергей заморгал, как Андрей. Но протянул руки и вынул куклу из инвалидного кресла.
– Переложи меня на кушетку, – командовала кукла. – Наклонись ко мне. Ближе, ближе.
Вблизи он был страшно похож на Андрея. И Тамара поняла, что все должно получиться, хотя риск был.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
Солнце прожигало огромные вечерние купы деревьев – лучи сквозь черную листву падали на скопление джонок и баржей, в которых жили семейства рыбаков, уличных торговцев, вообще бедняки. На шоссе рычали и взревывали моторы без глушителей. Бензиновый чад подымался в желтое небо Бангкока.
Я свернул в одну из узких улочек, в конце которой остановился туристический автобус. Туристы, по виду европейцы, толпились возле. Я не спеша подошел, будто гуляя, и встал рядом, на меня посмотрели, но ничего не сказали.
Гид – пожилой исчерна-тощий индус сказал:
– Now we look around the temple of China.
К храму шли через двор. По обе стороны были склады, жили люди. Женщина на камне чистила ножом рыбу. Гараж велотакси. В полутемной длинной комнате дремали синие и красные повозки с велосипедами.
Дальше жила выдра. Длинный серый с темной полосой вдоль спины зверек лежал на крыше своего домика. Что-то от кошки. Тело зверька перепоясывал кожаный ошейник с цепочкой. Внизу в глубокой цементной канаве поблескивала проточная вода.
А тут жил храм. Причудливо изогнулись зеленые драконы и лапами когтили белесое небо. Позолоченные львиные морды, яйцеобразные головы старцев с лукавыми щелочками, изгибы, извивы, завитушки, финтифлюшки – яшмовая пена направленной фантазии: мгновение – вечность. Отрицание времени.
Двигались мы или не двигались. У входа стояли два гранитных стершихся от времени круглых китайских льва. В пасти каждого свободно катался каменный шарик (шар в шаре!). Некоторые сунули руку в пасть и покатали – на счастье.
Гид продолжал бодро рассказывать: «Европейский человек представляет счастье так: любовь, деньги, свобода. Мы – иначе» —и он показал на расписанную фресками стену.
Плоский китаец, сидя на корточках, слушает флейтиста и смотрит на гейшу, изящно прислонившуюся к декоративному дереву. Другой дремлет, облокотившись на стол. Третий блаженно почесывает себе спину деревянной чесалкой. Четвертый ест рыбу.
– Всё это – счастье. Особенно – почесать себе спину. – Гид нас явно старался развлечь. – А знаете, какие самые нежелательные вещи на свете? Жить в японском доме. Получать зарплату, как китаец. И быть женатым на американке.
Между тем все незаметно для всех изменилось. Мы – туристы поднялись в воздух и распределились по стенам.
Один старый американец – седые волосы заплелись косичкой – слушает гида, присев на корточки среди круглых, как булки, облаков, и любуется молодой блондинкой в очень короткой юбке. Та вся выгнулась по изгибу стены, прислонясь к декоративному дереву, высокие ноги сжаты. Лысоватый провинциал (неизвестно откуда – все равно провинциал) задремал, облокотившись на стол. Двое молодых супругов – немцев почесывают друг другу спину деревянной чесалкой. А я ем рыбу. И откуда она взялась! Полусырая. Вкусно и странно. Но это же японская пища, насколько я понимаю!
Посредине храма стоит небо.
Несколько святых старцев с ореолами над яйцевидными кумполами благожелательно рассматривают свиток, на котором нарисованы две рыбки – одна головой к хвосту другой, капля, круг. Старцы неслышно хихикают, щелочки лукаво блестят, будто видят нечто приятное и смешное.
И я понял, мы – две забавные рыбки, одна головой – к хвосту другой. И все наши выпадения в этот мир и возвращения – одна капля. И никуда мы не уходим, и ни от чего мы не уйдем. И поплыл выше по своду, чтобы уйти хотя бы от этих насмешливых мудрецов. Туда в синий дым нарисованного неба. Мне ужасно захотелось тебя увидеть. Чтобы вместе, чтобы как эти две рыбки… неважно куда… Переворачиваюсь – теперь храм наверху – и ныряю в самую синь…
Тут я и оказался у себя, вот и окно – в стоящее дыбом Замоскворечье. Фонари лучатся на темном закате. Весна.
В глубине квартиры – в приотворенные двери было видно отражение в зеркальном шкафу: ты лежишь на кушетке навзничь, между твоих ног и тебя обнимаю… я! Вот и мой лысоватый затылок, темные волосы – даже гривка видна, и ковбойка, и спущенные джинсы…
Но тут же отражение в зеркале затуманилось – и мы исчезли, оставив меня одного в полном недоумении.
ГЛАВА ПЯТАЯ
Все в нашем кругу говорили разное, а думали только о себе и поступали так или иначе только для себя, поэтому эффект получался самый неожиданный. Мы были близки, что называется, поневоле, впрочем, давно привыкли к этому. И общались после всех наших душевных выплясываний, после обид и долгого замирания – не появления, как ни в чем не бывало.
Вот она в берете, который никогда не снимает. Сидит на диване перед нами, на низком журнальном столике – бутылка. Бледная колбаса и желтое масло. Она тянется вилкой к очередному ломтику, острые колени высоко подняты, юбка ползет вверх – приоткрываются плоские бедра с синими отметинами. Она увлеченно рассказывает о последней выставке, впрочем, нет, она рассказывает о замечательном молодом священнике, который понимает (вы представляете!) в современном перформансе.
Она всегда рисует картины перед моим умственным взором. Вот и сейчас. Я вижу, она (Таня) сидит на коленях этого молодого священника, скрестив длинные худые – позади его, он – в одном белье, таком вязаном грубом, она голенькая, но в берете, и прижимается грудками. И как ей от бороды его не щекотно! Обняв ее худенькие полушария, он ерзает под ней. Оба тяжело дышат. Ничего себе, перформанс.
Подобные картины она мне показывала часто и прежде – со всеми моими друзьями, признаюсь, и со мной тоже. Я, правда, ей не говорил, что вижу. Но она понимала, она всё понимала. Вообще-то она пришла к моей жене. И мне приходилось что-то врать насчет того, что Тамара спустилась вниз, что кто-то что-то тем более срочно…
– Да она из дома обычно без тебя не выходит! – удивляется Татьяна. И смотрит сквозь меня своими острыми карими глазками. Я делаюсь стеклянный. И мне неловко и как-то хрупко.
– Она с моим двоюродным братом, – изворачиваюсь я не очень умело. Она смотрит на меня так, я совсем таю в воздухе. Но что-то, видимо, остается. – У меня есть брат, очень похож, просто не различишь, художник по костюмам. Она поехала с ним на вернисаж. (Брата я только что придумал, но вдруг понимаю, что он у меня есть, просто мы давно не общались.)
– И на все вернисажи она с тобой ездит. У вас что-то происходит, признайся. Вы – такие домоседы. А теперь и не приглашаете. Никто даже трубку не берет. Куда вы все деваетесь? – допытывается дотошный беретик. Крупная родинка на левом крыле довольно милого носика вызывающе уставилась на меня.
Теперь она показывает мне такую картину: здоровенный пожилой дядька насилует ее сзади прямо на полу. И написана эта откровенная непристойность широкими смачными мазками. Мазня. Я все-таки беспокоюсь: ведь я, пожалуй, знаю, куда девалась Тамара, но где же теперь я? По всем физическим законам я не могу быть сразу в двух местах. А вот она – беретик – видимо, может. И может быть, попробовать выяснить, кто это был… Может быть, действительно, Игорь… . Чушь… – я вздыхаю.
– Что ты меня поймешь, я не сомневаюсь, – продолжаю я неуверенно. – Но все-таки надо нам объясниться. Мы все, во всяком случае, кое-кто из нашего кружка, живем в неопределенном времени и месте. Мы теряем себя и находим в самых неожиданных местах. И все отделываемся шуточками. Но мы уже достаточно об этом говорили – говорю я этой, глядя на ту, которая задыхается под здоровяком, смуглым, волосатым и совершенно лысым.
– Ты уже давно говоришь, как пишешь, и пишешь, как говоришь. Но это что-то новенькое. Ну, выкладывай – беретик смеется глазами. Но я вижу, что посерьезнела и собралась. Потому что вставила неприличную картину в массивную золотую раму и куда-то задвинула.
– Ну вот еще – информация к размышлению. В свое время, и ты тоже, учти, мы все дали обещание Абсолюту достигать высот и падать в глубины без лекарств и наркоты. Чтобы без насилия над природой. Но не без того, что ты мне сейчас показала.
– Но это же просто фон, – усмехнулся беретик не знаю чему.
– Скорее всего ты мне показываешь свои мысли, но бог со всем этим. В первое время мы собирались и рассказывали о новых ощущениях. О сыром дуновении весны хотя бы. О том, как на глазах разворачиваются в почках зеленые новорожденные. Такие свежие. Будто клеем смазанные. И пахнут так, что улетаешь.
– Это ты о себе, учти.
– А потом вы все стали приходить к нам все реже. Никто ни о чем не рассказывает. Никого нигде нет. Поостыли. И мы тоже. Но, признаться, у нас с Тамарой появился Сингапур.
– У нас у каждого свой Сингапур.
– Нет, нет, мы не стали снова баловаться. Ни ЛСД, ни жидкий героин, ни кристаллический, ничего подобного. Сначала мы улетали, когда мы были вместе. Но недавно я научился уходить один.
– Мастурбировал?
– Вроде того. Воображал.
– Ну и сильное у тебя воображение.
– Не ярче твоего. Развлекаешься.
– Видят и глазам не верят, ну это кто видит… Вот ты, например.
– А теперь…
– Теперь она ушла одна. Это ясно.
– В том-то и дело, что не одна. Со мною. Я сам себя видел.
– Не брата?.. Нет, все-таки ты пачку номбутала сжевал. А что, бывает. Спрятался сам от себя и употребил. Как старый пьянчужка.
– Таня, ты – нам близкий человек. Серьезно. Ушла она, будто бы со мной. Уже поздно. Целый вечер нет. Может быть там с нами случилось что-то. Хотя что я говорю! Я здесь. Можешь меня потрогать.
– Но ты же видишь… – беретик абсолютно серьезен.
– Да, ты умеешь создавать среду.
– А что же ты не последовал за ней? Ведь ты умеешь.
– Не очень-то приятно столкнуться с самим собой нос к носу. К тому же я не уверен…
– Я думаю, куда ей деваться, в Сингапур отправилась. Ну, мы тебя найдем, подружка – и Татьяна хлопнула полную стопку. Пила здорово, вровень, как говорится. И ничего.
– Водка не помешает, – снова остро глянула сквозь. И засмеялась, будто увидела нечто забавное за моей спиной.
– Да тебя я увидела. Тебя. А теперь смотри, со стула не слети.
На ковре я увидел себя – на Татьяне, голой в одном беретике. Как в зеркале, не совсем в зеркале. Там у той Татьяны губы были, как накрашенные. Бесстыдные. Над моим плечом они извилисто улыбались. Я видел, мне было хорошо. Мне. Действительно. Было. Хорошо. Она извивалась, как ящерица. Я еще успел подумать со стороны или будто со стороны: «Почему у меня с ней ничего не было? Что нам помешало? Она такая магическая, она – совершенство».
– Ты горячий, как лошадка, – говорила та Татьяна, поглаживая его, то есть меня, по обнаженной спине.
– Слушай, а ты – я тебя так чувствую… – и не успел я это сказать, как почувствовал, вернее, он почувствовал, да и вы все, мы почувствовали…
Плывет, поворачивается белый мраморный Будда с алыми губами. Губы неуловимо улыбаются, почти порочно. Из-под мягких век белый зрачок – в себя. —
И закатный свет – у входа, дворик, зелень, деревья. Я еще не Он. Но я уже почти Я. Я – символ, знак, колесо вечного движения. В пустоте полудня рисую свой иероглиф, который вписывается в вечно живую книгу космоса. Кто-то сказал. Я ответил. Кто-то сказал? Я ответил? Всё кончилось.
Мы вышли наружу. Храм был тридцатых годов этого века. Для туристов ничего особенного. Колониально-выставочный стиль. На белом фасаде – три красные свастики.
ГЛАВА ШЕСТАЯ
Я всегда думала, что Андрей и Сергей похожи, как дядя и племянник, все-таки Андрей постарше. Но сейчас, когда он толкал мою коляску по белому волнообразному песку к стоящему стеной невдали океану, я чувствовала, меня везет Андрей. И, как всегда, благодарность и любовь, кто бы что ни говорил. А то, что произошло накануне или даже сегодня, казалось, было давным-давно и совсем с другим Андреем, к этому – молодому – не имеющим никакого отношения.
– Смотри, – сказал молодой Андрей, – а волны желтые, совсем не голубые.
– Зато какие! Даже страшно!
Волны, действительно, были океанские – спокойно и величественно надвигались на нас всей своей массой и распластывались далеко по песку. На линии их отката валялась всякая мелочь. Пальмовые листья, древесный сор, черные кокосы и розовая кукла без платья и головы. «Вот так нырнуть, а потом всплыть где-нибудь на просторе без платья и головы!» И мне ужасно захотелось сбежать туда к прибою и лечь там на живот. Пусть накатываются и накатываются на тебя огромные волны.
Что-то внутри меня сдвинулось, будто часы переставили. Даже пискнуло. Удивленное лицо моего спутника. Молодой, молодой Андрей.
– Я хочу туда.
– Я тебя туда свезу.
– Погоди, я сама.
– Не чуди, пожалуйста. – «Всегда вежлив, всегда, при любых обстоятельствах».
– Я серьезно.
– Я тебя подниму и донесу.
– Нет, я сама. Просто помоги мне вылезти.
«Не стал спорить». – Обопрись на меня. Крепче.
Не знаю почему, я знала. Поднимусь сама. Несмотря на то что руки и ноги, как протезы. Слушайтесь меня, деревяшки.
И вот по спине и ногам побежали холодящие мураши. Боже, я превратилась в целый муравейник. Рывком встала, кресло откатилось. Я пошатнулась, Андрей успел – поддержал меня.
Я сделала один шаг. Другой. Казалось, это не песок, а камень, который при каждом шаге ударял меня в подошвы, подбрасывая. Но я шла. Господи, я шла. Пошатываясь, неуверенно. Откуда? Куда? Океан приближался рывками. Но все еще далеко. Я старалась бежать навстречу угрожающе-огромным волнам, переставляя ноги как палки, чувствуя себя неуправляемым деревянным циркулем. Ближе. Ближе. Рядом. И я упала лицом в волну. В очень мокрую, очень соленую, горькую, ласкающую воду (волосы сразу стали тяжелыми), захлебнулась от счастья.
– Тамара! Постой! Погоди, этого не может быть! Тамара! Ты же не можешь! Упадешь! Упадешь! Ты летишь! Возьми меня с собой! – запоздало кричал совсем юный Андрей где-то рядом.
– Но ведь доктора… – осекся он.
– Дубье – твои доктора, – сказала я с удовольствием и засмеялась прямо в волну.
– Доктора – шулера, – почему-то уныло согласился он.
Желтая раковина на алом фоне: ШЕЛЛ – надпись поперек. Бензоколонка на берегу.
Раковины точно такой же формы валяются здесь повсюду на крупном белесом от солнца песке.
Раковина цвета слоновой кости, небольших размеров. От краев к выпуклому центру сходятся легкие бороздки. Левый уголок отогнут, как краешек носового платка.
Если глядеть долго, перестаешь понимать, что это. Белый купол гигантского здания? Панцирь доисторического существа? Вот она – на ладони. Может быть, знак приветствия? Открытка из другого мира? Ключ, который может открыть во мне новый источник света и любви? Подумать только, какая совершенная и непонятная глюковина – раковина!
Мы идем по предвечернему городу, я толкаю впереди уже ненужную инвалидную коляску, не оставлять же на берегу. Перед нами по кафельному тротуару в мягком свете открытых магазинов движется индус в длинной белой юбке.
- Малайцы, китайцы, индусы, нищие,
- магнитофоны, рубашки, джинсы,
- чемоданы, баулы, зонтики,
- зонтики, зонтики, зонтики, зонтики,
- обувь, аптека, часы, харчевня,
- часы, часы, часы, часы,
- ткани, ткани, ткани, ткани,
- золото, золото, золото, золото,
- всякие мелочи и всякие мелочи,
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
В нашей жизни был еще один мир: экран телевизора. И это был самый загадочный и призрачный мир. Дикторы – симпатичные и красивые, гладкие мужчины и женщины заученно рассказывали нам о том, что происходит в стране, в Москве и в верхних этажах власти, как они это называли. Но дело в том, что вокруг ничего подобного не происходило. А верхние этажи власти были для нас сказкой, мифом. Время от времени до нас долетали звуки речей, торжественная музыка с высот, их показывали на экране, их просветленные лица, их красивые галстуки. Но что там совершалось на небесах, какие сшибались крылатые рати? Доносились лишь крики и звон стекла, предсмертные хрипы и шум падения грузных тел коммерсантов, расстреливаемых в упор киллерами.
Вокруг была третья жизнь, занятая самой собой. Высшие власти часто ругали, но все это как-то не касалось повседневности. Даже если не платили кому-то, то был это негодяй и вор – директор, и рыло его было всем знакомо, и кабинет его был известен.
Сначала была зима. И было холодно. Потом пришла весна. И стало тепло. В прежние годы у нас, жителей, было много денег, в магазинах зато было маловато продуктов и товаров. А то и вовсе все смывало с прилавков, как во сне. Теперь товаров стало много, а денег мало, но и это пройдет, как говорится. Вообще жизнь у нас шла полосами. Она как бы протекала сквозь нас то синим небом, то облупленной штукатуркой нежилого здания, то уставленным бутылками длинным столом – так и течет насквозь вся эта грязная посуда с объедками на скатерти, когда же наконец кончится? А то начнет кружить в вагоне метро по кольцевой, будто едешь и едешь – никогда не выходил. Но главная-то жизнь – это теперь блаженная полоса Сингапура, и все больше и шире затягивает, как новые безвредные наркотики. Да так ли уж она хороша? Не оттяпывает по ходу куски души? Этого я пока не знал.
Но вернемся назад, если вы уже не позабыли, туда – к моему мужскому, вкупе с Таней, варианту Сингапура. Итак, вечерняя, лучащаяся золотом улица продолжается:
- Всякие мелочи и всякие мелочи,
- Фотоаппараты и парфюмерия,
- Парфюмерия и конфеты,
- Парфюмерия и аптека,
- Парфюмерия и часы,
- Часы, часы, часы, часы,
- Зонтики, зонтики, зонтики, зонтики,
- Запахи, запахи, запахи, запахи,
- Апельсины, папайя, бананы, дурьян,
- Кухня на колесах, кухня на колесах,
- Жареные бананы на больших сковородках,
- Утки по-пекински, рис по-сычуаньски,
- Китайцы, малайцы, индусы, машины
- И – мотоциклисты! —
В красных, серебряных, голубых, золотых шлемах с блестками – и все это проносится, сверкает, кружится, завывает, глазеет, пестреет, насыщается, курит и пьет, будто огромное колесо китайского базара днем и ночью вращается вокруг нас. Только ночью все – мерцая огоньками в душной тьме. А кругом – незримый океан.
Черные силуэты больших деревьев на желтом закате. Темнота наступила сразу. Я и Таня двигались в толпе среди множества туристов, как я понимаю, не выделяясь ничем для местных. Я разменял стодолларовую зеленую бумажку на сингапурские доллары. И мы поели прямо на улице, присев за пластиковый столик. Увидев, что я отложил в сторону палочки, хозяин протянул нам вилки. Нет ничего вкуснее горячей лапши из крупных креветок с соевым соусом!
Под лихим беретиком сияли ненасытные Танины глаза. И я наблюдал время от времени в толпе странные картины – как просвет. В этом просвете – беретик то сплетался с каким-то смуглым юношей, то ее насиловал коротконогий щетиноголовый хозяин, то целая гирлянда пестрых мяукающих кошек повисала на голенькой. Хорошо, что, кроме меня, этого не видел никто. А если кому и нарисовалось и мгновенно исчезло, думаю, разумом не понял и не поверил.
– Перестань озоровать! – сказал я Татьяне.
Она засмеялась, но прекратила.
Пустая никелированная коляска свободно катилась по тротуару, рядом по обочине вез кого-то велорикша. Он с удивлением покосился на нее, не остановился. Но я-то знал, чья она.
– Здравствуй, – повернулась ко мне инвалидная коляска.
– Я тебя ищу, – отвечал я.
– Здравствуй, Таня, – сказал кто-то рядом. – Только не показывай картинок.
– А, Сергей, – поприветствовал я приятеля. – Конечно, я был не я, я так и понял.
– Конечно, не ты, – засмеялся слоненок. Но смех был каким-то напряженным.
– А ты… – обратился я и осекся… За спинкой инвалидного кресла стояла миловидная тайка – и смеялась всем: длинными глазами, челкой, белым воротничком блузки. Правда, можно было узнать мою жену, но в индокитайском варианте. Моложава, как все вокруг. Игрушечная женщинка. Я и не знал, что она может быть такой. Выздоровела каким-то чудесным образом.
– Поздравляю, – неуверенно произнес я.
– Ты будто и не рад.
Что-то во мне взорвалось. И все вокруг засверкало. Я как будто вспомнил себя, каким был, это было она. Это была снова она сто тысяч лет тому назад. До революции. До болезни. Еще здоровая или опять здоровая. Бесконечно и привычно дорогая, неужели я мог об этом позабыть? Но это же она. И, чтобы понять это, надо просто прикоснуться.
Я протянул руку и коснулся ее узкой кисти.
Вдруг черное небо обрушилось на землю очень теплым тропическим ливнем. И все закипело, потонуло в стреляющих от асфальта струях дождя. Мы успели спрятаться под навесом какой-то авиакомпании. В пустом помещении горели настольные лампы. И отовсюду на нас глядели лаковые рекламы, плакаты, мерцали экраны компьютеров. Улыбались фотомодели-красотки и настоящие мужчины заученными улыбками. И мы сами себя ощутили «по щучьему веленью, по моему прошенью» беззаботными и счастливыми. Ты показала мне: рядом, прислонясь к стеклу, стоял коричневый мишка-коала почти в человеческий рост. Не сразу понял, что чучело. Неподалеку, не обращая внимания на потоп, почти по-московски ловил такси парнишка в рубашке из синего батика. Башмаки на платформе. Видно, небольшого росточка. Глянул, равнодушно улыбнулся – и мы все вместе с коалой и туземным юношей закружились в дымящемся хороводе, в огнях под счастливым небом Сингапура.
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
На краю Сингапура лев-русалка (герб города) скалится на океан. А там на рейде – сотни торговых судов на весь горизонт. Белое солнце (оно же черное, если долго смотреть) – в облачках и наливающаяся мутью половина неба. Львиный город – весь на вертикалях. Небоскребы – в тени и на солнце. Одни – в ромбических балконах. Другие – закругленные, как пароходные трубы. Небоскребы – стелы с круглой стеклянной коробкой наверху. Дом, похожий на океанский лайнер: внизу круглые иллюминаторы, высокий борт, несколько палубных этажей и выше ступеньками балконы, уставленные экзотическими цветами. Билдинг весь стеклянно-золотой, так отсвечивают окна. Ниже ярусом – солидные викторианские дворцы с колоннами, церкви, мечети, китайские храмы. И в глубину – прямые двухэтажные улицы с вывесками: латиница, иероглифы, арабская вязь. Но заслоняют все огромные натуралистичные афиши американского кино: героиня с пистолетом в мини – ноги, пожалуй, выше небоскребов.
Таким Сингапур предстал мне с Тамарой и, возможно, нашим спутникам. Мы теперь, считай, одна семья. Наскоро посовещавшись, мы решили не возвращаться пока. Тем более что, по всей видимости, мы были вовлечены в какой-то бесконечный тур. Нас подзывали гиды к автобусу, везли к очередному отелю. Там кормили, вручали ключи от наших комнат. А поднявшись в номер, мы обнаруживали наши чемоданы, уже распакованные, и одежду, аккуратно развешанную горничной в шкафу. Это было настоящее волшебство, но не волшебней всех наших прежних перемещений. Допустим, кто-то за все заплатил и просто не хочет в этом признаваться.
Одна была неловкость, к которой лично я все как-то не мог привыкнуть. Номера наши были двухместные, но, в сущности, это была жизнь вчетвером. Душными ночами (не везде был кондишен) Тамара называла меня Сергеем. И я ловил себя порой, что обнимаю не ее, а Таню, между прочим, с особым сладострастием. Или это были просто волшебные картинки нашей приятельницы? Которая вместе с Сергеем (так я думал!) занимала соседний номер. Или, подозреваю, жила тут же в этой комнате, но каким-то вторым планом, неявно. Кто знает, во что превращается и какие причудливые формы может принять праздник жизни, когда исполняются все наши желания! Впрочем, это бывает только в воображении. Но если им поменяться местами – воображению и реальности… Наверно, мы все были сумасшедшими, что нисколько не мешает нашему прыгающему повествованию.
Главное, Тамара была как прежде – когда-то, пусть неуверенно, часто присаживаясь отдохнуть, она ходила и ездила с нами всюду. Она была счастлива и не жаловалась на ноги.
Вот и теперь в храме Спящего. Во всю далекую глубину его простиралась фигура возлежащего гиганта, очертания ее терялись в полутьме за колоннами – холмы и предгорья. Подробности трудно разглядеть, всюду – подмостки, по которым расхаживают рабочие в синих комбинезонах, временами непочтительно оглашая храм деловыми возгласами. Статую, видимо, ремонтируют, подновляют.
Из полутьмы – огромный полузакрытый глаз. Око, следящее за тонкой муравьиной струйкой туристов, привычно текущей где-то там внизу от головы гулливера к пяткам. Наверно, Ему из его Вечности мы виделись нескончаемым ручейком. Ведь Ему надо сделать определенное усилие, чтобы отделить сегодня от завтра, год от года, столетие от столетия.
Туристы с гидом шаркали где-то впереди, мы с Тамарой несколько поотстали.
– Ты не устала?
– Как легко здесь дышится! Пахнет сандаловым деревом, слышишь?
– Это от курительных палочек. У тебе голова не кружится?
– Кружится… хорошо…
– Давай отдохнем? Здесь можно сесть прямо на пол.
Мы опустились у колонны. Скрестили и поджали под себя ноги, как азиаты.
– Пружинит. Удобно, – сказала Тамара. – Ты сам – и стул и сидящий на стуле, мудрый Восток.
– Восток знает многое – другое, чем мы.
– Спящий! Он же больше самого себя! Во много раз!
– Интересно, какими мы ему кажемся? Наверно, ничтожествами какими-то, букашками.
– Как приятно чувствовать себя ничтожеством. Я никто, – сказала она и посмотрела на меня потемневшими большими глазами. – И ты никто.
Мне понравилось.
– Давай будем так и звать друг друга: никто.
Она счастливо засмеялась.
– А на имя не будем откликаться – ни Сергею, ни Тане.
– Да есть ли они сами?
– Сергей! – неожиданно громко позвала Тамара.
Молодой монах в желтом укоризненно обернулся. Он прижал палец к губам и не спеша, бесшумно ступая по гладким шахматным плитам, подошел к нам. Присел на корточки. Возвел глаза и руки к далекому куполу. Неожиданно деловито спросил:
– Where are you from?
– We arrived here from Russia, – ответил я, радуясь случаю поговорить по-английски, который я знал нетвердо – иначе говоря, badly.
Монах повел себя странным образом. Он неожиданно выпрямился, отскочил, затем наставил на нас пальцы автоматом-пистолетом.
– Тра-та-та-та! – изобразил автоматную очередь.
– No, no! – заторопилась Тамара. – Not at all! Russia is not war. Russia is peace!
Монах вскинул костистую стриженую голову к уходящей вдаль храмины горе и указал нам на нее. Затем опустился на корточки и погрузился в свои медитации или во что там еще, во всяком случае, мы для него больше не существовали, хотя ты заговорила несколько повышенным тоном, явно надеясь привлечь снова внимание молодого монаха.
– Вот как здесь о нас думают.
– О них, не о нас, – поправил я.
– Не в этом дело, просто для них мы тоже определенный стереотип, – возбужденно продолжала Тамара. – Но как им объяснить, что всеми своими медитациями они не достигнут того, чему мы с тобой научились, и так легко. Любовь – вот ключ ко всем тайнам.
– Или нас с тобой этому научили, – поправил я.
– Кто?
– Может быть, Он, – я показал на Спящего.
– Мы меньше, чем ничто, мы Ему снимся, – задумчиво произнесла ты.
– И чувство наше… Возможно, тоже – Его воображение…
– Нет, оно принадлежит только нам, – твердо сказала ты и сразу переменила тему. – Смотри, они уже дошли почти до конца. Идем посмотрим на пятки Спящего.
Пятки, действительно, были великолепны. Они торчали перед нами, как две памятные плиты, колоссальные ступни черного дерева с перламутровой инкрустацией. На пальцах – дактилоскопические узоры: на каждой подушечке – красная спираль. Разматывается в бесконечность: нарастание, преображение, повторение. На подошвах были изображены картины человеческого бытия. И все мы, перед ними стоящие, боялись нарушить гулкую тишину, понимая, что все это про нас.
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
Мне было немного досадно, что монах так небрежно отнесся к нам. Андрей, как всегда, не понял, не врубился. И сразу пропал для меня. Я уже не могла говорить с ним, его просто не стало, рядом со мной шлепало войлочными тапочками по плитам пустое место. Я из вежливости поворачивалась к нему, что-то односложно отвечала. Из пустоты дуло разными умными словами. Но здесь я могла размышлять только о главном. А оно было перед моими глазами.
1. Вот сидят мои мать и отец за обеденным столом. На тарелке перед ними лежит сияющее яйцо. Окно забрано решеткой. Снаружи в него заглядывают дикие лица.
2. Вот мои родители сидят в гнезде, опутанном колючей проволокой, между ними птенчик с моим личиком, можно узнать.
3. Вот горящее дерево. Сами ветви его, похоже, из колючей проволоки. На дерево падают бомбы. Ангел схватил за шиворот моих родителей и выхватил их из гущи веток, они сопротивляются и дрыгают ногами в воздухе. Мама прижимает птенчика к груди.
4. Отца ангел уронил, и он с криком исчезает в пламени. Кто-то говорит: «Сводка по медчасти. Сактировать».
5. Меня и маму перенесло на дачную клумбу. Мама положила меня среди пышных подмосковных пионов. Я уже не птенчик, и цветы осыпают бордовыми и белыми лепестками мечтательную худую девочку.
6. Под высокой сосной мы, дети в белых халатах, считаем падающие сверху шишки и складываем в высокие кучи. Кучи шишек растут. Кто-то говорит: «Замуж пора».
7. Я и какой-то – дыбом волосы смотрим на яйцо, сияющее на тарелке посредине белой скатерти. Вид сверху.
8. Дыбом волосы в ярости бросает яйцо на пол. Оно разбивается. Я плачу. Кто-то говорит: «Старая сказка. Уезжай. Сохрани хотя бы себя».
9. Я убегаю от самой себя. Я маленькая в ужасе бегу по лугам и горам от большой себя, к тому же вооруженной большим ножом.
10. Догнала и зарезала себя без жалости. Меня судят. За судейским столом кто-то знакомый. Говорит: «Виновна, но достойна снисхождения». Узнаю, судья – тоже я. Отпустили на поруки. Самой же себе. Зарезанной.
11. Длинная очередь. В горе – дыра. Там фабрика. Откуда столько каолиновой глины? Кто-то говорит: «Перемолоть». «Надо ей сначала Сингапур показать, – возражает кто-то. – А если и тогда себя не сохранит, вылепите из нее ночной горшок и разбейте его без жалости».
12. Херувим с восемью крыльями, множество очей по всему телу, берет и несет меня по синему небу на остров небоскребов.
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
Перед торчащими ступнями Спящего столпились почтительно и недоуменно. Шли, шли вдоль великана – и в конце пути вот такие непонятные изображения.
Тамара уставилась, как в трансе (знаю я это ее состояние: глаза-точки), на концентрические круги и геометрические фигуры, начертанные на пальцах. Они напоминают картины и мобили, которые выставляла группа «Движение». В свое время Тамара рисовала нечто подобное, я помню ее синие и красные солнца на вернисажах подпольного искусства. До сих пор помнят художники ее взлет, а она, как села в инвалидное кресло, стала делать эскизы для фарфора и тканей. Я и сам тогда писал стихи, непонятные самому себе. Знатоки говорили, что стихи мои написаны в духе и стиле герметизма. Но их никто не печатал, надо было зарабатывать на жизнь и вообще определяться, общество было жестким к инакомыслящим, я устроился работать в газету и даже начинал находить особое удовольствие ночью просматривать еще не просохшие, с липнущим к пальцам оттиском, свежие листы. Мой товарищ по лито Иванов-Петренко, сатирик, говорил: «Добро века ты променял на злобу дня».
Между тем концентрические круги медленно вращались и затягивали меня в глубину, неуклонно ускоряя свое движение. Я падал, кружась по спирали все теснее и тесней. И наконец очутился в неопределенном пространстве, где все фигуры колебались, изменяясь и расплываясь. Как будто нас кто-то рисовал, не вполне уверенный, что именно хочет нарисовать.
1. Надо мной наклоняется большое сердитое лицо отца, которое переплывает в оскаленную морду овчарки. Но это морщинистое лицо нашей бабушки в белых буклях.
2. Бабушка-овечка злобно говорит: «Нас всегда воспитывали и закаляли. Мы и зимой ходили с голыми ногами по Тверской. А ты не хочешь есть манную кашу всем нам на радость».
3. Мама насильно всовывает мне в рот непомерно большую ложку, которая раздирает мне губы: «Ешь, сыночек, ешь! Это тебе полезно». Каша горячая и обжигает мои внутренности.
4. Меня моют в корыте. Чьи-то жесткие неумолимые руки. Я не хочу, не хочу. Едкое мыло разъедает мои глаза. Подняв голову, вижу вместо родных лиц грубые будто прокопченные черты прачек. Прачки поют хором: «Будь мужчиной! Будь мужчиной!»
5. Я скольжу по волнистой стиральной доске и скатываюсь в бассейн. Там на меня набрасываются толстые голые женщины. Со всех сторон – груди, руки, ноги, губы, залепляющие мне свет. И все кричат: «Мы твои мамочки!» Еле вырвался. Где я теперь?
6. Мы сидим амфитеатром – монахи. На кафедре красивая женщина. Кричит резким голосом Гитлера. Мы поднимаемся и выходим вперед. Корчимся и подпрыгиваем. Голос подстегивает нас, как хлыст. Выходит из‐за кафедры голая в высоких сапогах, неужели мама? Она обнимает меня – вся прижимается. «Будь мужчиной, сынок». От волнения теряю сознание.
7. Очнувшись, понимаю, что держу в руках большую деревянную винтовку образца 1891 года. Мы идем строем, рассыпаемся цепью в парке, бросаем деревянные ярко раскрашенные гранаты. Нами командует какой-то парикмахер с полуседой щетиной. Мне становится так хорошо, как не бывало никогда прежде. Меня никогда не убьют. Меня убивают.
8. В гробу меня бреют. Мой командир в белом отутюженном халате, заботливо склоняясь и придерживая двумя пальцами мой заостренный нос, намыливает мои щеки и снимает хлопья белой пены опасной бритвой. Слышу голос: «Теперь наконец ты станешь мужчиной, сынок».
9. С изумлением смотрю на малыша, которого показывает мне незнакомая женщина. Я, оказывается, сам отец. А это моя жена. Она передает мне ребенка. Неожиданно он вцепляется мне в лицо, раздирает с нечеловеческой силой. В ужасе отбрасываю его. Не хочу быть мужчиной.
10. Я убегаю. Моя жена и мой сын – этот, выпутываясь на бегу из пеленок, гонятся за мной. Прячусь в неровностях земли.
11. Совсем угнездился в ямке. Я такой маленький, что меня можно принять за мышонка. Я всегда знал, что я мышонок.
12. Сверху опускается хищная тень. Когти обхватывают меня и поднимают в высоту. Кто-то показывает мне города и дороги. Столько вижу людей, что не в силах с этим примириться. Летим над океаном. Вдали светится остров небоскребов. Все ближе, ближе…
Восемь штук медных накладных ногтей в пакете сунула мне в руку пожилая быстрая женщинка. Мы толпой вышли из ворот. Я показал их Тамаре. Она засмеялась и отрицательно покачала головой. Я отдал пакетик продавщице. Но она тащилась за мной вдоль крепостной стены к автобусу и настойчиво убеждала меня: «Ван доллар! Ван доллар!»
Улучив удобный момент, настырная торговка снова вложила пакетик в мою руку. Как не купить, тем более что с этих медных ногтей начинается наше повествование.
Вокруг кричащие гомонящие мальчишки осаждали туристов. Медные колокольчики, открытки, грубые деревянные статуэтки, мечи в резных деревянных ножнах. Туристы смущенно отбрыкивались и лезли в автобус. Мальчишки не унимались. Они чертили пальцами на стекле цифры, просовывали деревянные мечи в открытые двери автобуса. Всюду сверкали черные глаза этих сингапурских цыганят. «Действительно, подумал я, правду нарисовали мне пятки Спящего, всем от всех что-то надо в этой жизни. Вот и мне навязали медные когти, которыми я могу только царапать свою тетрадь вместо авторучки».
На душе было смутно. Да и Тамара была неразговорчива. Куда делись Сергей и Таня, я не понимал. Но кое-что подозревал все-таки.
Когда мы выходили из соседнего индуистского храма, по обеим сторонам нас провожали изваяния двух демонов: красный и синий. Женственно изгибаясь, обе фигуры будто текли всеми своими чертами. У красного демона волосы стояли дыбом. А синий, воздев руку, длинным неестественно изломанным пальцем указывал на рельеф, идущий по верху стены. В разных ритуальных позах садились друг на друга и сплетались мужчина и женщина, пухлые и похожие, как близнецы. Это были явно Танины картинки.
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ
Посередине мутной широкой реки, вся она шла мелкими волнами. Мальчишка вынырнул из воды – ухватился рукой за борт катера. Другая рука протягивала нам мокрую деревянную фигурку Будды.
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ
В антикварном магазине я склонилась, рассматриваю гладкие деревянные фигурки демонов под стеклом. Очень старые и очень живые.
1. Демон с губой, отвисшей до колен, пытается что-то сказать.
2. Демон засунул в пасть свою руку и ногу и пожирает их.
3. Демон высунул длинный язык, которым щекочет свою же пятку.
4. Демон обеими руками яростно сдавливает свои женские груди.
5. Демон жадно пьет из чашки свою кровь.
6. Демон щипцами откусывает себе причинное место.
Вы знакомы мне, демоны самомучения. Сколько раз я топтала свое самолюбие, унижала себя завистью и ревностью терзала себя по ночам. Я думала, что я небрежная, забывчивая, но христианка. А мои демоны пожирали меня у всех на глазах.
Теперь знаю, мне показали моих демонов. Они – во мне.
ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ
– Хэлло! – горничная, с виду подросток, вошла днем в наш номер перестелить постель. Тамара была на пляже. Видимо, горничная решила, что я хочу отдохнуть или что там еще, не знаю. Она наклонилась над покрывалом и из-под алого форменного платья выглянул ужасающе грязный край шелковой сорочки. Оглянувшись, она легко и страшно улыбнулась.
Вечером – уютные и хрупкие. Широкие лица и широко поставленные глаза, чувственный плоский рот и слегка приплюснутый нос.
Так округленно и женственно движутся, покачивая задиком, что уличные фонари и лавки китайских ювелиров льют золотые слезы, отражающиеся в черном канале, где темнеют плавучие жилища-лодки, крытые рифленым железом.
Здесь кошки обыкновенные, как и у нас.
ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ
260 ступеней вверх ведут к пещере – храму, посвященному индуистскому богу войны. Вверх в гору текла струйка туристов, среди которых были и мы с Тамарой. Тамара быстро утомилась, мы присели на каменную скамью.
– Спустимся вниз, – предложил я.
– Нет, хочу взглянуть, какое лицо у бога войны.
– Понятно, какое: вместо глаз – дула орудий, вместо зубов – черепа, вместо ног – гусеницы танков.
– Не думаю. Скорее всего, он похож разгневанного Шиву: шесть рук – и все вооружены мечами и копьями.
– Ну, одна-то, наверно, со щитом.
– А кто на него может напасть? Он бог войны.
– Его побеждает время.
– Время побеждает всех, – сказала ты и усмехнулась.
– Почему женщины так чувствуют время? – подумал я вслух. – Оно вас разрушает, вот почему.
– Но у нас есть свой Сингапур, – на лице твоем блуждала странная обреченная улыбка.
– Не у всех, – заметил я.
– И не навсегда, – сказала ты.
– Ты так говоришь, будто тебя скоро казнят.
– Кто знает…
Наконец мы одолели все 260 и вошли в высокую пещеру. Там высоко над нами, примерно метров в тридцати, то тут, то там из дыр в каменном потолке падала с шумом вода. В полу пещеры тоже были проемы, и вода исчезала в них, сливаясь где-то там внизу в отдаленно грохочущую подземную реку.
Вот он, алтарь бога войны, он украшен гирляндами цветов, розовых и белых. Сам бог закутан в красную и черную материю. Семейство индусов благоговейно взирало на него. Полная женщина в темно-золотистом сари низко присела перед изваянием и увенчала его круглую головку розовым венком. Сложив темные ладошки. молились ему две ее взрослые дочери. А статный в белом супруг благодарно склонил свою смуглую лысину.
Страшное лицо у бога войны. И странное. Приглядевшись, обнаруживаешь, что это сталактит с намеченными на нем суриком глазками и ртом.
– Но это же каменный фаллос! – сказала ты в глубоком изумлении.
Рядом веером торчит разнообразное оружие. Стальной трезубец – на нем тоже красные глазки и ротик. Черная палица – тоже с нарисованным личиком. Меч также провожает нас своими воспаленными косыми глазками. Разные вочеловеченные личины бога войны, который сам не что иное, как напряженный мужской член.
ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ
(Читатель, надеюсь, меня извинит, что я весь Моллукский полуостров называю Сингапур – и Малайзию и Таиланд. Это мой Сингапур, наш.)
Простодушные, промытые до костей бело-розовые старушки-американки в резиденции короля Рамы Пятого. Они мне снились прежде.
Натуральные фигуры слонов, каменные парадные лестницы, колонны скорее в греческом стиле – дворец девятнадцатого века. Равнодушные солдаты охраны с американскими карабинами.
Изогнулись в лазури золотыми когтями танцовщиц коньки на кровлях пагод.
Во внутреннем дворике случайные встречи.
Красавица-итальянка, миндалевидные глаза, косо спадающие гладкие волосы. Такую и в кино не увидишь. Улыбнулась да так откровенно – не мне. Вон той. Порочное создание.
Опустила глаза. Хотя – почему бы нет. Таиландочка в чем-то желто-сине-зеленом, сидящая на плитах террасы и читающая книгу. В которую заглядывает сбоку серое изваяние: лошадь-крокодил.
При выходе из храма нефритового Будды. Под раскидистым деревом с плотной глянцевитой листвой обласканные белесым солнцем улыбаются в камне, существуя блаженно вне времени – святой и две обезьяны.
Трепещут листочки сусального золота на лице, на губах и веках каменного Целителя. О, милая! Он мимолетно улыбается. И меня посещает блаженство. Я выпадаю.
Жгут покойника. Вдали мягкие складки гор. Это твои холмы.
У сараев на зеленом лугу с проплешинами – места прежних сожжений – стоят автомашины, грузовики, толпится народ, родственники, монахи в желтом. Это твое лоно.
Жарко горит красный с золотом деревянный саркофаг. Многоярусная кровля на четырех витых ножках. Занялась. Прижмись ближе!
Оставляя полосы дыма, одна за другой взлетели в сине-зеленое небо четыре ракеты. Лопнули со страшным треском в высоте. И с легким шорохом вознеслась душа. Лишь отгоревшие кольца падали вниз. Меня здесь нет, я – в твоем небе.
О, золоченые демоны – девы на куриных лапах!
О, демоны – петухи!
О, лысый человечек с киноаппаратом!
О, солдаты в чалмах, их мужское достоинство – их карабины!
О, простодушные старушки-американки, их веснушчатые руки!
О, когтистые лапы пестрых перил!
О, узкие кисти с бледными ногтями, перелистывающие детектив!
О, все эти Хемингуэи, Грехемы Грины, Ремарки и Маркесы моей юности!
О, все пойманные ими форели, блеснувшие на солнце!
О, все их женщины, улетающие в простынях!
О, все бьющиеся в клетку юношеских ребер сердца!
О, все эти ступы, одна другой выше и толще!
О, этот путник, уходящий все дальше и дальше!
О, его уже почти не видно в глубинах пространства!
О, он опять вырастает, бритый, круглоголовый, мягкие складки одежды, заслоняя небо! Стучит и стучит его миска!
О, золотые когти пагод, когтящие небо!
О, небо, когтящее сердце!
На лугу догорали три костра. Народ не спеша расходился. Некоторые улыбались, старались, видимо, не показать свое горе, ведь ничего ужасного не случилось. Души перешли в иные существования. И может быть, мы еще встретимся на перекрестках многоярусного бытия во Вселенной.
Очень далеко видно. Пожалуй, даже за горизонт.
За стеклами отъезжающего «Мерседеса» – бритые головы, желтые складки ткани. Зачем разъезжать в «Мерседесах» монахам? Пусть медитируют или берут пример с нас, обитающих где-то по соседству на ближайшей странице.
ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ
Душная темнота окутала нас – тяжелое ватное одеяло. Скользкие руки, груди, животы едут, перекатываются – плоть раскрыта своей алой во тьме изнанкой…
…краешек лунного квадрата
…губы и нёбо
…луна на смуглой спине
…снова удаляется путник
…догоню, догоню, догоню!
…гладит мою шелковистую гривку
…Я ужасно ревновала тебя. Вокруг было столько женщин: и в амфитеатре и коридорах. И все они такие бесстыдницы! Подходили, не обращая на меня внимания, так – искоса стрельнув нарисованным глазом: кто, мол, такая? – оживленно заговаривали с тобой. А ты нарядился: красный пиджак, желтая рубашка, зеленые брюки и галстук в цветочек – почти до полу – настоящий клоун. И ты мне ужасно нравился. И чтобы отомстить за то, что ты мне так нравишься, я наступила на конец твоего нелепого галстука. Ты рванулся, запнулся, не понимая, потерял равновесие и полетел – шлепнулся на гладкий паркет. Вокруг засмеялись. И вот такой – растерянно-недоумевающий, с коленками в пыли и поцарапанным ухом, свергнутый с вершины твоего торжества и мужского кокетства – ты мне нравился еще больше!
…луна заливает все бунгало, можно сказать, окунулись в луну.
…твои губы, язык…
…снова пробуждается: я – это он!
Темная рама окна – с головкой ящерицы…
…кто кричит: мы или ящерицы? Или птицы на берегу? Черный мохнатый страусиный кокос.
…плаваем друг в друге
Я сидел в парикмахерском кресле, довольно крупная женщина-парикмахер стригла меня, прижимаясь то коленом к моему бедру, то нависая и впечатываясь в мое плечо большим мягким животом. Я был совсем юным и худым, мослы мои выступали, ребра можно было пересчитать, и окунаться в такое стратостатно-воздушно-упругое было очень приятно. Я видел в зеркало: она о чем-то говорила парикмахеру за соседним креслом, поворачивала мою голову легким и точным толчком руки вправо, влево, вниз подбородком – теперь я не видел ее – и продолжала прижиматься ко мне. Хотелось, чтобы это продолжалось вечно.
…луна уходит с постели.
…и ты отвернулась.
…я и не заметила, когда ты отодвинулся от меня, потянув на себя простыню, почти на край.
ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ
– Зажги свет.
«Болит низ живота».
– Не надо. Луна.
«Будто и не она. А как кричала!»
– Хорошо здесь.
«О, мой бог войны!»
– Я даже не знаю, где мы.
«Не все ли равно».
– Ящерица – на стене. Замерла.
«Душно. Море дышит».
– Это она руки твоей испугалась.
«Надо принять таблетки. Где они?»
– Ты не видел, где мои таблетки?
«Опять она – свои пилюли!»
– Посмотри в своем чемодане, там, в кармашке.
«Уже охладел. Они всегда так».
– Ты куда?
«Не видит, что ли…»
Пауза. Все-таки слышна в комнате звонкая струя и шум падающей в фаянсовую чашу воды. Вернулся. Завернутая в простыню кукла уставилась в стену.
«Надо ей что-нибудь сказать. Не может без романтики».
Между тем все – в белом призрачном свете: стена, стул, тень от ящерицы. Ты сама – тоже одни глаза.
– Какое все призрачное. А тело твое прозрачное. Джин с тоником хочешь?
«Наконец-то повернулся душой!»
– Просто швепс, без джина, со льдом. Смотри, ящерицы прыскают по стенам, как темные струйки.
– Держи.
«Глаза блестят, спрошу».
– Ты не хотела бы вернуться?
«Хочет вернуться! И слышать не хочу!»
– Куда?
«Сама знаешь».
– В Москву.
«Ну да, в инвалидную коляску!»
– Пошли на берег, искупаемся в океане.
«Не хочет отвечать».
– А все-таки?
«Убила бы!»
– Видела я твою Москву, в кривом чайнике Кремль – пузырем. Признайся, к своим потянуло? Литературная душа.
«Сердится».
– Ну и глупо.
«Слез с меня, сразу все забыл. А я боюсь. Боюсь возвращаться. От ярких – к бесцветным. Из океана – в коляску».
– Там все церкви, музеи – фанерные декорации, за которыми клопы ползают. А здесь все настоящее.
«Останется? Без меня?»
– Я если нас вернут и не спросят?
«Мне отсюда – нельзя. И вправду, вылепят из меня горшок и разобьют вдребезги».
– Уцеплюсь за пальму, притворюсь малайкой, замуж за местного рыбака пойду! Чем опять на вашу помойку!.. Да и есть ли она – Россия? Как на этой планете поверить в нее?
«Лицо исказилось. Как подурнела!»
– Ты же знаешь, что мы себе не принадлежим.
«Никому меня не жалко».
– А я им не принадлежу.
«Останется. Решено, вернусь».
– Здесь и правда райские места. Но скажут, знаешь, как говорили в свое время советским дипломатам: вас вызывают в Москву. А нам и не скажут – просто выдернут отсюда.
«Он меня любит. Почему же меня не любить? Кто он такой, чтобы меня не любить? Любит – будет со мной».
– Нет, тебе все равно, что со мной будет.
«Не понимает. Никогда не понимала».
– Нет, не все равно. Все-таки мы здесь чужие, мы из другого мира. Сретенка, Покровка – слов таких здесь сроду не слышали. Когда я сказал одному мальчишке-торговцу, что мы русские, «Russian! I know! – обрадовался он на пиджин. – Вы испанцам в футбол проиграли».
«Боюсь нутром».
– Знаешь, я всю свою недолгую жизнь хотела куда-то. Оказывается, я хотела только сюда.
На стене, белой от лунного света, происходило вот что. Ящерка догнала ящерку и мгновенно взобралась на нее – обе застыли в лунном свете двухголовым чудовищем. Длинные извилистые рты улыбались знакомо. Танина, Танина картинка.
– Угадай, кто мы?
«Нет, этого не может быть! Ящерка в беретике!»
– А как насчет вчерашних демонов? Еще не то покажу.
Разбежались ящерицы на стене. Мы в тенях, как в призрачной паутине.
– Чистые пруды мне уже и не просвечивают, – тихо сказала она. – А что, если это все: океан и небо – и есть настоящая реальность?
«Наверно, я ее не люблю».
– Боюсь, это прекрасный сон, проснешься, а ты дома.
– А я всюду дома, даже в теле твоей дурочки – моей сестры.
– Нет, нет, это мы там спали. Ехали в метро – спали, слушали лекции – спали, сидели на службе – спали, толковали вечером о свободе – спали на кухне, и когда любили – тоже спали друг с другом, ничего другого нам просто не оставалось. Спасибо Спящему, наконец-то мы проснулись. На берегу хорошо. Только шепот какой-то слышен, посторонний. Слышишь?
«Это Таня».
– Никого.
«Это я».
– Неспокойно на душе.
«Вернешься. Ты вернешься».
«Таня, ты где?»
– Не позволят нам быть вечными туристами. Кто бы они ни были, Тамара!
«О ком ты думаешь? Думай обо мне! Ты обязан думать обо мне».
– Ты считаешь, это экзамен?
– Прощай.
Ящерка метнулась в щель двери. И сразу стали слышны писки летучих мышей, шорохи змей и ящериц – и все покрывающий своей влажной пеленой шум океана.
– Страшно, а вдруг не выдержишь? Экзамен, ерунда! Неужели меня, вот такую гибкую, ладную, меня можно разобрать, размолоть, развеять? Брать и разобрать… Брутто и нетто… (она что-то забормотала.) Брат мой, любимый, помоги мне… объясни… Не хочу уходить из него… из тебя…
Я глядел на тебя и думал. Конечно, ты была беззащитна и таинственна. Может быть, слишком сложна для меня. Прежде о тебе надо было заботиться, брать тебя на руки, скорей всего, ты мне заменяла ребенка, которого у нас не могло быть. И я тебя отнес в твой Сингапур. Но здесь ты – полноценный человек. И не нуждаешься во мне. Что за силы заботятся о тебе? И не бросят ли они нас в этом раю, который нам показывают? Забудут где-нибудь в китайском квартале. Слишком хорошо все, так складно, что почти бессмысленно. Как калейдоскоп. Каждый раз, когда поворачиваешь трубку, возникают новые симметричные узоры. А это просто кусочки стекла пересыпаются, отражаясь в трех зеркалах. Я подумал, что таким может быть сон, а не жизнь. Но, видно, ты и хочешь свою жизнь прожить в этом сне. А я?
Ты уснула, белея в постели, даже черные твои волосы белесы. Полная луна окатывает серым светом и нашу туристическую хижину, и берег океана совсем рядом. Такие бесконечно длинные шелестящие звуки ложащейся на песок гигантской волны-медузы не услышишь где-нибудь у нашего Черного моря. Все здесь крупнее: и луна, и пальмы, и волны. И такое блаженство, что все равно – жить или совсем не существовать.
И все же сквозило мне в ночи сквозь лунную завесу, сквозь всех этих сиамских ящериц, сиамских кошек, сиамских близнецов, сиамский бокс – мелькающие ноги и руки, – и сиамских слонов. Московское небо, крыши и люди. Волна грянула, докатилась до своей крайней точки и должна отхлынуть, отступить в породивший ее океан. Примерно так думал я или должен был думать этой ночью, потому что сильно не понравилось мне в храме Спящего показанное мне. Видно, и Тамаре было показано что-то в этом роде.
И я вспомнил виденное вчера вечером в городе. Держа за задние ноги белую в пятнах, жалобно визжащую собачонку, продавец-китаец вышел из освещенной лавки. Он пересек тротуар и опустил ее в ржавый бак для мусора. Собачонка сразу затихла.
ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ
Но мы продолжали свое неожиданное путешествие. Пока никто не торопился отправлять нас обратно ни во время нашей близости, ни просто самолетом.
Я все больше и больше чувствовал присутствие Тани. Оно возникало даже в мелочах и деталях вроде архитектурного завитка или узора – кудри или изгиб тела. Таня не оставляла нас. Сказать по правде, мне нравилось это преследование. И когда нависающей над балюстрадой веткой глицинии она будто невзначай касалась моей щеки, я спешил ухватить ее губами, кусал и ломал ветку. Тогда она тихо вскрикивала от радости, а все вокруг не понимали, почему я ем цветы. Какой-то англичанин даже попробовал, на меня глядя, но тут же выплюнул. Горько. И вообще сумасшедший русский. Они такие.
Тамара с подозрением смотрела на меня. Кто-то определенно стоял между нами, какая-то женщина. Но никого возле не было.
Сам я стал бодрее, скорее вскакивал с постели, похудел и помолодел, по-моему. Тамара в полусне часто называла меня Сергеем. Обиды никакой быть не могло, ведь Сергей в данном случае это был я, только моложе и сильней. Или все же не совсем я.
Однажды я вышел ночью на балкон посмотреть на луну, покурить. Когда я отворил дверь в наш номер, я увидел на твоей постели под простыней два страстно прижимающихся друг к другу тела. Правда, головы его не было видно на подушке. Но она была ниже, я уверен, гораздо ниже. Ярость внезапно ослепила меня. Я быстро подошел и сорвал с тебя простыню. Ты лежала навзничь, раскинув свои смуглые длинные ноги, одна. Ноги конвульсивно двигались, желтые глаза твои сияли.
ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ
Ночью у меня был Сергей, муж смотрел на него во все глаза, но так и не увидел. Я неожиданно поглядела на нас его, Андрея, глазами – странное зрелище:
…На постели под простыней два страстно прижимающихся друг к другу тела. Правда, головы его не было видно на подушке. Но она была ниже, я уверен, гораздо ниже. Ярость внезапно ослепила меня. Я быстро подошел и сорвал с тебя простыню. Ты лежала навзничь, раскинув свои смуглые длинные ноги, одна. Ноги конвульсивно двигались, желтые глаза твои сияли.
…Совершенно уверена, мы видим и чувствуем разное, отсюда анекдотические ситуации. Грустно, конечно. Лучше бы увидел и убил.
…Еще не решила. Полдня ходила по городу, примеряя на себя встречных во плоти, как платье в модном бутике.
Стемнело быстро. В темноте, сшибая плоды с деревьев, ударил косой тропический ливень. Я стала под навес какой-то лавчонки. Плотный китаец, извинившись, деловито прошел мимо, раскрыл синий зонтик и шагнул в дождь. Я оглянулась.
Сзади в дверях стояла молодая китаянка, держа на руках маленькую девочку – младенца. (Вовсе не на спине.) Она, видимо. сердилась. Обе мне улыбнулись. Она – незряче и запоздало. Девочка – разумно и заинтересованно.
Это я улыбнулась на руках у мамы незнакомой красивой старухе, белой и потому очень странной. Папу жалко. Вечно мама на него кричит и ругается, даже меня потихоньку больно щиплет за ляжку, чтобы я плакала.
Вот он! – возвращается наконец. Не мог позаботиться и захватить из дома второй зонтик. Ночью громко сопит, лаская меня. Толстяк – не люблю. Не люблю и буду мучить. Зачем мне эта крикливая девочка. И жить с ним совсем не хочу.
Плотный китаец, виновато улыбаясь (ох, уж мне эти улыбки!), раскрыл большой бумажный зонт, который он, видимо, купил по соседству, и передал мне, то есть своей вечно недовольной жене.
Зонт и зонтик прошествовали мимо меня и исчезли в кипящей мгле. Девочка мне улыбалась из‐за плеча матери.
Дождь, кажется, утихал. Вода текла во всю ширину асфальта. Черная палка в коротких штанах и белой рубашке, сняв сандалии, с удовольствием шлепала вброд по улице. Это я шлепала по воде. Я не была счастлива, больше – я была привычно голодна. Но есть мне, как всегда, не хотелось. Я спешила, вернее, спешил к приятелю уколоться, у него, я знал, есть, пусть плохо очищенная. И мне нет никакого дела до европейской женщины в синей юбке и белой блузке, которая внимательно провожает меня взглядом.
В дожде над морем снижается размытый белый огонь – самолет.
Я решила выпить что-нибудь покрепче дождя. Прошла по крытой галерее к синей неоновой надписи. Там внутри был алый полумрак и столики, я поискала взглядом свободный, присела. Тут же появилась передо мной белая рубашка и черная бабочка. Виски стоил сверхдорого. Ага, вот почему.
На эстраде, на фоне постоянно меняющихся цветных экранов раздевалась, изгибаясь, смуглая коротконогая стриптизерка. Нет, на это стоило посмотреть. Артистка держала в руках две круглые пачки горящих свечек. Она лила на себя воск, и через некоторое время ее – мое тело все засветилось блестящими бляшками. Я танцевала танец живота. Мой покрытый светящимся панцирем живот крутился сам по себе – горячая сковородка. Я знала: всем этим рыбкам хотелось шлепнуться на мою сковородку, и презирала их всех. Скоро я наброшу халатик и сбегу по ступенькам вниз в полуподвал. В гримерной перед зеркалом муж будет бережно и ловко снимать с меня чешую из парафина, смазывая смягчающим кремом кожу, – и все равно будет очень больно. Кожа у меня нежная и чувствительная.
Внизу зааплодировали. Мне некогда было их разглядывать. Надо было работать, за это мне неплохо платили.
Я, голая, опустилась в светлом круге на колени и, непристойно содрогаясь, запрокинув голову и высунув розовый острый язык, ловила ртом стекающие сверху капли, струи воска, как сперму. Мужчины внизу пришли в шумный восторг. И я незаметно выплюнула мокрый жеваный комок воска в ладонь.
Нет, не хотела я, Тамара Сперанская, так жить и работать. Но кем же мне здесь остаться? Работать вообще я не привыкла, особенно мне внушала отвращение теплая жирная мыльная вода на ресторанной кухне. А жить и рожать глупой гусыней у богатого китайца я не согласна.
Дождь недавно кончился, но все уже высохло, только теплый асфальт дымился. Неподалеку светился цветными фонариками китайский ночной базар. Молодая китаянка продавала парики под аркой галереи. Она надевала парик на лиловую болванку – лысую голову из резины. Я была этой лиловой головой. Меня можно было мять и сжимать, я принимала прежнюю форму. На меня надели нарядный парик. И узкая рука колючей стоячей щеткой тщательно расчесывала его, как шерсть на собаке. Не хотелось ни о чем думать, только смотреть и смотреть, как смугловато-желтоватая рука тонкой кости водит щеткой по моим ненастоящим волосам. И я Тамара – лиловая голова вспомнила все лысины, которые когда-то склонялись надо мной. И бледную киношную, поросшую пушком. И красноватую – старого пройдохи и выпивохи. И смуглую южную лысину с жгучими глазами и густыми черными усами под вислым носом. Всем им пошли бы эти красные и сиреневые парики, но они и так были клоуны. И напрасно они старались надо мной.
И тут я увидела проходящую мимо в желтом, стриженную под мужчину, у нее был угловатый благородный череп, она явно была англичанкой. Ей, очевидно, не нужны были парики и вообще все внешнее. Она провела по мне глазами, видевшими иное и далекое, и они блеснули на миг тем, иным и далеким. А впрочем, монашка была вполне ко всему равнодушна, лишь постукивала пальцами без маникюра в свою алюминиевую миску. И мне страстно захотелось сделаться ею и такой здесь остаться.
Я попыталась проникнуть в нее, но не тут-то было. То, что в ней происходило, было похоже на кадры какого-то кинофильма. Итальянская вилла с французскими окнами до полу – в сад. Тренировочный зал, я ногами поднимаю штангу. Стою под контрастным душем. Молодые люди во фраках. Девочка и мальчик – бегущие навстречу дети. И лохматая огромная собака. Потом – мои холеные красивые руки душат какого-то неприятного старика. Тюрьма, в окно для свиданий просовывается бледный толстый нос и лысина адвоката. Но этот фильм я уже смотрела, причем не один раз. Не за что уцепиться. Вместо настоящей реальности мне представлена наскоро придуманная подмена. Не пускает в себя. Сильный характер.
Тогда я решительно догнала монашку и обратилась к ней. Англичанка равнодушно-приветливо посмотрела на меня и отвечала что-то, по-моему, по-малайски. Пока я растерянно хлопала глазами, монашка протянула мне миску для подаяний, я бросила в нее несколько монет – машинально.
… Да так и осталась стоять под фонарем.
ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ
Утром мы долго ехали. Мимо полей, где крестьяне в широких соломенных шляпах убирали рис. Как на картинке в учебнике. Мимо школьного стадиона, где всё шумело и волновалось. Шли соревнования – и сине-белые школьники махали сине-белыми флагами. Обгоняли пестрые грузотакси, под жестяным, разукрашенным вычурными наивными рекламами, навесом в кузове на скамейках и в проходе теснились люди, узлы и корзины. Из дверей пузатого автобуса свисали живыми гроздьями.
Наконец нас, туристов, привезли к быстрой мелководной реке, за которой на склоне горы толпились джунгли. Мы перешли мост над прозрачной водой, закипающей стеклянными водоворотами над красными мелями, и пошли наискось вверх по тропинке, проложенной среди густой зелени и свисающих лиан. Солнце припекало не очень. Вблизи слышались какие-то щелкающие звуки.
Я как-то позабылся. В зелени загудела пчела. И на миг стало все узнаваемым. Это в Подмосковье летом я иду по лесу. И стучит в соснах дятел. Так недавно на улице я вдруг понял, что говорит один смуглый тао другому, на мгновение мой слух обманулся русской речью.
Или вот еще. В отеле у бассейна. Я читал русскую книгу. Рядом на белых лежаках загорали белые пары. Глянув поверх страниц, я почувствовал близость и обычность этой реальности, уже не новой для меня. Как будто в Крыму. А где-то там за лужайкой, за оградой отеля МАНДАРИН рычал и задыхался вонючий Бангкок на черном закате.
В общем, я уже соскучился. Но здесь нас ожидали слоны.
Я еще издали увидела: серые непомерно большие и все-таки не такие большие. Огромные своей натуральностью, тем, что вот они – были далеко, в считаные минуты стали близко. В цирке и зоопарке слоны не такие большие, подбирают их, что ли, таких нарочно дрессировщики. Но здесь на фоне пальм и тропической зелени они были уместны и естественны, и стало видно, какие они кожаные, большие и неторопливые. На шее каждого животного сидел мальчишка-погонщик и подбадривал его ударами босых грязных пяток в мягкую изнанку ушей. Слоны слушались, как бы снисходя к своим маленьким хозяевам, и двигались, перетекая мускулами, с большим достоинством. Ужасно захотелось очутиться на широкой слоновьей спине с острым хребтом посередине и бить, толкать пятками в эти шевелящиеся уши, спадающие мягкими складками.
Уже наполовину мальчишка-погонщик, я подошла ближе. И тут же стала забавным слоненком, который подталкивал кустистым лбом худенькую немку к корзине, полной свежих бананов. Я толкала ее в плечо довольно ощутимо: «Ну, купи! Купи, пожалуйста!» Мне эта игра была давно знакома и доставляла удовольствие. Торговец стоял, прислонившись к серому стволу дерева, и, казалось, не принимал во всем этом никакого участия.
Немка беспомощно улыбалась и не покупала.
Тогда пришлось вылезти из слоновьей шкуры, достать кошелек и протянуть слоненку целую гроздь бананов.
Я осторожно взяла у себя хоботом желтое лакомство и отправила себе в рот прямо с кожурой. Потом вскинула свой хобот и издала почти непристойный звук. Я уже умела трубить.
Между тем слонов заводили в глубокую ложбину. Там были дощатые сходни, покрытые плетеным настилом. И по ним можно было перейти на спину слона.
Я попрощалась со слоненком, он положил мне хобот на плечо. Какой странный шевелящийся нос! Я погладила его. Серая толстая кожа неожиданной нежностью отозвалась на мое прикосновение.
Затем по настилу я радостно перешла на крышу пагоды, иначе не могу выразить мое чувство. Мальчишка толкнул слона пятками, и пагода двинулась. Восседая на циновке грубого плетения, я крепко ухватилась за петли каната и поплыла высоко среди деревьев и пальм, покачиваясь на волнах, – подо мной двигалось громоздкое тело. Штормило довольно сильно. Но я всегда любила стихию.
Я оглянулась. Андрей, издали так похожий на Сергея, остался на берегу. Так я и думала, не решится. Он уплывал все дальше и дальше, заслонили деревья, как будто и не было. Меня охватила паника, как малыша, потерявшего из виду мать. Скорей, скорей поверни свой корабль назад, погонщик! Я шлепнула ладонью в темную спину. Миловидная коричневая рожица повернулась ко мне: что, мол, вы желаете, белая госпожа? Я только жалко улыбнулась ему: ничего, ничего, все идет так, как и следует ему идти.
– О кей! О кей! – он потыкал в затылок слона прутиком. И мы поплыли дальше.
Мы поднимались в гору. И над вершинами леса я увидела другую серую гору, двигавшуюся в ту же сторону. Я не очень хорошо вижу вдаль, но сейчас я видела: в джунглях шагает Путник. Я различала гладко выбритую голову и спадающие складки желтого одеяния. Я уже видела его прежде.
Он стоял, прислонясь к храму – головой выше кровли. Внизу на лужайке играли и бегали дети. В быстро сгущающихся сумерках Путник смотрел поверх – на свой срединный путь. Плоское золотое лицо было непроницаемо. Желтый плащ паломника ниспадал крупными складками. Детские голоса одиноко и пронзительно перекликались в сиреневеющем воздухе. Стриженая скелетообразная нищая лежала ничком на ступенях. Жестяная миска белела внизу в траве. Как шла, так и упала без сил.
И теперь я уплывала за Ним в зеленое море джунглей. Я видела свой путь ясно. Я буду плыть, ехать, идти, стриженая, худая, оборванная, с белой миской для подаяний. Пока не упаду перед Ним без сил.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ
На крыше отеля МЕРЛИН разноцветно сверкала вывеска полинезийского ресторана АЛОХА – цветные лампочки всю ночь отражались в темной воде бассейна.
Вечером Тамара откуда-то пришла, стриженая, в желтом монашеском одеянии. В руке у нее была жестяная миска для подаяний, которую она бережно положила на стол. Я пытался заговорить с ней, но она вела себя более чем странно, отчужденно смотрела сквозь меня и демонстративно не отвечала.
Мне надоело. «Чертова кукла!» – раздраженно подумал я и ушел. Спустился в вестибюль отеля. А там наугад нырнул в неостывшую к ночи темноту улицы.
Оттуда с океана дует влажным теплом. Крытая галерея. Решетки запертых магазинов. На тротуаре свернулась клубком белая собака, спит. В той же позе спит на циновке седой индус. Спит щербатый велорикша, запрокинувшись поперек своей коляски. Дремлют, сидя на стульях и привалясь к стене, бородатые сторожа: один в зеленой чалме, другой в розовой. Уличный торговец поджаривает мясо на вертеле. Из бара вышли две проститутки. Шевеля своими пышными телесами, пошли, как собаки, на запах жареного. Подкрепиться. Спит реальность, спит воображение. Только ветер с океана горяч и настойчив.
Дальше светился китайский ночной базар…
Когда вернулся, Тамара уже спала, худенькая во сне особенно, неловко уткнувшись в подушки, как-то мучительно и судорожно порой вздрагивая. Миска на столе сосредоточенно отсвечивала яркой точкой настольной лампы, как будто стараясь напомнить о себе.
Проснулся. От острого чувства одиночества. Я был один. Было еще темно. Но темнота уже редела – свет наносило ветром оттуда, с океана. В соседней мечети запел муэдзин. Оборвал пение. Пауза. И снова. Красивым высоким голосом – перед рассветом. Какая это тайна проснуться одному в чужом городе. Вновь мелодический вскрик. Тишина. Лишь редкие машины шаркают мимо. И ровным фоном – теплый тропический ливень.
Я опустился на подушку, натянул на себя простыню. Ты заворочалась, но не проснулась. Увидел – в синем свете ночника: поверх одеял лежат наши четыре руки. Странно: две мужские волосатые и две тонкие почти детские темные. Похоже, они двигаются. Полусогнуты в локтях – медленно перемещаются по гладкому хлопку сонным большим пауком. Будто угрожают нам наши собственные руки. Или это новое, удвоенное в любви и ненависти существо? Порожденное нами и нам же угрожающее. Ее тоже называют четверорукая.
Вчера на улице – 12 часов дня. Влажная рубашка прилипает к телу.
На каменных беленых воротах уселись розовые, синие круглопузые демоны. Заглянул во двор. И сразу зябкие мурашки пробежали от затылка по желобку спины.
Они сидели у входа храма – по две с каждой стороны, как бы удвоенные. В два человеческих роста. Обнаженные груди – восемь обнаженных каменных сисек, казалось, сожми их – и потечет каменное молоко. Выпуклые глаза с обеих сторон смотрели на меня выжидающе. Каждая богиня держала в одной руке волнообразный крис, в другой – раздувающую капюшон кобру. Всё сладострастно извивалось: и кинжалы, и змеи, и складки одежды. Богини сторожили храм, вернее, то священное и таинственное, что пряталось там – я уже видел – в багряной полутьме.
Я снял сандалии и в одних носках вошел в храм. Там внутри меня обступили раскрашенной толпой изваяния, как будто даже толкаясь и настойчиво тесня дальше в глубину. Нахальнее всех вели себя два каменных жонглера. Два бога Шивы манипулировали – каждый четырьмя руками: подбрасывали и ловили нечто, и так ловко и быстро, что я не успевал разглядеть, что это. И это нечто было легче пушинки и хрупкое, как перепелиное яйцо, зависящее от тысячи случайностей, затерянное здесь на острове небоскребов вблизи экватора и брошенное сюда в красноватую полутьму к подножию Той, что темнела в глубине алтаря – витрины, в складках алой материи, тускло освещенная сбоку.
Это была статуэтка четверорукой богини смерти. Все четыре руки ее держали или возносили что-то золотое: медальон или трезубец. Нет, не давалось это зрению… И всё выскальзывает, выпадает из памяти, улетучивается. Видно, невыносимо ей такое удерживать. И хотя я понимаю, что виденное мной имеет ко мне прямое и непосредственное отношение, что разгадка просто вот она, тут – еще одно движение, усилие – и я прикоснусь, вспомню… Нет, не хочу я делать этого движения, не должен вспомнить, не могу. Иначе я сорвусь со всех крючков, как пружинка, и выскочу из этого золотого обольстительного круга – в слепое безумие, не знаю во что! Что во мне кричит, не умолкая? Что просит каменного молока вечности? Ребенок-переросток, которого неразумная мать еще держит в колыбели и вообще отвернулась, зовет хриплым басом родных, но, не дождавшись помощи, сам себе затыкает рот пустышкой – тут же выплевывает ее.
Когда я наконец вышел из храма, небритый мужчина в розовой чалме и очень темный мальчишка в сторонке чистили две высокие медные курильницы в виде чаши на лапах. Собственно, чистил мужчина. Мальчик окунал тряпку в белый порошок и подавал ему. Одна курильница уже был вычищена и так горела всей славой на южном солнце, будто понимала, что еще сегодня будет возносить ароматный дым курительных палочек, прислуживая богине.
– Кали? – обратился я к мужчине, чтобы что-нибудь сказать.
– Кали, Кали, – заулыбался мужчина.
– Шива?
– Сива, Сива, – улыбаясь, подтвердил он.
И теперь, задремывая, вижу переливающийся дымчатый шар, который для опытного зрения слоится миллионом реальностей.
Вот что цепко держала богиня смерти Кали всеми своими руками.
Вот чему улыбался мужчина во дворе храма.
Вот чему улыбались бритоголовые, расходясь после церемонии сожжения красных катафалков.
И шар кружится, перекатывается в пустоте и показывает нам то, что мы способны увидеть – и очень многое, что мы просто не видим или пока не видим… Миллионы человеческих глаз вглядываются в незримое – слишком шумное для нашего зрения…
Между тем в темноте шум тропического ливня как-то перестал походить на самого себя. Я прислушался, теперь он был больше похож на звуки летнего дождя, который барабанит по московским крышам. Было слышно, как неистовые струи ударяются о железо и об асфальт. Как где-то рядом гремит и жалуется водосточная труба всеми своими ржавыми ревматическими коленами. Просветлело, и правда обозначила себя нашей московской квартирой, с темными квадратами картин и голым предрассветным окном.
Спящая рядом легко вздохнула и открыла глаза – в моей реальности или где? Смотрю и не узнаю.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
ГЛАВА ПЕРВАЯ
Я не ищу истины. Она и так есть, ей даже не надо обнажаться, чтобы увидели ее. Истина очевидна. Просто мы сами закрываем глаза и отворачиваемся.
…В предрассветных сумерках, когда все еще смутно и неопределенно, приподнявшись на локоть, я рассматривал рядом спящую. Я не был уверен, что это Тамара, что она последовала за мной, уж очень не хотела. Лицо было еще полустерто сном и не выявлено светом. Тем более что черты распустились, расправились – во сне оно помолодело. Стрижка, как у мальчика. Плоские веки, губы без косметики – она была похожа на многих женщин, которым я заглядывал в лица. Скупо намеченное, обобщенное. Любимое, целованное мной не раз (губы, которые мягко, податливо раздвигались ищущим моим языком, их обволакивающая засасывающая в сладость трясина), да! Но чье, не уверен.
Мгла между тем все истончалась и редела, и рисунок на смятой подушке проявился вполне. Она открыла глаза сразу – и я отпрянул.
Это была не Таня, не Тамара. Даже не похожа на них. Восточные с поволокой глаза, еврейские пухлые губы, подбородок с ямочкой. Главное, когда-то полу-мальчиком я ее знал и был не то что влюблен, а как бы тягостно прилепился – все время хотел ее видеть и трогать. Тяжелое вымя, довольно большой живот – вся она отпечаталась во мне. Смугло-коричневая, она была похожа на сладкую сливочную помадку, и коровий взор ее так же тянулся ко мне. Алла, вот как ее звали.
Она посмотрела и не удивилась. Потерлась о мою щеку щекой, «какой колючий!», перелезла через меня и, тяжело ступая по полу, подошла к стулу, начала одеваться.
«У нее и одежда тут», – подумал я.
– Тебе вчера звонили из журнала, – вскользь сообщила, втискивая себя в джинсы. – Главный недоволен, где материал? Приходи хоть к четырем, передал, но чтобы статья была вовремя. Надоело. Так и передайте ему, надоело.
«В курсе моих дел. Что, она живет здесь?»
– У меня сегодня дежурство с утра. («Она же врач!») Так зайди в магазин и купи что-нибудь на вечер. Да и сам не поздно приходи. И не пьяный. Что молчишь?
– А чего отвечать?
– Услышал ты меня или нет. Мне ведь тоже знать надо.
– Услышал.
– И на том спасибо.
– Пожалуйста.
– Не хами.
С этим Алла прошествовала на кухню пить свой утренний кофе – большую кружку, с молоком. Почему-то я знал ее привычки. «Неужели она моя жена? – панически проносилось в голове. – Лично она в этом не сомневается и распоряжается мной привычно. Не один год, видно, живем – ничего не помню. Надо Сергею позвонить. А как же Тамара? Еще вчера я засыпал в номере отеля, мраморный умывальник, розовый унитаз и ванна, а просыпаюсь – вот она – почти коммуналка. Если я здесь живу, то кто же в мое отсутствие тут жил за меня, жениться успел. Слава Богу, детей, кажется, не успел нарожать, ведь она к этому всегда была готова, – и все мои будут».
– Чао! – на ходу сказала жена Алла и протопала копытцами-туфельками к выходу.
«Неужели кто-то похожий на меня? А если это я, тот же я, но со своим сознанием? Вот сейчас он, который я, явится, видно, загулял, и – известно, где, как мы этот узел развяжем? Хоть драться не станет, себя я знаю. А может быть, он там остался среди пальм и кокосового мусора на берегу океана, и это я вынырнул оттуда? А если меня выписали из сумасшедшего дома и Алла ведет себя, будто ничего не случилось, для профилактики, ведь она врач! Много вопросов я задал сам себе. Тот другой, возможно, мог бы на них ответить, но я ничего вразумительного не находил. Одно было неоспоримо – я работал в своем журнале, на работу несколько дней не являлся, материал не предоставил. Неужто запорол?»
Зазвонил телефон.
– Алло! Слушаю.
– Ну вот, наконец-то! Ты что, загулял, видел я тебя с черноглазой, или на дачу ездил? Лето в этом году, правда, никудышное – дожди.
– Кто это?
– Сергей.
– А как же Тамара?
– Какая Тамара?
– Ну да…
– Приезжай сегодня пораньше. Статью твою ждут.
– Зияние. Нет пока статьи.
– Борода будет очень недоволен.
– Значит, битым быть.
– А ты свою старую, помнишь, показывал, переделай. И тут и там о новом в литературе.
– Но ей же уже три года.
– Подумаешь, там о концептуалистах, здесь речь пойдет о постмодернистах. Не одно ли и то же. На полчаса работы. Только фамилии другие поставь. А можешь и эти оставить…
– Пожалуй, я так и сделаю.
– Не сомневайся, Доберман.
– Спасибо, выручил, Слоненок.
– Бросайся и хватай их за жопу.
– Ну, ты забыл, я все-таки добер ман.
– Я не забыдл, это ты забыдл.
– До встречи в редакции.
Я залаял и зарычал, подражая злобному псу.
Он в ответ задудел в нос.
Все обстояло, как прежде. Да и что здесь могло измениться. Возможно, приснилось. Летаргический сон, продолжается целую неделю, бывает в природе. Вот Гоголя откопали, а он на другой бок повернулся. Хотя на какой другой бок, он же носом вверх лежал! Чем? Ну, произведением своим вверх! Куда вверх? В крышку гроба. Чепуха какая-то!
ГЛАВА ВТОРАЯ
Так и пошло и поехало по старым рельсам под прежний мотив. Впрочем, кое-что поменялось. Например, жена. Я-то помню, что у меня Тамара была, и шрама у меня на лбу наискосок не было. А радикулит не беспокоит. Недавно себя в зеркале изучал. Толстое стекло старалось выглядеть честным до малейшей подробности. Но что-то в нем с краю поблескивало косым срезом (зеркало старое), из голубоватой глубины подмигивало – чем, не разглядишь.
Размашистые брови, вечная небритость, этот шрам. И смотрит отчужденно. Кто его знает, может быть, и не я. Но окружающие на этот счет не беспокоятся. Наверно, им видней. Хотя мы ведь к другим не присматриваемся. Какими запомнили когда-то, такими и видим. Прическу поменял! Заметим. Усы сбрил! Тем более. А тот ли человек перед нами? Паспорт есть, значит, сомнения нет. А потом и говорим: «Этого я от него не ожидал!», «На него это непохоже». А он совсем и не тот. Ну да ладно.
Выждал несколько дней, Татьяне позвонил. Не удивилась, сразу к себе позвала. Я сразу и поехал.
Живет в белой башне-многоэтажке на краю Ленинского проспекта. Само название, казалось, должно исключать всякую мистику. Но пока ехал, минут сорок, пришел к выводу: в самой фигуре вся мистика и заключается, хоть материалисты ее и отрицают. И просто видно, как от этой восковой куклы в мраморном торжественном подвале темные лучи во все стороны расходятся. Настоящий вуду. А вокруг – зомби, зомби, зомби. Не хватало только свежей кровью петуха желтый лоб окропить.
Шел наискосок через поле – пустырь с березками по краю шоссе. В любое время дня и ночи здесь собак прогуливают, без поводков. Рослые собаки носятся за палками и усердно их приносят хозяевам. Вечная игра. Доберманы (как я, я тоже быстрый), доги, ротвейлеры. Бросить бы им куклу, мигом бы растерзали. Зато зла в мире поубавилось бы. Вот такие и подобные им праздные мысли приходили мне в голову. Как понимаю, заслон, чтобы я не думал о том, что постоянно шевелилось в глубине, хотело оформиться – покоя не давало.
– Ну, здравствуй, лягушка-путешественница! – обняла и мимолетно полудружески прижалась плосковатым телом с девичьими грудками. Удивило: дома – она без берета, коротко подстрижена.
Усадила за чай, сервированный на журнальном столике. Естественно, к чаю сыр и водка. Специально для меня расстаралась. Сама пила кофе.
– Картинки показывать будешь?
– О чем ты?.. – а сама улыбается – извилистая линия губ – ящерка пробежала.
– Я буду задавать сумасшедшие вопросы.
– На вопросы будут ответы.
– Поговорим как магнитофон с магнитофоном.
– Ты – свое, а я – свое.
– И никаких картинок.
– И никаких картинок.
– Представь себе, на берегу Тихого океана очень теплая ночь. Белая луна над темной полосой всякой кокосовой ветоши на песке. Мощные шлепки прибоя. В бунгало для туристов по стенам бегают ящерицы. Помнишь?
– Не помню, но вижу.
– Две ящерицы – одна залезла на спину другой – ведут себя совсем непристойно. Как, впрочем, и обитающие там мужчина и женщина. Вспомнила?
– Не помню, но знаю. Мужчина на спине женщины. Очень ярко изобразил.
– Не смейся.
– Я не над тобой, над собой.
– Тамара, это имя тебе ничего не говорит?
– Какая Тамара?
– Моя жена. Теперь ее нет, ну вообще…
– Интересно.
– В инвалидном кресле передвигалась.
– Понятно.
– Там, где мы оказались, она бегала легко, как девочка.
– Где же вы были?
– Во сне или у экватора, думаю. Но она там осталась!
– Кто?
– Тамара – моя жена и любовница.
– Насчет любовницы не уверена, но твоя верная и любящая – Алла, вот уже десять лет наблюдаем.
– А как же Тамара?
– Ты ее здорово придумал, вот что я тебе скажу.
Между тем вижу, за спиной моей собеседницы туманно рисуется. На мягкой кушетке, которая служит ей постелью, две головки рядом: каштановые кудряшки-завитушки – Таня и темная стриженная под мальчика – Тамара. Таня обнимает Тамару – рука между ног, та беззвучно смеется.
Я даже слов не нахожу.
– Но вот же она!.. Вот… Ты сама ее мне нарисовала!..
И стерла…
– Глупенький. Ты же знаешь, мне передалось, и ты увидел.
– Но это же она!
– Конечно. Тебе приснилось или ты вообразил. И в тебе такой заряд остался, что мне передалось.
– Но и ты там была. Со мной.
– Где я только с тобой не была.
– Я не про ЛСД!
– Ну, в другом месте и в другое время. Разные куски реальности. Совсем разные. Несовместимые друг с другом. А ты, голубчик, взял и наложил одно на другое. Так нормальные люди не делают. Вот такой странный Сингапур и получился, причем с китайскими узорами.
– Если там не была, откуда ты – про Сингапур?
Еще налила водки. И себе. Опять извилисто усмехнулась.
– Уж поверь, в таких случаях всегда какой-нибудь Сингапур получается.
– Значит, не было ее здесь.
– Теперь, считай, не было.
– А прежде? Я инвалидное кресло на колесиках на антресолях обнаружил. А ты – не было!
– Инвалидное кресло – еще не доказательство, – усмехается и новую картинку мне показывает. На клетчатом шотландском пледе две зубчатые тропические ящерки – одна на другой. Исчезли.
Вспомнил я, что еще больная тетушка моя в этом кресле сидела. Действительно, не доказательство.











