Читать онлайн Новый Рим на Босфоре
- Автор: Алексей Михайлович Величко
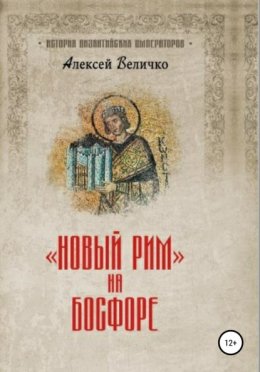
Памяти великих русских византинистов
Н.С. Суворова и К.Н. Леонтьева
посвящается эта книга
Предисловие
Подготавливая в 2015 г. к выпуску 3‑е издание своих книг по истории Византийских императоров, автор этих строк уведомлял читателя, что оно станет последним в силу целого ряда объективных обстоятельств. Судьба, однако, распорядилась иначе: поскольку тема блистательной Визании и ее императоров по-прежнему находится в центре внимания читающей публики, а интерес к моим трудам до сих пор не угасал (что, конечно же, весьма приятно и лестно), автор не позволил себе игнорировать предложение издателя продолжить работу. Так появилось 4‑е издание, которое, как и предыдущие, также не осталось незамеченным читателями. Для продолжения работы при подготовке серии в новом ее виде пришлось отредактировать текст заново, исключить ошибки и погрешности, которые в силу огромного объема материала всегда неизбежны, дополнить его новыми интересными деталями и несколько переформатировать структуру самого изложения.
Надо сказать, что основные идеи и выводы, озвученные еще при первых изданиях, ничуть не изменились. Однако я желал бы передать не только общий фон тех далеких исторических событий и поделиться теми или иными соображениями и оценками, но главное – насытить читателя историческими фактами, как они случились в действительности. Пожалуй, главная болезнь нашей современной исторической и правовой науки и заключается как раз в том, что она изобилует идеологизмами и тенденциозными оценками, но весьма скромна в изложении самих событий, должных подтверждать (или опровергать) их, мало озабочена тем, чтобы сформировать у читателя собственное мнение на основе описываемых фактов.
Сегодня «люди от науки» без труда научились навязывать другим свои суждения, но так и не сумели научить других мыслить самостоятельно. Ведь для того чтобы сформировать из читателя самостоятельного ученого или просто мыслящего человека, необходимо насытить его ум необходимым материалом, конкретными историческими событиями, а не идеологическими меморандумами. Собственно говоря, этот метод «исторического позитивизма» (разумеется, в разумной степени) исповедует и ваш, уважаемый читатель, собеседник.
И если наши оценки не совпадут – не беда, главное – пробудить интерес к этой великой Державе, научить формировать собственные суждения, пробудить чувство духовного единства с представителями той великой цивилизации, которая создала Кафолическую Церковь и родила миру христианские государства, некогда (вернее сказать, до совсем недавнего времени) остро и отчетливо чувствовавшие свою близость – несмотря на все противоречия и соперничество. И если эта задача будет решена, считаю свою миссию выполненной до конца.
В заключение хотел, как всегда, поблагодарить мою жену Наталью за терпение и любовь, участие и заботу обо мне при написании этих книг, моего учителя протоиерея Валентина Асмуса, людей, чьи взгляды или диспуты с которыми в немалой степени позволили мне сформировать собственную позицию по многим вопросам или скорректировать ее – М.М. Казакова, Л.Е. Болотина, архимандрита Георгия (Шестуна), игумена Алексия (Просвирина), покойных ныне В.И. Иванова и А.Н. Боханова, а также моих благодетелей – А.И. Леушкина, К.Л. Засова и О.Г. Борисова, с чьей помощью настоящая серия вышла в свет.
Введение. «Священная Римская (Византийская) империя»
Государство, об истории которого пойдет речь, представляет собой совершенно беспрецедентное явление. Впервые появившись на карте мира в виде скромного поселения на берегу Тибра, Рим, спустя тысячелетие, предстал перед современниками в виде Вселенской Империи, объемлющей огромные территории от северных берегов туманной Британии до знойного Иерусалима, от Эльбы и до Северной Африки. Римская (или Византийская) империя просуществует еще целое тысячелетие, ни одно другое государство не обладало такой жизнеспособностью и живучестью. Воюя почти ежегодно, периодически впадая в жесточайшие кризисы (как внутренние, так и внешние), Римская империя неизменно возрождалась, как птица Феникс из огня, поражая своих многочисленных врагов удивительной жизнеспособностью.
Конечно, это явление не может быть объяснено исключительно материальными причинами. На ее институтах и истории, как детищах Христа, явственно, непосредственно и промыслительно чувствуется рука Создателя. В известной степени Византия божественна как плод не человеческих рук, а воли Творца. Именно взращивание Православия составляло главнейшую цель жизни Империи, и именно этим Византия дорога́ всей христианской цивилизации1.
Справедливо говорят, что Византия являлась формой сверхнационального единства всех христианских народов, которое символически возглавлялось Византийским императором и Константинопольским патриархом, уже с VI в. имеющего титул «Вселенского» патриарха. Это было поистине мировой центр христианской цивилизации, и даже Римские папы, нередко борющиеся с императорами и своими визави в Константинополе, действовали на Западе как представители Империи и стояли на страже единства Ойкумены2.
Сама смерть оказалась бессильной перед этим феноменом истории: став некогда матерью всех без исключения европейских держав, колыбелью и центром христианской культуры, даже после своего трагичного падения в 1453 г. Римская империя сохранила вплоть до сегодняшних дней значение мирового очага человеческой культуры. Кладовая ее духовных сокровищ необъятна и неисчерпаема – вновь и вновь она притягивает к себе многие страждущие взоры.
На примере Византии, как перерожденной во Христе и через Христа языческой Римской империи, Господь явил живой образ, который был способен затмить языческий римский аналог, поражающий умы современников. Христос дал не только образец личной веры на примере подвигов первых мучеников, подвижников, святителей. Он даровал нам политический (иногда говорят – общественный) идеал как особый политико-правовой тип государственного устройства, при котором цели и задачи земной Церкви органически становятся альфой и омегой государственной политики. Иными словами, Спаситель указал, при каком государственном устройстве для Церкви формируются наиболее благоприятные условия «ловления человеков» и перерождения ветхого человека в сына Бога, Его сотворца.
Практическое воплощение Царства Божьего на земле в лице Империи и есть квинтэссенция византинизма, самый смысл существования Византии. Отсюда, как следствие, генерируются все остальные правовые и социальные конструкции, создающие устойчивый политико-правовой и культурный образ идеального государства.
Основная идея политико-правовой системы Римской (Византийской) империи заключалась в наложении закона Церкви на государство, известном отождествлении задач Церкви и государства, воцерковлении человека. «Церковь в Византии именно и стремилась выразиться в государстве, свой закон сделать законом государства». Для Византии «существование в государстве с правами гражданскими и политическими таких лиц, на которых закон Церкви не распространялся, и для которых неисполнение церковного закона не соединялось с гражданским и политическим бесправием», было полным абсурдом, немыслимой ситуацией3. Как следствие, создались условия для отождествления государственной и церковной этики, культуры и даже права4.
Как справедливо отмечают исследователи, онтологически существует только две вселенские политические модели – Перворимская (языческая) и Константинопольская (христианская). Римский имперский вариант – это мировая трансляция имперской мощи, распространение собственной организованной силы, цивилизационного устроения. «Константинопольский вариант» – распространение веры, доведение слова Евангелия до всех и каждого, христианский призыв ко всему человечеству5.
«Сегодня многие – и не только извне, но также изнутри Православной церкви – резко критикуют Византийскую империю и ту идею христианского общества, которую она олицетворяла. Но можно ли считать, что византийцы всецело заблуждались? Они верили, что Христос, живший на земле как человек, искупил каждую сторону человеческого бытия, а потому возможно крестить не только отдельных людей, но и общество, и его дух в целом. Таким образом, они стремились к такому устроению общества, которое было бы полностью христианским в принципах управления и в повседневной жизни. Фактически Византия была не чем иным, как попыткой вывести все возможные следствия из воплощения Христа и применить их на практике. Конечно, такая попытка была сопряжена с известным риском: в частности, византийцы зачастую отождествляли земное царство Византии с Царством Бога, а греков – точнее, “ромеев”, если воспользоваться самообозначением византийцев – с народом Божьим. Конечно, Византии часто недоставало сил, чтобы подняться на высоту собственного идеала, и такая недостача порой оказывалась весьма прискорбной и даже катастрофической. Рассказы о византийском двоедушии, насилии, жестокости слишком хорошо известны, чтобы нуждаться в повторении. Они правдивы – но составляют только часть правды. Ибо за всеми недостатками Византии всегда различима великая перспектива, вдохновлявшая византийцев: утвердить здесь, на земле, образ небесного божественного правления»6.
Византия представляет собой не только «Церковь-государство», но – и это ее неотъемлемое свойство – еще и «государство-Империю». Имперское сознание органично перешло от языческой державы в православное государство св. Константина Равноапостольного, чтобы создать новый вид государственности – «Церковь-Империю». Безусловно, данный процесс был очень длительным и далеко не простым. Многие, очень многие политические и правовые идеи были заимствованы православной Византией из языческого арсенала, чтобы, обогатившись, по-новому раскрыться и заиграть невиданными гранями, которые нехристианский ум ранее не улавливал. Это напрямую касается самой имперской идеи.
Неправильно предположение, будто бы изначально своим возникновением Римская империя обязана попыткам практической реализации некой заранее и четко сформулированной идеи. Как известно, римляне вообще никогда не отличались склонностью к философствованию. Скорее, нужно признать, во-первых, что они руководствовались некоторыми общераспространенными и безусловными для античного мировоззрения аксиомами. И, во-вторых, что, создав великое государство, были вынуждены осмыслить содеянное и предпринять необходимые меры для сохранения наследия предков.
Для древнего сознания Империя неизменно ассоциировалась с вселенским масштабом деятельности, а необходимость ее создания основывалась на естественном стремлении человечества воссоединиться в рамках одного общества. Далеко не тщеславие и не желание обогатиться (или не они одни) двигали фараонами Египта, царями Вавилона и Персии, Александром Македонским (356—323 до Р.Х.) и римскими полководцами, но убежденность в том, что империя является идеальной формой государственного устройства. Но из всех попыток лишь Римская (Византийская) империя оказалась способной выполнить эту задачу – она существовала более 2 тысяч лет.
Окинув взором свои владения, Рим вольно или невольно использовал единственно возможную линию поведения в отношении завоеванных народов, зачастую копируя ту стратегию, которую использовали до него Хеттские и Персидские цари. Уже хетты своими стереотипами и принципами миросозерцания во многом отличались от иных народов-завоевателей. Они не ставили перед собой задачу систематического грабежа завоеванных племен, в первую очередь их отличала терпимость к окружающим народам и отсутствие желания навязывать им свои представления. При условии, разумеется, безальтернативного признания их политической власти.
Еще более рельефно эта политическая модель проявилась в реформах Персидского царя Дараявауша (Дария I) – (522—486 до Р.Х.). В соответствии с его программой на нижнем уровне персы сохраняли неизменными местные традиционные социально-государственные институты и старались не вмешиваться в периферийные дела. Прекрасно понимая, что ломка старых отношений приведет только к хаосу, своим следующим шагом Дарий провел кодификацию местного права и правовых обычаев, вследствие чего каждый народ жил по своим законам, и царский (персидский) закон применялся исключительно к отдельным, наиболее тяжким видам преступлений. Местные царьки сохранили свои династии и право чеканки собственной монеты, признавая одновременно над собой власть Персидского царя.
Над местной элитой возвышались сатрапы – царские наместники, а наверху иерархической лестницы располагалась царская администрация, к которой сходились все нити государственного управления. Вся территория Персидской империи подверглась единому кадастровому налогообложению, и повсеместно развернулось строительство прекрасных дорог, соединяющих провинции между собой. В итоге Персидская империя дала своим народам мир, экономическую стабильность и благосостояние.
Даже завоевание Персии Александром Великим не привело к исчезновению этого великого имперского образования – царь македонцев и персов широко использовал старые проверенные традиции. Сохранился институт сатрапов, только персидских наместников заменили греко-македонцы, остались неизменными царский церемониал и даже методы управления. По существу, Персидская империя продолжала существовать в своем неизменном виде, поменялась лишь правящая династия и национальный состав политической элиты7.
Это был прекрасный образчик, и, как мы увидим, первые правители Римской империи действовали аналогичным образом, создавая политические традиции, которым Рим будет верен до последнего своего вздоха. Как и в Персии, верховная власть не стремилась уничтожить местные общины, сохранив их быт и социальную структуру. В римский пантеон богов охотно включались другие божества, если, конечно, они не шли вразрез с государственными религиозными устоями. А римское право, несмотря на свою изначальную элитарность, обеспечило процесс интеграции всех инородцев в римское общество и формирования из них граждан единой державы.
В высшей степени примечательно, что формирование из сравнительно небольшой по размерам Римской республики гигантской Священной Римской империи происходило бок о бок с развитием римского права и расширением круга лиц, могущих требовать его защиты. Согласно основному принципу древнего римского права, изначально только римский гражданин, civis Romanus, пользовался гарантиями со стороны государства и мог считаться полноценным членом общества. Право римского гражданства мог получить исключительно житель города Рима – доминанта этнического принципа здесь очевидна и безусловна. Всякий негражданин, hostis, то есть враг, находящийся вне сферы действия права, должен был быть уничтожен или стать рабом.
Позднее появляется некоторая промежуточная правовая категория лиц – latini, жители латинских общин на территории Италии, но не римляне, имевшие полную имущественную правоспособность, но не обладавшие политическими свободами римских граждан8. Все чужестранцы были отнесены в Италии к категории перегринов, peregrine. Правовая охрана их интересов существенно разнилась от римских аналогов, но и они подлежали охране со стороны jus gentium, «права народов», и потому уже не были совсем бесправными.
Период появления в Риме первых императоров характеризуется распространением национального права римлян на провинциалов. Это происходило двумя способами: путем предоставления тем или другим местным общинам jus latinum, в связи с чем жители этих общин, выбранные на публичные должности, получали права римского гражданина и становились таковыми. А, во-вторых, путем дарования римского гражданства отдельным общинам.
Но затем различие между cives latini и peregrine фактически сгладилось. В 212 г. по эдикту императора Каракаллы (211—217), которым руководили, правда, чисто фискальные соображения (желание распространить на провинциалов римские налоги), все подданные Римской империи, за исключением лишь некоторых групп населения, получили право римского гражданства. Как следствие, римское право распространилось на всю территорию Империи и стало господствующим, хотя, конечно, местные обычаи, не противоречащие ему, все еще продолжали существовать и использовались местным населением9.
Закон императора Каракаллы даровал civitas всем подданным Империи, но все неподданные (в первую очередь варвары – германцы) по-прежнему еще долго считались перегринами. Однако само римское право к тому времени уже настолько пропиталось принципами jus gentium, что по крайней мере в области гражданского права все различия между римскими гражданами и варварами практически стерлись10.
Последующая интенсивная христианизация населения при императоре св. Константине Великом способствовала укреплению общеполитического единства государства, граждане которого были теперь спаяны не только единой политической властью императора и римским законом, но и духовно. Они ощущали себя одновременно членами единой Кафолической Церкви и гражданами Римской империи, единственно санкционированнного Богом государства. Фракийцы и германцы, галлы и испанцы, греки, армяне, исавры и сирийцы с гордостью называли себя римлянами, входили в политическую элиту Империи, становились императорами и проливали кровь в битвах с варварами и персами под римскими знаменами.
Как видим, христианство дало имперской идее качественно новое понимание. Все современники тех событий были убеждены, что до Христа люди жили разрозненно, и отсюда – все беды и войны. После пришествия Спасителя все изменилось – как чудо, возникла Кафолическая Церковь и Вселенская империя, Римское царство, детище Христа. Как Церковь объемлет собой весь мир и может быть только Церковью Вселенской, так и православное государство, хранитель веры и благочестия, могло быть только всемирным. Римская империя явилась зримым воплощением идеи единства христианского мира, а императоры – его главы11. Без Римской империи немыслима Кафолическая Церковь, но эта связь взаимна – Римская империя без Церкви также существовать не может. Только так она получила сакральное обоснование и прочную основу в сознании своих подданных.
Время и фактические события, вследствие которых границы Империи постоянно изменялись (как правило, в сторону уменьшения территорий), не смогли тем не менее убить саму вселенскую идею. Она настолько глубоко укоренилась в римском сознании в указанной выше редакции, что многие императоры вели длительные и тяжелые войны, преследуя своей целью реставрацию некогда обширнейшей державы мира.
При св. Юстиниане I Великом (527—565) Римская империя, хотя и ненадолго, едва ли не полностью восстановила свои прежние владения. И историк особенно отмечает то обстоятельство, что войны, вследствие которых от ариан были освобождены обширные территории, носили религиозный характер12. При последующих императорах – Ираклидах, Исаврах, Македонцах идея восстановления единой христианской Империи также являлась неизменным мотивом внешней политики Византийских василевсов. В конце VII века, когда арабы захватили Иерусалим, Александрию, Антиохию, Отцы Трулльского Собора, игнорируя фактическую сторону дела, утверждали, что именно Римский император «принял управление родом человеческим по мановению свыше»13. Позднее император Мануил I Комнин (1143—1180) гордился, когда его называли «новым Юстинианом». Он тоже мечтал о воссоединении Италии с Римской империей и даже замышлял перенести столицу в Рим14.
Это была поистине величественнейшая держава, причем не только в политическом, правовом, военном и экономическом отношениях, но и культурном. Весь мир грезил о Константинополе, как о городе чудес, окруженном золотым сиянием, в котором уже в VI в. проживало около миллиона человек15.
«Со всех сторон мира Константинополь привлекал к себе иностранцев. Скандинавские викинги приходили сюда, чтобы служить в императорской гвардии, и рассчитывали составить себе здесь состояние; русские записывались в императорскую армию и флот и давали им хороших солдат; армяне входили в состав лучших корпусов византийской армии. В Константинопольском университете вокруг знаменитых учителей толпились ученики со всей Европы, иностранцы, стекавшиеся сюда из арабского мира и даже иной раз с Запада. Константинополь, по одному меткому определению, был Парижем Средних веков. Его чудеса приводили в восхищение путешественников»16.
Как подсчитали последующие исследователи, только один Константинополь давал государству ежегодно не менее 83 млн золотых монет, и город жил в состоянии какой-то неописуемой роскоши. Но остальные торговые и промышленные центры Римской империи мало отставали от Константинополя. Александрия по праву считалась центром торговли и промышленности, Фивы и Коринф славились изготовлением шелковых тканей, в Патрасе шили пурпурные одежды. Фессалоники являлись цветущим и богатым городом, и большие толпы иностранцев заполонили его улицы и особенно порт и рынок. В мастерских вырабатывались медь, железо, цинк, свинец, стекло, и объемы производства были столь велики, что могли удовлетворить любые нужды. Помимо этого, процветали торговые города: Дуррацио, Анкона, Корфу, Боница, Корона, Навпль, Афины, Халкида, Деметриа, Хризополис, Переферион, Абидос, Адрианополь, Апрос, Гераклея, Родос и многие другие. Все, произведенное в любом цивилизованном уголке Древнего мира, стекалось в Византию17.
Власть Римского императора была единственно легитимной во всей Вселенной, и это являлось аксиомой практически для всех современников вне зависимости от их национальной и политической принадлежности. Поскольку миссия императора как главы и первого защитника Кафолической Церкви заключалась в распространении света веры, а Вселенная по пророчествам обетована Царствию Небесному, то, следовательно, вся земля по «божественному праву» принадлежит императору. Как следствие, император не только имел право (или даже был обязан) требовать назад все захваченные варварами земли, но и владеть остальными, еще неведомыми ему, если те будут открыты. Поэтому император являлся естественным сюзереном, выражаясь европейскими понятиями, всех варварских государей, основавших на римских и даже смежных территориях свои государства18.
Как полагают, и мусульманским авторам тех веков не было чуждо убеждение, что Византийский император является законным властителем многих народов, в том числе македонян, греков, болгар, валахов, аланов, русских, иберийцев (грузин) и венгров19.
Даже в XIV в., когда от Византии оставалась одна тень прежнего могущества, современники все еще были убеждены в том, что единственно легитимным государством в мире является Священная Римская империя. Хрестоматийным примером выступает известное сочинение Данте Алигьери (1265—1321) «Монархия», написанное в 1313 г., где присутствуют интересные строки. «Светская монархия, – писал Данте, – называемая обычно империей, есть единственная власть, стоящая над всеми властями во времени и превыше всего, что измеряется временем». Для него человеческий род хорош, когда он един, т.к. только в одном Боге заключаются подлинные основания единства. А это возможно только в том случае, когда человечество подчинено одному правителю. И если Римская империя существовала не по праву, то Христос бы не родился в это время20.
Не удивительно, что варварские короли испытывали глубокое благоговение перед Римской империей и готовы были повторять слова одного из своих товарищей: «Да, император – земной бог, и всякий, кто поднимет на него руку, должен заплатить за это преступление своей кровью!» Они настойчиво добивались признания за ними римских титулов и называли императора «своим повелителем». Чувствуя себя вассалами царя, они почтительно принимали от него распоряжения, подчинялись его решениям и обращались к нему как высшему судье, если между ними происходили недоразумения. Даже франки, славящиеся своим свободолюбием, называли императора «достославным повелителем» и «отцом» и в известных пределах готовы были признать его власть над собой21.
Как великую награду, вожди гуннов и готов принимали согласие императоров (к примеру, св. Юстиниана Великого) стать их восприемниками при совершении таинства Крещения. Лангобарды и гепиды разрешали у царя свои территориальные споры и считали его своим «крайним судьей». Африканские маврусии имели закон, согласно которому никто не вправе властвовать над ними, прежде чем Римский император не пришлет ему, даже если в тот момент они воевали с Византией, знаки царской власти22.
В Италии наиболее верным и послушным вассалом империи была Венеция, где преобладали этнические греки. Императоры доверяли венецианцам надзор за порядком на Адриатике, а с конца X в. (992 г.) предоставили им значительные торговые привилегии. В Южной Италии особенно тяготели к Византии республики Неаполь, Гаэта и Амальфи. Лангобардские государи Салерно, Капуи и Беневента, хотя и не были столь надежными вассалами, в целом приняли византийский протекторат. На Северо-западе Балканского полуострова и по всему побережью Адриатического моря союзниками Империи, особенно против болгар, были славянские государства Хорватия и Сербия, обращенные императором Василием I Македонянином (867—886) в христианство и подчиненные Римской империи. На Востоке, на берегу Черного моря, Херсон служил ценным наблюдательным пунктом, проводником политического и экономического влияния на хазаров, печенегов и русских. На Кавказе правители Алании, Абхазии, Албании гордились тем, что носили византийские титулы и получали от Византии субсидии23.
Однако с течением лет Римская империя все более и более утрачивала свои территории. Вначале откололась западная ее часть, заполоненная германцами и в IX в. вошедшая в состав Франкского государства. На Востоке были постепенно потеряны Сирия, Египет, Малая Азия; позднее были захвачены Балканы. Но едва ли не до последнего дня византийцы считали эти земли временно оккупированными, своими.
Да, на них не распространялась политическая власть Римского императора, однако даже после завоевания территорий Иерусалимского, Антиохийского и Александрийского патриархатов арабами, а потом турками, Византийский царь по-прежнему назначал на вдовствующие кафедры архиереев, а каноническая власть патриарха Восточной церкви распространялась и на эти области. Акты, принятые Константинопольскими Поместными соборами или Синодом, Вселенским патриархом либо императором, подлежали безусловному исполнению христианами, проживающими на этих территориях и принадлежащими к Православной Церкви.
Кратко коснемся истории с наменованием самого государства. Двойственность написания – Римская или Византийская империя – обусловлена сугубо субъективными обстоятельствами. По некоторой иронии судьбы ученые потомки искусственно разделили хронологию Римской империи на два периода, так что с некоторого времени последние десять веков существования этого государства начнут именовать в специальной литературе «Византийским периодом». Как следствие, помимо Римской империи виртуально возникла никогда не существовавшая в качестве самостоятельного государства Византийская империя. Главная причина такой «переработки» истории заключалась в желании поздних историков придать видимость законности существования, начиная с VIII в., Священной Римской империи германской нации – плода исторических трудов франкского племени, и обосновать ее в качестве единственного законного наследника древнейшей римской цивилизации. Для этих целей некоторые позднейшие западные исследователи представили позднюю державу в виде нового государства греков. И небольшой городок на берегу Босфора под названием Византий, расположенный на месте нынешнего Константинополя, где святой и равноапостольный Константин Великий основал новую столицу, невольно подарил свое имя новой легенде. Так возник миф о «Византийской империи», совершенно не обоснованный историческими фактами и событиями.
И нет ничего удивительного в том, что до сих пор отсутствует единая точка зрения о том, с какого момента можно говорить не о Римской империи, а об ее «детище» – Византийской империи. Некоторые отсчитывают летопись Византии со времени правления императора св. Константина Великого, другие – императора Аркадия. Третьи называют рождением Византии время св. Феодосия II Младшего (408—450). Наконец, по четвертой, но далеко не последней версии – св. Юстиниана I Великого. Но название привилось – оно действительно очень красиво и таинственно, – и сейчас, как слова синонимы, повсеместно употребляют два термина: «Римская империя» и «Византийская империя». Не отклоняясь от этой традиции, мы также будем использовать оба именования в качестве равнозначных, но не более того.
Естественно, на протяжении веков своего существования Римское государство менялось как по характеру своей внутренней жизни, так и внешне. Этнические латиняне, некогда ставшие родоначальниками вселенского государства, первоначально доминировали в Италии. Однако за границами Апеннинского полуострова они представляли значительное меньшинство по сравнению с коренным населением тех мест. С течением веков латинское начало было еще более разбавлено германскими элементами, залившими своими волнами территорию Италии, Галлии, Испании, Британии.
Иная картина была на Востоке. Еще издавна греки облюбовали для себя этот край, и вскоре на карте появилось множество городов, где довлел греческий этнос и сохранялся эллинский традиционный уклад жизни: Сизика, Никея, Магнезия, Пергам, Эфес, Смирна, Тарс, Атталия, Антиохия, Александрия. В эпоху Птолемеев и Селевкидов, всячески поощрявших греческую культуру, она подчинила себе почти все сферы жизни городов и деревень многих областей Востока.
А по мере того как Эллада нищала и опустевала, многочисленные толпы греков направлялись на Восток, где был хлеб, масло, вино и безопасность. И если далеко не везде они доминировали численно, то их влияние на восточную культуру было безальтернативным. Даже в армии употреблялись воинские звания греков, и сама она была сформирована по эллинскому образцу24. Уже в VII в. старинные латинские титулы эллинизируются, появляются новые названия – логофеты, эпархи, стратиги, друнгарии. Греческий язык становится «армейским» языком, на котором отдается команда.
Философский ум грека гораздо раньше римлянина воспринял проповедь Христа, и христианских общин на Востоке было несравнимо больше, чем на Западе. Именно в Антиохии и Александрии образовались первые богословские школы, известные своими Учителями и Отцами веры, ораторами и проповедниками. Завоевание Востока Римом мало изменило жизнь греческих полисов: они сохранили свое муниципальное устройство и административную систему управления. Желая того или нет, римляне быстро эллинизировались, а сами этнические эллины считали себя гражданами Римской империи и гордились этим статусом. И хотя Византийская империя до последнего дня продолжала называться «Римской империей», там совершенно не понимали латыни, и слово «ромей»» являлось синонимом слова «грек». Появляется простонародный греческий язык, ставший разговорным для большинства населения Римской империи25. По этой причине впоследствии мы будем использовать в качестве синонимов именования «византийцы», «римляне», «ромеи» и «греки».
Позднейшее завоевание Запада германцами во времена Карла Великого (768—814) вовсе не означало автоматического отделения этих земель от Римской империи. В те времена речь шла только о том, кто является законным правителем единого политического и культурного пространства, и здесь были задействованы различные варианты. И лишь, когда его преемники пришли к окончательному и безрадостному для себя выводу о том, что Константинополь никогда не признает легитимности их власти над Италией и остальным Западом, была создана в качестве альтернативы Западная Римская империя. Нетрудно догадаться, что византийцы ее также не признали.
Надо сказать, что новая Западная империя существенно отличалась от римского аналога. Да, у германцев сохранились вселенские амбиции и желание подчинить своей власти весь мир. Но важное уточнение: им вскоре пришлось мириться с фактом появления многих других европейских христианских государств как результат распада державы Карла Великого при его детях. В конце концов, Священная Римская империя на Западе стала представлять собой квазиконфедерацию, где власть императора неизменно сталкивалась с властными претензиями Римского епископа и светских правителей сотен княжеств, герцогств, баронств, маркграфств, чьим решением государь и избирался на трон.
Однако процессы девальвации имперской идеи происходили и на Востоке. Со временем политическая и культурная роль греческого элемента там еще более возросла, и в XIV в. византийцы уже охотно говорят о своем греческом происхождении и культивируют эллинизм – термин, применявшийся ранее только по отношению к язычникам, которых противопоставляли христианам. Вместе с тем, как и ранее, византийцы с гордостью называли себя римлянами, ромеями (на греческий лад), нисколько не сомневаясь в том, что единственно законная Империя, наследница многовековой истории – их, Римская. Легкая «культурная» рябь Георгия Плифона, вождя этого процесса, на толще древних традиций и эллинизация аристократических кругов оказали очень слабое воздействие на византийскую мысль. Хотя бы потому, что сам Плифон не был христианином – скорее, неоязычником26.
Можно сколь угодно долго строить «теории», но факт остается фактом: пусть Запад и называл византийцев «схизматиками», но в действительности никто из современников не недооценивал значения византийской цивилизации. Гибель Константинополя в 1453 г. показалась всему христианскому миру неким невиданным событием, настоящим апокалипсисом, очевидным предвестием последних дней. С Константинополем умерла не только Римская (Византийская) империя, в то время политически уже совсем не великая и далеко не могущественная. Византия всегда являлась центром христианской цивилизации, и вот теперь он пал. Современникам эта утрата казалась невосполнимой.
Замечательна реакция Западной Европы на падение Византии. Рим, при всей многовековой вражде к Константинополю, немедленно потребовал, чтобы все западные государства сообща предприняли Крестовый поход для освобождения великого Города. Папа Николай V (1447—1455) прилагал невероятные усилия, чтобы его организовать и возглавить. Он рассылал грозные послания западным государям, призывая тех к активным действиям. В папской булле от 30 сентября 1453 г. каждому из них предписывалось пролить кровь за святое дело, а также выделить на него десятую часть доходов национальных бюджетов.
Эмоции овладели не только папой. Император Западной Римской империи Фридрих III (1452—1493) написал понтифику письмо, в котором выразил весь ужас, испытанный им при известии о падении Константинополя. Французский композитор Гильом Дюфэ сочинил специальную погребальную песнь, и ее распевали во всех французских землях27. В феврале 1454 г. Бургундский герцог Филипп Добрый (1419—1467) устроил в Льеже пир, на котором все присутствовавшие рыцари поклялись пойти на священную войну для освобождения Константинополя из рук неверных28.
…Но это будет еще очень нескоро. А пока, в начале нашего повествования, Священная Римская империя представляла собой языческое государство, озабоченное отражением внешних угроз и переживающее серьезные внутренние катаклизмы, связанные с формированием новых институтов государственной власти. Старые политические традиции, когда аристократы или амбициозные политики искали должности в списке римских магистратур, пали. Общественные обязанности стали настолько затратными, что люди платили до 2/3 своего состояния, лишь бы только не становиться магистратами.
Варвары затопили приграничье Римской империи, во многих местах царили сепаратистские настроения. Вначале возникла «Галльская империя», с великим трудом возвращенная в лоно римской цивилизации. Затем откололась Британия, заявившая о собственном императоре. Армия утратила свои прежние дисциплинарные устои и превратилась в банду разбойников, грабивших и своих и чужих. «Мы терпим вымогательства и незаконные поборы превыше всех разумных пределов, – писали римляне императору Филиппу Арабу (244—249), – от рук тех, кто должен печься о благосостоянии народа. Солдаты, влиятельные жители города и твои собственные чиновники обрушиваются на нас, отрывают от работы, захватывают наши орудия и скот и силой отнимают то, что им не причитается»29.
Эти беды ощущались особенно болезненно на фоне непрекращающихся войн с Персией, где в 226 г. к власти пришла династия Сасанидов, первенец которых царь Ардашир I (224—240) заявил о своем духовном родстве с древними персидскими царями династии Ахеменидов. Умелые и воинственные представители этой династии не захотели терпеть контроль Рима за торговыми путями, проходившими по территории их государства и соседних областей, а потому вскоре военные действия, некогда прекратившиеся после знаменитых Римо-парфянских войн, возобновились с новой силой. Уже в 230 г. началась очередная война, не давшая решительного перевеса ни одной из сторон. Но вскоре персам улыбнулась удача: в 252 г. они захватиили Антиохию – жемчужину Сирии. А в 260 г. вообще случилась катастрофа – римская армия под командованием императора Валериана (253—260) потерпела сокрушительное поражение под Эдессой, и сам государь попал в плен. Говорят, там он вскоре и скончался, а затем персы сняли с него кожу и повесили в храме как боевой трофей. Впрочем, дальнейшие действия персов в Киликии не принесли им большого успеха.
Смерть победоносного царя Шапура I (240—272) и приход к власти в Римской империи первых предвестников ее возрождения – императоров Марка Аврелия (268—270), Аврелиана (270—275), Проба (276—282) и Кара (282—283) резко изменили линию успеха. Пока персы погрязали в династической междоусобице, римляне предприняли ряд удачных военных операций, вторглись в Месопотамию, достигли Ктесифона и даже захватили персидскую столицу. Персам пришлось срочно заключать мирный договор, который и был подписан в 288 г.30
Однако даже на фоне этих успехов авторитет императорской власти сильно упал. Императоры один за другим становились жертвами очередных дворцовых заговоров. За 50 лет Рим видел 15 императоров и множество претендентов – почти все они закончили жизнь трагически. По счастью, в 284 г. на престол взошел император Диоклетиан (284—305), вернувший Римскую империю к жизни. И именно в эту волнительную эпоху родился человек, перевернувший своей рукой одну страницу истории и открывший новую главу в летописи человечества. Это был святой равноапостольный император Константин Великий, с царствия которого мы и начнем наше изложение.
Династия Константина
I. Святой равноапостольный Константин Великий (306—337)
Глава 1. На пути к единоличной власти
Биография св. Константина Великого является прямым историческим опровержением иногда высказываемому тезису, будто личность монарха не влияет на ход развития человеческого общества. Святой Константин относится как раз к тому типу людей, которые выступили орудием Провидения, соединив для достижения поставленной цели свою волю и лучшие качества характера. Исследователю, повествующему о св. Константине, повезло: далеко не каждый исторический персонаж, даже из числа великих деятелей человечества, способен похвастать такой широкой библиографией о себе, как святой и равноапостольный император.
«Слава Константина, – справедливо отмечал один историк, – придала мельчайшим подробностям касательно его жизни и образа действий особый интерес в глазах потомства». Уже место его рождения и социальное положение матери – св. Елены (250—330) сопровождается массой гипотез и легенд. Некоторые, наиболее ревностные почитатели первого христианского императора Рима, выводят его родословную через мать от одного из королей Британии. Полагают, будто ее отцом являлся некий Коль, король бриттов из Колчестера31.
Вторая легенда гласит, что отец первого святого царя – Констанций Хлор (305—306) приходился внуком известному Римскому императору Клавдию II Готскому (268—270)32. Но объективность требует признать, что св. Елена была совсем невысокого рода, скорее всего, дочерью хозяина гостиницы и содержанкой (конкубиной) отца св. Константина, который в действительности не имел такой славной родословной. Но это не главное – оба они искренне и глубоко любили друг друга. И даже позднее, когда в силу политических обстоятельств Хлор был вынужден жениться на другой женщине, он не оставил свою первую любовь. От этого союза римского солдата и дочери владельца гостиницы, вероятно в Дакии, в 288 г. и родился будущий великий император римлян33.
Его отец к тому времени уже сумел снискать себе славу и авторитет на воинской ниве и носил прозвище «Хлор», что означало «Бледный». Именно благодаря его умелым действиям в 296 г. нашел свою погибель Каррузий (287—293), «император»-узурпатор Британии. Когда Констанций облекся в пурпурную тогу, его сыну св. Константину было уже 20 лет. Юность и молодость нашего героя были вполне традиционными для римлянина-аристократа, хотя и несла на себе отпечаток той удивительной и необычной эпохи.
Как известно, при императоре Диоклетиане (284—305) система государственной власти Римской империи претерпела существенное изменение. Вместо одного императора в Империи в 286 г. появилось два августа – сам Диоклетиан и его выдвиженец Максимиан Геркулий (286—305). Диоклетиан прекрасно понимал, что в одиночку не в состоянии управлять Империей. И только непосредственное присутствие в провинциях лица, облеченного статусом «император», является панацеей от угрожавших Римской империи опасностей34.
Невозможно было оказаться и на берегах Рейна, и у Дуная, который атаковали сарматы, и на границах с могущественной Персией, только что отвоевавшей значительные территории у Рима. Острые ситуации усугублялись проблемой гигантских расстояний между центром власти и «горячими» точками. И, не имея сына, 40‑летний Диоклетиан разделил, неформально сохраняя при этом главенство в августейшей паре, власть с давним своим товарищем35.
Хотя для Рима это новшество было в диковинку, в данную конкретную минуту оно имело чрезвычайно высокий эффект. Уже в скором времени Персия была разгромлена и вынуждена заключить мир на крайне невыгодных для себя условиях, уступив Риму пять своих областей. Благодаря умелым действиям Геркулия узурпаторы Каравзий и Алект, объявившие себя в Англии императорами, были поражены и погибли. Франки, карпы и маркоманы были разбиты и отброшены, армия, финансы и промышленность восстановлены. Впрочем, поражают воображение не только сами успехи, но и то обстоятельство, что они были достигнуты вчерашними рядовыми солдатами, обладавшими почти беспрецедентной волей и характерами, не желавшими слушать ничьих советов; причем достигнуты в весьма короткие даже для современной эпохи сроки.
Однако далеко не все проблемы были решены в первое пятилетие правления двух августов. Сирию захлестывали набеги сарацинов, в Египте росло недовольство, вскоре вылившееся в широкомасштабное восстание. Да и могучая Персия явно не собиралась складывать оружие. В этих условиях перед Диоклетианом сохранялась проблема создания новых центров власти. И он продолжил свои политические опыты, подключив к управлению Римской империей уже четырех соправителей, каждый из которых окормлял своей властью ряд провинций.
Двое из них являлись августами, двое – цезарями, и, по мысли Диоклетиана, через некоторое время августы должны были выйти в добровольную отставку, чтобы их место заняли набравшиеся политического и военного опыта цезари. В этом контексте цезари являлись «подмастерьями» августов: они должны были учиться и набираться знаний у своих старших товарищей, преемниками которых собирались стать спустя некоторое время. Принцип преемственности власти, установленный Диоклетианом, подразумевал новый набор цезарей после рокировки соправителей и т.д. Таким образом, по мысли Диоклетиана, исключалась борьба за власть, а управление провинциями приняло необходимые оперативные черты, чего явно не хватало ранее при излишней централизации государственной власти36.
Суть взаимоотношений между августами и цезарями определили следующим образом: «Duo sint in republica maiores, qui summam rerum teneant, duo minores, qui sint adjuvamento» («Двое должно быть в государстве старших, кто всю полноту дел держит, двое младших, кто им помогает»).
Для облегчения управления государством Диоклетиан разделил всю Империю на четыре префектуры: 1) Восток; 2) Иллирия; 3) Италия и Африка; 4) Галлия вместе с Британией и Испанией. Префектуры разделялись на 12 диоцезов, а диоцезы на 101 провинцию. Соответственно этому во главе префектур находились гражданские чиновники (prefecti praetorio), сосредоточившие власть управления (кроме военной) в своих руках. Диоцезы и провинции также имели своих чиновников, вследствие чего появлялся некий «скелет», на котором держалось управление Римской империей. Можно, конечно, согласиться с тем, что такая система управления подрывала и шла вразрез с древним римским муниципальным строем, но время требовало других управленческих решений, чем те, что родились на заре становления Римской республики37.
Удивительно, но факт – тетрархия не предполагала разделения верховной власти; она оставалась единой и неделимой, просто почила на главах сразу четырех своих избранников, один из которых, сам Диоклетиан, являлся главным августом, или императором. Первоначально августами стали непосредственно Диоклетиан и Максимиан, а отец св. Константина Констанций и Галерий (305—311) – цезарями. После 305 г., то есть после добровольной отставки больного Диоклетиана, Констанций и Галерий стали августами, а Флавий Север и Максимин Даза (305—313) – цезарями. По договоренности Констанцию досталась в управление Северно-западная часть государства – Галлия, Британия и Испания.
Этот принцип формирования верховной власти сыграет решающую роль в жизни св. Константина, предопределив характер его деятельности на целые десятилетия. А также самым решительным образом скажется на политической жизни Римской империи. Тетрархия существенно устранила прежние непорядки и сумятицу в престолонаследии: отныне ни сенат Рима, ни преторианцы более не могли предопределять фигуру нового императора, поскольку у действующих государей уже были официальные преемники. Как следствие, сенат Рима фактически превратился в обычный городской совет, а сам Вечный город по политическму статусу уравнялся со столицей рядовой имперской провинции.
Вторая особенность напрямую связана с отношением к христианству в семье св. Константина. Его мать св. Елена была тайной христианкой и, очевидно, сумела привить сыну первую любовь к неведомому и непонятному римскому миру Богу. Его отец также явно отличался от своих товарищей редкой религиозной терпимостью в целом и к христианам в частности. Есть все основания полагать, что и вторая жена Констанция – Феодора, и его дочь от второго брака Анастасия также были христианками38.
Находясь долгое время при дворе василевса, св. Константин не мог хотя бы поверхностно не ознакомиться с первоосновами этого учения, а также не замечать многочисленных и торжественных христианских собраний, которые открыто проводились на Востоке. Достаточно сказать, что вплоть до гонений напротив императорского дворца в Никомидии, где резидентировал Диоклетиан, располагался большой христианский храм, где регулярно проходили богослужения39.
Но именно на времена правления Диоклетиана приходится очередное, весьма жестокое гонение на христиан, инициированное императором «по подсказке» Галерия, жестокого заступника старых отцовских культов. Как расказывают, Галерий происходил из простой крестьянской семьи и в детстве был волопасом. Исполинского телосложения, с уголоватыми манерами и грубыми вкусами, надменный и невежественный, алчный и жестокий, он обладал природным здравым смыслом и яркими талантами организатора и полководца. К несчастью, под влиянием своей матери – грубой крестьянки-язычницы, люто ненавидевшей христиан, Галерий поставил перед собой цель совершенно извести сторонников этой религии40.
По ненависти к христианам от него не отставал и Максимиан Геркулий. В 286 г. Диоклетиан поручил ему подавить мятеж в Галлии, во главе которого стояли два новоявленных вождя Элиан и Аманд. Поскольку крупных соединений вблизи этих мест не наблюдалось, Геркулий срочно вытребовал легионы из других частей Империи, определив пунктом сбора Северную Италию. В сентябре 286 г. он уже преодолел Пеннинские Альпы и вышел к Женевскому озеру, где приказал организовать торжественные жертвоприношения. Очевидно, они сопровождались клятвой верности, которую все солдаты и офицеры должны были принести ему перед началом решающих сражений. Но для христиан это означало отречение от Христа, на что соглашались идти далеко не все.
Первыми отказались от совершения языческого обряда легионеры Фиванского (египетского) легиона, целиком, до последнего человека, состоявшего из христиан. Командовал этим легионом св. Маврикий (память 22 сентября). Разгневанный и подозрительный Геркулий, решив, будто фиванцы решили ему изменить, приказал провести децимацию – казнить каждого десятого солдата по жребию. Однако легионеры смиренно приняли смерть, а оставшиеся их товарищи подтверили отказ от жертвоприношения. В ответ Геркулий приказал провести децимацию вторично, однако и это не помогло. Тогда по его приказу всех оставшихся легионеров солдаты-язычники из остальных частей буквально изрубили мечами; погиб и легат легиона св. Маврикий, который ныне является покровителем немецкого города Кобург41.
Заметим попутно, что в те дни вершились не только массовые трагедии, но и личные: желая укрепить влияние, Галерий настоял на том, чтобы Диоклетиан выдал свою дочь св. Валерию, тайную христианку, помимо ее воли за себя. Свадьба состоялась, и можно лишь догадываться о мучениях, которые испытывала юная женщина в эту эпоху страшных гонений. Исключение из общей массы гонителей составлял, по словам биографа св. Константина Великого Евсевия Памфила, епископа Кесарийского (около 260—340), только отец будущего первого христианского императора Рима Констанций.
В то время, когда его соправители «нападали на церкви Божьи и разрушали их сверху донизу, а дома молитвы истребляли до самого основания, он сохранил свои руки чистыми от такого гибельного нечестия и никогда не уподоблялся им»42.
Впрочем, и помимо Констанция у христиан было множество тайных и явных защитников среди окружения императора, в армии и во влиятельных аристократических кругах. Удивительно, но даже в самый разгар гонений сам Диоклетиан вынужден был терпеть у себя в семье двух христианок – будущую святую мученицу царицу Александру и дочь св. Валерию, также впоследствии стяжавшую мученический венец. Но они не обладали административными возможностями, как Констанций.
Евсевий нигде не упоминает о крещении Констанция Хлора, что, впрочем, еще ничего не означает, поскольку публичная огласка этого факта, если он действительно имел место, могла бы иметь для него катастрофические последствия. Как минимум его карьера была бы окончена, если не сказать более. Все же, по-видимому, внешне он оставался верным государственному языческому культу, хотя и оказывал тайное содействие гонимым христианам43. А то снисхождение к ним, которое он неоднократно демонстрировал, связано с мягким и добрым характером западного правителя и его религиозной терпимостью. Как мы увидим, св. Константин в полной мере заимствовал у отца лучшие черты характера, в том числе и уважение к свободе совести человека.
Тетрархия закладывалась Диоклетианом как плод рациональной и прагматичной римской мысли – из всех возможных вариантов он выбрал тот, который казался ему наиболее эффективным. И эта система вовсе не предполагала в качестве своего обязательного элемента дружбы между цезарями и августами. Каждый из них стремился к некоторым дополнительным гарантиям для себя, в связи с чем еще совсем молодым человеком св. Константин стал в буквальном смысле слова заложником у Диоклетиана, а потом у его преемника, со временем почти получившего абсолютную власть в свои руки – Галерия, наиболее яростного гонителя христиан. Будучи высоким красивым юношей, св. Константин, по словам древнего историка, уже тогда производил впечатление царственной особы, отличался физической силой и явно превосходил своих сверстников разумом и способностями к наукам. Сверстники опасались конфликтовать с ним. Да что там сверстники – юного св. Константина боялся сам Галерий, которому было предсказание, будто сын Констанция уничтожит его могущество44.
Юноша отличался отменной храбростью, вместе с Диоклетианом он предпринял ряд военных походов, где блестяще себя проявил как воин и командир. В это время ему уже перевалило за 30 лет, и он состоял в должности трибуна первого ранга. За свои успехи и мужество св. Константин принял участие в триумфе императора, находясь, что называется, в «близком круге» царя.
Между тем с уходом в отставку больного Диоклетиана, на которой настоял Галерий, используя какие-то свои, беспроигрышные аргументы, борьба за власть приняла еще более рельефные очертания. Опасаясь – и не без оснований – козней со стороны недругов отца, св. Константин воспользовался удобным случаем и вернулся к родителю, находившемуся уже пред вратами Небесного Царства.
История этого бегства не лишена интереса. Галерий, опасавшийся в своей борьбе за единовластие в Риме только августа Констанция, совершенно не собирался давать свободу его сыну. Но Констанций направил ему письмо, в котором умолял разрешить повидаться с сыном перед смертью, которая уже стояла за его плечами – он был действительно тяжко болен. Галерий внешне согласился – все-таки формально они были равны в статусе и не выносили свои разногласия на людской суд – и сделал предварительные распоряжения, надеясь, что утром найдет необходимые причины, якобы препятствующие отъезду св. Константина. Но последний использовал этот практически единственный шанс и, начав свой путь на Босфоре, пересек пролив, добрался до Дуная, прошел через Альпийские перевалы и закончил свое путешествие на равнинах Шампани, где располагалась ставка Констанция. Констанций с сыном благополучно переплыли Ламанш и обосновались в Британии. Галерий был в ярости, но поделать уже ничего не мог45.
Святой Константин прибыл к отцу вовремя: спустя год тот скончался, и после похорон Констанция войско провозгласило св. Константина августом, «подправив» Диоклетиана, незадолго перед этим не решившегося поставить св. Константина цезарем46. Юный правитель Запада направил уведомление об этом Галерию, обосновав в письме свое преемство покойному отцу. Галерий физически не мог воспрепятствовать этому факту и, кроме того, видимо, надеялся, что варварские волны, систематически захлестывавшие римские территории, сами собой устранят опасного конкурента. Галерий полагал также, что даже в самом оптимистичном для св. Константина варианте тот не сможет сохранить свои провинции в безопасности. Как следствие, его авторитет оказался бы навсегда подорванным.
Но, столкнувшись один на один с трудностями, св. Константин явил себя отличным воином и великолепным, талантливым полководцем. Он разбил германцев, затопивших Галлию, и обратил свой взор на дикие британские народы, которые также быстро подчинил себе, или, что вернее, вернул под юрисдикцию Рима.
Надо сказать, что ситуация в государстве в политическом плане за этот короткий промежуток времени существенно изменилась. В октябре 306 г. в Риме поднялось восстание, и «Вечный город» отверг власть Галерия, недовольный длительным отсутствием августа в древней столице государства. По-видимому, не последнюю роль сыграл сенат, крайне недовольный уменьшением его власти при Диоклетиане. В результате Галерий потерял Италию. На первое место в числе соправителей Империи внезапно вышел Макценций (305—312), сын Максимиана, формально находившегося в отставке вместе с Диоклетианом, но на деле тайно помогавшего сыну и имевшего амбициозные планы на будущее.
Галерий и Север попытались воспрепятствовать излишне честолюбивому конкуренту, но их походы завершились катастрофой. Вначале, по просьбе Галерия, поход на Рим начал Север, но его войско было разбито, а сам он взят в плен Максимианом уже под Равенной. Вскоре ему был вынесен смертный приговор, и Север, найдя утешение в легкой смерти, вскрыл себе вены. Тогда в дело вступил сам Галерий. Но набранная им в Иллирии огромная армия дошла лишь до города Нарни, что находился в 60 км от Рима. Там Галерий осознал безуспешность своего предприятия и затеял мирные переговоры, не увенчавшиеся успехом47. Не без труда Галерий вернулся в свою восточную столицу.
И все же Максимиан и Макценций чувствовали необходимость в надежном союзнике, которым, естественно, мог быть только св. Константин. Но и правитель Запада не мог отказать им в этом предложении – в противном случае он был вынужден в одиночку воевать с Галерием. Политический союз скрепился в 307 г. браком св. Константина с Фаустой, дочерью Максимиана, что через много лет принесет свои трагические плоды, которых мы коснемся несколько позже. Но тогда это соглашение, заключенное в Карнунте, закрепило политическую расстановку сил.
Увы, оно, как и многие другие политические договоры, существовало недолго. Став главой Рима, Макценций совершенно не собирался считаться с властью отца, который в один прекрасный день обнаружил, что является едва ли не номинальной фигурой на фоне собственного сына. Трибунал, в который он обратился, отдал предпочтение Макценцию. Спасаясь бегством, отец был вынужден отправиться в Иллирию, к Галерию, который, конечно, его не принял. Убегая уже от Галерия, который пожелал умертвить отца своего врага, Максимиан спешно перебрался в Галлию, под защиту св. Константина, который вместе с Фаустой радушно принял его. Таким образом, Макценций фактически стал узурпатором, отнявшим власть у собственного отца, а также причиной прекращения действия ранее заключенного четырехстороннего соглашения48.
Легко принять славословия историков в адрес св. Константина как обычный прием антитезы при описании его достоинства на фоне многочисленных пороков врагов. Но в данном случае объективно Макценций олицетворял все негативное, что мог придумать даже видавший виды Рим. В то время как Галлия под правлением св. Константина наслаждалась спокойствием и благоденствовала, Италия и Африка страдали под властью Макценция. Писатели единогласно утверждают, что новый правитель Рима был жесток, жаден и развратен.
Например, подавив незначительное восстание в Африке, во главе которого стоял губернатор провинции с немногочисленной группой соратников, Макценций обрушил свой гнев целиком на всю область, которая была опустошена огнем и мечами его солдат. Многочисленная армия наушников и шпионов без устали «открывала» новые связи разоблаченных заговорщиков, вследствие чего гибли невиновные, но очень обеспеченные люди, имущество которых конфисковали. В самом Риме Макценций совершенно утратил стыд и открыто преследовал симпатичных женщин, в том числе жен и дочерей сенаторов. Как и полагается в таких случаях, отказы в домогательствах Макценцием не принимались. Армия не отставала от своего повелителя, а он втайне потворствовал ее грабежам и насилиям. Наконец, Макценций заявил, что в действительности только он один является императором Рима, а остальные правители – не более чем его временные наместники в провинциях. Война становилась неизбежной49.
К сожалению, и внутри семьи св. Константина было не все спокойно, а одно печальное событие ускорило начало военных действий, родив формальный, но столь желанный для Макценция предлог для объявления войны. Старый соправитель и товарищ Диоклетиана не отличался большим благородством и щепетильностью – черты характера, вполне унаследованные его детьми Фаустой и Макценцием. В 310 г. Максимиан организовал неудавшийся заговор против св. Константина, целью которого являлось физическое устранение того от власти – проще говоря, убийство. Воспользовавшись временным отсутствием западного августа, он распространил слухи о его гибели и без затей положил свою руку на царскую казну. Конечно, св. Константин быстро восстановил положение дел, захватив в плен незадачливых заговорщиков и предав их суду. Приговор был скор и справедлив, но до публичной казни дело не дошло: с тайного ведома св. Константина Максимиан повесился50.
Но для Макценция это была большая удача. Разыграв сыновье горе, он объявил войну св. Константину. Однако тот не собирался отсиживаться в пассивной обороне и решил опередить своего соперника, перенеся театр военных действий в Италию. Накануне военных действий, хотя и без некоторых оговорок, образовались следующие коалиции – св. Константин и Лициний – преемник Севера, с одной стороны, Макценций и Максимин Даза – с другой.
Как пишет историк, подготавливаясь в 312 г. к походу, св. Константин серьезно задумался о том, у какого бога искать покровительства, из чего можно сделать два важных вывода. Во-первых, что сам молодой август был тогда еще равнодушен к учению Христа и если и не организовал гонения на христиан по примеру других цезарей, то, скорее, по природной своей мягкости и благородству, чем по религиозному убеждению. И, во-вторых, что языческий культ уже не устраивал св. Константина. Очевидно, по складу своего характера это был не только рассудительный человек (обыкновенно люди не склонны размышлять об основах традиционного для их семьи и общества вероисповедания), но и человек духовно богатый, чья душа искренне стремилась к познанию Божества. В целом это был далеко не «средний» человек, и уж во всяком случае, человек искренних убеждений.
Сегодняшнему секуляризированному сознанию, воспитанному на скудных строках учебных пособий, невозможно представить себе во всей полноте картину личного воцерковления человека, тем более, когда такое воцерковление приходилось на языческие времена императоров – гонителей христианской веры. Казалось бы, до нас дошли лишь слова, поведавшие о том, что-де перед решающей битвой с Макценцием у стен Рима или даже ранее (по Евсевию Памфилу) св. Константин узрел во сне Божье предзнаменование, после чего повелел изготовить специальное знамя – лаборум, а изображение креста нанести на щиты воинов. А после победы, убедившись во всемогуществе Бога, сделал все зависящее от него для прекращения гонений и воцерковлению всей Римской империи. Однако за внешними следами этих великих в действительности событий, перевернувших ход человеческой истории, остались внутренние размышления, соблазны, выбор пути к истинному Богу.
Сверхсобытие – христианизация Римской империи, величайший дар Божий людям, не мог не обойтись без аналогичных по своей силе и напряжению усилий Его врага по предотвращению крайне нежелательного для него результата. Конечно, св. Константин снискал и величайшую милость, через которую приобрел силы для этого исторического во всех отношениях решения, но кто напишет сейчас о тех соблазнах, которые он должен был преодолеть в своем сердце на пути к нему? Кто способен передать ту гамму чувств и силу воли, чистоту души и благородство помыслов человека, откликнувшегося на стук Бога в его сердце?
Это личное решение непросто даже для рядовых лиц, вошедших во врата церковной ограды и впервые приступивших к Святым Дарам. Насколько же труднее оно далось царственному мужу, для которого верный выбор означал не только личное утверждение в праведной или неправедной вере, но напрямую был связан с судьбой самого Римского государства. Ведь, как известно, античное сознание не отделяло благосостояние своего отечества (равно как и собственное) от приверженности истинному или ошибочному культу.
Попытаемся раскрыть внутреннее состояние человека, положившего на чашу собственного выбора не только собственную судьбу, но и всю историю Рима. Представим себе императора, который был убежден в том, что с его именем в случае ошибки потомки – если таковые вообще останутся – будут связывать самые горькие страницы существования Римской империи. Не царь – освободитель Рима от тирана Макценция, а неудачливый молодой и самоуверенный наглец, опровергнувший отеческие традиции и верования, ниспровергатель государственных устоев и виновник гибели государства – такие оценки снискал бы он в этом случае со стороны соотечественников, замарав свой род и фамилию на вечные времена. А печальные примеры Севера и Галерия, предавших себя в руки языческих богов, но оттого не снискавших славы на поле брани, были очень свежи и не могли не озадачить св. Константина.
С другой стороны, воспоминания детства и отрочества, проведенные вблизи христиан, и как минимум пример своей матери св. Елены – ревностной христианки сыграли свою положительную роль, хотя об этих факторах, очевидно повлиявших на св. Константина, историки не повествуют. Впрочем, этот вывод легко напрашивается на ум, исходя из контекста предыдущих событий из жизни западного августа.
О долгих размышлениях молодого василевса недвусмысленно повествует Евсевий, который долгие годы состоял при особе императора и писал биографию царя буквально «с оригинала». «При решении сего вопроса (то есть к какому богу обращаться с мольбами о ниспослании успеха его начинаниям. – А. В.) ему пришло на мысль, что немалое число прежних державных лиц, возложив свою надежду на многих богов и служа им жертвами и дарами, прежде всего бывали обманываемыми льстивыми оракулами, обольщались благоприятными предсказаниями и оканчивали свои дела неблагоприятно. Только отец его шел путем, тому противным. Видя их заблуждения и во всю свою жизнь чтя единого верховного Бога всяческих, он находил в Нем спасителя своего царства, хранителя его и руководителя ко всякому благу»51. Возможно, Евсевий немного преувеличивает, говоря, будто св. Константин «всю жизнь» чтил Христа. Правильнее сказать, что впоследствии служение Христу станет для него смыслом жизни. Но перед войной в Италии царь еще не был христианином.
Прийдя к указанному выше умозрительному – пока еще – выводу, св. Константин удостоился, по его собственным словам, Божьего знамения в виде креста с надписью «Сим побеждай!». Как следует из описания Евсевия, по-видимому, молодой полководец не придал этому большого значения. Но ночью ему явился Сам Христос, повелевший сшить знамя, подобное виденному на небе, и употреблять его для защиты от врагов. Это был решительный перелом в сознании молодого царя. Как цельная натура, он сделал окончательный для себя выбор. История христианской Церкви получила своего первого, но очень деятельного защитника и сподвижника в лице представителя верховной власти Римской империи. Царь не ограничился формальным следованием христианству, когда человек «на всякий случай» использует священные символы в качестве некоего тотема, должного наряду с языческими богами оберегать его – примеры такого религиозного «плюрализма» были вполне свойственны прежним римским императорам.
Святой Константин отдал свое сердце Христу сразу и целиком. С похвальной ревностью он принялся познавать первоосновы христианства. Перед походом наш герой не просто предложил служить при себе иереям-христианам, но и сам начал изучать Святое Писание. После этого св. Константин считал подготовку к походу практически завершенной в духовном отношении52.
Молодой христианский правитель не ошибся в своих надеждах. Богатства благодати, щедро изливаемые по силе веры на него Богом, компенсировали ту разницу в силах, которая объективно должна была предопределить печальные для св. Константина результаты кампании. В реальной войне решает не только дух войска, но и стратегические, объективные факторы, включая, конечно, численность и вооружение армии. Однако Господь, давший в руки св. Константина судьбу христианской Церкви, явил множество знамений, должных успокоить и ободрить царя, вселить в него уверенность в задуманных начинаниях.
Как повествуют исследователи, соотношение сил было явно не в пользу будущего единовластного христианского императора Рима. Ядром армии Макценция являлась тяжелая, закованная в броню азиатская кавалерия, сметавшая все на своем пути, и обновленная преторианская гвардия – элитные войска Империи, которая вместе с остальными подразделениями насчитывала около 80 тысяч человек. Еще 40 тысяч воинов были набраны из воинственных племен Северной Африки, и их боеспособность нельзя было преуменьшать. В случае необходимости Макценций мог мобилизовать в короткий срок еще почти 70 тысяч солдат. В целом под его рукой состояло около 180—190 тысяч человек, тщательно экипированных и хорошо вооруженных.
Святой Константин располагал куда более скромными силами – не более 100 тысяч бойцов, из которых почти половина несла гарнизонную службу в Британии и на Рейне. Только 40 тысяч легионеров могли использоваться св. Константином в оперативных целях. Но это были истинные бойцы, дисциплинированные и организованные, прошедшие со своим полководцем многие войны, ветераны сражений, беспредельно преданные ему53. Впрочем, при всех сопутствующих обстоятельствах этого было недостаточно для успеха в этой тяжелой войне.
Все было против св. Константина, победа его казалась невероятной. Тем не менее немного забежим вперед, невозможное стало возможным. По словам историков, самому Ганнибалу или Юлию Цезарю никогда так не везло, как св. Константину. Его решения были будто продиктованы свыше, а глаза противников словно застлала темнота неведения. Действия василевса поражали своей гениальностью и остротой, любые его распоряжения были своевременны и точны. Напротив, Макценций как будто добровольно делал все для того, чтобы проиграть эту долгожданную для себя войну. Он распылил основные силы, восстановил против себя Рим и самоуверенно выжидал противника, видимо, абсолютно убежденный в неизбежности своей победы. Войско св. Константина было сковано одной волей, могучим кулаком; Макценций выставил навстречу ему раскатанное по столу тесто, кусками бросая его в наступающего противника.
Все это можно было бы отнести на естественный ход вещей, если бы Макценций являлся неопытным юнцом. Но он был далеко не начинающий военачальник, и окружали его боевые полководцы, совсем недавно без труда справившиеся с Севером и Галерием. Впрочем, св. Константин и его сторонники сами открыто признавали, что на их стороне была Сверхъестественная Сила. «Они всегда говорили, что это была особая, исключительная удача, ниспосланная свыше, намного превосходящая обычное человеческое везение. То был перст Божий»54.
Не успел Макценций определить план кампании, как св. Константин с войском перешел Альпы, подобно Ганнибалу, и разбил встречные отряды Макценция под Турином, который немедленно открыл свои ворота на милость победителя. Вслед за Турином пал Милан – политическая столица Римской империи. Под Вероной св. Константин после очень упорной битвы разгромил одного из полководцев Макценция, Руриция, вслед за чем сдалась упорная Верона55. Скорость продвижения армии св. Константина по Италии поражала современников, и вот уже его легионы бодро маршируют по знаменитой Фламиниевой дороге, ведущей прямо в Рим. Попутно св. Константин направил свой флот, занявший острова Сицилию и Сардинию, чем, во-первых, лишил Рим подвоза продовольствия – крайне болезненное для Вечного города событие; а, во-вторых, не позволил противнику надеяться на прибытие пополнений из Африки56.
Армия Макценция заняла удачную позицию на реке Тибр рядом с Мальвийским мостом, но св. Константин не стал ждать, и его армия прямо с марша, буквально перестраиваясь на ходу, обрушилась на превосходящие силы противника. Спустя некоторое время тот дрогнул и стал беспорядочно отступать, причем сам Макценций утонул в Тибре при бегстве. 28 октября 312 г. св. Константин с войском вступил в Рим. Таким образом, на всю победоносную и стремительную кампанию, которой мог бы позавидовать любой полководец, св. Константину понадобилось всего 58 дней57. Сенаторы оказали ему почести, которыми ранее награждались только избранные, и приняли решение о старшинстве св. Константина из трех оставшихся правителей (помимо Лициния и Максимина Даза), управлявших Римской империей58.
Это было действительно чудо, явственно явленное Богом через Своего царственного избранника. Не случайно в текстах Евсевия об этой победе св. Константин постоянно уподобляется легендарным библейским героям: «Как во времена Моисея и благочестивого некогда народа еврейского, Бог ввергнул в море колесницы фараона и войска его, и в Чермное море погрузил отборных всадников тристатов (Исх. 15, 45), так, подобно камню, пали в глубину Макценций и бывшие с ним гоплиты и копьеносцы. Между тем, как (св. Константину. – А. В.) помогал сам Бог, – тот жалкий человек, лишившись Его помощи, тайными своими хитростями погубил самого себя»59.
Вскоре св. Константин покинул Рим и отправился на встречу с Лицинием в Милан. Тогда же в Милане в 313 г. был издан знаменитый эдикт о веротерпимости, среди подписантов которого числились св. Константин, Лициний и Галерий. Диоклетиан также получил приглашение приехать на эту торжественную церемонию, и его подпись, безусловно, придала бы больший вес и торжественность этому документу, но, сославшись на нездоровье, некогда могущественный владыка отклонил приглашение. Отказался от подписания документа и Максимин Даза – август азиатских владений Римской империи, оставшийся верным языческому культу. Но яростный гонитель христиан Галерий, под конец жизни решивший в такой форме хотя бы частично загладить свою вину перед Церковью, поддержал св. Константина. Впрочем, после этого он прожил недолго и умер от какой-то страшной болезни – то ли от рака, то ли от широко разлившейся по телу гангрены. Интересно, что еще в 311 г. он, мучимый страшной болезнью, инициировал эдикт о веротерпимости, в котором просил христиан помолиться их Богу о его спасении и о благополучии Римского государства60. Но вернемся к документу 313 г.
«С давних пор считая, – говорится в эдикте, – что не следует стеснять свободу богопочитания, но, напротив, надо предоставлять уму и воле каждого заниматься Божественными предметами по собственному выбору, мы издали повеление как всем другим, так и христианам хранить свою веру и свое богопочитание… Угодно нам совершенно отменить… распоряжения относительно христиан, весьма нелепые и несовместимые с нашей кротостью. Отныне всякий, свободно и просто выбравший христианскую веру, может соблюдать ее без какой бы то ни было помехи»61. Вроде бы такой религиозный плюрализм противоречил традициям Рима, где религиозный культ имел государственное значение. Но внешнее противоречие – свобода совести и потребность в наличии государственного культа, на место которого очень скоро и окончательно придет христианство, – разрешилось просто. Еще не крещенный и даже не оглашенный, св. Константин Великий, не желающий применять насилие над духом своих подданных, фактически сделал все для того, чтобы естественное превосходство духа и слова Православия над другими религиями при отсутствии внешних стеснений вскоре завоевало доминирующие позиции62.
Далекий от тщеславия, св. Константин не сомневался в том, по Чьей великой помощи одержана им победа, и по прибытии в Рим тотчас вознес благодарственную молитву Богу. Посреди города он воздвиг тот священный символ – знамя, который ему указал изготовить Христос, явившийся во сне перед походом на Макценция, и начертал, что «сие спасительное знамя есть хранитель римской земли и всего царства». Когда же на самом людном месте Рима поставили ему статую, он немедленно приказал то высокое копье в виде креста утвердить в руке своего изображения и начертать на латинском языке слово в слово следующую надпись: «Этим спасительным знамением, истинным доказательством мужества, я спас и освободил ваш город от ига тирана и, по освобождении его, возвратил римскому сенату и народу прежние блеск и славу»63.
Очень точные слова! Святой Константин откровенно признался, что истинным мужеством с его стороны были не многочисленные, молниеносные победы над врагом, а тот выбор в пользу истинного Бога, который он сделал перед кампанией.
Надо сказать, поведение св. Константина в части обеспечения религиозной свободы и восстановления нарушенных материальных прав христиан было очень последовательным. Очевидно, он решительно стал на путь собственного воцерковления и являл многочисленные образцы христианского милосердия и сострадания, помогая всем нуждающимся и обремененным. Завладев Италией и присоединив ее к своим владениям, он не стал заносчивым и жестокосердным, являя удивительные образцы терпения и мягкости. Некоторые в Африке, приводит характерный пример историк, дошли до настоящего безумства и, ведомые демонами, делали все, что смогло бы привести в ярость любого правителя, только не св. Константина. «Поступки их василевс нашел смешными и говорил, что они рождены под влиянием лукавого, поскольку такие дерзости свойственны не здравомыслящим, но совершенно помешанным людям, либо по наущению лукавого»64.
Наряду с этим к тому времени св. Константин еще не принял таинства Святого крещения, что вполне объяснимо. В практике древней Церкви поздние, почти предсмертные Крещения были обычным явлением. Как представлялось, в таком случае человек окончательно освобождался от грехов, поскольку, по христианскому вероучению, таинство Крещения смывает все ранее совершенные грехи. Нельзя сбрасывать со счетов и то обстоятельство, что вхождение в Церковь в те давние времена было величайшим событием для человека. К погружению в крестильную купель готовились годами, проходя через разряд оглашенных и духовно очищаясь.
Наконец, как император Рима, св. Константин в силу должности царя воспринял традиционный титул pontifex maximus. И, как верховный жрец римского народа, он, безусловно, должен был принимать участие в языческих культовых обрядах, хотя бы и в качестве наблюдающей стороны. Публичное крещение в такой момент времени могло войти в жесткое противоречие с обязанностями pontifex maximus, а поскольку христиане тогда еще были в Риме в явном меньшинстве, легко было предположить негативную и острую реакцию языческих толп и самого сената на это событие.
Замечательно наблюдать, как линия поведения св. Константина по отношению к представителям различных конфессий копировала политику его отца. С той только разницей, что все его симпатии были на стороне христианских общин. В эти годы, когда св. Константин формально был всего лишь одним из трех оставшихся соправителей Рима, хотя и обладал величайшим авторитетом, открывается новая стадия в становлении Православной Церкви.
В 313 г. клирикам был предоставлен иммунитет, и они избавились от несения общественных повинностей. В постановлении проконсулу Африки Анулину император пишет: «Мы желаем, чтобы, по получении этой грамоты, ты немедленно приказал вернуть христианам Кафолической Церкви в каждом городе или других местах все, что им принадлежало и что теперь находится во владении или граждан, или иных лиц, ибо мы постановили вернуть церквам их прежнюю собственность»65.
В другом послании этому же чиновнику царь повелевает: «Лиц, находящихся во вверенной тебе провинции и состоящих в Церкви, отдавших себя на служение этой святой вере (обычно их называют клириками), желаю я раз и навсегда освободить от всех общественных обязанностей, дабы они не были отвлекаемы от служения Богу каким-нибудь обманом или святотатственным поползновением, но без всякой помехи исполняли свой закон. Если они будут служить Богу, – поясняет василевс, – со всей ревностью, то это принесет много пользы и делам общественным»66.
В 315 г. св. Константин освободил земли духовенства от обычных налогов, в этом же году отменил распятие в качестве способа смертной казни, а также постановил, что иудеи, возбуждающие мятежи против христиан, предаются сожжению. Святой Константин повелел возвратить всех христиан, находившихся в ссылке или на рудниках, восстановил их в общественных должностях (если таковые были ранее на них), вернул собственность мучеников за веру их наследникам, а если таких не оказывалось, то передавал Церкви67.
Эдикт от 23 июня 318 г. позволил всякому заинтересованному лицу переносить по взаимному соглашению с противной стороной гражданское дело на рассмотрение епископского суда, даже если данное дело уже слушалось к тому времени в обычном гражданском суде. Примечательно, что решение епископа по таким делам не подлежало обжалованию в высших судебных инстанциях. Эдикт от 5 мая 333 г. подтвердил безапелляционность епископского решения68.
В 319 г. двумя законами св. Константин запретил частные жертвоприношения и языческие гадания, но сохранил общественные обряды. Разумеется, эти действия никак нельзя квалифицировать, как гонения на язычество, как иногда пытаются представить. Такие жесткие и категоричные меры в то время, когда подавляющая часть населения Империи еще не принадлежала к христианской Церкви, никак не могли быть безболезненно восприняты римскими гражданами. Исследователи точно замечают, что консерватизм, доведенный до абсолюта, и крайний формализм являлись природными чертами латинян. В римской религиозности главным являлась не вера, а сам культ, внешнее отношение к божеству. Римляне чествовали богов не по любви, а в силу правового и политического обычая. В Риме сама государственность являлась предметом религиозного культа, а жрецы, понтифики и фламины были государственными чиновниками. Заявить в этих условиях, будто языческие культы упраздняются – то же самое, как громогласно объявить о кончине самого Римского государства69.
В 321 г. царь издал эдикт о всеобщем праздновании воскресного дня: земледельческие работы разрешались, но в городах и в армии все работы отменялись, прекращалась всякая торговля, дела и даже судопроизводство. В этом же 321 г. Церкви было разрешено получать имущество по завещаниям, чем резко увеличивалось ее благосостояние70.
В области свободы совести он держался твердой срединной линии, не насилуя чужую совесть и не принуждая никого к переходу к христианству. Его личный пример был эффективнее любого принуждения. Святой Константин решительно участвовал в делах церковного управления, являя замечательную ревность по вере. Он всячески увещевал своих подданных принять христианство, но тут же требовал, чтобы желание это было искренним, без какого-либо принуждения71.
Константин приказал строить храмы размеров, позволяющих посетить их всем желающим; запретил изображения богов и государственные жертвоприношения. Чиновникам же было предписано воздерживаться от языческих обрядов72. Сам св. Константин отказался от титулатуры divius («божественный»), традиционной для языческих Римских императоров, его предшественников, и в 325 г. запретил выставлять свои изображения в христианских храмах.
Позднее, в 326 г., последовало указание о запрете восстанавливать разрушенные языческие храмы. Запрещены были и изображения языческих богов. Храмы одиозных, безнравственных культов подлежали закрытию в обязательном порядке73.
Некоторые действия царя по прекращению языческого культа иногда в литературе подвергаются критике, на самом деле едва ли обоснованной. Государственные чиновники всегда и во все времена несут определенные ограничения, связанные с их должностью. В этой связи нет ничего удивительного в том, что император запретил своим подчиненным участие в культах, которые шли вразрез с политикой самого василевса и его мировоззрением. Для IV в. это, прямо скажем, было небольшим ограничением.
Запрет частных жертвоприношений, обрядов и гаданий не вызвал гневной реакции у населения, поскольку уже тогда они считались искажениями государственной религии, и их отмена только способствовала укреплению ее самой. Более того, даже обязательное для прославления Бога воскресенье рассматривалось подданными императора как установление им нового праздничного дня, что входило в его компетенцию как первосвященника74.
Опасаясь «ревности не по разуму» некоторых христиан, усмотревших в новых веяниях войну язычеству, св. Константин в 324 г. издал еще один эдикт, в котором обратил внимание на малоценность и непрочность вынужденных насилием обращений в новую веру75.
К свободе убеждений язычников он относился с самой широкой терпимостью. Но совсем не так обстояло дело с еретиками. Избегая первоначально вмешательства в область религиозных догматов, желая мира в Римской империи, св. Константин тем не менее по просьбе архиереев и в целях спокойствия Церкви и государства вскоре был вынужден принимать меры против донатистов. В частности, для искоренения этой ереси и успокоения Церкви по его инициативе были собраны Римский собор 313 г. и Арльский собор 314 г. «Имея особенное попечение о Церкви Божьей, он, в случае взаимного несогласия епископов в различных областях, действовал как общий, поставленный от Бога епископ, и учреждал Соборы служителей Божьих, даже не отказываясь являться и заседать сам среди сонма их и, заботясь о мире Божьем между всеми, принимал участие в их рассуждениях»76.
Интересны и мотивы действия императора, излагаемые в его актах, и та непосредственность в управлении делами Церкви, демонстрируемая им. «Уже давно, – излагает он существо вопроса, – некоторые люди стали отходить от почитания святой небесной Силы и от Кафолической Церкви. Желая положить конец этим ссорам, я распорядился пригласить из Галлии некоторых епископов, а также вызвать из Африки постоянно и упорно спорящих друг с другом представителей враждебных сторон, чтобы в общем собрании и в присутствии Римского епископа вопрос, вызвавший это смятение, можно было тщательно обсудить и уладить». Епископу Сиракузскому Христу, которому и направлено данное письмо, приказывается собрать множество епископов из разных мест, а также дается разрешение воспользоваться государственной почтой. Епископу Карфагенскому Цецилиану велено также собрать епископов, и для обеспечения дорожных и иных расходов архипастырей ему была выделена значительная сумма77.
Всем сердцем приняв главную заповедь Христа – любить ближнего, св. Константин последовательно и системно перерабатывает законодательство Римской империи под христианскую этику. Например, император начал очень жесткую борьбу с доносчиками. В 313, 319 и 335 гг. он принимает три закона, в которых за данное преступление вводится смертная казнь. Безусловно, в основе этих законоположений лежат религиозные мотивы, особенно они заметны по тексту закона 319 г., где царь называет деляторство «величайшим злом человеческой жизни». По справедливому мнению исследователей, в борьбе с сутяжничеством выражается взгляд христиан на закон как на неизбежное зло, чрезмерное рвение в употреблении которого, да еще и в корыстных целях, есть тяжкий грех78.
В 315 г. вышел запрет на клеймение лица преступников, так как, указывает св. Константин, они сотворены по образу небесной красоты. Отменено распятие как вид смертной казни, а судам дается указание на обязательную замену такого наказания для преступников, как отдание их в гладиаторы или на съедение диким зверям79.
Особенно наглядно христианские начала проникли в область семейного законодательства. Законом от 318 г. император фактически отменяет старинное право домовладыки patria potestas – краеугольный камень римского права, согласно которому отцы семейства могли распорядиться по своему усмотрению жизнью и свободой детей. Святой царь уделяет много внимания таким преступлениям, как супружеская измена, или адюльтер, а женщин, виновных в этом грехе, он приравнивал к отравителям и убийцам. Невиданно ранее поднимается на равную высоту с мужчиной женщина.
Законом 321 г. установлена полная правоспособность женщины в 18 лет, она отныне способна выступать в качестве равноправного наследника имущества отца. А в 320 и 336 гг. выходят два эдикта, запрещающие человеку, находящемуся в законном браке, иметь еще и сожительницу (конкубину). Запрещается свобода развода, который теперь становится возможным только по конкретным основаниям. Также в 320 г. выходит закон, устанавливающий жесточайшие меры для похитителей девушек. Принимается закон о запрете кастрации и торговле евнухами. Преступники, нарушившие его, подлежали смертной казни, а евнухи – конфискации, ведь по римскому праву они считались такой же вещью, как и остальные рабы80.
Кроме этого, св. Константин изыскал средства для строительства христианских церквей. По преданию, император основал в Риме церковь Св. Иоанна в поместье своей жены Фаусты в Латеране, Св. Петра в Ватикане, Св. Павла за стенами города, в Иерусалиме храм Св. Креста, Св. Агнессы за Номентанскими воротами, Св. Лаврентия за стенами и Св. Марцеллина и Св. Петра за Porta Maggiore81.
Но помимо религиозных, у св. Константина были и политические дела, требовавшие его решительного вмешательства. Как указывалось выше, он недолго пробыл в Риме, который не очень любил «восточного» императора с его малопривлекательными для римлян привычками и склонностью к обеспечению явных преференций тем, кого еще вчера считали врагами общественной нравственности и царя – христианам. Уже через 60 дней после триумфа св. Константин, как указывалось выше, вернулся в Милан. Вскоре к нему явился Лициний для заключения брачного союза со сводной сестрой св. Константина Констанцией.
В это время Максимин Даза, ведомый приверженцами язычества, совершил внезапный налет на владения Лициния и после долгой осады захватил Византий – маленький город на берегах Босфора, будущий великолепный и величественный Константинополь. Увы, «что дозволено Юпитеру, не дозволено быку»: Максимин явно не обладал способностями и талантами св. Константина. Быстро возвратившийся в свои провинции Лициний в упорной битве разгромил почти вдвое превосходящие силы Максимина, тот бежал и вскоре умер82. Говорят, пытаясь отравиться, он принял яд на полный желудок, но не скончался, а заработал тяжелую форму язвы кишечника, долго страдал и умер в мучениях. Христиане не без оснований видели в этом гнев Божий, излившийся на их гонителя.
Теперь у Римской империи осталось всего два августа – св. Константин и Лициний (265—325). Этот человек заслуживает несколько строк, позволяющих понять последующие события. Как отмечают историки, обоих августов связывали многие сходные страницы биографии. Оба выросли на Востоке (в Иллирии), оба испытали тяжесть солдатских будней, обоих отличали честность и верность данному слову. Лициний поддержал св. Константина в его войне с Макенцием, соблюдая дружеский союзнический нейтралитет. В ответ св. Константин, не желавший пользоваться искусственными привилегиями и стремившийся сохранить диоклетиановскую систему управления государством, перед Итальянской кампанией обещал тому руку своей единокровной сестры, дочери Констанция от второго брака. Женившись на ней, Лициний стал таким же равноправным наследником Констанция, как и сам св. Константин. Более того, св. Константин имел к тому времени только одного сына – Криспа (305—326), рожденного им от незаконного брака еще до свадьбы с Фаустой. Таким образом, в случае преждевременной смерти западного августа Лициний оказывался единственным законным наследником всех предыдущих соправителей Империи83.
Любопытно наблюдать, как оба августа старательно копировали друг друга, не желая ни в чем уступать своему сотоварищу. После победы над Максимином Даза, а война происходила в том числе на территории Армении, Лициний присоединил к своей титулатуре звонкое наименование «Armenicus Maximus». Но тут же св. Константин добавил и к своему имени «Armenicus Maximus», чтобы ни в чем не отстать от конкурента84.
Однако вскоре новая ситуация в Римской империи резко изменила умонастроения Лициния. Если до последнего момента их связывали со св. Константином почти дружеские отношения, то теперь он стал претендовать на первенство в дуэте августов. Повод для войны нашелся быстро. Во-первых, желая устранить возможных претендентов на царский трон, Лициний предал смерти детей Максимина Даза, а затем жену (св. Валерию – дочь царицы св. Александры), и Кандидиана, внука Диоклетиана, мольбы которого остались не услышанными им. Кроме того, Лициний вступил в политическую интригу с неким патрицием Вассианом, мужем другой единокровной сестры св. Константина, Анастасии. Почему-то Вассиан решил, что, как родственник св. Константина, он вправе заявить права на престол и западные провинции Римской империи. Но и этот заговор был своевременно раскрыт св. Константином, Вассиан бежал к Лицинию, который на все требования императора выдать ему беглеца отвечал высокомерным отказом. Война началась85.
В начале октября 316 г. св. Константин с войском перешел границу восточной части Римского государства, традиционным для себя быстрым маршем прошел по провинциям Лициния и близ города Цибал (ныне город Винковичи, что в Хорватии) 8 октября разгромил его войско. Хотя у св. Константина было не более 20 тысяч легионеров, а у его противника около 35 тысяч воинов, он первым бросил свою кавалерию в атаку и опрокинул конницу Лициния. Затем наступила очередь пехоты, добившейся большого успеха, – к концу сражения потери Лициния достигли 20 тысяч человек убитыми и ранеными. Однако сам мятежный август ночью оставил свой лагерь и сумел скрыться со своей семьей и соединился с войсками дукса лимитанов в Дакии Валентом, которого возвел в ранг цезарей. В ноябре того же года противники вновь скрестили мечи в сражении на Мардийском поле, которое не дало успех ни одному из них86.
Как следствие, враги-друзья сели за стол переговоров. Их результатом стало отторжение шести балканских провинций, за исключением Фракии, от Лициния и передача под власть св. Константина. Помимо этого, стороны договорились, что св. Константин вправе назначать двух цезарей, а Лициний одного, чем еще более подчеркивалось превосходство св. Константина. Как ни странно, но этот мир продержался 9 лет87.
Нельзя, правда, сказать, что мирное время не сопровождалось конфликтами, способными в любой момент разрушить его. Стороны продолжали негласное соперничество за единовластие в государстве, чему способствовали некоторые новые обстоятельства. Через 8 лет после бракосочетания с Фаустой у василевса родился сын Константин, которого он наряду со старшим, 18‑летним незаконнорожденным сыном Криспом, назначил цезарем, используя свое оговоренное в соглашении с Лицинием право. Для того это был явный удар. В присутствии одного только Криспа Лициний имел еще возможности претендовать на единоличное императорское достоинство в случае смерти св. Константина, но маленький наследник перечеркнул эти надежды.
Правда, по примеру св. Константина Лициний также назначил цезарем своего 3‑летнего сына, рожденного от сестры св. Константина Констанции. Но шансы на преемство власти у порфирородного Константина, сына знаменитого императора и полководца, явно были выше. По некоторым данным, для сохранения собственного статуса и обеспечения будущих прав членов своей семьи Лициний начал переговоры со св. Константином о женитьбе Криспа на своей дочери, по-видимому, увенчавшиеся успехом88. По крайней мере, эта немаловажная деталь – если принять сведения о женитьбе Криспа в качестве истинных – сыграет решающую роль в скорых трагических событиях, которых мы коснемся далее.
Впрочем, это была невидимая для широкой массы сторона конфликта. А в публичной сфере, пожалуй, наиболее болезненным для св. Константина стал закон Лициния от 320 г., которым тот фактически отменил Миланский эдикт и начал новые гонения на христиан в своих провинциях. «Римская земля, разделенная на две части, кажется всем разделенной на день и ночь, то есть населяющие Восток объяты мраком ночи, а жители другой половины государства озарены светом самого ясного дня»89.
Лициний не был до конца последовательным в своих методах унижения христиан. Возможно, желая разнообразить способы уничижения их достоинства и требуя изначально невозможного, а быть может, наоборот, чтобы смягчить на первых порах реакцию на свои действия, но в один момент он повелел рукополагать женщин в священнический сан (!) якобы для уравнивания их с правами мужчин. В конце концов, Лициний дошел до казней христиан. В частности, при нем снискали мученический венец епископ Василий Амосийский, а затем были утоплены в Дунае после длительных пыток святые мученики Ермила и Стратоник90.
В Никополе Армянском были сожжены святые Леонтий и Сисиний, а с ними еще более 40 мучеников-христиан91. Надо сказать, что к тому времени христианство укоренилось в его окружении, поскольку многие казненные мученики являлись офицерами и солдатами армии Лициния. Вскоре его гонения приняли широкие масштабы, и современники говорили уже о массовых казнях христиан и закрытии церквей92.
К сожалению, св. Константин не имел возможности своевременно прореагировать на дерзкое нарушение Лицинием Миланского эдикта. В это время его мысли были заняты безопасностью Дунайских границ и берегов Рейна, где готы и алеманы вновь накопили грозную силу. Святой Константин выступил в поход, и Дунайская кампания по обыкновению наглядно продемонстрировала его величайшие дарования как полководца.
Наступая сплошным фронтом шириной 300 км, он нанес готам три сокрушительных поражения при Кампоне, Марге и Бононии, глубоко проник в земли даков, давно уже забывших римский закон, и вновь подчинил их Империи. Святой Константин был по-настоящему горд тем, что добился успеха там, где испытывал трудности сам великий Траян (98—117). Разгромив азиатские владения готов, потрясенных таким безнадежным для них исходом войны, св. Константин стал готовиться к войне с Лицинием. Формальным поводом к ней явилось то, что в ходе Готской кампании св. Константин зашел без разрешения Лициния на подчиненные ему территории93.
Небезынтересно обратить внимание на то, как духовно готовились оба августа к этой последней для одного из них войне. Лициний совершенно предался языческим богам, обосновывая это перед соратниками тем, что желает сохранить исконных богов Рима. «Настоящее откроет, – говорил он, – кто заблуждался в своем мнении, оно отдаст преимущество либо нашим богам, либо (богам) стороны противной». Он искренне недоумевал, почему «не понятно, откуда взявшийся Бог Константина» может быть сильнее тех, к кому ранее обращались за помощью их победоносные предки. Напротив, св. Константин и в этот раз предал себя в руки Бога, много молясь вместе со священниками Христу94. Бедный Лициний и не подозревал, что в грядущей войне не Макценций, не готы и даки, а именно он выступит в неблагодарной роли человека, о котором в 33-м псалме говорится: «Лице же Господне на творящия злая, еже потребити от земли память их».
Новая кампания началась в 323 г. В Фессалониках была определена точка сбора всем войскам, Крисп со своей армией срочно был отозван из Галлии, где находился все это время, и вскоре св. Константин имел под рукой уже около 120 тысяч воинов. Это было немалое войско, но численностью армия Лициния явно превосходила своих противников – под Адрианополем противник имел около 150 тысяч человек, и еще 150 тысяч азиатской конницы было в его распоряжении на случай необходимости. Здесь, под Адрианополем, и произошло генеральное сражение, в котором победа опять досталась св. Константину. Лициний потерял почти 34 тысячи воинов и постыдно скрылся за стенами многострадального городка Виза́нтия, который был осажден.
Но надежды Лициния на дополнительные силы оказались иллюзорными, а попытка снять блокаду с моря не увенчалась успехом. В очень тяжелом морском сражении малочисленный флот св. Константина под командованием Криспа одержал решительную победу95. Город был обречен, но самому Лицинию удалось с группой верных телохранителей незаметно покинуть его, и он благополучно добрался до небольшого городка Халкидона, где спешно занялся укомплектованием новой армии.
Вновь собранные Лицинием войска были мужественны, но совершенно необучены, и руководили ими слабые военачальники. Очевидно, его тяга к «отеческим гробам» была поколеблена, поскольку он сам убедился: там, где на поле боя появляется лаборум, войскам св. Константина неизменно сопутствовал успех. Лициний даже советовал воинам по возможности избегать встречи со священным символом христианской армии его противника, а святой император, напротив, направлял его туда, где его воины слабели и не могли дать решительный отпор врагу96.
Сам св. Константин долго и усиленно молился в своей палатке, что, по словам Евсевия, было для него обычным занятием. Видимо, он не раз удостаивался видения Христа, поскольку часто, подвигнутый Божественным вдохновением, выбегал из шатра и давал войскам соответствующие распоряжения. И Господь не оставлял Своего избранного слугу97. В битве у стен Хрисополя Лициний вновь потерпел ужасное поражение, положив на поле брани более 25 тысяч своих солдат.
Теперь спасти Лициния могла только сводная сестра св. Константина Констанция – жена проигравшегося игрока за власть. Наверное, под влиянием ее просьб св. Константин сохранил жизнь сопернику, отдав ему в правление Фессалонику – большей милости и снисхождения побежденному Лицинию трудно было ожидать. Но он и теперь не успокоился. Грезы несбывшихся надежд, жажда мести и ненависть к пощадившему его царю привели его к попыткам организовать новый заговор с участием готов, так же провалившийся, как и все предыдущие, – казалось, Господь во всем хранит Своего избранника. В 325 г. Лициний и его ближайшие сподвижники были казнены98.
«Итак, теперь, по низложении людей нечестивых, лучи Солнца не озаряли уже тиранического владычества: все части Римской империи соединились воедино, все народы Востока слились с другой половиной государства, и целое украсилось единовластием, как бы единой главой, и все начало жить под владычеством монархии. А славный во всяком роде благочестия василевс – победитель; ибо за победы, дарованные ему над всеми врагами и противниками, такое получил он собственное титулование, принял Восток и, как было в древности, соединил в себе власть над всей Римской империей. Первым проповедуя всем монархию Бога, он и сам царствовал над римлянами и держал в узде все живое»99.
Язычество рухнуло, подкошенное под самое свое основание царем-христианином, формально все еще не являющимся членом Церкви. Раскрылись двери тюрем, церковные общины и осужденные при царях-гонителях христиане получали обратно ранее конфискованное имущество, двор и ближнее окружение св. Константина становились исключительно православными.
Глава 2. I Вселенский Собор
Как указывалось выше, религиозная терпимость (но отнюдь не индифферентизм) св. Константина имела свои естественные границы. Он спокойно наблюдал за последними днями господства язычества, не считая нужным административно запрещать культы, не идущие в явное и открытое противоречие христианству. А таковые, связанные, как правило, с жертвоприношениями, еще существовали в Риме и даже имели многочисленных поклонников. В остальных случаях св. Константин был уверен, что естественный ход событий и его личный пример неизбежно предопределят господствующее положение Церкви среди иных культов. Другое дело – еретики, в отношении которых император был готов применять куда более строгие меры.
Такая избирательность царя вовсе не кажется неожиданной, а тем более лишенной основания. Конечно, как глава государства и гарант общественной нравственности, он был обязан бороться с любыми попытками привнесения сомнительных новаций в область культа. В отношении попыток неправомерной ревизии православного вероучения, помимо государственной обязанности, императором двигало и живое религиозное чувство. Он искренне верил в Христа и полагал себя защитником Его Церкви. Но эта медаль имела и оборотную сторону. Для римского сознания это означало, что если уж василевс разрешил христианское вероисповедание, то тем самым он был вдвойне ответственным за нравственную чистоту ее учения. Любой раскол, любая ересь, принявшая масштабные черты, могла бы поставить под сомнение авторитет и самой Церкви, и ее покровителя – императора, поскольку в таких случаях стороны догматического спора склонны обличать друг друга во всех смертных грехах.
Конечно, имя св. Константина блистало во всей Римской иперии, но разве история дает мало примеров тому, как былые кумиры развенчивались в прах по внешне ничтожному поводу? А неспособность царя справиться с разномыслиями в поддерживаемой им Церкви могла быть расценена в массе своей еще языческим римским обществом как признак его политической несостоятельности. Нетрудно догадаться, что в этом случае рано или поздно нашелся бы конкурент, способный сыграть на кризисе власти и проложить себе дорогу к трону, используя настроения толпы.
Первый опыт вмешательства в богословские споры был дан императором еще в 314 г. Дело в том, что за 3 года до этого, в 311 г., новым епископом Карфагена был избран Цецилиан, против которого ополчилась богатая матрона Лукилла, возглавившая противников архиерея, требовавших признать его хиротонию незаконной. Вместо Цецилиана они избрали некоего Доната, по имени которого и стали называть эту вновь образовавшуюся секту – «донатисты».
Вскоре стороны зашли в тупик – их разделяли и серьезные богословские расхождения, а потому обратились за помощью к императору. Римский папа Мильтиад (311—314) поддерживал законного епископа, донатисты потребовали от василевса созвать Собор для разрешения спорной ситуации. И св. Константин охотно пошел им навстречу, отметив в своем письме на имя папы Мильтиада, что для него невыносимо положение дел, когда Церковь оказалась разделенной на два лагеря. Царь поручил галльским епископам возглавить специальную комиссию, опросив по 10 архиереев с каждой стороны. Мильтиад ловко перевел эту комиссию в Собор, точку зрения которого, однако, донатисты отказались признавать.
Тогда император созвал в 314 г. специальный Собор в Арле. Своему префекту в Африке он пишет: «Я считаю решительно неверным скрывать от меня подобные споры, поскольку из-за таковых Господь может вооружиться против меня самого, кому Он Своим Божественным повелением поручил управлять всеми делами людей». Новый Собор отклонил апелляцию донатистов, и те вновь отказались признавать правомочность его решений. Тогда св. Константин в своем новом послании гневно заметил, что проследит за наказанием виновных, если те будут упорствовать. Наконец, в 316 г. он вынес окончательное решение в пользу епископа Цецилиана100.
Между тем в Церкви возникли еще более серьезные разногласия и волнения по поводу учения одного Александрийского иерея по имени Арий. Для богословия Ария характерным является резкое противопоставление нерожденного, вечного Бога всему прочему, что от Него происходит. При этом Арий допускал только один способ происхождения от Бога – творение Им всего из ничего. Для Ария термин «рождать» тождественен термину «творить», всякое иное понимание он отвергал. Поскольку Бог уже есть и Он один, то Христос относился им к разряду рожденных тварей101.
Как отмечают богословы, доктрина ариан – языческая в своей основе, так как арианский Христос не что иное, как языческий полубог102. «Они, по примеру иудеев, – писал Александрийский епископ Александр Константинопольскому епископу, – отвергают Божество Спасителя нашего и проповедуют, что Он равен людям»103.
Нельзя сказать, что Арий явил миру нечто совершенно неведомое. Арианство родилось из смешения двух тонких религиозно-философских ядов, совершенно противоположных природе христианства: семитического и эллинистического. «Христианство по своим культурно-историческим прецедентам вообще есть синтез названных течений. Но синтез радикальный, преображающий, а не механическая амальгама. И даже больше, чем синтез – совершенно новое откровение, но только облаченное в традиционные одежды двух великих и столь разрозненно живших преданий». Яд иудаизма заключался в антитроичности, в монархианском истолковании крещальной формулы Церкви.
Для эллинской философии идея абсолютной единственности и несравнимости ни с чем Божественного начала была высочайшим и достославным достижением, в корне убивавшим языческий политеизм. Для нее также непонятным оставалось главное – откуда рядом с единственным Первоначалом могло появиться еще нечто? Поэтому для примирения Евангелия со своим образом мысли им нужен был некий посредник, место которому в построении Ария отводилось Христу104. Аналоги подобных построений мелькали уже в образе мыслей ересиарха III в. Антиохийского епископа Павла Самосатского, представителей Александрийской богословской школы и даже великого Оригена105.
По сообщениям древних историков Церкви, Арий родился в Ливии, получил образование в Антиохии, а позже переехал в Александрию. В столице Египта в то время было далеко до спокойствия. Помимо чисто догматических споров – мелетианский раскол – в дело вмешались многие привходящие обстоятельства. Часть христианской общины, копты, ведомые пресвитером Коллуфом, протестовали против епископа Александрии св. Александра (313—328). Они протестовали против расширяющейся власти Александрийского архиерея. Позднее широкому распространению арианства на Востоке очень способствовали амбициозные планы епископа Евсевия Никомидийского, о которых ниже пойдет речь106.
Начало спора Ария с епископом св. Александром относят к 318—320 гг., когда на одном из собраний клириков Арий озвучил свои мысли вслух и попутно обвинил св. Александра в ереси. Тут же образовались две партии, кардинально несогласные друг с другом. Сначала св. Александр пытался решить спор мирным путем, занимая нейтральную позицию и поддерживая поочередно обе спорящие стороны. Но когда понял, что арианство представляет собой уже состоявшееся учение со своими адептами, то созвал Собор египетских и ливийских епископов (всего около 100 человек) для обсуждения вопроса об учении Ария. Собор осудил Ария, а с ним еще 11 человек – Ахилла, Аифала, Елладия, Карпона, другого Ария, Сармата, Евзоя, Юлия, Мину, Лукия, Гаийя и двух епископов – Секунда и Феона107.
Не сдавшийся Арий направился в Кесарию Палестинскую, где встретил самый сочувственный прием у епископа Евсевия. Этот архиерей без труда понял, что, затевая интригу против епископа Александра, он сможет в случае положительного результата доказать первенство своей кафедры на Востоке, урезав полномочия архиерея столицы Египта. Близость Евсевия к придворным кругам значительно усилила позиции Ария.
Сговорившись, Евсевий и Арий поставили перед собой задачу заставить св. Александра принять осужденных Собором лиц в общение, но глава Александрийской кафедры оставался непреклонным. Тогда друзья Ария составили в Вифинии (город в Никомидии) свой Собор и распространили окружное послание ко всем епископам с предложением вступить в общение с Арием. Более того, уступая просьбе ересиарха, несколько епископов через голову св. Александра разрешили ему вступить в пресвитерские права в его некогда собственном приходе, для проформы поставив условие, чтобы Арий примирился со св. Александром.
Разумеется, такое решение цинично попирало все церковные устои, и св. Александр почувствовал себя глубоко оскорбленным. В своем окружном послании епископ недвусмысленно обвинил Евсевия в покровительстве еретикам и мотивах его сотрудничества с ними. «Евсевий, – писал он, – нынешний епископ Никомидийский, вообразив, что на нем лежит все касающееся до Церкви (почему он оставил Берит и устремил свои честолюбивые взоры на кафедру Никомидийскую), и, не встречая ни откуда противодействия себе, принял под свое покровительство сих отступников и рассылает повсюду в защиту их послания, чтобы простых и не искусных в вере увлечь в эту ужасную и христоборствующую ересь; поэтому, помня написанное в законе, вижу необходимость прервать молчание и уведомить всех вас о случившемся у нас, чтобы вы знали и отступников и пагубное их еретическое учение, и не вникали тому, что будет писать Евсевий»108.
Святой Александр подготовил собственное окружное послание, разосланное «к сослужителям всей Кафолической Церкви». Энциклику подписал ряд епископов, искренне разделявших его позицию и негодование. Но и у Ария находились новые сторонники. Спор зашел в тупик.
Зная образ мыслей императора, епископ Александрии пытался найти защиту у св. Константина Великого, но в это время территории, на которых проходил спор, находились под управлением Лициния. А Запад, и в первую очередь Рим, не интересовался разногласиями, в которые оказался вовлеченным Восток. И только после победы над Лицинием в 323 г. св. Константин обратил внимание на причину церковных настроений109.
Надо сказать, что первоначально император не придал спору большого значения, что, впрочем, вполне понятно. Даже после Никейского Собора многие современники-богословы полагали причиной возникших между епископом св. Александром и Арием разногласий «предосудительное любопрение»110. Чего же можно было ожидать от василевса, мало искушенного в то время в тонкостях богословских систем и знавшего об арианстве понаслышке? Он уже имел опыт преодоления донатистской ереси, поразившей только Африку, когда его волей был собран Собор епископов. Ему казалось, что любое богословское недоразумение разрешится просто и легко, без какого-либо административного вмешательства, в том числе и это. Император был уверен в том, что и данная ситуация выправится сама собой при взаимном согласии спорящих сторон и терпимости к мнению соперника. Авторитет руководителей обеих церковных партий, их ревность по вере являлись для него залогом того, что спор – суть выдумка, и вместо нанесения взаимных обид и оскорблений главнейшая задача противников, как священнослужителей, заключается в просвещении народов учению Христа.
«Какую рану нанесла моему сердцу весть, – пишет он в письме св. Александру и Арию, – что между вами самими возникли разногласия, что вы, через которых я надеялся подать врачество другим, сами нуждаетесь в гораздо большем врачевании. Я внимательно рассуждал о начале и предмете вашего спора; повод к нему мне показался вовсе не таким, чтобы по нему надобно было начинать спор»111.
Святому Константину казалось, что противостояние возникло вследствие бесполезной, по его мнению, постановки вопроса о природе Христа в редакции св. Александра, и неуемного желания Ария высказать свое мнение там, где рядовому пресвитеру надлежало молчать. «Вот откуда началось между вами разногласие; с этого времени расторглось между вами общение – и благочестивый народ, разделившись на две стороны, отпал от единомыслия со всей Церковью. Итак, пусть каждый из вас простит другого с одинаковой искренностью и примет то, что по всей справедливости советуют вам сослужители ваши»112.
Тон и содержание письма не может не поразить: император, по мановению пальца которого менялись судьбы властителей и народов, победитель Макценция и Лициния, единоличный владыка Римского государства, должный силой устранить все проблемы, касающиеся общественной нравственности, почтительно просит стороны (!) вернуть мир святой Церкви и прекратить раздор. Трудно представить, каким образом такая чуткость к вере в императоре и его уважение ко вполне рядовым клирикам могли быть оценены некоторыми историками в качестве коварства, проявления тоталитаризма и лицемерия?
Для примирения спорящих царь отправил в Александрию уже знаменитого к тому времени епископа св. Осию Кордубского (около 258—358), имевшего немалый авторитет. Встретившись с епископом св. Александром, св. Осий вскоре пришел к убеждению о ложности возводимых Арием обвинений в ереси, а также о серьезности ситуации с возникшим спором. После нескольких разговоров со св. Александром и изучения посланий, которые направлялись христианским общинам обеими сторонами, св. Осий целиком и полностью стал на сторону епископа Египта. Возвратившись к императору, он сумел убедить и его в нечестивости Ария и остроте момента113.
Ситуация осложнялась еще тем, что разделившийся в своих предпочтениях епископат пытался решить догматические разногласия через политическое покровительство высоких лиц в придворных кругах. Вследствие этого догматические уклоны богословской мысли начали превращаться в государственные акты, ересь укоренялась в различных территориях Империи искусственно и насильственно114.
Общение со св. Осией, а также указанные выше обстоятельства изменили позицию св. Константина, и его следующее письмо Арию уже дышит гневом негодования на того, кто виновен в церковной смуте. «Где ты показал явное свидетельство и доказательства своего ума? – пишет он. – Тебе надлежало показать и открыть себя пред Богом и людьми не так, как ядовитые змеи обыкновенно бывают более яростны, когда чувствуют, что они скрываются в самых глубоких логовищах. Признаешь ли, что Бог един? Мое мнение таково; так мысли и ты. Говоришь ли, что Слово Бога, по существу своему, не имеет ни начала, ни конца? Хвалю и за это; верь так. Если что-нибудь приплетешь далее, я отвергаю. Если еще что-нибудь придумаешь для нечестивого отделения от Церкви, я не хочу того ни видеть, ни слышать»115.
Уже не миротворец, а грозный царь, поднимающий меч на всякого, кто грозит нарушить единство Церкви, предстал перед Арием в облике св. Константина. «Поди, омойся в Ниле, человек, преисполненный гнусной нечистоты, ибо ты возмутил всю Вселенную своим нечестием. Или ты не разумеешь, что я, – человек Божий, – знаю все? Но я еще задумываюсь, должно ли тебе жить, или умереть»116. В конце письма император открыто предупреждает ариан о последствиях их стояния в ереси: он угрожает, что сообщники и единомышленники Ария, не примкнувшие к чистой вере, будут уволены с общественных должностей117.
Поскольку Запад не был вовлечен в эту ересь, св. Константин пытался решить богословский спор таким же образом, как раньше с донатистами. Римский собор 313 г. был сугубо западным, Африканский собор – восточным. Полагая, будто для завершения разногласий достаточно только восточных епископов, император распорядился организовать собор в Антиохии, который и состоялся в 324 г. под председательством св. Осии Кордубского. Отцы Собора осудили ересь Ария и анафематствовали его учение. Попутно, обнаружив, что три епископа, участвовавших в заседаниях Собора, – Феодот Лаодикийский, Наркисс Нерониадский и Евсевий Кесарийский мыслят одинаково с Арием, остальные епископы отлучили их от своей среды, но не извергли из сана, дав им время для раскаяния. Таким образом, еще до Никейского Собора образовалась устойчивая группа «восточных» епископов (около 80 архиереев), ставших ядром православной партии. Свои акты отцы Собора отправили авторитетным «западным» епископам – Александру Фессалоникийскому и Римскому папе св. Сильвестру I (314—335), поставив их в известность о существе залившей Восток ереси118.
Но такие полумеры не улучшили ситуацию. Арианство было привлекательно и доступно неискушенному сознанию вчерашних язычников, и число последователей Ария разрасталось неимоверными темпами. Помимо сознательных ариан, множество рядовых христиан, клириков и епископов искренне недоумевали по поводу столь жестких оценок со стороны Александра и его сторонников, просто-напросто будучи не в состоянии постичь глубины захватившей мир ереси.
Примечательно и очень характерно для св. Константина то, что и после этих событий он не желал силовыми методами гасить костер иномыслия. По-прежнему невероятно чувствительный к вопросам свободы совести своих подданных и, безусловно, осознавая свою ответственность перед Богом за единство и благосостояние Церкви, он решил еще раз прибегнуть к соборной форме обсуждения догматических вопросов, но уже в ином масштабе. Отождествив Римский мир, охватывающий все границы Вселенной, с Кафолической Церковью, он пришел к следующему выводу: коль скоро учение Ария посягает на первоосновы христианства, то и решать догматический спор должна вся Церковь. Неважно, что Запад оказался не чувствительным арианству, пусть Рим и епископы всех остальных провинций Империи выскажутся по этому поводу. Иными словами, для решения спорного вопроса нужно созвать Вселенский Собор.
Можно сказать, что с созывом первого Вселенского Собора для всех впервые зримо возникла Кафолическая Церковь. И ранее церковные общины поддерживали видимое общение (а не только евхаристическое) друг с другом, но никогда до 325 г. не было формы, в которой могло бы выразиться общецерковное сознание. Никея была как бы вторым рождением Церкви. В день Пятидесятницы, посредством схождения Святого Духа на головы святых апостолов, Церковь родилась духовно; теперь она родилась как зримая и явленная миру вселенская организация, Церковь земная, имеющая единое и обязательное догматическое учение и каноническое право.
Следует прямо сказать, что вселенская форма всеимперского и соборного обсуждения спорных вопросов, волнующих Церковь, является детищем исключительно императорской власти. Конечно, и до 325 г. соборная форма выяснения Истины не была чужда Церкви: достаточно вспомнить первый из известных нам Соборов – Иерусалимский 49 г. (по другим источникам, 51 г.) с участием святых Апостолов. Но никогда до святого равноапостольного Константина Великого соборное обсуждение вопросов не принимало вселенские черты.
Нет сомнения, что при выборе святым императором оптимальной формы сыграли решающую роль три обстоятельства: привычный для Римской империи вселенский масштаб сознания, некий аналог коллективного обсуждения вопросов в сенате и соборная форма разрешения церковных вопросов, привычная для местных церковных общин. Идея вселенского, соборного и в то же время «аристократического» обсуждения спорных вопросов показалась св. Константину перспективной. Не случайно, как и в сенате, где заседали представители избранных фамилий, так и на Вселенском Соборе в Никее решающее слово принадлежало епископату Кафолической Церкви, а не рядовым клирикам и мирянам. Хотя, как следует из отдельных, дошедших до нас актов Собора, последних было немало. Более того, на Собор прибыли вообще нехристиане, в частности, языческие философы, пожелавшие выяснить для себя содержание и тонкости православного вероучения.
Иногда высказывается мысль о том, будто св. Константин не причастен к авторству вселенской формы соборного обсуждения, но такой вопрос в известной степени имеет второстепенное значение. Причастны к авторству св. Осий Кордубский, Александрийский епископ св. Александр, другое лицо, или это личная идея императора – какие последствия для истории Церкви имеет точный ответ на этот вопрос? Важно то, что именно царь повелел собраться епископам в Никее в 325 г. и принять решение по самому злободневному догматическому вопросу тех дней. Без его воли, помимо императора, такое событие было бы принципиально невозможным. Отметим все же, что, по свидетельству самого св. Константина, он созвал Собор по внушению Божию, а не по человеческой подсказке119.
Здесь были представители всей Кафолической Церкви, собравшиеся со всех уголков Ойкумены. Прибыли епископы из Скифии, Босфорского царства, Армении, Персии, Кавказа. Собрался цвет Церкви, сонмище исповедников и хранителей веры, немало претерпевших от властей в минувшие лихолетья гонений на христиан. На соборных заседаниях блистали св. Александр Александрийский, св. Афанасий Великий (в то время еще диакон Александрийской кафедры), Евстафий Антиохийский, Маркелл Анкирский, Леонтий Кесарио-Каппадокийский, Иаков Низибийский, Амфион из Епифании Киликийской, Павел Неокесарийский с сожженными гонителями руками, Пафнутий Фиваидский, Потамон Египетский с выколотыми глазами и вывихнутыми ногами – известный целитель и чудотворец. С острова Кипр прибыл святой старец Спиридон Тримифунтский, прозорливец и чудотворец. По некоторым источникам (наиболее значимый из них «Деяния Вселенских Соборов»), на Соборе присутствовал и святитель Николай, епископ Мирликийский.
Запад был представлен довольно слабо, поскольку арианство практически не коснулось его: Римский папа св. Сильвестр (314—335) по старости лет не прибыл на Собор, прислав двух представителей – пресвитеров Витона и Викентия. Помимо них, присутствовали епископ Сардикийский Протоген и Цецилиан, епископ Карфагенский. Войдя в залу, где проходил Собор, император, считавший себя обязанным лично участвовать в соборных деяниях, лобызал раны и выколотые очи святых сподвижников, демонстративно приветствуя православную партию.
Арианская партия зримо уступала в численности православной. Сам Арий не присутствовал на Соборе, и защита его учения легла на плечи Евсевия Кесарийского и еще 7 епископов-ариан120. Но ни численное меньшинство, ни отсутствие своего вождя не приводили ариан в уныние. Они имели устойчивые связи при дворе императора – им покровительствовала его сестра Констанция, и во главе их группы были епископ Константинополя и архипастырь самой Никеи. Ариане полагали, что если они и не одержат победы, то, по крайней мере, удовлетворятся нравственным, моральным торжеством своего разума и образованности над остальной массой епископов. Более того, как иногда отмечают, в планы ариан и не входило первоначально сделать свое учение общеобязательным. Это были своего рода «либералы от веры», охотно допускавшие субъективные толкования Предания и Учения и терпевшие разницу в религиозных воззрениях121.
В отличие от некоторых других Соборов Церкви, в том числе и последующих вселенских, Собор в Никее длился недолго. Открытие состоялось 20 мая 325 г., но непосредственно обсуждение злободневного вопроса пришлось только на 14 июня. Главное догматическое определение – Символ Веры был обсужден и принят 19 июня, а 25 августа Собор завершил свою работу. Однако столь сравнительно немногословное обсуждение предмета спора не означает, конечно, что победа православной партии была легкой. Она хотя и представлялась выдающимися лицами, но была немногочисленна. Значительную массу составляли епископы, колеблющиеся в своих предпочтениях, либо не вполне уразумевшие суть разногласий.
Противники св. Афанасия и св. Александра Александрийского попытались сыграть свою игру. Ариане во главе с Евсевием Кесарийским легко ушли от излишних ригоризмов своего лидера и пытались провести арианскую формулу в ослабленном виде, словесно закамуфлировав исповедуемую ими тварность Христа: «Веруем… во Единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Бога от Бога, Света от Света, Жизнь от Жизни, сына Единородного, Перворожденного всей твари, прежде всех веков от Отца Рожденного, через Которого и произошло все».
Но тут св. Константин, симпатии которого принадлежали другой стороне, перехитрил своего придворного епископа. Он внешне согласился с высказанной арианами формулой, предложив добавить в нее только один термин «Единосущный». Ариане были побеждены, и Собор торжественно провозгласил Символ Веры в такой редакции.
Можно, пожалуй, согласиться с тем, что мысль дополнить согласительную формулу термином «Единосущный» возникла не у одного св. Константина; наверное, вполне вероятно, что в данном случае немалую роль сыграл св. Осия Кордубский. Ничего невероятного в этом нет: позднее православные императоры не раз формулировали догматические определения с участием виднейших богословов и исповедников веры. Но и представлять св. Константина всего лишь игрушкой в руках православной партии, слепо повторявшим слова, внушенные ему св. Осией Кордубским, совершенно невозможно.
Зная скромность императора, можно смело апеллировать к его собственным признаниям и оценкам. «Бог освобождает через меня бесчисленное множество народов, подвергнувшихся игу рабства (то есть язычеству. – А. В.), чрез меня – своего служителя, и приводит к Своему вечному Свету», – пишет он Отцам Собора. «Хотя мой ум, – продолжает святой император, – считает несвойственным себе изведывать совершеннейшую чистоту кафолической веры, однакож побуждает меня принять участие в вашем совете и в ваших рассуждениях»122. В другом послании св. Константин напрямую говорит о себе, как о сослужителе епископов, когда он вместе с ними принимает участие в исследовании истины123. Эта же мысль сквозит еще в одном посленикейском послании императора. Повторив свои мотивы созыва Вселенского Собора, св. Константин далее пишет, что подобно другим епископам, сослужителем которых является, он исследовал предметы спора124.
Не менее интересные детали приводит Евсевий Памфил. «Одни начали обвинять своих ближних, другие защищались и порицали друг друга. Между тем как с той и другой стороны сделано было множество возражений, и не первый раз возник великий спор, василевс выслушивал всех незлобиво, со вниманием принимал предложения, и, разбирая в частностях сказанное той и другой стороной, мало-помалу примирил упорно состязавшихся. Кротко беседуя с каждым… он был как-то сладкоречив и приятен. Одних убеждая, других увещевая словом, иных, говорящих хорошо, хваля, и каждого склонял к единомыслию, он, наконец, сообразовал понятия и мнения всех, касательно спорных предметов»125.
После формулировки Символа Веры Собор принял 20 правил (канонов) по вопросам церковной дисциплины, в том числе по срокам празднования Пасхи – вопрос, также остро волновавший императора и инициированный им лично перед Отцами Собора.
В результате «оформилось всеимперское, вселенское, для всех обязательное решение Церкви, и еще сверх того государственно-обязательное повеление верховной императорской власти. Такой формальной полновесности решения богословского вопроса и вероопределения до сих пор еще не было в практике и действительности жизни церковной. Омоусиос («Единосущный». – А. В.) стало конкретным законом, для массы далеко еще не внятным, не ясным и не понятным. Пожар был залит водой власти», – очень точно писал по поводу Никейского Собора один исследователь126.
В конце соборных деяний произошло еще одно любопытное событие, прекрасно характеризующее личность и образ мыслей святого императора. Желая сохранить единомыслие в Церкви, он приказал доставить на Собор епископа секты новациан Акесия. Надо сказать, что новационе, категорично не желавшие принимать в церковное общение любого, кто ранее в той или иной степени отрекся от Христа, не призгающие, что тайна исповеди может сгладить и этот страшный грех, были в то время многочисленны и в силу своей ригоричности обладали большим авторитетом. Тем не менее император попытался убедить Акесия в необходимости присоединиться к Собору. Увы, старый архиерей категорически не согласился с этим предложением, высказав обычную для своих сподвижников мысль, что никто из священников не вправе прощать этот грех. В ответ св. Константин произнес историческую фразу: «Поставь лестницу, Акесий, и взойди на небо один!»127
В Никее все было впервые и внове, буквально все обстоятельства и детали борьбы с арианством и реализации соборных оросов заслуживают особого внимания. Можно предположить, что первоначально в замыслы императора не входило придавать соборным определениям административную форму. Ему казалось достаточным того, что Святой Дух, ведущий Отцов Собора, рассеет все сомнения и соблазны ариан; его собственный пример и симпатии по отношению к православной партии также должны были сыграть свою роль. Не случайно мы не видим в числе участников Собора Ария, который не был приглашен на его заседания даже в качестве обвиняемого лица, хотя это обычная форма для позднейших Вселенских Соборов, закрепленная в канонах. Очевидно, св. Константин не предполагал упорства, явленного Арием, не думал, что потребуется применение административных мер к ересиарху.
Прощаясь с Отцами Собора, император произнес прочувствованную речь, в очередной раз свидетельствующую о высоте его духа, милосердии, благоразумии и терпении ко всем, в первую очередь к врагам, которых он относил, скорее, к заблудшим, чем к сознательным противникам. «Неважные ошибки надобно извинять друг другу и иметь снисхождение к человеческой немощи, высоко ценить взаимное согласие, чтобы личной враждой не подать повода к порицанию Божественного закона тем, которые готовы его порицать. Надобно приноравливаться ко всем и, подобно врачу, подавать каждому потребное для его спасения, так, чтобы спасительное учение славилось у всех и по всему»128.
Однако надежды св. Константина на благоразумие и кротость ариан не оправдались. Уже вскоре после закрытия Собора, акты которого император утвердил своей подписью, появляется множество его посланий, в которых он самым решительным образом требует от непокорных ариан выполнения соборных оросов. За требованием следует ссылка на наказание, нередко весьма суровое. Так, в одном из своих посланий василевс отметил, что нечестивый Арий подвергся заслуженному поруганию, а его писания истреблены. Очевидно, это уже был пример властного воздействия на инакомыслящих еретиков. Догадка оправдывается, поскольку ниже св. Константин пишет: «Всякое сочинение, написанное Арием, какое у кого найдется, повелеваем предать огню, чтобы таким образом не только исчезло нечестивое учение его, но и памяти о нем никакой не осталось. Если же кто будет обличен в утаении книг ариевых, и не представит их тотчас для сожжения, такой, объявляем наперед, будет наказан смертью: тому немедленно по открытии вины будет отсечена голова»129.
В другом письме, где главным образом речь идет о необходимости празднования Пасхи всеми Церквами в один и тот же день, как постановлено в Никее, император фактически отдает епископам указание: «Итак, объявив постановления Собора всем возлюбленным братьям нашим, вы должны принять и привести в действие как то, о чем было говорено прежде, то есть упомянутый образ вселенской веры, так и соблюдение святейшего дня Пасхи»130.
Святой Константин многократно упоминает, что его кротость и терпение имеют естественные границы: «Кто осмелится вспоминать о тех губителях и неосмотрительно хвалить их, тот в своей дерзости немедленно будет обуздан властью служителя Божия, то есть моей»131. Правда, грозные предостережения казались таковыми только на бумаге царского эдикта. Первоначально сам Арий был отправлен в ссылку, но его сторонники практически не потеряли в своем статусе, за исключением епископов Евсевия Кесарийского и Феогниса, также по распоряжению царя удаленных от дворца и из собственных епархий. Но для этого были не только религиозные, но и политические причины: Евсевий одно время поддерживал Лициния и при его помощи устранял православных епископов, когда спор с арианами только разгорался. Но вскоре оба ссыльных вновь оказались при св. Константине, который помиловал Евсевия, хотя царица св. Елена явно не благоволила ученому-энциклопедисту с задатками интригана. Но царь простил их: ведь Евсевий формально все же подписал Никейский Символ.
Не прошло и несколько лет, как почти все арианские епископы были возвращены из ссылки и заняли свои кафедры. Напротив, некоторое число православных архиереев вынуждены были занять места недавнего нахождения своих противников. Нередко полагают, что в посленикейский период в жизни василевс склонился к арианству, что едва ли соответствует действительности. Это, конечно, ошибка. Святой Константин никогда не давал повода усомниться в своей верности православному Символу Веры, но, извечно озабоченный проблемой обеспечения церковного мира, прилагал все усилия для его достижения.
Возможно, император размышлял несколько поверхностно, но в существе своем искренне и по-христиански. Поскольку ариане приняли Никейский Собор, а Арий «почти» принял его, пусть даже и под давлением власти, то, следовательно, теперь православные должны пойти на известные уступки и компромисс в их пользу. Таким образом, искренне считал он, все воссоединятся в лоне Святой Церкви. Увы, св. Константин мерил по себе, ложно укутывая священнический сан покрывалом безгрешности.
Кроме того, император очень не любил ригоризма отдельных ревнителей веры, и когда еще на Соборе один из православных епископов отказался принять в церковное общение падшего собрата, он сказал: «Возьми, Алексей, лестницу и взойди один на небо». Девизом императора было: «Кто не против нас, тот с нами», девиз лидеров православной партии: «Кто не с нами, тот против нас».
Первой жертвой взаимного непонимания царя и защитников Никеи стал св. Афанасий Великий, наотрез отказавшийся принять в церковное общение Ария и его единомышленников, поскольку те были осуждены как еретики. Полагают также – и, возможно, не без оснований, – что психологически св. Афанасий не нравился св. Константину. Жесткий в своем следовании Православию, бескомпромиссный боец не мог импонировать василевсу, главной мечтой которого было единение церковного мира132. Уже не ариане, а св. Афанасий и его сторонники выглядели в глазах императора угрозой церковному единству. Вслед за этим, естественно, последовали репрессии уже к никейской партии, имевшие целью наглядно показать, что определениям самодержца, направленным на защиту истины, противиться не должно133.
Конечно, св. Константином в эти минуты владели некоторые слабости, от которых не свободен ни один человек, даже равноапостольный император. Помимо этого, царь искренне полагал, что найденная и возведенная до небес соборная форма обсуждения всех злободневных вопросов по делам Церкви и веры самодостаточна. Когда св. Афанасия, бывшего в то время Александрийским епископом, обвинили в нарушении церковной дисциплины, царь привычно повелел организовать собор в Тире, который и состоялся в 335 г.
Святой Константин поручал епископам устроить дорого́й его сердцу церковный мир, но в данном случае первоначальные условия не совпадали с пожеланиями императора. Хотя св. Афанасий Великий прибыл в сопровождении 50 египетских епископов, комит – представитель царя на Соборе лишил их права голоса, тем самым недвусмысленно подчеркнув положение Святителя как обвиняемого. Враги св. Афанасия, мелитиане, собравшиеся здесь во множестве, быстро довели свое дело до конца. Святитель Афанасий не стал дожидаться ареста и покинул город, что ему тут же вменилось в вину. На его защиту стал преподобный Антоний – великий египетский пустынножитель, обратившийся с соответствующей просьбой к императору. Но тот отвечал, что не в состоянии поверить, будто такой многочисленный Собор епископов мог ошибиться и осудить невиновного134. Увы, ничто человеческое нам не чуждо, и у великих людей, столь много сделавших для блага Церкви, случаются великие ошибки.
Едва ли эта история требует жесткого противопоставления позиций царя и епископа, вряд ли уместно оценивать их «православность» по тому, что один был гонимым, а второй вольным или невольным гонителем. Каждый из них – и св. Афанасий, и св. Константин искренне желали Церкви мира и истинной веры, но шли к этому результату разными путями. История Церкви бессмысленна, если во всех событиях видеть только ничтожное человеческое разумение и исключать роль Божественного Провидения.
Так было и на этот раз: борясь с врагами Церкви теми методами, которые были доступны каждому из них, акцентируясь на тех задачах, которые вытекали из разницы в статусе каждого из них (святитель и император), оба они творили чудо спасения Церкви от ереси заблуждений. Помимо этого, невольно в голову приходит и следующая далеко небезосновательная мысль: если бы не внешние препятствия, промыслительно попущенные Богом св. Афанасию, возможно, православный мир знал бы на одного святителя меньше. С другой стороны, если бы не ригоризм ревнителей Православия, святой император не был бы столь озабочен проблемой единства Церкви, и, можно допустить, вопросы ее организации и церковной иерархии не получили бы еще в эту раннюю пору столь блестящих решений.
В целом подытожим, «арианский уклон», порой тщательно отыскиваемый в светлом облике равноапостольного царя, никогда не имел места, а некие примирительные действия св. Константина в их адрес обусловлены совсем иными интересами, в первую очередь желанием церковного мира и обеспечения единства Церкви.
Впрочем, эти события будут еще впереди. А тогда, после Никеи, Церковь ликовала и возносила молитвы Царю-освободителю, избавившему ее от смуты и ересей. Вскоре после Никейского Собора, в 326 г., произошло еще одно великое и знаменательное событие. Император ранее уже не раз высказывал ближним горечь по поводу того, что величайшая святыня христианства Крест Господень был утерян и, как казалось тогда, безвозвратно. На поиски святыни он отправил в Иерусалим свою мать св. Елену, снабдив ее необходимыми средствами. По существу, она являлась полным распорядителем государственной казны, как и ее царственный сын.
Явившись в этот город, она, в конце концов, нашла то место, где, по словам отдельных очевидцев, был зарыт Крест, велела снести языческое капище, сооруженное на святом месте, и тотчас, по словам историка, явлены были Святой Гроб и три креста. Очевидно, совпадение было слишком явным, чтобы не прийти к выводу о том, что поиски увенчались успехом. Но никто не мог сказать, какой из этих крестов Господень. Тогда Иерусалимский патриарх Макарий (314—333) подвел к крестам одну тяжелобольную женщину-христианку (в тексте даже говорится, что она уже даже не дышала), которая, коснувшись Животворящего Креста, тотчас исцелилась. В честь этого события распоряжением св. Елены в Иерусалиме были возведены многие церкви, а Константин повелел вковать гвозди, которыми было пронзено тело Христа, в свой шлем и в уздечку135.
Летом 327 г. св. Елена оставила Иерусалим и отправилась на Кипр. Перед этим ее распоряжением Крест Господень был распилен вдоль пополам. Первую часть она отослала сыну, а вторая, положенная в серебрянный ковчег, перенесена на Елеонскую гору, где произошло Вознесение Христово. Когда равноапостольная императрица прибыла на остров, ее всретила делегация местной христианской общины, умолявших выделить им часть Креста Господня. Их просьба была удовлетворена: св. Елена подарила киприотам частицу Креста.
Как утверждают, незадолго до ее приезда местные христиане пытались возвести храм на самой высокой горе острова, однако некие невидимые силы постоянно препятствовали им. Но когда св. Елена велела отвезти на место строительства частицу Креста размером с мизинец, наступило солнечное затмение, после чего работа стала спориться, а многие язычники уверовали в Спасителя. На этой горе высотой 700 м был организован монастырь «Ставровуни» («Святого Креста»), где поныне хранится драгоценная реликвия. Эта иноческая обитель сохранилась до наших дней и живет по строгому уставу – вход женщинам туда категорически воспрещен136.
Глава 3. Переезд в Константинополь, конец жизни
После блистательного I Вселенского Собора, где присутствовавшие на Соборе епископы торжественно отметили 20‑летие царствования св. Константина, василевс вернулся в Рим. Здесь император ожидал отдохновения от своих многочисленных трудов, но, увы, конец его жизни был ознаменован некоторыми печальными событиями.
Вечный город и ранее был не очень расположен к «восточному» василевсу, и если после победы над Макценцием римляне рукоплескали в овациях при триумфе царя, то связывалось это не с чем иным, как с освобождением от тирании Макценция. Как только старые раны затянулись и забылись оскорбления тирана, нелюбовь к св. Константину вспыхнула с новой силой. Римлян раздражало в царе буквально все: его восточная одежда, манеры, пышность двора и церемоний, расположенность императора к христианам. Но, главное, в нем видели некий прообраз Диоклетиана – императора, поставившего некогда на колени гордый римский сенат и установившего твердую единоличную власть.
С одной стороны, св. Константин предпринял шаги, направленные на оживление сенатской деятельности: он значительно расширил численность сената, надеясь за счет сенатского управления обеспечить покой и безопасность вновь приобретенных территорий в Италии и Африке. Но эта-та мера и не понравилась «старым» сенатским родам, поскольку их вновь назначенные коллеги в массе своей происходили из служивого сословия, а не из аристократии. Не улучшил их настроения и новый поземельный налог, введенный императором для пополнения государственной казны, объектом которого являлась именно сенатская собственность.
Но самое главное, пожалуй, заключалось даже не в этом. Святой Константин никак не желал следовать старому культу языческих богов и отправлять богослужения на капищах. Это было тем более недопустимо, по мнению сенаторов, что издавна старые аристократические роды всеми способами стремились вступить в ту или иную жреческую коллегию – ведь членство в ней несло за собой освобождение их имуществ от налогообложения. Религиозная деятельность аристократии не ограничивалась стенами Рима, множество сенаторов покровительствовало муниципальным культам отдельных провинциальных общин.
А потому пиком общего недовольства стало празднование 20‑летия правления императора, пришедшееся на 326 г. 15 июля этого года св. Константину предложили по традиции возглавить шествие на Капитолий, и он было согласился. Однако категорически отказался принести жертву Юпитеру в языческом храме, вследствие чего церемония оказалась сорванной. Это событие возмутило сенаторов и плебс, который осы́пал камнями статуи императора. Удивительна его реакция: после минутной паузы царь произнес: «Нельзя сказать, чтобы я это заметил». Доверчивость, незлобивость императора граничили с наивностью, которой гордый и прагматичный римский ум не прощал никому. И нет никаких сомнений, что эти волнения были организованы аристократами, которые своей поддержкой языческой партии стремились минимизировать деятельность императора по ограничению власти сената137.
Существовали и другие обстоятельства, предопределившие не самые добросердечные отношения императора с сенатом. Несколько ниже, в обобщении, мы более детально рассмотрим вопрос об императорских полномочиях и специфике царской власти в Византии. Сейчас лишь заметим, что в эпоху св. Константина идея единоличной власти, идея василевса лишь пробуждалась и была едва заметна на фоне старых римских представлений о суверене верховной власти. Со времен республики повелось считать, что весь римский народ является носителем высших политических прерогатив, которые он в соответствии с законом и по своему выбору делегирует на время народным избранникам. Органом, непосредственно влияющим на выборы высших должностных лиц государства, являлся сенат, и его роль в практической расстановке сил трудно переоценить. Правда, однако, и то, что сенатское правление, систематически прерываемое диктаторами или прямыми тиранами, едва ли соответствовало идее «народной воли».
Потому с точки зрения официальной неписаной идеологии Рима princepes, каковым был св. Константин Великий, являлся только первым между граждан: «princepes senatus et universorum» («первый в сенате и среди всех вообще»)138. Основанием власти св. Константина являлись его военные успехи, благосклонно признанные сенатом (а что ему оставалось еще делать?). Но благосклонность – вещь очень переменчивая, державшая св. Константина в скрытой зависимости от воли тех, кто не собирался в существе своем менять старые римские олигархические порядки.
Однако идея народной воли, в первую очередь, конечно, воли самого сената, как основание властных полномочий василевса, шла в явное противоречие с единоличным и абсолютным правлением святого царя, по праву претендующего на более прочный фундамент своей власти. Кроме того, особенно после Никейского Собора, св. Константин все более и более погружался в содержание православного вероучения и, конечно, не мог следовать римским, языческим устоям своего царствования, целиком покоящимся на «князи человеческие».
Если уж св. Константин, не смущаясь, говорил о себе как о «сослужителе епископов», «епископе внешних», «неком общем епископе»139, то, надо полагать, идея божественного источника царской власти к тому времени не могла не привлечь его внимания. Не случайно Евсевий, по-видимому, как и любой придворный писатель, невероятно чуткий к настроениям властей предержащих, специально отмечает в своем труде: «Константина… Бог всяческих и Владыка всего мира соделал императором и вождем народов сам собой. Между тем как другие удостаиваются этой чести по суду человеческому, – Константин был единственный василевс, призванием которого не может похвалиться никто из людей»140. Безусловно, такие речи исходили не только от одного Евсевия, и св. Константин не мог игнорировать – хотя бы внутренне, пока еще без огласки – формулы, естественные для христианского сознания.
Как известно, одно дело слушать такие идеи, другое – ввести их в политический оборот. В Риме с его старыми традициями, развращенным плебсом и самоуверенным, гордым сенатом, любая ревизия основ государственной власти императора немедленно вызвала бы крайне негативную реакцию. «Рим, погруженный в сон об античности, не любил людей, которые жили исключительно настоящим»141. Если св. Константин и думал об этих предметах, то, пожалуй, рассчитывал все же на мягкие реформы. К сожалению, даже для робких шагов, должных всего лишь наметить определенную тенденцию, дело не дошло.
Но главная беда ждала св. Константина внутри семейства и была напрямую связана с его старшим сыном Криспом. Внешне это выглядело незамысловато и почти буднично. Летом Крисп был арестован без публичного объявления причин, допрошен и сослан в Полу, в Истрию. А через короткое время император подписал сыну смертный приговор, приведенный в исполнение непосредственно в месте его ссылки. Что же стояло за этой трагедией, жертвой которой стал находившийся на вершине славы первенец, боевой сподвижник и правая рука св. Константина?
Хотя первоисточники практически не упоминают об истинных обстоятельствах дела, некоторые исследователи приводят следующие соображения, которые выглядят убедительными. Как уже говорилось выше, приезд св. Константина в Рим состоялся как раз после пышного празднования 20‑летия нахождения его на вершине государственной власти в составе царственной тетрархии. Создавая эту оригинальную систему, Диоклетиан определял для себя именно 20‑летний срок, по окончании которого он и второй август должны были оставить свои посты для цезарей, обязанных подготовить в свою очередь преемников на свои должности. И хотя после того, как указанный срок наступил, Диоклетиан вдруг воспротивился собственному замыслу, Галерий все же вынудил того выполнить ранее данное самому себе обещание до конца. Официально тетрархию никто не отменял, и теперь эта доктрина могла обернуться против св. Константина, вернее против его сыновей от Фаусты.
Здесь-то и возникала фигура незаконнорожденного Криспа, который имел – чисто теоретически – все мотивы для того, чтобы обойти законных сыновей своего отца от брака с Фаустой. Конечно, порфирородность – критерий, с которым нельзя не считаться. С другой стороны, Рим не знал закона о наследовании царского трона, а заслуги Криспа и его старшинство в годах перед младшими единокровными братьями, военный и политический опыт могли стать той причиной, по которой капризное римское общество, ценившее собственную безопасность и стабильность очень высоко, признало бы императором именно его, а не детей св. Константина от законного брака. Более того, умозрительно рассуждая, Крисп был заинтересован не только в устранении собственных малолетних братьев, но и отца, поскольку при его жизни у него было мало шансов стать императором.
Откровенно говоря, вряд ли сам Крисп загадывал так далеко, и едва ли его можно упрекнуть в подобных умыслах. По крайней мере, историки рисуют портрет царевича в благородных тонах, и черты его характера весьма сходны с обликом св. Константина: «Юный и одаренный от природы самым симпатичным характером», – пишет о нем историк142. Он уже был крещен к тому времени и всячески помогал отцу в обеспечении свободной деятельности Церкви. Другое дело, что Фауста, полностью унаследовавшая от своего отца и брата коварство, цинизм и совершеннейшую неразборчивость в средствах, демонизировала ситуацию донельзя. Трудно сказать, что ею двигало. Возможно, материнский инстинкт, методично и заблаговременно устраняющий любые препятствия на пути ее детей к трону, либо старые счеты с Криспом, за которые она решила поквитаться.
Но именно она убедила св. Константина в тайных преступных замыслах Криспа, в качестве «доказательства» дав царю слово, что якобы царевич предложил ей супружество и трон императрицы после физического устранения отца. В принципе в таком кровосмесительном браке не было ничего неожиданного и невиданного: и ранее, и гораздо позднее монархические семьи нередко нарушали закон о браках с близкими родственниками, если того требовали интересы государства и трона. Не составлял исключения и Древний Рим, где очень многое отдавалось в жертву конкретному результату, в том числе политическому. Поэтому слова Фаусты, подкрепленные указанными выше размышлениями, выглядели внешне убедительно и правдоподобно. Не исключено также, что Фауста была не одинока в этой интриге – даже из общих соображений легко представить, что при дворе нашлись люди, которым было что делить с Криспом. Ведь еще до последней войны с Лицинием некоторые придворные круги усиленно пытались внушить императору недоверие к сыну, вследствие чего тот находился буквально под надзором143. Поэтому, по существу, в обвинениях, которые втайне предъявлялись Криспу, не было ничего нового.
Правда, никто не мог впоследствии доказательно подтвердить слова присяги Фаусты, в истинности которых она на время убедила св. Константина144. Но в тот момент, наверное, давление на него было слишком велико, и царь, наконец, принял то страшное решение, о котором раскаивался потом все оставшиеся годы.
Отсутствие какой-либо доказанной вины Криспа обнаружилось почти сразу. Мать св. Константина св. Елена укоряла сына в поспешности вынесенного приговора, не сомневаясь в его несостоятельности. Но вдова Криспа Елена была куда более успешной – при личной встрече с царем она, бросившись в ноги свекру, сумела опровергнуть домыслы Фаусты. По приказу царя состоялось следствие, закончившееся казнями всех заговорщиков. Отвергнутая императором Фауста вскоре (возможно, не без посторонней «помощи») утонула в ванне во время купания145. Правда, по другой версии, Фауста была застигнута во время адюльтера слугами императора с неким Курсором и по приказу царя задушена в раскаленной бане146. Так или иначе, но сына уже было не вернуть. Единственное, что отец мог сделать – поставить серебряную вызолоченную статую Криспа147.
Находиться в опостылевшем Риме св. Константин уже не мог, и взор императора скользил по карте Империи в поисках подходящего места для выбора новой восточной резиденции и столицы. В качестве вариантов рассматривались и Антиохия, и Александрия, и даже легендарная Троя. Но в конце концов выбор императора пал на маленький греческий город Византий, расположенный чрезвычайно благоприятно и для торговли, и для обороны, и для размещения войск. Правда, таким признакам соответствовали и многие другие населенные пункты, в том числе на Западе; не удивительно ли, что св. Константин – как видно уже из географии возможных городов-кандидатов – решил перебраться именно на Восток? Конечно, спустя 1700 лет едва ли возможно проникнуть в душу и помыслы великих людей, но некоторые обоснованные соображения по поводу мотивов переезда императора все же следует высказать.
Сложенный спустя какое-то время в Риме анекдот о том, что император фактически сложил с себя полномочия правителя западной части Римской империи в пользу папы Сильвестра, более того, признал его власть над собой, и даже гордясь тем, что публично посчитал за честь быть его конюшенным, лишен какой-либо исторической правды. Конечно, царем двигали совсем не те чувства, которыми впоследствии «наделили» его изворотливый папский клир и западные канонисты. В данном случае мы не будем затрагивать вопроса о правовых основаниях (по «божественному праву») столь резкой замены носителя высшей политической власти с императора на папу. Безусловно хотя бы то, что и после переезда на Восток св. Константин назначил правителями западных провинций своих сыновей, нисколько не сомневаясь в том, что это его прерогатива, не должная согласовываться с Римским папой. Приведем лишь соображения, касающиеся общего исторического контекста оставления св. Константином Рима.
Помимо ясного ощущения о холодном отношении к нему Рима, императором двигали сугубо практические вопросы (в частности, безопасность восточных границ), требовавшие его непосредственного нахождения там. Нельзя сбрасывать со счетов и личностные нюансы. Если в Риме св. Константин был персоной далеко не самой желанной, то для Востока император до сих пор оставался блистательным победителем тирана и гонителя христиан Лициния. Рим в своей массе оставался все еще языческим городом и лишь терпел императора-христианина. Напротив, на Востоке христианство было распространено к тому времени гораздо шире. Римский сенат явно и тайно пытался заставить царя считаться с собой; на Востоке у св. Константина не было внутренних политических врагов, организованных в единую силу и питающих свою силу из давних политических традиций.
Запад едва к тому времени заметил Никейский Собор и явно не оценил еще по достоинству величия царского замысла соборно, на вселенских совещаниях обсуждать затрагивающие всю Церковь вопросы. Наоборот, Восток славословил царя, положившего конец арианской ереси и обеспечившего единство Церкви. Согласимся, для немолодого уже василевса, находящегося под гнетом воспоминаний о семейной драме и тяготящегося неблагодарностью римлян, психологически комфортнее было избрать именно восточные провинции, чем Милан или другой итальянский город, где живы были римские представления о власти.
Так или иначе, но царь издал соответствующие распоряжения, и 4 ноября 326 г. состоялась закладка новой городской стены. Хотя официально вопрос о наименовании города решался долго, в народе он сразу же стал называться «городом Константина», Константинополем148.
Константинополь стал первым христианским городом Империи. В его стенах не был построен ни один языческий храм, а уже имевшиеся были переоборудованы в христианские церкви. Правда, св. Константин не чурался лучших произведений языческого искусства, которые в изобилии стекались в новую столицу со всех концов Римского государства. Например, из Дельф привезли статую Аполлона Пифийского, ее дополнила фигура Аполлона Сминфийского. Масштаб строительства и украшения столицы потрясают воображение даже в наши дни: как рассказывают, количество вывезенных из Рима и других городов Империи статуй было невероятно большим. Только на одном ипподроме Константинополя насчитывали более 60 статуй, перевезенных из Рима, в том числе статуя Августа. Святой Константин приказал также перевезти из Рима в Константинополь монолитную колонну из египетского порфира, имевшую в высоте более 30 метров.
На эту перевозку понадобилось 3 года, этот громадный колосс был с большими трудностями поставлен на форуме в «новом Риме», а в основании его был заделан Палладиум, также взятый св. Константином из Рима149. Для придворных и всех желающих царь выделил участки земли для застройки, а 11 мая 330 г. Константинополь был освящен.
Возведенный св. Константином Великим Константинополь как новая столица, хотя перенял большинство политических традиций старого Рима, но дал и много нового. Здесь также был образован свой сенат из числа переехавших представителей древних римских семей, но равноапостольный царь, как великий администратор, не желал сохранять институты, которые казались ему отжившими и морально устарелыми. Он хотел уйти от пустого аристократизма, к тому же крайне неэффективного на государственной службе, и обрести государственное управление, основанное на государственных мужах. Святой Константин резко увеличил число важных государственных должностей, получивших сенаторский статус, но занимал их представителями служилых сословий. Образовался новый «путь карьеры» (cursus honorum) для тех, кто стремился наверх: через службу в государственном аппарате и у императора. Того, кто прошел этот путь, ждала высшая награда: он считался практически приравненным к старой аристократии, хотя бы являлся выходцем из низов150.
Надо сказать, святой император руководствовался политическим гением Диоклетиана. Еще в пору этого императора был установлен новый «Табель о рангах» Римского государства, предусматривавший 6 высших степеней чиновников. К первой группе относились «nobilissimi» – «знатнейшие» (члены императорской семьи и сама императорская чета), затем «clarissimi» – «светлейшие», «perfectissimi» – «совершеннейшие», «egregii» – «превосходнейшие», «illustres» – «сиятельные», «spectabeles» – «высокородные». Были введены также должности управляющего императорским дворцом («praepositus sacri cubiculi»), государственный канцлер Римской империи («Quaestor sacri palati»), управляющий финасами («comes largitionum») и огромное количество придворных должностей, прямо и косвенно связанных с государственным управлением151.
Дети св. Константина Великого продолжили дело отца. Так, уже при императоре Констанции членами сената могли быть лица, удовлетворяющие следующим критериям: 1) наличие денег, 2) недвижимого имущества, 3) занятие определенной государственной должности, 4) необходимый культурный уровень. При этом царе ядро Константинопольского сената составили служилые аристократы и даже бывшие рабы, включая евнухов152. Поэтому роль и значение сената в Константинополе были, конечно, несопоставимы с теми, которыми обладал Римский сенат. Но все же это был один из высших органов государственной власти Империи, нередко принимавший активное участие в выборе или назначении императора.
Сохранился также, хотя и в ослабленном виде, принцип народного суверенитета, и потому каждый новый царь должен был проходить процедуру назначения. Особенно интересно, у кого всякий раз новый император получал согласование на царствование. Сенат, как уже говорилось, был непременным участником этих церемоний, сохранив значение первенствующего в Империи государственного органа. Поскольку собрать весь народ никто никогда и не предполагал, его естественным «заместителем» с давних пор стала армия. То обстоятельство, что постепенно армия стала наемной, варварской и даже неправославной, никого не смущало. Помимо любви к традициям, римляне всегда были реалистами и не шли против силы – а армия была той зачастую хаотической, неподчиненной никому силой, которая могла опрокинуть и сенат, и императора. Но впоследствии участие этих институтов в деле поставления нового царя минимизируется, и все большее значение приобретает Церковь и Константинопольский патриарх.
Но и этот относительно мирный период в жизни христианского императора нередко озарялся всполохами войны. Как некогда ранее, возникла страшная готская угроза – они стали теснить сарматов, живших на берегах Тиссы и Дуная. Сарматы запросили помощи у Римского правительства. Предвосхищая действия св. Константина, в 322 г. готы сами переправились через Дунай и вторглись на территорию Империи. Всю зиму они разоряли Иллирию, но тем временем император заключил соглашение с Херсоном о взаимных действиях против готов. Союз дал успешные результаты. В результате слаженных и хорошо организованных военных действий вождь готов Арарих был заперт в Иллирийских горах, где его воины во множестве погибали от голода и холода, а вскоре вообще сдались на милость победителя.
Готы не ошиблись: св. Константин вновь явил свое благородство и милосердие, отпустив их вождей с богатыми подарками и взяв сына самого Арариха в качестве заложника153. По тем временам это был не только способ обеспечения должного исполнения договорных обязательств со стороны готов, но и, пожалуй, единственная возможность для юного варвара приобщиться к величайшей римской культуре. Ведь, как известно, обыкновенно заложники жили в императорском дворце на полном содержании василевсов. Это был последний военный поход св. Константина и последняя победа римского оружия за Дунаем.
Постаревший император был уже слаб, а дни его сочтены. К этому времени практически завершилась постройка храма Святых Апостолов в Константинополе, где св. Константин повелел похоронить себя после смерти. Этот храм надолго пережил своего создателя, и на долгие века церкви Святых Апостолов суждено было стать местом упокоения Византийских самодержцев.
В 336 г. император посетил Иерусалим, где в его присутствии был освящен храм Гроба Господня. Как утверждает летописец, там, в кувуклии, он услышал Бога, и это принесло ему большое облегчение. В общении с близкими царь с грустью заметил, что если бы был так же мудр, как Диоклетиан, то оставил бы власть и передал сыну Криспу, и тот был бы жив. Ему тут же напомнили, что добровольная отставка Диоклетиана вскоре привела Римскую империю к очередным гражданским войнам, и этот же итог был неизбежен и в данном случае. Обратившись к Евсевию Кесарийскому, император спросил: «Простит ли меня Бог за убийство сына?» – на что получил утвердительный ответ154.
После празднования своего 30‑летия у власти св. Константин прожил совсем немного, хотя до последних дней оставался грозой для врагов. В это время едва не начались военные действия с Персией, где правила великая династия Сасанидов. Но персы вовремя осознали грозившие им неприятности и направили посольство для заключения мирного договора. Царь принял посольство, передавшее ему богатые дары, и мог в очередной раз гордиться плодами своих рук.
Но в это время его уже подстерегла другая опасность, исходящая от самого близкого круга. Как утверждают некоторые источники, император был отравлен своими племянниками, решившими примерить на себя царские инсигнии155. Так или иначе, но василевс заболел, и болезнь неумолимо приближала его конец. Почувствовав близкое дыхание смерти, св. Константин решил осуществить свою давнюю мечту – креститься в водах Иордана, но этому уже не суждено было сбыться.
В Еленополе (город, названный в честь его матери св. Елены), где царь принимал теплые ванны, он исповедался в церкви Святых Мучеников, затем, переехав в Никомидию, обратился к епископам с просьбой крестить его. Следует попутно заметить, что позднейшая легенда, будто бы св. Константин крестился в Риме у папы Сильвестра, распространенная в том числе в византийской историографии, лишена каких-либо оснований и обусловлена некоторыми причинами. Во-первых, эта история была заимствована из подложного «Константинова дара», о котором у нас ниже не раз пойдет разговор. Во-вторых, сама мысль о том, что св. Константин мог креститься от рук епископа-арианина, была несовместима с обликом этого светлого царя для православных писателей позднейших эпох. Кстати сказать, эта история лишний раз подчеркивает, насколько св. Константин был дорог Церкви, и как клир пытался устранить, пусть даже и искусственно, любые возможные нападки на его имя.
По завершении священного обряда император облекся в торжественную одежду василевса и почил на ложе, покрытом белыми покровами. Затем, возвысив голос, св. Константин вознес к Богу благодарственную молитву и в заключение сказал: «Теперь я сознаю себя истинно блаженным, теперь я достоин жизни бессмертной, теперь я верую, что приобщился Божественного света». Очень характерно, что даже на смертном одре св. Константин думал не о себе, а о тех, кто лишен великого блага быть членом Церкви. Таковых он называл «несчастными и жалкими»156. В день Святой Троицы, 22 мая 337 г., около полудня великого императора не стало.
Его смерть стала трагедией Римской империи. Дворцовая стража разодрала на себе одежды, дворец огласился плачем и воплями, таксиархи и лохаги называли его своим спасителем, хранителем и благодетелем; остальное войско вместе с простым народом было объято ужасом. Взяв тело, воины положили его в золотой гроб, а затем, накрыв его багряницей, водрузили гроб на саркофаг и поставили в лучшей из комнат царского дворца.
Тихо горели свечи в золотых подсвечниках, многочисленная стража день и ночь охраняла своего любимого императора, а комиты и остальные военачальники каждый день, словно для доклада, прибывали к телу св. Константина и преклоняли колено, приветствуя покойного. Это было настолько неожиданно, что всем казалось, будто, несмотря на смерть, царствие св. Константина Великого продолжалось. «Одному только ему сущий над всеми Бог даровал преимущество царствовать над людьми даже после смерти, и людям, не лишенным смысла, этим ясно указал на нестареющее и нескончаемое царствование души его», – писал современник157.
Рим и Константинополь вступили в заочное состязание за право предоставить у себя последний приют покойному царю. В самом Вечном городе в знак траура были закрыты все бани и рынки, все жители Рима громогласно славословили своего царя. Ему посвящались картины, на которых св. Константин был изображен «покоящимся в горнем жилище, превыше всех небесных кругов». Все мечтали только об одном: чтобы честь принять в последний раз святого императора была предоставлена именно им.
Но сын императора, будущий Римский царь Констанций, уже принял решение похоронить отца в Константинополе. Из Никомидии в окружении многочисленных отрядов римских воинов он сопровождал до самого Константинополя саркофаг с телом св. Константина, демонстрируя высочайшее уважение к нему и почтение. Наконец, процессия прибыла на место, и возле храма Святых Апостолов солдаты отошли в сторону, предоставив место священникам. Прославляемый, оплакиваемый всеми василевс был погребен в том мавзолее, который соорудил при своей жизни, открыв счет святым императорам Римской империи158.
Приложение. «Становление императорской власти в Риме»
I
13 января 27 г. до Р.Х., победив конкурентов, диктатор и полководец Октавиан (27 г. до Р.Х. – 14 г.) сложил с себя чрезвычайную власть, но сохранил общее управление делами Римского государства. Никакая должность по римскому праву не предусматривала таких полномочий, и тогда Октавиан принял титул «император», или неофициально princeps («первый среди равных», «человек выдающихся нравственных качеств»), должный, по его мнению, легитимировать новое положение дел. Так рождалась императорская власть.
А 29 мая 1453 г., во время осады Константинополя, погиб последний самодержец Священной Римской (Византийской) империи св. Константин XI Палеолог (1448—1453). С их именами связаны начало и окончание целой исторической эпохи развития человечества, полуторатысячелетней эры Римского монархизма, под нежной и заботливой опекой которого зарождалась и распространялась по миру христианская цивилизация.
Следует заметить, что термин «император» имел древнее происхождение. Высшие полномочия в Риме издавна назывались империумом (imperium), и это понятие включало в себя верховную административную, судебную и военную власть. Римляне различали два вида imperium. Военный империум (imperium militiae) предполагал у его носителя широчайшие властные полномочия на расстоянии одной мили от Рима. Как считалось, здесь каждый римский гражданин потенциально мог оказаться на вражеской территории, а потому как бы находился на военном положении. Гражданский империум (imperium domi) предоставлялся высшим чиновникам системы городской власти, т.е. внутри Рима. Претендуя на imperium, Октавиан тем самым недвусмысленно показывал, что хотя его полномочия еще не определены, но верховная власть в государстве отныне ассоциируется исключительно с его личностью, как императора159.
Было бы совершенно неверным полагать, будто императорская власть образовалась искусственно, исключительно в силу неуемных амбиций отдельных римских вождей, силой и репрессиями похоронивших вековые республиканские традиции. Нет, сами объективные обстоятельства вели Рим к единоличному правлению. Действовавшая на тот момент система власти, основанная на принципе коллегиальности и высокой политической активности римских граждан, уже не обеспечивала мир в государстве. Республика могла существовать до тех пор, пока ее территория ограничивалась относительно небольшой по площади Италией. Но для государства, широко раскинувшего вокруг «римской лужи», Средиземного моря, требовалась фигура стоящего над всеми единоличного правителя, который бы мог обеспечить справедливость и законность.
Еще до Октавиана Рим познал Мария (157—86 гг. до Р.Х.) и Суллу (138—78 гг. до Р.Х.), Цезаря (100—44 гг. до Р.Х.) и Помпея (106—48 гг. до Р.Х.), Красса (115—53 гг. до Р.Х.) и Антония (83—30 гг. до Р.Х.), откровенно претендующих на единоличную власть. И, что симптоматично, население, не говоря уже об армии, в целом было на стороне этих узурпаторов. Даже позднее, при тирании отдельных принцепсов, как это было, например, в годы правления императора Калигулы (37—41) – ужаса сената и аристократии, никто не думал о возврате к республиканским временам. Всем было очевидно, что та эпоха безвозвратно канула в Лету.
Хрестоматийно звучат слова императора Гальба (68—69), произнесенные им в день усыновления молодого аристократа Пизона, в котором он желал видеть своего будущего преемника: «Если бы огромное тело государства могло устоять и сохранить равновесие без направляющей его руки единого правителя, я хотел бы быть достойным положить начало республиканскому правлению. Однако мы издавна уже вынуждены идти по другому пути»160. Или, как лаконично высказался один историк, «без единовластной воли верховного правителя Римская империя неизбежно бы распалась»161.
Вековая вражда патрициев с плебеями не внушала гражданам доверия к республиканскому строю. Напротив, убеждение, что только император может стать гарантом справедливости и стабильности, было чрезвычайно распространено в римском народе. Приведем один характерный эпизод. Как рассказывают, некогда одна римлянка просила у императора Адриана (117—138) справедливого суда, но тот, проходя мимо, обронил, что ему некогда. «Тогда не будь императором!» – воскликнула женщина. Правитель повернулся и принял ее жалобу162.
Верховная императорская власть была установлена, но, как известно, взять власть в Римском государстве – полдела. Перед Октавианом и его преемниками встал весьма актуальный вопрос: какова должна быть их правоспособность, т.е. какими правами и обязанностями они должны быть наделены. Право было для римлян объектом поклонения, а потому представить себе, что некий правитель государства, тем более такой герой, как Октавиан, мог действовать вне сферы правового регулирования, было совершенно невозможно.
Но никакого заранее составленного плана или теоретической доктрины на этот счет не существовало; более того, можно с уверенностью сказать, что никто из числа первых Римских императоров и их современников не мог предугадать, какое содержание в скором времени получит их единодержавная власть. Справедливо замечают, что все ассоциации, которые вызывает у нас слово «император», были для Октавиана совершенно чужды. Он несказанно удивился бы, узнав о прерогативах своих преемников через несколько десятков лет, не говоря уже о более позднем времени163.
И чтобы императорская власть смогла стать не только правовым и легитимным политическим институтом, но и по-настоящему единоличной, верховной, ей пришлось пройти длинную дорогу исканий. Формирование статуса Римских (Византийских) императоров происходило в течение многих столетий и шло несколькими путями, иногда пересекавшимися друг с другом, а иногда – дополнявшими. В первую очередь путем восстановления прерогатив древних Римских царей. Затем в форме присоединения императорами к своим полномочиям компетенцию республиканских органов власти. И, наконец, посредством открытия в природе императорской власти тех полномочий, которые ранее были просто неактуальны в республиканский период. В этом отношении христианский период существования Римской (Византийской) империи представляет собой особое явление, и мы будем говорить о нем отдельно.
Все происходило эмпирическим путем проб и ошибок, не случайно, первые императоры Рима то принимают на себя отдельные полномочия, то отказываются от них по субъективным соображениям. Например, Октавиан принял от сената титул pater patriae («отец семейства»), но категорически отказался от dominus («господин»). А император Септимий Север (193—211) в 199 г. вернул этот титул и, более того, наградил свою жену, Эмессу Юлию Домну (193—217), званием mater castrorum («мать лагерей»)164.
Замечательно также, что императоры нередко шли по пути принятия крайне неопределенных титулатур, должных тем не менее подчеркнуть их особый статус. Это никоим образом нельзя отнести к фантазиям дорвавшихся до власти нуворишей или необразованных солдат. Просто носители императорского венца и их современники пытались в чувственно-неопределенных выражениях передать то главное и пока еще непонятное, что несла в себе идея императорства Священной Римской империи. Этого государства-Ойкумены, объявшего собой весь цивилизованный мир.
Так, императора Калигулу величали «сыном лагерей», «отцом войска», «цезарем благим и величайшим»165. Неудовлетворенный старыми величаниями, неадекватными величию его власти, император Домициан (81—96) велел прибавить к своей титулатуре dominus et dues («господин и бог»). А император Траян (98—117) добавил термин optimus («наилучший»)166. В последствии, эта традиция прибавлять к имени императора несвойственные рациональному римскому уму «неправовые» титулатуры получила широкое распространение – соответствующие примеры ждут нас впереди.
II
Ситуация осложнялась еще и тем, что ни Октавиан, ни его ближайшие преемники никак не желали принимать титул царя, имея к нему определенное предубеждение. Кроме того, они сохранили политическую традицию, согласно которой источником власти в государстве признавался римский народ и сенат, действующий от его имени. Древний летописец сохранил для нас выступление императора Тиберия (14—37) в сенате, где звучали такие слова: «Я не раз говорил и повторяю, отцы сенаторы, что добрый и благодетельный правитель, обязанный вам столь обширной и полной властью, должен быть всегда слугой сенату, порой – всему народу, а подчас – и отдельным гражданам»167.
Однако очень скоро некоторые полномочия императоров начали копировать прерогативы Римских царей. Но где еще единоличная власть могла искать аналогов, как не в царской власти Древнего Рима? А именно цари в прежние века сосредотачивали всю верховную власть в своих руках, включая командование армией, блюстительство внутреннего порядка, совершение общественных жертвоприношений, право суда и отправление наказания.
Позднее, когда царская власть пала, эти полномочия были переданы сенату (lectio senatus), как органу, от имени всего римского народа осуществляющего некоторые высшие государственные функции. В его компетенцию входили также некоторые вопросы религии и культа, предоставление должностным лицам государства чрезвычайных полномочий, высшее управление финансами, общее управление провинциями, назначение диктатора, международные отношения и принятие высших мер общественной безопасности. Эти полномочия со временем расширялись, поскольку народные собрания – высший законодательный орган власти Рима, хирели и приходили в упадок168.
Другие царские функции были переданы специально созданным высшим магистратурам169. Во главе магистратур располагались два консула, избиравшиеся народом. Они командовали войском, созывали народное собрание, отправляли правосудие, приносили от имени народа жертвы и наблюдали ауспиции (auspicia). Строго говоря, консулы и являлись «мини-царями», даже внешние знаки их отличия были скопированы с царских. Консулы избирались сроком на 1 год, после чего складывали свои полномочия. Для помощи консулам была введена специальная должность проконсула с широкими полномочиями170.
Очень почетные обязанности исполняли два цензора (censoris) из числа бывших консулов, которых назначали сроком на 18 месяцев. В их компетенцию входили: надзор за состоянием нравственного облика римских граждан, проведение переписи гражданского населения, оценка имущественного состояния граждан и распределение их по центуриям и трибам, составление сенаторского списка, надзор за возведением храмов и содержанием кладбищ, управление государственными финансами171. Кроме того, в ведении цензоров находились все судебные споры, связанные с казной, передача в аренду государственных земель, сдача на откуп государственных налогов, заведование постройкой государственных зданий и наложение на виновных лиц особых взысканий.
В систему высших магистратур с 367 г. до Р.Х. вошли также преторы (praetor), которые считались младшими коллегами консула. Их первая задача заключалась в обеспечении внутреннего гражданского порядка в государстве172. Впоследствии из полицейских функций претора органично возникло право осуществлять судебные полномочия, совершенно выведенные из консульской власти. Все правосудие вершили два специальных претора: один из них разбирал споры между иностранными гражданами, другой – между римскими (praetor peregrinus и praetor urbanus) 173.
Поскольку ни один закон не является совершенным, систематически возникала необходимость уточнить правоприменение того или иного правового акта, чем и занимались преторы. Когда количество однотипных жалоб становилось большим, решения преторов объявлялись в форме выставленных на всеобщее обозрение эдиктов. Со временем образовалась некоторая совокупность преторских решений, получившая наименование edictum tralaticium174.
Под конец республиканского строя народные собрания практически утратили свое значение, а потому эдикты преторов по вопросам правоприменения приобрели значение основных источников законов. Кроме них правосудие осуществляли еще и курульские эдилы, основной задачей которых являлось обеспечение чистоты города и публичных мероприятий, для чего они имели право рассматривать административные и небольшие уголовные дела. Вся совокупность норм, выработанных практикой преторов (jus praetorium) и практикой эдилов (jus aedilicium), составила jus honorarium175.
Помимо ординарных высших магистратур, была установлена должность диктатора, которому на 6 месяцев предоставляли неограниченную власть. В 453 г. до Р.Х. по требованию плебеев была учреждена должность народного трибуна; их число не оставалось неизменным и постепенно увеличилось от 2 до 10176. Хотя трибуны и не относились к магистратурам и не имели imperium, они обладали широкими полномочиями, включая право наложения veto на решения консулов и постановления сената, а также неприкосновенности своей личности177.
Теперь некоторые царские полномочия возвращались к их истинному владельцу, но не сразу, а постепенно. Сам Октавиан в основном довольствовался республиканскими титулами. Поскольку он не мог оставаться бессрочным консулом, не подвергая ревизии старые римские традиции, то отказался от консульства и принял пожизненную трибунскую власть. Это очень понравилось народу и армии, не любившим аристократию. А чтобы закрыть образовавшуюся лакуну в его власти, Октавиан восстановил старое право трибунов иметь под своей рукой вооруженные формирования. Тем самым он фактически сравнялся с консулами, которые командовали армией. Первоначально вся власть Октавиана Августа основывалась на двух столпах: верховном командовании в силу imperium и звании народного трибуна, обеспечившего ему личную неприкосновенность. Само собой, император являлся верховным главнокомандующим, и армия всецело подчинялась исключительно ему. Чуть позднее, как мы вскоре увидим, он расширил свои полномочия за счет бывших царских прерогатив.
Следовавшие за Октавианом императоры также прилагали большие усилия по конкретизации своей власти. В частности, как верховный главнокомандующий император быстро получил право контроля над провинциями, где квартировали римские войска («provinciae Caesaris»). Остальные провинции пока остались под контролем сената («provinciae Senatus»). Для руководства «своими» провинциями императоры учредили собственные провинциальные администрации. Но параллелизм власти был столь неестественен для Рима, что при Траяне император стал главным контролером за положением дел во всех провинциях без исключения, изъяв соответственно эти полномочия у сената178.
Затем императоры приобрели право решать вопросы о войне и мире, также ранее находившееся в ведении сената. Дарование отдельным лицам статуса римского гражданина тоже перешло к его компетенции. Со временем образовалась законодательная власть императора и его право высшего уголовного и гражданского суда179.
Установление должности императора не привело к упразднению других политических институтов. С точки зрения римского права император и его аппарат казались лишь добавлением к старым республиканским институтам. Но в действительности положение сената и императора было далеко не равноправным: вся реальная власть сосредоточилась в руках princeps, который с течением времени все больше и больше оттеснил сенат, и это не вызвало отторжения со стороны римского общества180.
Римский ум взял на вооружение древние традиции, чуть изменив их с требованиями времени. В Риме власть царей никогда не являлась наследственной, цари избирались. Избрание состояло из четырех актов: interregnum, creation Regis, inauguratio, auctoritas partum lex или curiata de imperiо. После смерти очередного царя 10 сенаторов как бы облекались властью по управлению Римским государством, им же поручалось подыскать нового царя. Этот период времени и назывался interregnum. Выбор кандидата в цари на куриатском собрании получил наименование creation Regis. Ауспиции, гадание жрецов на внутренностях жертвенных животных, совершаемое в присутствии народа, именовалось inauguratio. Аuctoritas partum lex являл собой церемонию утверждения сенатом власти нового царя181.
И пресловутое отсутствие в последующее время единого порядка наследования трона – еще одна визитная карточка византийского монархизма, обусловлено тем, что с момента появления императорской власти считалось, будто каждый princeps производит свои полномочия от акта избрания182. Принципат заканчивается со смертью императора или в связи с низложением его сенатом. Внешними отличиями царя от других римских граждан являлись пурпурная тога, скипетр с орлом, золотая диадема, кресло из слоновой кости и 12 ликторов, неизменно сопровождавших его183.
С другой стороны, поскольку полагали, будто император выполняет особые поручения всего римского народа, его полномочия не имели никаких заранее установленных границ184. Постепенно они все более расширяются, а сената и муниципалитетов – уменьшаются. При императоре Александре Севере (222—235) лица, правившие от его имени, заменили сенаторских легатов всадниками (presides) прокураторского ранга, ослабив позиции сената. Именно с этого времени у правителей провинций остается только гражданское управление. Правители пограничных провинций именуются отныне praeses provinciae, а самостоятельные начальники пограничных войск – dux limitis.
Идея народного суверенитета постепенно ослабевает, сенат утрачивает некоторые свои прерогативы, а законодательство сосредотачивается почти исключительно в руках императора185. С III в. императоры решительно перестают считаться с сенатом, и Галлиен (253—268) вообще устранил сенаторов от военных должностей. Аврелиан (270—275) лишил сенат права чеканить собственную монету, после чего тот сохранил лишь номинальные позиции в управлении Римской империей186.
Со временем за императором стали признавать в качестве обязательных следующие полномочия: 1) верховного главнокомандующего; 2) проконсульскую власть и контроль над провинциями; 3) potestas tribunicia, т.е. неприкосновенность его особы; 4) право председательства в сенате; 5) соединения в нем одовременно должностей pontifex maximus и цензора – об этом мы скажем ниже187.
Концентрация высших полномочий неизбежно приводила к конфронтации императоров с сенатом. Римский сенат всегда представлял собой удивительное явление – из его среды нередко выходили Римские самодержцы, а, с другой стороны, он являлся неизменной и серьезнейшей оппозицией императору. Тем не менее в целом сенат очень подозрительно поглядывал на фигуру императора, опасаясь с его стороны попыток полного подчинения себе всех государственных институтов, включая сам сенат. Родовая аристократия, формирующая сенат, не готова была мириться с уничижением своих высших полномочий, и цари прекрасно это понимали. Поэтому они старались не останавливаться в древней столице, под любым поводом надолго задерживаясь в Милане, Равенне, Фессалониках, Никомидии, Антиохии и т.п.
А потому перед принцепсами встала очередная задача доказать, что сенат не является источником их власти. Решение этой задачи позволяло им, кроме того, обеспечить действенный контроль над самим сенатом. Очень важные последствия в этом отношении имел факт приобретения императорами цензорского достоинства. Отныне они перестали связывать себя (пусть даже формально) с народным суверенитетом. До этого принцепс считался законным представителем народа, а потому его возведение на престол обуславливали решением народного собрания. Поскольку же эта акция едва ли могла в действительности иметь место вследствие многочисленности римских граждан, его функции выполнял сенат. Но теперь, используя статус цензора, который неоднократно присваивал себе, император изменял состав самого сената. Веспасиан так и поступил, добавив к древним римским родам еще 1 тысячу новых выдающихся провинциалов.
Полномочия цензора были столь значимыми, что император, приобретший данный статус, превращал сенат из органа-носителя государственного суверенитета в подобие государственного совета188. При императоре Домициане титул цензора стал пожизненным, и принципат окончательно сделался монархией. Контролируя состав сената, удаляя по своему желанию оттуда конкретных лиц, Домициан совершенно лишил этот орган полномочий избирать императора. Согласимся, с правовой точки зрения это было бы совершенно алогично189.
Большое значение в части обособления императора от сената и подчинения его своей власти имели изменения в части распоряжения государственными средствами. В римском праве государственная казна издавна получила название эрарум (aerarium Saturni). Но в императорский период наряду с эрарум появился фиск, куда поступали доходы с налогов, введенных императорами. Фиск считался частным имуществом императора, как первого лица римского народа, в то время как распорядителем эрарум признавался сенат. Хотя фискальное имущество и считалось частным, император был обязан употреблять его исключительно на государственные нужды.
С течением времени, когда многие общегосударственные расходы централизовались, прежнее деление государственных средств по источникам доходов на сенатские и императорские утратило свой смысл. Теперь все объединилось в руках императора в виде фиска, собственником которого он стал190. Более того, императорский престол приобрел статус постоянного юридического лица, учреждения (юридическим лицом считалось и само Римское государство), субъектом которого являлся правящий император как физическая личность. Это обстоятельство напрямую повлияло на финансовую правоспособность императоров191.
При императоре Севере состоялось чрезвычайно важное для статуса самодержца обособление фискального имущества от императорского коронного и от императорского частного имущества. Отныне принцепс становится распорядителем трех видов имуществ: коронного, фискального и частного, которым он распоряжается в пользу своих детей и родственников. Привилегии, которые ранее предоставлялись казне, были перенесены на частное имущество императора и даже частное имущество императрицы – верный признак того, что эти привилегии коренились в природе суверенитета, носителем которого являлись император и императрица. В этом отношении все три вида имущества – коронное, фискальное и частное – имели привилегированное положение как имущество, распорядителем которого является монарх192.
Этот момент очень важен. В силу слияния личного имущества императора и казны Римское государство с правовой точки зрения исчезает как юридическое лицо, а вся его правоспособность растворяется в личности императора193. Он становится консулом, народным трибуном, претором, цензором и законодателем одновременно, именует себя «цезарем, благочестивым, счастливым августом», как Макрин (217—218), нисколько не спрашивая об этом у сената194.
Здесь не было никакой теоретической заданности – требования жизни, политическая практика, конкретные исторические фигуры и события сами собой создали образ единоличного государя. Некоторые сильные императоры довлели над всей системой политической власти, другие оказались способными реализовать только часть высших полномочий; одни правители договаривались с сенатом, как стороны по сделке, иные заставляли признать свою власть в желаемом для себя объеме. Так, постепенно, формировался институт имперской царской власти – в тех формах и с тем содержанием, которые мы обнаруживаем в более поздние времена.
Уже при Августе Октавиане на практике было признано, что император legibus solutus («свободен от закона»), он приобрел право решать вопросы о войне и мире, а также издавать leges datae по вопросам устройства колоний, дарований отдельным лицам прав римского гражданина, а также толковать законы. Отсюда со временем образовалась законодательная власть императора и право высшего уголовного и гражданского суда. При императоре Домициане (81—96) на государя было перенесено право диспензации (освобождение от действия того или иного закона). И правоведами был сделан логичный вывод, что всякий исходящий от императора акт частноправового или административного характера сам по себе включает диспензацию195.
«То, что нравится правителю, – имеет силу закона», – говорил в III в. знаменитый юрист Ульпиан, а Дион Кассий вообще был склонен считать императора свободным от публичных законов, то есть от самих основ римского правопорядка, хотя, как полагают, этот тезис с большим сочувствием был принят на Востоке, чем в Италии. В отдельных случаях, которые, впрочем, численно преобладали, императоры исходили из тех принципов, которые были закреплены за императором Веспасианом (69—79) сенатом: «Что бы ни счел император правильным, хотя бы и противно обычаю, ради величия государства и религиозных, человеческих, общественных и частных дел, он имеет право и власть это творить и совершать»196.
Начиная с Октавиана, резкому изменению подверглась сама иерархия правовых актов. Во времена республики законодательство делилось на следующие группы актов: leges, как закон, принятый всем римским народом, senatus consulta – сенатские постановления и jus honorarium —прецедентное право, выработанное магистратурами. При Октавиане постановления императора были уравнены с leges сената, т.е. с законами в буквальном смысле слова. А позднее монопольное значение получили императорские constitutiones, делящиеся на 4 группы: edicta – общие законоположения императоров, mandata – инструкции должностным лицам, decreta – решения императора как верховного судьи государства, и epistolae – ответы и пояснения по вопросам спорных пунктов права197.
Однако постепенно различия между ними стирались, и при императоре Адриане (117—138) всем императорским постановлениям начали приписывать силу «как бы закона» (legis vicem), выводя их значение из того правового акта (lex imperio), которым каждому императору вручается власть198.
Легко заметить, что законотворческая правоспособность императора возникла на основе полномочий прежних магистратур. Например, эдикты императора есть не что иное, как прообраз эдиктов преторов, чьи функции он на себя принял вместе с судебной властью. Впрочем, между ними очень быстро начало проявляться и серьезное различие: если в эдиктах магистратов определялись общие правила поведения для наиболее эффективного исполнения своей должности, то в эдикте императора устанавливались обладающие обязательной юридической силой общие правовые нормы199.
Удивительно, но даже теперь, после присоединения к титулу императора республиканских должностей, его власть никоим образом не являлась абсолютной. Республиканские магистратуры еще долгое время сохраняли свои полномочия, и бывали случаи, когда отдельные граждане жаловались консулам на императора (!) 200. Впрочем, так было только в самом начале императорской эпохи. Чем дальше, тем больше и больше в их руках сосредоточивается вся полнота власти. Императорская компетенция расширялась по мере убывания правоспособности сената и республиканских органов управления Империи.
До нас дошло чрезвычайно любопытное решение римского сената при Веспасиане, напрямую описывающее императорскую правоспособность.
«Пусть он имеет право заключать договор, с кем он хочет, как до него божественный Август, Тиберий Юлий Цезарь Август и Тиберий Клавдий Цезарь Август Германик (предшественники Веспасиана. – А. В.);
И пусть он имеет право созывать сенат, делать доклады, откладывать дела, и предлагать сенату постановить решение после обсуждения или простым голосованием как до него божественный Август, Тиберий Юлий Цезарь Август и Тиберий Клавдий Цезарь Август Германик;
И пусть, если по его воле, авторитету или приказу, поручению или в его присутствии произойдет сенатское заседание, порядок всех дел будет и сохранится такой же, как если бы сенат собрался или был созван на общем законном основании;
И пусть те, коих он коммендирует сенату и народу римскому, когда они будут искать магистратуру, полномочия, власть или поручения, и коим дает и обещает свою поддержку, будут приняты во внимание, т.е. избраны избирательным собранием вне обычного порядка;
И пусть он будет иметь право и власть делать и совершать все, что он сочтет нужным в интересах государства, божественных и частных дел, как имели на то право божественный Август, Тиберий Юлий Цезарь Август и Тиберий Клавдий Цезарь Август Германик;
И пусть он не будет связан теми законами или плебесцитами, в коих было сказано, что ими не связываются ни божественный Август, Тиберий Юлий Цезарь Август и Тиберий Клавдий Цезарь Август Германик;
И пусть император Цезарь Веспасиан Август имеет право совершать все то, что на основании какого-либо закона должны были совершить божественный Август, Тиберий Юлий Цезарь Август и Тиберий Клавдий Цезарь Август Германик;
И пусть все, что сделано, совершено, решено или приказано императором Цезарем Веспасианом Августом или кем-либо иным по его приказанию или поручению, будет также законно и обязательно, как если бы все это сделано по приказанию народа или плебса;
И пусть он не будет обязан дать народу объяснений, пусть никто не позволит разбирать какое-либо дело в отношении него перед собой»201.
Этот документ примечателен по двум причинам. Во-первых, в сенатском решении отчетливо прослеживается ссылка на правовой обычай, сформировавшийся при предшественниках Веспасиана на императорском троне и породивший уже конкретный правовой акт, сенатское постановление. И, во-вторых, тем, что об обычных правомочиях принцепса, как, например, военной, судебной, административной власти, управлении провинциями, уже просто не говорится. Следовательно, они более не являются предметом обсуждений и считаются неотъемлемой прерогативой императорского статуса. Как небезосновательно полагают, именно Веспасиан соединил все мозаичные полномочия прежних императоров воедино, присовокупив к ним еще несколько важных функций.
Правда, еще очень долго внешне императоры демонстрировали пиетет к старым республиканским институтам. Марк Аврелий (161—180) просил сенат о выделении средств для собственных нужд, а в своих произведениях писал, обращаясь к себе и будущим преемникам: «Остерегись окраситься в пурпур!» – т.е. становиться царем. Но в действительности фактически он был абсолютным монархом: являлся и законотворцем, и судьей, и главнокомандующим одновременно. Истинной опорой его власти являлся не сенат, а армия, где превалировали выходцы из крестьянства, совершенно равнодушные к республиканским формам, но глубоко уважавшие монархическую идею, столь легкую для усвоения солдатским сознанием, привыкшим к единоначалию и дисциплине202.
С течением времени император все больше отождествляется с Римом и римским народом. Его честь и достоинство тщательно оберегались законом «Об оскорблении величия», на основании которого сотни аристократов в разное время приняли смерть, как лица, покусившиеся на власть принцепса. Примечательно, что этот закон был принят еще в республиканскую эпоху, в 104 г. до Р.Х. Как говорят, автором его являлся народный трибун Апулей Сатурнин, предложивший применять его к неспособным полководцам, нанесшим урон чести и могуществу римского народа и Рима. При Октавиане этот закон был переименован в «Lex Iulia maiestate» и обращен против лица, поднявшего руку на императора, как представителя всего римского народа203.
Справедливо замечают, что Римский император – не восточный деспот, он – верховное должностное лицо Империи. Императорская власть рассматривалась современниками не как личная привилегия, а как долг и служение. «Император как бы олицетворял собой Империю, и потому власть императора, равно как и его особа, были одинаково священны и представляли собой предмет религиозного почитания. В императоре получило свое воплощение величие государства. Он был не хозяином государства, а его первым слугой; служение государству было его долгом.
Поэтому, соответственно своему высокому положению, он должен был вести жизнь, не похожую на жизнь обыкновенных смертных, и при этом соблюдать величайшую скромность и умеренность. Сама его личность растворилась в государстве, чтобы император стал настоящим представителем и символом Римской империи. Отныне все, что принадлежало императору, принадлежало и государству; все, что принадлежало государству, принадлежало также и императору»204.
Конечно, далеко не все Римские императоры исповедовали эти замечательные принципы. Но накануне появления христианства общественное сознание создало именно такой идеальный образ Римского императора.
II. Константин II (337—340), Констант I (337—350), Констанций (337—361)
Глава 1. Соимператорство трех братьев и единоличное правление Констанция
После смерти императора святого равноапостольного Константина I Великого к власти в Римском государстве пришли трое его сыновей – Константин, Констанций и Констант, родившиеся от брака с Фаустой в указанной последовательности. Впрочем, иногда утверждают, что Константин II родился у святого императора не от Фаусты, а от любовницы Минервины, которая перед тем подарила ему несчастного Криспа205.
О первых годах жизни наследников известно немного. Еще в раннем детстве они были возведены отцом в звание цезарей – в 315, 325 и 335 гг. соответственно; все царевичи получили глубокое и разностороннее образование. Их закаляли физически, учили правоведению, военному делу и решению государственных задач. Лучшие философы, педагоги и юристы того времени читали лекции трем принцам206. Конечно, они были христианами, но в соответствии с обычаями древней Церкви не принимали таинства крещения в юном возрасте.
Хотя римским законом вопрос о престолонаследии не был урегулирован, авторитет равноапостольного императора позволял ему надеяться, что его последняя воля будет исполнена. Поэтому, как свидетельствуют историки, св. Константин Великий оставил завещание, в котором распределил все провинции Римской империи между своими сыновьями. Старший сын Константин получил Британию, Галлию и Испанию, Констант – Италию и Африку, а Констанций – Малую Азию, Сирию, Фракию и Константинополь. Носителем единоличной власти, как и прежде – во времена Диоклетиана, являлись одновременно сразу все царевичи вместе, а не кто-то один из них. Завещание было отдано в руки некоему арианствующему священнику для передачи одному Констанцию – мотивы действий покойного святого императора до конца не ясны207.
Впрочем, история восшествия сыновей св. Константина на трон не лишена картин, обычных для современников событий. Наследники стали именоваться царями не по воле отца при наличии завещания – таковыми их провозгласило войско. Кроме того, некоторые обстоятельства дают повод полагать, что исполнение завещания св. Константина Великого находилось под угрозой, детали которой скрыло от нас время.
Общеизвестно, что непосредственно после провозглашения принцев августами солдаты умертвили почти всю многочисленную родню св. Константина Великого: его единокровного брата Юлия Констанция (289—337) и семерых племянников. В живых остались только два двоюродных брата наследников – малолетние Галл и Юлиан. Вследствие гибели почти всех остальных претендентов, пусть даже и потенциальных, сыновья святого царя беспрепятственно взошли на трон. Но другие обстоятельства событий скрыты от нас веками истории и молчанием современников, остались только отдельные фрагменты, дающие пищу для многочисленных гипотез и предположений.
Наследники св. Константина не присутствовали ни при казнях своих родственников, ни при кончине отца – занятые государственными делами, они не смогли проводить царя в последний путь. Только через несколько месяцев, уже в сентябре 337 г., Констанций похоронил отца в Константинополе, в храме Святых Апостолов. Тогда же он и получил на руки упомянутое завещание208.
Очевидно, оно имело для него и братьев очень большое значение. Рассказывают, что первоначально святой император передал завещание Евсевию Кесарийскому, и того даже пытались обыскать брат и племянники покойного василевса, чтобы отобрать бумагу. Почти наверняка можно предполагать, что они, отравив царя (если этот слух верен), готовились к захвату власти. И нет ничего удивительного в том, что св. Константин Великий догадался об этих замыслах и в своем завещании настоятельно рекомендовал сыновьям разделаться с заговорщиками. В любом случае, документ был крайне важен и для сыновей императора, и для мятежников209.
Не случайно источники утверждают, будто арианский священник, передавший ему завещание, стал «известным Констанцию, скоро сделался человеком к нему близким и получил приказание бывать у него как можно чаще»210. Более того, этот безвестный иерей вскоре имел уже серьезное влияние на царя в делах веры, внушив самой царице арианский образ мыслей. Едва ли это можно объяснить особой просвещенностью и популярностью арианствующего пресвитера, имени которого история не сохранила211. Скорее всего, основания для такой странной привязанности лежали в другой области, и у императора имелись веские причины доверять человеку, в руках которого оказались судьба братьев и его собственная жизнь.
Можно смело утверждать, что отсутствие завещания св. Константина позволило бы выдвинуться на первые роли как раз его умерщвленным солдатами брату и племянникам. А они, являясь членами царской семьи, играли далеко не последнюю роль в политической жизни Империи. Не следует забывать, что, возможно, в силу обычной человеческой привязанности и привычке делать приятное близким, а, быть может, по иным причинам, св. Константин Великий обеспечил племянникам воспитание, равное тому, какое дал собственным детям. Более того, один из них – Далмаций даже получил наравне с детьми императора титул цезаря и власть над Македонией, Фракией и Ахайей. Второму племяннику – Аннибалиану св. Константин пожаловал пусть ничего не значащий, но очень почетный и красивый титул «nobilissimus» («знаменитейший», «царь царей»), попутно сделав его царем Понта212.
Вполне вероятно, опасность молодым принцам грозила именно со стороны этих обласканных близких родственников, которые могли, воспользовавшись отсутствием завещания, заявить свои претензии на трон более категорично. Наивно надеяться, будто родные дети св. Константина прожили бы в таком случае длинную жизнь.
Как можно предположить, Констанций знал нечто большее, чем об этом говорит летописец, некоторые даже полагают, что и физическое устранение потенциальных конкурентов произошло не без его участия. Впрочем, существует и другая, не менее распространенная версия, будто вина Констанция заключалась в ином: он знал о готовящемся убийстве, но не воспрепятствовал ему213. Правда, при этом не уточняют, мог ли он физически не допустить кровавой расправы, либо такие пожелания историков носят исключительно умозрительный характер.
В противоположность этим версиям святитель Григорий Богослов был убежден в абсолютной невиновности Констанция и даже утверждал, что именно средний сын св. Константина спас Галла и Юлиана. «Спасенный великим Констанцием, – писал он о Юлиане, – недавно от отца наследовавшим державу, когда при дворе стали править делами новые чиновники, и войско, опасаясь нововведений, само сделалось нововводителем, вооружилось против начальствующих, тогда, говорю, невероятным и необычайным образом спасенный вместе с братом…» и далее по тексту214. В любом случае, как отмечают историки, в последние дни своей жизни василевс очень сожалел о смерти близких ему людей215.
Братья правили втроем, периодически собираясь для решения общих вопросов, как правило, в Паннонии, но главенствовал все-таки старший брат. Последняя встреча августов состоялась в 338 г. в Виминации, где Константин решительно выступил в защиту св. Афанасия. Своим единоличным эдиктом он повелел возвратить в Александрию ссыльного святителя, а в письме к Александрийскому клиру объяснил причины своего поступка. «Владыка наш, блаженной памяти Константин, благочестивейший родитель мой, – писал василевс, – вознамерился уже возвратить упомянутого епископа на собственное его место, но так как, не исполнив еще сего желания, он предварен был человеческим жребием и почил, то, сделавшись наследником намерения блаженной памяти царя, я счел долгом исполнить его. Увидевшись с Афанасием, вы сами узнаете от него, какое питал я к нему уважение»216.
Константин был не одинок в своей ревности по обеспечению единства Церкви и благочестия. Так, в частности, Константу выпало на долю искоренить ересь донатистов, уже давно терзавшую тело Церкви. Он попытался в мягких формах повернуть их к истине, но те устроили открытый мятеж. Состоялась настоящая битва донатистов с регулярными войсками, закончившаяся для них плачевно. Еретики были рассеяны, сосланы, а сам Донат умер в ссылке217. Кроме этого, Констант вместе с Констанцием приняли закон, запрещающий иудеям покупать рабов (по-видимому, все же рабов-христиан), виновный в этом правонарушитель подвергался казни мечом, а его имущество отбиралось в казну218.
Не отставая от своих братьев, Констанций также был врагом язычества и идолопоклонства, хотя поддерживал не св. Афанасия, а антиникейцев, к которым относилось подавляющее большинство его восточных подданных. Так, в 341 и 353 гг. он издал два закона, в которых под угрозой смертной казни воспретил публичное идолослужение219. В 341 г. Констанций совместно с Константом подтвердил закон своего отца против гадателей и совершений ночных жертвоприношений. «Суеверие должно прекратиться, и безумие жертвоприношений должно быть уничтожено; а если кто, в противность повелению нашего божественного отца, осмелится приносить жертвы, тот понесет за это наказание»220.
А в 350 г., отправляясь в военный поход против узурпатора Магненция (об этом наше дальнейшее повествование), царь убеждал свое войско, в массе своей все еще языческое, принять христианство221. «Нам неизвестен конец нашей жизни, – говорил он, – особенно же в сражении, когда со всех сторон летят тысячи стрел, дротиков и копий, когда грозят насильственною смертию удары мечей, сабель и другого оружия. Посему каждый необходимо должен облачиться в ту вожделенную одежду, в которой мы будем очень нуждаться на том свете. А кто не расположен теперь возложить на себя это одеяние, тот пусть оставит войско и возвратится домой; я не хочу сражаться вместе с неосвященными»222.
Далекий от желания принудительно и стремительно христианизировать римское общество, Констанций запрещал лишь наиболее гадкие языческие обряды, в первую очередь ворожбу. Но, с другой стороны, осторожно и бережно возвышал все лучшие стороны древнего отеческого культа. В 353 г. василевс издал новый закон, крайне неблагоприятный для язычников, которых даже назвал «погибшими». Почитатели идолов приговаривались к смертной казни, языческие храмы закрывались. Но этот акт был направлен только против представителей наиболее страшных культов, а в самом Риме императора по-прежнему продолжают величать старой титулатурой – понтифексом Солнца и Весты. Кроме того, сохранились все языческие праздники, равно как и игры, сопровождавшие их празднование223.
В 357 г. василевс был вынужден еще раз обуздать страсть отдельных своих подданных к суеверным гаданиям, а в 358 г. издал специальный закон «против врагов рода человеческого», к которым причисляет колдунов и чародеев224. Но, жестокий против колдунов, Констанций проявляет глубокое уважение к представителям древнего жреческого сословия.
В том же 358 г. он адресовал наместнику Африки Марциану эдикт, в котором обязал того содействовать возвышению языческих жрецов данной провинции. В эдикте император выражал желание, чтобы жрецы избирались на свою должность собранием адвокатов и чтобы их выбор распространялся также и на судей. Таким образом, Констанций передал в руки очень влиятельной корпорации защиту жречества, в чем оно было, конечно, крайне заинтересовано225. В 340, 349 и 356 гг. Констанций издал законы, устанавливающие наказания для разрушителей и расхитителей языческих гробниц. Санкции разнились – первоначально император определил в виде наказания смертную казнь, затем смягчил ее штрафом, но впоследствии вновь ужесточил наказание226.
Из трех сыновей покойного императора самым любимым был Констанций, но среди трех соимператоров Константин II, как указывалось выше, имел безусловное первенство. Он был самым старшим по возрасту, и именно ему достались в управление от отца те владения, где Константин II совсем еще юным цезарем правил вместе с доблестным Криспом. Впрочем, и Констант, несмотря на юность, снискал своими трудами в Римской империи заслуженную славу и уважение.
После раздела провинций согласно завещанию отца Констанцию, пожалуй, достались наиболее трудные восточные территории, неоднократно терпевшие урон от войн с персами. Следует сказать, что к тому времени Персидская империя и ее вооруженные силы представляли весьма грозную силу. Хотя Сасаниды не имели постоянной армии, но перед началом военных действий каждый сатрап провинции присылал специальные отряды воинов, имевших опыт боевых действий. Слабое вооружение персидской пехоты компенсировалось ее численностью, кроме того, по мере столкновений с римской армией персы овладевали многими тактическими приемами, заметно повысившими боеготовность рядовых частей. Особую роль играла персидская кавалерия, в которой служили, как правило, аристократы. Кавалеристы блестяще владели искусством стрельбы из луков, а их тяжеловооруженные отряды катафрактов были способны пробить любой воинский строй.
Кроме этого, в состав персидских армий входили легкие кавалеристы, осуществлявшие функции разведки и боевого охранения, а также лучники на верблюдах. В отличие от своих поработителей парфян персы охотно использовали боевых слонов и колесницы. Больших успехов достигли персы и в области изготовления осадных орудий, переняв вековой опыт Римской империи. В целом это был очень опасный соперник, имевший хорошую выучку, базу, вооружение и источники пополнения армии227.
Военные действия велись с одинаковой энергией обеими сторонами, и между армиями Персии и Рима произошло девять сражений, в двух из которых Констанций принял личное участие. Правда, восточные легионы уже давно не были той грозной силой, какую привыкли видеть враги, и бо́льшая часть данных римлянами сражений закончилась их поражением. Особенно тяжелой была битва при Сингаре, где Персидский царь Шапур II (309—379), «царь царей, брат Луны и Солнца» по официальной титулатуре, наголову разбил дезорганизованные и недисциплинированные римские войска. Попытки Констанция хоть как-то мобилизовать свои войска не дали успеха – это была не армия, а вооруженный сброд. Но даже при таких выгодных условиях победа далась персам нелегко: помимо обычных потерь, Шапур II лишился своего наследника, взятого римлянами в плен и публично умерщвленного228.
Однако удача далеко не всегда квартировала в персидском лагере. Персы не смогли одолеть римских крепостей, в частности одной из наиболее сильных – Насибины. Под ее стенами погибли лучшие части персов, и в конце концов Шапур II, встревоженный сообщениями о нападении массагетов на Персию, свернул осаду229. Констанций воспользовался этим шансом и сумел организовать свое войско; вскоре он стал чрезвычайно популярен в армии как военачальник, сочетающий воинский опыт и чувство локтя по отношению к рядовому легионеру, с которым василевс делил лишения и трудности военной жизни.
Трудно согласиться с мнением, будто братьев разъединяли (и в какой-то момент времени разделили) религиозные разногласия, вылившиеся в военные столкновения230. Действительно, Константин и Констант придерживались ороса Вселенского Собора, а Констанций находился под влиянием своего воспитателя епископа Евсевия Кесарийского – первого врага Никейского Символа Веры. Но раздоры начались как раз между Константином и Константом, и они носили сугубо политический характер.
Дело заключается в том, что в 338 г. царственные братья договорились между собой о разделе имущества, оставшегося после смерти цезаря Далмация. Бо́льшая часть провинций, принадлежавших покойному, отошла Константу, но, поскольку ему в то время едва исполнилось 14 лет, братья по согласию между собой учредили регентство над ним. Естественно, регентом был определен старший брат Константин231.
По достижении 17 лет подросший Констант потребовал отмены регентства, чем вызвал серьезный конфликт. Констанций едва ли имел основания возражать, но Константин изначально был недоволен тем, как распределились владения казненных родственников. В 340 г. он предложил Константу уступить ему африканские провинции в обмен на Македонию и Грецию, но получил отказ. Началась война, продолжавшаяся, однако, совсем недолго. Во главе не очень боеспособной армии Константин легкомысленно вторгся на территорию Константа, но под городом Аквилея попал в засаду и погиб. Как говорят, младший брат ловко заманил «старшего» императора в ловушку. Он прислал в лагерь Константина своих легатов и предложил мир. Обрадованный Константин немедленно отправился к месту назначенной встречи с небольшой группой близких вельмож, попал в засаду и погиб. Вместе с ним погиб и префект Галлии – отец будущего Медиоланского епископа св. Амвросия232.
Принадлежавшие Константину II провинции признали над собой власть победителя, и Констант получил в свое управление весь Запад233. В это же время Констанций, встав во главе своего войска, отогнал персов от берегов Евфрата и разбил их в сражении234.
Из двух оставшихся соправителей Римской империи, по-видимому, первенствовал чуть более старший Констанций (в это время ему было 24 года) – вывод, к которому можно прийти, анализируя, в частности, переписку братьев по вопросам организации церковных Соборов. Так, св. Афанасий обратился к Константу с просьбой оказать ему покровительство и помощь. Император Запада благосклонно отнесся к св. Афанасию и, в свою очередь ходатайствовал перед Констанцием о выполнении отеческой воли и прощении святителя. Получив письмо, пишет историк, император Востока дал в 343 г. распоряжение восточным и западным (!) епископам собраться на Собор в Сердике (ныне София)235. Уже эти действия и нюансы поведения отчетливо демонстрируют, кто был старшим меж двух братьев.
Данный Собор, претендующий на статус Вселенского, но названный «западным» по территориальной принадлежности своих членов, фактически игнорировал восточный епископат, вследствие чего Констанций отказался подписать и утвердить его акты. Это и предопределило судьбу Собора, хотя, надо полагать, Константу едва ли мог понравиться такой результат. Очевидно, мнение старшего брата являлось для него преобладающим. Правда, нередко отмечают и обратную зависимость – угрозы Константа начать военные действия против Констанция не раз заставляли того идти на компромиссы по вопросам веры. Но, как представляется, эти разовые вспышки активности со стороны младшего брата не идут ни в какое сравнение с твердым и уверенным положением Констанция, умевшего подчинять себе людей.
Впрочем, соправление двух василевсов продолжалось недолго. В 350 г. на Западе взбунтовался воинский начальник Магненций (350—353), самопровозгласивший себя императором и поддержанный элитными военными отрядами. Застигнув врасплох Константа, когда тот отдыхал неподалеку от Пиренейских гор, слуги Магненция умертвили его. Поскольку во главе государственного переворота стояли представители знатных римских фамилий, мятежнику удалось утвердить свою власть в Италии и Галлии. В Риме законы Констанция против язычников возбуждали ненависть у части горожан, и многие сенаторы были заинтересованы в победе узурпатора, обещавшего восстановить поклонение старым римским богам. Помощь язычников-сенаторов в значительной степени решила финансовые проблемы Магненция, получившего средства для набора и содержания многочисленной армии236.
Но, по-видимому, узурпатор понимал шаткость своего положения и не верил в возможность захвата единоличной власти. Удачливый солдат-авантюрист мог, конечно, как показывала история дохристианского Рима, претендовать на императорский титул, но его претензии становились реалиями почти исключительно в годы безнадежной анархии, когда Империя принимала любую власть, лишь бы она несла некоторую надежду на политическую стабильность и порядок. Конечно, случай с Магненцием не вписывался в эту ситуацию.
Кроме того, даже при отсутствии закона о престолонаследии римское общество не могло так легко отвернуться от неписаных прав на престол сына св. Константина. И после смерти авторитет первого святого императора в государстве был невероятно высок, причем, не только у христиан, но и у язычников. Поэтому вскоре Магненций направил Констанцию послов, уговаривая того уладить дело миром и без долгих слов поделить Римскую империю на две части. Уже состав посольства не мог не вызвать сомнений в собственных силах у Констанция – возглавлял посольство эпарх преториев, то есть начальник гвардии Руфин, в него входил полководец Марцеллин, начальник сената Нунехий и некто Максим. Послы сообщали государю, что Магненций предлагает Констанцию первое достоинство в Римском государстве и желает выдать за него свою дочь, прося одновременно руку Констанции, сестры царя. Нунехий не без оснований напомнил Констанцию, что для того было бы крайне неосмотрительно начинать борьбу с Магненцием: утомленный многими битвами, он едва ли в состоянии противостоять узурпатору. В любом случае, гражданская война – слишком рискованное предприятие, чтобы так легко соглашаться на него. По словам современников, император был очень встревожен этими словами237.
В принципе эти мирные условия объективно были небезвыгодны для василевса, над которым постоянно довлела угроза нападений Персии на восточные провинции. Но, по словам самого царя, ночью во сне ему явился покойный отец с трупом Константа на руках и потребовал отмщения невинно пролитой крови брата. Вопрос о войне для Констанция был решен238.
Пока законный император собирал войско в поход и отыскивал возможных союзников, сенат Рима, уже обеспокоенный поведением Магненция, грабившего со своей армией все что можно и нельзя, назначил цезарем Запада некоего Непотиана (350) – сына сестры св. Константина Великого Евтропии (? – 350). Но, как выяснилось, одной принадлежности к славной семье оказалось явно недостаточно, если она не подкреплялась реальной силой. Участь Непотиана была печальна: всего через 3 месяца после своего назначения он потерпел поражение в битве с Магненцием и погиб; вместе с ним погибла и его мать.
Тогда уже сестра Констанция Елена выбрала нового кандидата на борьбу с узурпатором – «мужа почтенного» Бриталлиона, на соединение с которым спешил император Востока. Наверняка можно предположить, что выбор Бриталлиона свершился не без тайного участия царя, у которого явно было недостаточно войска для фронтального столкновения с тираном. Объединенные силы Констанция и Бриталлиона участвовали в сражении с Магненцием, и военное счастье улыбнулось законному наследнику св. Константина239.
Узурпатор бежал в Италию, где собрал дополнительные войска и 28 сентября 352 г. дал генеральный бой Констанцию и Бриталлиону близ города Мурс, на реке Дунай, что располагался на территории нынешней Словении. Здесь с двух сторон бились и полегли лучшие силы Римской империи. Битва была жестокой, военное счастье не раз меняло своего избранника, переходя от одной стороны к другой, наконец, войска Магненция дрогнули и побежали. Союзники одержали решительную победу.
В свете излагаемых событий нужно остановиться на одном эпизоде, ставшем причиной (хотя бы и субъективной) последующих гонений сторонников Никеи и лично св. Афанасия Великого. Непосредственно во время битвы василевс молился в расположенной неподалеку церкви Святых Мучеников. Напряжение царя было велико – эта битва должна была раз и навсегда поставить точку в вопросе о власти в Римском государстве. И в этот момент к нему явился с победным известием придворный арианский епископ Валент, радостно поздравивший императора со счастливым исходом сражения. На вопрос, откуда тот узнал о победе, епископ, не моргнув глазом, заявил, что лично Божий Ангел принес ему эту весть. Это, конечно, была откровенная ложь, доверчиво принятая потрясенным царем и предопределившая серьезные политические последствия. Убежденный на этом примере в праведности Валента и его единомышленников, Констанций отныне будет долгое время находиться под их влиянием в вопросах вероисповедания240.
Но вернемся к политическим делам. Оставив свои разбитые войска, Магненций бежал в город Лугдун. Там, отдавая отчет в безнадежности своего положения, он умертвил сначала брата и мать, а потом окончил жизнь самоубийством. Его брат – цезарь Децентий (350—353) также покончил с собой, а правитель Галлии Сильван, поставленный на этот пост узурпатором, попал в руки солдат Констанция. Все враги были поражены, царь одержал полную победу. Триумфально вступив со своей супругой в Рим, император подтвердил собственные права на трон в речи перед сенаторами, а затем освободил от власти Бриталлиона, наградив того за труды и назначив правителем Прусы Вифинской241. С этого времени, как некогда и его отец, он принял бразды единоличного правления в свои руки.
Помимо военных действий с внутренними врагами, Констанцию пришлось решать проблему обороны восточных провинций от персов. Персидский царь Шапур II окружил сильную римскую крепость Нисибис, которую иные называют Антиохией Мингидонскою, лежащую на границе римских владений с персидскими. Епископом, блюстителем и комендантом этого города был Иаков, муж, «сиявший лучами апостольской благодати». Персидское войско осадило город, но без особого успеха. Простояв под ним 70 дней, построив множество осадных машин для обстрела стен, устроив валы и рвы, персы никак не могли взять город, хотя их армия была многочисленной, и в ней даже находились боевые слоны.
Генеральный штурм также не принес захватчикам успеха, и персы решили затопить город водами реки Мингидон, протекающей через него. Гибель осажденных казалась неминуемой, но каким-то образом они сумели предпринять встречные меры, и множество персидских воинов нашли свою смерть в водах той реки, на которую возлагали такие большие надежды. Правда, захватчикам удалось разрушить часть стены242.
И все же Шапур надеялся взять крепость. Он на один день отложил ее занятие войсками, чтобы грязь высохла и река сделалась переходимою. Но на следующий день, приступив к городу со всем войском, он обнаружил, что стена с обеих сторон восстановлена. Выяснилось, что ночью укрепленные молитвами своего епископа и организованные им жители и легионеры восстановили стены. Персы вновь бросились на штурм, оказавшийся для них печальным – слонов римляне перебили, а ворвавшихся в крепость врагов поражали стрелами и мечами; погибло около 10 тысяч персов. В довершение всех бед начался страшный дождь с грозой, и персидские воины в страхе разбежались прочь. Взглянув на небо, Шапур II вдруг увидел на крепостной стене блистающего Ангела, а рядом с ним св. Константина Великого. Потрясенный перс велел тут же снять осаду, сжег все осадные орудия и удалился с войском, причем многие из его воинов погибли при отступлении от моровой язвы, так и не увидев своего отечества243.
Следует сказать, что император недолго оставался единственным правителем Римской империи. Еще ранее, в 349 г., он вызвал из Каппадокии своего двоюродного брата Галла, а в 351 г. присвоил ему титул цезаря. Более того, как первый признак благосклонности к двоюродному брату, он присоединил к его имени собственное (и тот стал зваться Галл Констанций), после чего назначил своим соправителем и отправил в Антиохию, на которую в это время также напали персы.
Какие мотивы двигали им? Трудно ответить однозначно. Царь был пока еще бездетен (хотя в 352 г. женился на знатной македонянке Евсевии) и не мог не думать о продолжении династии, тем более что пример Магненция ясно показал – претенденты на пустующий или ослабевший трон всегда найдутся в избытке. Вполне вероятно также, что Констанций хотел в такой форме загладить свою косвенную вину перед Галлом и Юлианом за смерть их отца и, пусть задним числом, вернуть братьям права на престол. Наконец, можно допустить и то, что определенный дефицит кадров, особенно на военной службе после тяжелых военных кампаний и гражданских войн, вынудил Констанция довериться двоюродному брату. По-видимому, бездетный и уже сравнительно немолодой по меркам той эпохи император предполагал со временем передать всю власть в руки Галла, если тому будет благоволить успех.
Очевидно, Констанций доверял своему молодому родственнику (кто бы при иных обстоятельствах сам передал войска в руки потенциального врага?) и дал ему большую свободу действий, полагая, что военные будни и участие в гражданском управлении Сирией помогут тому приобрести необходимый для правителя опыт. В этом отношении Констанций не ошибся, но разочарование ждало его в другом.
Характеристика нового соправителя Римской империи была далеко не блестящей. Взойдя на престол прямо из ссылки, Галл не демонстрировал ни ума, ни прилежания. От природы нелюдимый и угрюмый, он с возрастом еще более ожесточил свои понятия, видимо, находясь под тягостным детским впечатлением казни отца и родственников (ему тогда было 12 лет), втайне желая восстановить то, что могло достаться ему в руки и без Констанция – единоличное царство. Жестокосердие Галла проявилось в казнях, которыми вскоре наполнилась жизнь Антиохии, и в употреблении во зло той власти, которая так неожиданно выпала ему. Город заполонили шпионы и доносчики, и сам правитель, переодевшись в простое платье, нередко с охотой играл эту не «царскую» роль.
«Проявляя все шире свой произвол, Галл стал невыносим для всех порядочных людей и, не зная удержу, терзал все области Востока, не давая пощады ни царским сановникам, ни городской знати, ни простым людям». Однажды он одним общим приговором отправил на казнь всех (!) членов Антиохийского сената, которые, как ему показалось, излишне резко отказали ему в удовлетворении требований об установлении фиксированных цен на продукты в преддверии голода. Они бы непременно погибли, если бы не Гонорат, комит Востока, запретивший казнь244. Вся Сирия пребывала в ужасе от действий молодого цезаря245.
В это же время, в 354 г., сам император выступил из Арелата и направился в Валенцию, чтобы отразить алеманов, под руководством своих вождей Гундомара и Вадомария опустошавших Галлию. Врагов было множество, но Констанций предпринял удачный маневр, приведший к тому, что вскоре оба варвара, практически окруженные, запросили мира. Император созвал войско на сходку и в присутствии высших сановников обратился к легионерам с речью, в которой предложил заключить мирный договор. Царь отмечал, что как полководец он обязан думать о солдатском благополучии и благе государства, поэтому «его нравственный долг – неукоснительно пользоваться всем, что посылает благое Провидение». Говоря о себе, Констанций заметил, что, как миролюбивый государь он полагает неправильным превозноситься при удаче. «Не трусости, но умеренности и человечности будет приписано, верьте мне, это зрелое и обдуманное решение». Войско поддержало своего царя, мир был заключен без сражения, и император вернулся на зимние квартиры в Медиолан246.
Но и Галл демонстрировал в военном деле неплохие способности. Молодой август удачно справился с поставленной задачей по обороне провинции от персов, но, желая использовать военный успех в личных целях, организовал заговор против царя. Амбициозный цезарь был озабочен только одной мыслью – как провозгласить себя императором. Констанций, до которого систематически доходили отрывочные сведения об этих намерениях, писал соправителю письма, убеждая того совместно действовать на благо государства. Но Галл вел себя совершенно как единоличный властитель. Впрочем, польщенный письмами императора, он решил выехать к нему для оказания помощи от варварских набегов. Это был не единственный мотив действий – по дороге мятежник надеялся привлечь на свою сторону новые легионы247.
К счастью для Констанция, некий Домециан своевременно сообщил императору о готовящемся тайном заговоре, хотя и был после этого убит сподвижниками Галла. Царь, делая вид, будто ни о чем не подозревает, в декабре 354 г. приказал доставить Галла Констанция к себе в ставку на остров Фаламон и после дознания, когда вина молодого соправителя полностью подтвердилась, велел его умертвить. Молодой цезарь окончил свою жизнь на 29‑м году.
В таких ситуациях участь родного брата мятежника считалась автоматически предрешенной. Но юного Юлиана спасла любимая жена Констанция царица Евсевия. Она уговорила василевса пощадить молодого человека и отправила его в Афины подальше от мужниных глаз248. Впрочем, по мнению историков, отъезду Юлиана в столицу греческих философов в немалой степени способствовали придворные из язычников, втайне надеявшиеся на появление через короткое время на престоле нового императора, способного вернуть почитание старых римских культов.
Попутно в 354—355 гг. император удачно воевал с лентиензами – одним из германских племен, регулярно вторгавшимся в пограничные области Империи. Царь вместе с войском выступил в поход и на Канинских полях (территория нынешней Швейцарии) дал варварам сражение. Вначале удача была не на его стороне – конный авангард римлян попал в засаду и понес тяжелые потери, но затем подтянулись остальные части, и германцы были разбиты249.
Между тем годы брали свое. Констанций был утомлен вечными военными походами и церковными нестроениями. Едва перешагнув 40‑летний рубеж, он уже считался правителем с большим стажем, и здоровье его, подорванное войной, было слабым: говорят, он болел редко, но всегда тяжело. Вопрос о наследнике престола вновь стал актуальным. Поскольку ни один из браков Констанция так и не принес ему желанного ребенка, он, по просьбе жены, вернул Юлиана из ссылки. Евсевия сумела внушить мужу мысль о благородстве и других достоинствах младшего родственника. После официальной встречи, где Юлиан поклялся ничего не замышлять против старшего брата и императора, Констанций наделил его титулом цезаря и направил в Галлию, женив на своей сестре Елене250.
По этому торжественному случаю в Милане, где находилась царская резиденция, состоялась торжественная церемония. Взяв 24‑летнего Юлиана за руку, император поднялся с ним на высокий подиум, где, обращаясь к войскам, произнес речь с просьбой поддержать молодого цезаря251. «Я хочу предоставить власть цезаря Юлиану, – говорил император солдатам, – моему, как вы знаете, двоюродному брату; его скромность, делающая его столь же дорогим мне, как и мое с ним родство, стяжали ему признание, и в нем виден молодой человек выдающейся энергии»252.
Можно сколь угодно долго говорить о подозрительности Констанция и придворных хитростях, где за красивыми словами зачастую скрывались совсем иные намерения. Но кто скажет, что в данном случае царь был неискренним? Обратившись к Юлиану, он сказал: «Ты получил, мой возлюбленный брат, во цвете своей юности блистательнейшее отличие твоего рода. Я признаю в этом приумножение блеска моей собственной славы: то, что я справедливо предоставляю моему знатному родственнику верховную власть, более возвеличивает меня, нежели то, что я сам обладаю этой властью. Итак, раздели со мной опасности и труды, прими на себя управление и охрану Галлии и постарайся всяческими добрыми деяниями облегчить тяжелое положение этих областей. Спеши, чтобы ревностной заботой отстоять доверенный тебе самим отечеством пост! (выделено мной. – А. В.)»253. Высокие и благородные слова! Казалось бы, о чем еще Юлиан мог мечтать? Однако мысли молодого правителя уже были далеко впереди: как и его казненный брат, он мечтал о царстве, не слишком задумываясь о признательности по отношению к Констанцию.
Впрочем, его назначение состоялось вовремя – сарматы уже давно забыли о существовании дунайской границы и свободно вторгались на римские земли; франки оккупировали галльские провинции. Дикие исавры многочисленными отрядами спускались с гор, опустошая все вокруг Селевкии, а персы вновь напали на земли Азии. Молодой царь и соправитель Констанция удачно оборонялся от франков, попутно разгромив некоего Сильвана – одного из мятежных генералов, пытавшегося «по случаю» примерить на себя царскую диадему. Близ города Аргентората в 357 г. Юлиан разбил заметно превосходящие его силы германцев, проявив храбрость и талант полководца254. А в 358 г. цезарь внезапно напал на хамавов, разгромив их в кратких, но ожесточенных боях, и гарантировал мир, обязав варваров принять над собой его власть255.
В это время Констанций пребывал в Риме, заботясь об охране Рейнской границы и разрешая церковные вопросы. Наконец, известия о нападении варваров на Иллирию заставили его выступить с войском на Восток. Переправившись через Дунай, император наголову разбивал поочередно все неприятельские войска, встречавшиеся ему на пути. Затем он проник на земли сарматов и только тогда принял мир от варваров, когда они вернули из плена всех римских подданных и передали в руки царя заложников из своих знатных семей256.
После этого император двинулся на земли квадов, которые также запросили мира257. Вслед за ними были покорены племена амицензов и лимигантов. По окончании войны царь с триумфом вернулся в Сирмий, а войска разошлись по местам своего расквартирования. Если до этого о Констанции говорили, будто ему везет только в междоусобных войнах, а во внешних его преследовали поражения, то теперь никто не мог уже упрекнуть царя в отсутствии полководческого таланта и воинской удачи.
Едва усмирив варваров, Констанций был вынужден вновь столкнуться с восточной угрозой. Персидский царь Шапур II потребовал от него возврата Армении и Месопотамии, полагая, будто Рим владеет ими незаконно. К сожалению, эти амбиции возникли не без помощи некоторых царских чиновников, переметнувшихся на сторону персов. Констанций отверг ультиматум, в ответном письме напомнив Шапуру тот общеизвестный факт, что «хотя римлянам и случалось иногда терпеть поражения, окончательный исход войн почти всегда для них успешен». Началась война, и многочисленная персидская армия во главе с самим Шапуром в 359 г. вторглась в истощенные и беззащитные восточные провинции.
На счастье римлян, проезжая мимо некогда не покорившейся ему крепости Амиды, Шапур II решил испытать, не наведет ли его личное присутствие такой страх на гарнизон, что тот сдастся без осады. Но в ответ легионеры из гарнизонного отряда открыли стрельбу из луков, и одна из стрел сбила корону с головы Шапура II. Разгневанный Персидский царь уже не желал внимать советам перебежчиков и своих военачальников – он решил взять город штурмом. На беду царя, на следующий день его сын и наследник был убит римским дротиком, когда высказывал требования осажденным о сдаче города. Обезумевший от горя отец поклялся на похоронах сына снести крепость с лица земли. Началась длительная осада.
Что бы ни писали о римской армии времен Констанция, она еще сохранила в себе старый дух непобедимых легионов. Защитники Амиды выдержали все испытания, и крепость была взята исключительно вследствие предательства дезертира, показавшего персам потайной ход. Город совершенно уничтожили, но и персы потеряли свыше 30 тыс. воинов – весь цвет персидской армии258. Шапуру II пришлось сворачивать военные действия.
На Западе дела также шли успешно. Юлиан демонстрировал высокую силу духа и прирожденное умение командовать войсками. Вместе со своим близким другом офицером Саллюстием он успешно организовал оборону западных провинций от алеманов и под нынешним Страсбургом наголову разбил германцев при незначительных собственных потерях. Затем не менее эффектно армия Юлиана разгромила франков, экстренно запросивших после этого мира259.
В этом же 359 г. внезапно взбунтовались усмиренные ранее сарматы-лимиганты. Находившийся в Сирмии Констанций вновь собрал войска и направился на войну. Обстоятельства допускали возможность заключить мир без сражений, поэтому царь велел организовать ему встречу с вождями варваров, во время которой подвергся большой опасности. Прибывшие вместе с вождями варваров вражеские воины внезапно проявили недружеские намерения и набросились на телохранителей императора, которому удалось спастись лишь ценой гибели своих близких друзей. Узнав об опасности, которой подвергся любимый полководец, находившиеся неподалеку легионеры набросились на сарматов и разгромили их. Удовлетворенный тем, что ему удалось усмирить бунтовщиков, Констанций вернулся в Сирмий, а оттуда отбыл в Константинополь. Он хотел восстановить силы после потерь при Амиде и усилить восточную границу260.
Но в это время внезапно возник новый мятеж. Нуждающийся на Востоке в подкреплениях, Констанций приказал Юлиану прислать в качестве резерва четыре лучших легиона Западной армии: Кельтский, Петулянтский, Батавский и Герулльский, а также по 300 отборных воинов из остальных легионов, оставшихся в Галлии261. И тогда Юлиан, ссылаясь на опасности, якобы грозившие его жизни, аккуратно поднял мятеж. Возможно, его опасения были небезосновательны – при дворе царя его заглазно называли «козлом» за длинную бороду и осыпали насмешками. Кроме того, желая поддержать престиж власти, Констанций фактически присвоил себе некоторые победы своего молодого брата и вообще проявлял очевидную ревность к его воинской славе.
Внешне Юлиан ничем не проявил своего недовольства, но втайне распространил среди своих солдат прокламацию, где Констанций изображался в самом ужасном свете. Легионеров побуждали восстать против жестокого и скупого императора (как им внушалось), и результат не замедлил сказаться. Собранные в Лютеции (нынешний Париж) для отправки на Восток легионы открыто отказались признавать Констанция своим императором и в 360 г. подняли по старому римскому обычаю Юлиана на щит262. В Римской империи возникло опасное и губительное двоевластие, грозящее гражданской войной.
В то время, когда происходили эти события, персы опять напали на восточные провинции. Шапур осадил сильную крепость Сингару, которую защищали два легиона. Римляне умело отражали многочисленные штурмы врага, но в конце концов город пал. Следом, также после очень ожесточенной битвы, пала не менее укрепленная и важная в стратегическом отношении крепость Безабду (ныне город Джезире-ибн-Умар). Бойня была ужасной – персы вырезали практически всех горожан. Обнадеженный успехами, Шапур II решил, что теперь ему по плечу любая крепость римлян. А не получивший подкреплений Констанций находился этой зимой в Константинополе, где запасался оружием, набирал новых рекрутов и обучал их воинским навыкам263.
Там его и застало письмо Юлиана, в котором тот предлагал императору мирно разойтись между собой. Узурпатор объяснял, при каких обстоятельствах произошло объявление его императором. Он ссылался на то, что войско не желало состоять под управлением второстепенного командира, каким считало его (очевидная ложь – Юлиан уже являлся цезарем и имел все прерогативы римского полководца), но желало подчиняться только августу. Затем он аргументировал свой отказ от посылки войск Констанцию тем, что войско устало и неспособно воевать на Востоке, когда их собственным домам на Западе угрожает опасность, и в заключение предложил принять двоецарствие как факт. «Прими благожелательно справедливые условия, которые я предлагаю, и признай, что это будет на пользу как Римскому государству, так и нам самим, которые связаны между собой единством крови и высотой верховного сана»264.
На самом деле, учитывая все нюансы статуса Констанция и Юлиана, молодой товарищ царя открыто заявлял претензии на единоличное правление, искусно обрамляя их в изысканные формы. Проще говоря, фактически он предлагал императору отказаться от царства. Говорят также, помимо этого открытого письма Юлиан передал еще одно, тайное, тон которого и содержание разительно отличались к худшему.
Царь принял послов Юлиана, выслушал, но долго не мог решиться, что делать: идти с войсками на персов или на цезаря, самопровозгласившего себя августом. Наконец, общегосударственные интересы и чувство долга взяли верх, и император отдал приказ войскам двинуться на персов. Послов Юлиана он отправил обратно с письмом, в котором советовал (хотя довольно жестко) самозванцу оставить высокомерные притязания и удовольствоваться званием цезаря. Констанций указал, что ни при каких обстоятельствах не согласится с фактом признания Юлиана царем, и предлагал тому задуматься о будущем своих родных, которым, по-видимому, могла угрожать опасность. Но Юлиан чувствовал себя довольно уверенно – за ним были проверенные легионеры, с которыми он неоднократно побеждал врагов. И, конечно же, легкомысленная молодость опьянялась блестящими перспективами, кружащими голову. Игнорируя угрозы Констанция, вернее, посчитав их искусственными, он уже составил план военных действий. В первую очередь цезарь обезопасил свой тыл, внезапно напав на франков и победив их без большого труда265. Затем Юлиан начал подготовку к походу против Констанция.
В это же время император спешно отправился в поход на персов. Призвав на помощь Армянского царя Аршака II (351—367), Констанций двинулся с войском к захваченному противником городу Безабде, который Шапур своевременно укрепил и снабдил сильным гарнизоном. Несколько раз римляне штурмовали крепость, персы несли колоссальные потери, но, к несчастью, осень внесла свои коррективы. Ввиду наступающей непогоды Констанций был вынужден снять осаду и вернуться в Антиохию на зимовку266. Здесь он женился на Фаустине, поскольку его любимая жена Евсевия незадолго перед этим умерла.
Во время выпавшего перемирия обе стороны – Юлиан и Констанций – накапливали силы, увы, далеко не равные. Констанций не мог игнорировать персидскую угрозу, но одновременно с этим очень опасался Юлиана, мощь которого росла. Направив к персам посольство с предложением перемирия, заручившись помощью Армянских и Иверийских царей, император рассчитывал совершить поход через Иллирик в Италию и захватить там Юлиана. Но сообщение о концентрации персидской армии у берегов Тигра помешало реализовать эту смелую стратегию. Царь немедленно стянул все лучшие силы на Восток и направился к Эдессе.
В результате все приграничные с западными провинциями территории оказались беззащитными перед Юлианом, и новоявленный август не замедлил воспользоваться выгодами своего положения. Он перешел с войском Истру и начал быстро занимать города, еще вчера находившиеся под властью Констанция. Нельзя, однако, сказать, что все крепости и воинские части легко соглашались принять власть молодого василевса. Например, два легиона из армии Констанция, которые Юлиан отправил на Запад для защиты от варваров, взбунтовались и уговаривали народ сохранять верность Констанцию267.
Еще ничего не было ясно окончательно: войска, расквартированные на Востоке, перед которыми в Эдессе выступил император, горячо поддержали Констанция и признали его исключительные права на трон. Святой Григорий Богослов напрямую утверждал, что если бы кончина царя не предшествовала нашествию Юлиана, тот нашел бы свою погибель, вторгшись в римские земли268. Многие города также подтвердили свою верность законному государю. Примечательное событие случилось в самом Риме. Когда Юлиан, рассчитывавший заручиться поддержкой сената, направил ему письмо, в котором всячески поносил Констанция, высшая знать Римского государства проявила свое благородство и верность клятве общим возгласом: «Auctori tuo reverentiam rogamus» («Предлагаем с уважением говорить о своем благодетеле!») 269.
Император начал спешно наступать на Антиохию навстречу Юлиану, но 13 ноября (по другим данным, 3 ноября или даже 5 октября) 361 г. скончался от внезапно настигшей его лихорадки на 45‑м году жизни в Мопсункренах, в Килликии. По свидетельству историка Марцеллина (IV в.), находясь в твердой памяти, император перед тем, как испустить дух, назначил Юлиана своим преемником270.
Конечно, много оснований для того, чтобы считать это известие явной выдумкой – видимо, служивший непосредственно у Юлиана Марцеллин стал невольной жертвой уловки нового императора, имевшей целью облагородить и легализовать свой приход к власти. И, не желая критически оценить эти слухи, историк просто переписал их в своем труде. Впрочем, возможно и иное – всегда ставивший благо государство на первое место, Констанций действительно мог в последние часы земной жизни сделать последний подвиг для своего отечества – признать власть Юлиана и положить конец начинающейся гражданской войне. Незадолго перед смертью, по примеру своего великого отца, он был крещен епископом Антиохии, ставленником евсевиан271.
Набальзамированный труп императора положили в гроб, и военачальник Иовиан (будущий василевс) сопровождал его до самого Константинополя. По словам современников, народ толпами приветствовал тело почившего царя, отдавая ему последние почести. А войско, уже признавшее власть нового василевса, скорбя и сожалея о любимом императоре, потребовало от Юлиана отдать ему последние почести. Сняв с главы диадему, тот был вынужден при всей своей неохоте сопроводить тело в храм Святых Апостолов, где уже покоились благочестивые предшественники Констанция – по словам св. Григория Богослова, «священный род, удостоившийся почти равной чести с Апостолами»272.
Глава 2. Тринитарные Соборы и церковная политика Констанция
Таковы краткие вехи жизненного пути детей св. Константина. Но их значение для судеб Римской империи и мира далеко не исчерпывается только государственными делами и военными подвигами. И Константин, и Констант, и особенно Констанций главным образом знамениты в связи с тринитарными спорами, захлестнувшими Церковь еще во времена жизни их отца и особенно жаркими в годы единоличного правления императора Констанция.
Принятый в 325 г. в Никее термин «омоусиос» («Единосущный») вызвал настоящую бурю на Востоке, который в целом не понял его и не принял. Может показаться странным, но авторитет Никейского Собора на Востоке держался в то время почти исключительно за счет личности равноапостольного императора, а его решения отнюдь не были реципированы всеми церквами. Сам св. Константин Великий был в большей степени озабочен внешним единством Церкви, чем богословским пониманием «Единосущия». Да и вряд ли он смог бы что-нибудь сделать большее – Церковь должна была сама выстрадать верное богословское понимание Личности Христа. А в те годы Восток начал погружаться во мрак расколов, вызванных богословскими поисками и нередко обрамлявшими их политическими интригами.
После своего поражения на Вселенском Соборе вожди умеренных ариан – епископы Евсевий Кесарийский и Феогност постарались восстановить свое положение при дворе равноапостольного царя. Видимая покорность, обнаруженная ими в ссылке, и раскаяние пред лицом василевса глубоко тронули св. Константина, по своему благородству нередко излишне доверчивого к людям. По словам древних историков, они имели величайшую силу и дерзновение перед императором, уважавшим их как людей, очень непростым путем обратившихся от неправославия к Православию273. Но в данном случае царь был обманут. Не покорность его державной воле, не послушание великому Собору и искреннее принятие Символа Веры, а месть за свои унижения и падения таили в своей душе придворные архипастыри.
По-своему Евсевий и Феогност действовали из самых лучших побуждений, глубоко уверенные в собственной богословской правоте. Но для победы своей партии они применили весь арсенал недостойных и даже мерзких способов, не гнушаясь ничем. Будучи епископами, они, не задумываясь, меняли политические пристрастия, если того, как они считали, требовали обстоятельства времени и благо Церкви. В нарушение традиций Евсевий Кесарийский не раз к своей выгоде перемещался с кафедры на кафедру, максимально используя близость к царям и свое положение при дворе. Вначале из Кесарии он перебрался в Никомидию, затем, незадолго перед смертью, в Константинополь.
После возвращения былого влияния Евсевий сплотил вокруг себя крепкую группу последователей, «евсевиан». Они не были ортодоксальными арианами, и их объединяло не столько учение Ария, сколько неприятие Никейского Символа. Вскоре к евсевианам примкнула большая группа других восточных епископов, которые не понимали Символ, считали его подозрительным и вообще мало соответствующим тому учению, которое они получили от Отцов Церкви274. Для них наиболее приемлемым результатом догматических споров было восстановление доникейского богословия. На всех последующих Соборах евсевиане будут играть первую роль, пользуясь поддержкой этой большой группы антиникейцев, в своем консерватизме не желавших менять что-либо из дошедших до них из древности богословских понятий.
Святой Константин считал Вселенский Собор в Никее лучшим делом своей жизни, и поэтому открыто выступать при нем против Символа было совершенно невозможно. Не имея возможности разгромить своих оппонентов на богословском поприще, Евсевий и иже с ним исподволь поставили своей целью дискредитировать идеологов Никеи. Евсевиане активно подключили к нейтрализации никейцев дворцовые круги, где их возможности были очень широки, и тайно запустили двигатель гигантской политической интриги.
Первым пал св. Евстафий, епископ Антиохийский, которого на Соборе в Антиохии ложно обвинили в ереси савеллианства. Поскольку же данное обвинение было совершенно нелепо и едва ли могло произвести должное впечатление на царя, евсевиане попутно выдумали, будто бы тот грубо оскорбил мать св. Константина, назвав ее наложницей (конкубиной), а не женой Констанция Хлора. Это являлось прямым оскорблением царского достоинства, и василевс уже не мог пройти мимо данного эпизода. Святому Константину представили необходимые «доказательства», царь поверил клевете, и св. Евстафий был сослан в Иллирию275.
Второй жертвой стал Маркелл, епископ Анкирский. Обладая недюжинным и самостоятельным умом, Маркелл взялся за решение всех современных ему богословских вопросов. Он искренне принял Никейский Символ, так как тот не противоречил его собственным убеждениям, но, отстаивая чистоту Православия, по горячности допускал такие догматические вольности, что на Востоке его открыто упрекали в савеллианстве276.
Не особенно задумываясь над последствиями своих слов, Маркелл довел дело до того, что, наконец, восточные архиереи признали его ересиархом и лишили епископской кафедры. Позднее, уже на II Вселенском Соборе, его учение было анафематствовано Церковью, что свидетельствует о наличии заблуждений и ошибок у всех сторон этого спора.
К сожалению, и никейцы не смогли объективно оценить создавшееся положение – враги Маркелла виделись им их собственными врагами, а он – невинным страдальцем за веру. Частично они были правы, но их требования вернуть Маркеллу кафедру оказались для консервативного Востока серьезным соблазном. Отныне все, кто поддерживал Маркелла, стали для антиникейцев еретиками. Маркелл направился за правдой в Рим и был ласково встречен папой, который на своем Соборе оправдал его, потребовав от восточных архипастырей отменить неправомерные, по мнению понтифика, приговоры. Конечно, это еще более раскалило страсти и разъединило стороны.
Наконец, третьим и наиболее серьезным противником для евсевиан стал св. Афанасий Великий. Устранить св. Афанасия с Александрийской кафедры, лишить его поддержки египетских епископов, унизить в глазах царя было основной задачей Евсевия. Через некоторое время она оказалась выполненной – вследствие упорных наговоров царю св. Афанасий казался единственной персоной, из-за которой стал невозможным мир в Церкви. По приказу святого императора св. Афанасий был сослан, а его кафедру занял ставленник Евсевия.
С большим трудом, используя все допустимые и недопустимые в борьбе способы, Евсевий добился своей цели и, наконец, смог вздохнуть с облегчением – все наиболее последовательные и сознательные защитники Никеи были лишены своих кафедр, сосланы или анафематствованы. Политически он одержал полную победу. А после смерти св. Константина Евсевий предвкушал сладость победы уже и на богословском поприще. Заметим, что успехи евсевиан пришлись на время повсеместного возвращения ранее сосланных последователей Ария из ссылок, и новый епископ Константинополя мог с полным правом считать, что вскоре все епархии Востока будут заняты его ставленниками. В этом случае, по его мнению, никейские «новшества» будут окончательно забыты, и мир воцарится в Церкви. По-видимому, сам Евсевий очень хотел выступить в качестве того мессии, который останется в памяти всех христиан как спаситель истинного Православия.
Но тут на его пути неожиданно встали августы Константин и Констант, искренние сторонники Никеи и покровители св. Афанасия. И уже вскоре диспозиция меняется кардинально: никейцев повсеместно амнистировали и возвращали на ранее занимаемые ими кафедры. Возможно, решаясь вернуть обе партии в первоначальное положение, императоры надеялись на их мирное сосуществование, но это была иллюзия. Возвращаясь на свои кафедры, некоторые ссыльные епископы – никейцы, непримиримые в своем ригоризме, ранее оболганные сторонниками Евсевия, разрушали алтари, освященные арианами, и бросали собакам гостии (!). Смута, как это обыкновенно бывает, сопровождалась убийствами и пожарами со стороны рядовых верующих277.
Кроме того, помимо догматических разногласий, остро встал вопрос о каноничности занятия кафедр теми и другими епископами. Лишившиеся кафедр архиереи (и ранее, и после восстановления в правах своих предшественников) требовали созыва Соборов для определения своей судьбы и защиты собственного доброго имени и епископского статуса. Те, кто занял после них вакантные кафедры, также не желали уступать их возвратившимся архипастырям. Один Поместный собор сталкивался с другим, обиженные лица апеллировали к императорам, а в некоторых случаях и к папе, как главе одной из самых авторитетных кафедр. Это тем более казалось естественным, что среди этих беспорядков только Запад во главе с Римским епископом хранил спокойствие и твердо стоял на никейских позициях.
Так, изгнанный со своей кафедры после смерти равноапостольного Константина св. Афанасий Великий прибыл в Рим к папе Юлию I (337—352), созвавшему Собор для рассмотрения апелляции святителя. Апостолик хотел выглядеть истинным судьей, и потому на Собор были приглашены евсевиане, но те отказались от участия и, более того, даже задержали папских легатов. «Восточные» срочно составили собственный «соборик» в Антиохии, на котором подготовили ответ на папское послание. Сам факт того, что папа удовлетворил ходатайство св. Афанасия о пересмотре его дела, писали они, уже предвосхищал результат суда. Юлия обвиняли в том, что он вносит раскол в Церковь, и поставили его перед выбором: «Вступай в общение или с нами, или с Афанасием и Маркеллом»278.
Папа мешкал, не спеша с ответными шагами – в это время как раз решался вопрос о том, кому (Констанцию или Константу) отойдут итальянские владения. Уже тогда было понятно, что Констанций не осмелится идти против мнения покойного отца. И это предопределяло судьбу св. Афанасия. После того, как по смерти старшего брата Запад принял под свою власть Констант, папа, наконец, решился.
Поздней осенью или зимой 340 г. он открыл в Риме Собор из 50 епископов, включая св. Афанасия и других архипастырей, изгнанных из Фракии, Сирии, Малой Азии и Палестины. Святителю не составило большого труда оправдаться от возводимых на него обвинений. Да никто из присутствовавших лиц и не скрывал своего сочувствия ему. Все на Соборе дышало духом Никеи, сами заседания происходили в храме, настоятелем которого являлся пресвитер Вит (Витон) – папский легат в Никее. Тут же присутствовал второй легат на Никейском Соборе, пресвитер Викентий.
По окончании Собора папа Юлий направил евсевианам ответное письмо на их антиохийское послание. В нем понтифик не признавал никакой вины за собой по поводу самостоятельного созыва Собора, поскольку, во-первых, писал он, об этом его просили сами «восточные» делегаты; во-вторых, в связи с тем, что к нему поступили многочисленные жалобы от епископов, считавших себя незаконно отлученными от кафедр. На заявление евсевиан, будто пересмотр соборных решений других церквей Римом – дело неслыханное, Юлий напомнил, как Тирский собор 335 г. ввел в церковное общение лишенного иерейского сана Ария. Почему Рим не вправе принять на себя аналогичные полномочия, если Восток считал такие апелляции возможными? Наконец, Юлий напрямую указал, что нападки «восточных» на св. Афанасия имеют, по его мнению, своей целью обелить ариан279.
Это был неприятный и «зажигательный» ответ – едва ли на Востоке оставалось много епископов, открыто и сознательно разделявших учение Ария, и им было очень неприятно, что в Риме их отождествляют с уже проклятыми Церковью еретиками. Более того, жесткая позиция Запада заставила евсевиан пойти на некоторые уступки и попытаться опять же соборно найти некоторое компромиссное решение по вопросам вероисповедания. Поскольку Антиохия уже давно считалась ставкой императора Констанция, сюда систематически, начиная с 339 г., съезжались группы архиереев со всего Востока для обсуждения злободневных тем. Евсевианам очень хотелось заполучить Констанция на свой Собор, наглядно продемонстрировав Риму, что на их стороне находится сын св. Константина, как и на стороне папы другой его сын – Констант. Очевидно, наличие в своих рядах такого союзника, как император, много добавляло уверенности сторонам. Поводом для приглашения Констанция в Антиохию было завершение постройки и освящение главного храма города, начатого еще при жизни его отца.
Летом 341 г., когда сам царь пожаловал в Антиохию, Собор получился наиболее представительным – сюда съехалось 97 епископов. Восточный император, так же как и его младший брат, не хотел раскола и желал восстановить церковный мир. Поэтому Констанций и Евсевий договорились заранее, что целью заседаний является не фронда с «западными», а тщательное изложение своей догматической позиции. «Восточные» рассчитывали если и не переубедить Запад в «ошибочности» его оценки Никейского Символа, то, по крайней мере, прекратить обвинения в свой адрес в арианстве, для подавляющего большинства отцов Собора уже пережитом и невостребованном.
С именем Антиохийского собора 341 г. связана серия из пяти догматических формул, противопоставленных Востоком Западу, и канонов, впоследствии рецепированных Церковью. Ошибочно называть этот Собор арианским или схизматическим – напротив, некоторые Римские папы называли его «Собором святых», да и сам папа Юлий в своем письме к собравшимся епископам обращается к ним как сослуживцам, именует их «возлюбленными братьями», приглашает к себе на Собор в качестве равноправных членов. Отметим также, что среди участников Собора были такие столпы Православия, как св. Иаков Низибийский, Павел Неокесарийский, Дианий Кесарийский и другие280. В целом, Антиохийский собор многое сделал для того, чтобы выразить невнятное для Востока «омоусиос» в осторожных и менее категоричных терминах восточной традиции281.
Основной из пяти формул являлась вторая, в которой Сын признается «неотличимым образом сущности Отца», то есть тем же «Единосущным», хотя и в других выражениях282. Эта формула была отправлена Констанцием Константу в Галлию, где тот в это время вел войну с франками283. К сожалению, в отношении св. Афанасия Собор был непреклонен – его опять низложили (вернее, подтвердили прежние приговоры), а на Александрийскую кафедру поставили епископа Григория Каппадокийца (341—344; 346). Однако – важная деталь – св. Афанасий был осужден не за неправославие в евсевианском его понимании, а за нарушения канонической дисциплины, которые, по мнению отцов Собора, имели место при первоначальном поставлении его на Александрийскую кафедру.
Ситуация в церковном мире сложилась удивительная. Ортодоксальное арианство уже утратило свою актуальность, и в значительной степени страсти сторон разжигали некоторые не вполне удачные ригоризмы со стороны церковных партий как на Западе, так и на Востоке. Для Востока это был период «чревоношения православной троической доктрины», для Запада – увлечения и самолюбования своим твердым следованием Никее284.
В отличие от «западных» антиникейская партия была далеко не однородной – Символ Веры расколол Церковь на несколько партий, число которых варьировалось в разные периоды времени. Первой была партия никейцев во главе со св. Афанасием и Римским папой Юлием. Влиятельная на Западе, она имела некоторое число сторонников на Востоке, особенно в Египте, где у св. Афанасия были крепкие позиции и друзья. Вторая партия состояла из консервативных восточных епископов, коих смущал термин «Единосущный», употребления которого, по их мнению, следовало избегать. Таковых архиереев, не принявших Никеи, но и не желавших предлагать что-либо в качестве альтернативной замены Символа, на Востоке было большинство. Для соединения с ними и одновременно для того, чтобы откреститься от упреков в арианстве, евсевиане прибегли к довольно удачной богословской уловке, заменив никейский термин «Единосущный» термином «подобносущий», за что получили название омиусиане. Они признавали практически все тезисы никейцев, единственно не соглашаясь с отождествлением сущности Отца и Сына. Среди них было много знаменитых богословов и столпов веры, о которых сам св. Афанасий говорил как о своих собратьях. К этой партии, которую вскоре возглавили епископы Василий Анкирский и Георгий Лаодикийский, вскоре принадлежало уже подавляющее большинство «восточных».
Наконец, третьей крупной партией были так называемые аномиане во главе с Аэцием, упорно и категорично отрицавшим какое-либо тождество Сына и Отца и утверждавшим, что Они во всем не подобны. Намного опережая свое время и задолго до некоторых вождей протестантизма, Аэций открыто отрицал церковные таинства и вообще высмеивал все то, что хоть отдаленно походило на аскетизм285.
Существовала еще одна «полупартия» во главе с епископами Акакием Кесарийским (вождем будущей партии омиев, или акакиан) и Валентом, склоняющимися к ортодоксальному арианству. Близкие по своим воззрениям к Аэцию, они легко отказывались от него, когда того требовали, по их мнению, обстоятельства времени и места, и вновь возвращались к своим союзникам, если ничто им не угрожало. К сожалению, личное влияние Валента и Акакия на императора Констанция имело тяжелые последствия для судьбы богословского спора286.
Между тем при всех внешних предпосылках для компромиссного церковного мира его достижение казалось маловероятным. Ожесточившись в долгих диспутах и взаимных проклятиях, главы противоборствующих партий искали непременно вселенского признания только своей формулировки в жесткой авторской редакции, игнорируя любые попытки для примирения. Споры противников привели к тому, что многие миряне, по словам современников, удерживались от крещения, видя такие жестокие нестроения в Церкви287.
В этом отношении св. Афанасий Великий являлся своеобразным заложником ситуации. Если «восточные» терялись в предположениях, каким образом обвинить «западных», не раздражая богословскими тонкостями и своей догматической категоричностью императора, то легко было указать на св. Афанасия как лицо, отверженное Востоком, но принятое Западом. Для них это был, так сказать, классический пример игнорирования Римом соборной формы, так любимой равноапостольным Константином и Констанцием. Поэтому все, что говорил о вере св. Афанасий, уже изначально не принималось при дворе и среди восточных архиереев, как слова еретика и даже ересиарха. Напротив, понтифик автоматически отрицал восточные решения и догматику, поскольку их авторы посягали на имя и статус св. Афанасия, правоту которого подтвердил сам понтифик и Римский собор.
Это была настоящая богословская «каша», где все переплеталось в нюансах и взаимном подозрении, помноженном на искреннюю ревность о чистоте Православия. «Вся Церковь, – писал известный историк, – за исключением великих мужей в обществе православных и глав арианства, все прочее представляло подвижный, текучий элемент. Партии сближались, разъединялись, опять образовывались новые. Все представляло какой-то бурно стремящийся поток. Взгляды партий на своих друзей и недругов не были устойчивы. Кто считался другом своим для одних в известной партии, тот же считался недругом, волком, у других в той же партии»288.
Положение обоих императоров в отношении к церковному спору глубоко различалось: если Констант на Западе имел стабильную поддержку Рима и практически всех «западных» епископов, то Констанций видел лишь множество активно и непримиримо борющихся между собой партий, нарушавших и церковный, и гражданский мир на Востоке. Над ними возвышалась фигура св. Афанасия – казалось, убери его, и партии непременно помирятся между собой и обретут столь желанное единоверие, но это было не так-то просто. Святитель скрывался от шпионов Констанция и Евсевия, а его имя страдальца за веру сохраняло за ним высочайший авторитет.
В условиях военного времени, когда войны с персами и варварами постоянно занимали царя, ситуация в Церкви оставляла мало шансов на оптимизм. Но и в таких нелегких для себя условиях Констанций первоначально удерживался от административного вмешательства в богословский спор. Все же в некоторый момент обстоятельства заставили действовать его гораздо жестче и решительнее.
После смерти Евсевия Кесарийского, занимавшего Константинопольскую кафедру с 339 по 341 г., архиепископом новой столицы вновь стал твердый никеец св. Павел I (337—339, 341—342, 346—350), первый раз взошедший на кафедру в 337 г. и изгнанный в 339 г., так как на одном из Соборов каноничность его избрания на кафедру была поставлена под сомнение. Сторонники и противники нового патриарха устроили настоящее побоище, жертвами которого стали многие верующие. Узнав об этом, император Констанций, находившийся на тот момент в Антиохии, послал Гермогена, своего чиновника во Фракии, в Константинополь для умиротворения города и изгнания св. Павла. Но по прибытии царского вельможи в столицу там разразился настоящий мятеж, Гермоген погиб, а его труп толпа волокла по улицам. Это был прямой вызов василевсу, и он принял его.
Само известие о приближении Констанция к городу повергло население в ужас. Плача и стеная, жители города встретили своего царя, вымаливая прощение. Вопреки паническим предположениям царь простил мятежников, назначив единственное наказание в виде уменьшения хлебного довольствия Константинополя; но ни один волос не упал с головы бунтовщиков. Впрочем, для разрешения сложившейся ситуации царь все же велел вновь отстранить от кафедры св. Павла, направив его в Сингару Месопотамскую, оттуда в Емезу и, наконец, в Кукуз, то есть фактически сослав.
Водворив тишину в Константинополе, император вернулся в Антиохию для организации похода на персов. Там в марте 342 г. его застало прошение Константа о восстановлении на кафедрах св. Афанасия и св. Павла, но Констанций не осмелился отменить решения Соборов, признавших неканоничным их назначение епископами Александрии и Константинополя. Тогда совместно с Римским папой Юлием и св. Осием Кордубским младший царственный брат просил Констанция созвать в Сердике (или Сардике, ныне Софии) новое вселенское собрание епископов. Там в 343 г. (по некоторым данным, в 342 г.) и произошел этот знаменательный Собор, не только не обеспечивший церковный мир, но и положивший начало еще более глубокого раскола289.
После череды разрозненных, «односторонних» собраний Сардикский мог с полным правом претендовать на роль Вселенского. По мнению царей, он должен был выступить арбитром над Тирским, Римским и Антиохийским соборами. Сюда съехалось более 170 епископов, 90 из которых были «западными» и твердо придерживались «Единосущия». Однако 80 архипастырей приехало с Востока, и они стояли на признании единственно верной 2‑й Антиохийской формулы. Объективно, догматические разногласия между епископами не являлись непреодолимыми, но, к сожалению, мирному разрешению ситуации очень помешали излишние амбиции Рима и некоторых «западных» епископов.
Поскольку отцы Антиохийского собора 341 г. прямо не нападали на Никейский Символ, перед началом Сардикского собора Запад наполнился слухами, будто «восточные меняют веру», то есть отказываются от своей проарианской, как казалось «западным», позиции. Но, как уже говорилось, антиохийские отцы не были арианами и демонстрировали лишь свою озабоченность (хотя и ошибочную) тем, что в Никее было введено новшество, по их мнению, в пику церковному Преданию, грубо нарушающее его цельность. Они не собирались оправдываться в собственной вере и ждали объективного и равного рассмотрения взволновавшего их «Единосущия»290. Сказать, что они меняют веру, значит глубоко оскорбить их, нанести незабываемую обиду.
Возможно, сам того не желая, Рим пошел именно этим пагубным путем. Поскольку Римский собор 340 г. в глазах Запада и самого понтифика существенно возвысил Римского папу, у Юлия, видимо, сложилось превратное впечатление, будто Собор в Сердике должен лишь констатировать факт соглашения с его определениями. Рим принимал «восточных» собратьев, но с ощущением судьи, вынесшего оправдательный приговор подсудимому, или амнистировавшего его. Ни о каком перерешении дел ранее сосланных св. Афанасия и остальных епископов Юлий не хотел и слышать. Он упорно воображал, будто все «восточные» архиереи, явившиеся на Собор, суть «Евсеевы приверженцы» (хотя самого Евсевия к тому времени уже не было в живых), и что они отданы на суд «западным»291.
Некорректность была продемонстрирована уже на первых заседаниях. В частности, без всякого согласования с «восточными» «западные» включили в качестве равноправных участников св. Афанасия и Маркелла, «забыв», что для «восточных» св. Афанасий не являлся епископом, а Маркелл был анафематствован.
Конечно, это кардинально меняло идеологию Собора. Если «восточные» епископы были приглашены для того, чтобы выработать некую «соборную конституцию», то первейшей задачей являлась вселенская ревизия спорных дел, к которым относились дела св. Афанасия Великого и Маркелла. Поэтому хотя бы ради проформы оба упомянутых лица не должны были появляться на заседаниях вплоть до их оправдания. Не так считали «западные». Они полагали возможным (поскольку такой прецедент уже был создан в Никее) ревизовать решение любого частного Собора – в принципе мысль верная, но «почему-то» направленная односторонне только против «восточных». Те были глубоко разочарованы тем, что уже изначально св. Осий Кордубский и Протоген Сардикский захватили ведение Собора в свои руки, считая себя совместно с «западными» епископами неким уполномоченным вселенским непогрешимым разумом292.
Следовательно, делали вывод епископы Востока, дело заключалось уже не в существе догматического спора, а в том, кто первым встанет у руля соборной власти. Почему ее узурпировали «западные»? На этот естественный вопрос никакого ответа у Рима не нашлось. Но «восточные» в таком случае также могли при желании сказать, что если бы Собор возглавил кто-то из их среды, то они были бы вправе переоценить результаты Римского собора. Если Восток беспрекословно принял решения «западных» Соборов об анафематствовании Новата, Савелия и Валентина, то почему решения «восточных» Соборов отвергаются столь бесцеремонно? Таким образом, как они справедливо считали, грубо и цинично был нарушен принцип равенства епископов.
Ощутив на себе жесткую римскую авторитарность, столь непривычную (пока еще) для Востока, епископы из провинций, находившихся под властью Констанция, удалились в полном составе в расположенный неподалеку город Филиппополь, где организовали свой собственный Собор, на котором низложили девять лиц с римской стороны, включая папу Юлия, «родоначальника всякого зла». Оттуда они обратились с посланием ко всей Церкви, мотивируя свое решение тем, что папа Юлий «первый, вопреки церковным правилам, отверз двери общения осужденным и преступным и имел дерзость поддерживать Афанасия».
Самого св. Афанасия «восточные» опять осудили, но и на этот раз не за веру, а за те жестокости, которые, по их мнению, якобы имели место при водворении им своей власти в Египте. Понятно, что теперь для Востока св. Афанасий стал настоящим камнем преткновения – любое его оправдание помимо них выглядело бы прямым умалением их епископского сана и статуса соборов, осудивших его.
Наконец, для доказательства своей православности «филиппопольцы» сочли нужным опубликовать 4‑ю Антиохийскую формулу в пику тому оросу, который был принят «западными» в Сардике. К сожалению, обе богословские новации оказались по своему содержанию крайне неудачными. В частности, 4‑я формула гораздо в меньшей степени соотносилась с Никейским Символом Веры, чем 2‑я Антиохийская293.
Оставшись одни, отцы Сардикского собора самостоятельно пересмотрели дела осужденных на Востоке епископов, всех оправдали и вдобавок осудили девять «восточных» архиереев, включая Стефана Антиохийского, Акакия Кесарийского, Георгия Лаодикийского, Валента Мурсийского и других вождей противных партий. Очевидно, что Георгий Лаодикийский объективно никак не мог быть отнесен к врагам никейцев и пал жертвой взаимных амбиций и недоразумений. В ходе обсуждения вопроса о вере св. Афанасий Великий безрезультатно пытался убедить остальных участников Сардикского собора не делать никаких новых вероопределений. Но недалекие «западные» архиереи не послушались его. Им казалось, что Никейский символ потому не принимается повсеместно, что слишком краток, и что первым рецептом в этом отношении является новое, расширительное толкование Символа Веры.
К сожалению, лекарство оказалось горше болезни. Новый орос, как отмечалось выше, составленный чуть ли не в пику «восточным», был столь нелеп и беспомощен с богословской точки зрения, что только подкреплял «восточных» в их самых худших подозрениях о маркеллианстве (и, следовательно, савеллианстве) Рима. Сардикское определение было столь же далеко от Никейской буквы и духа, как и 4‑я Антиохийская формула294. Стороны вновь зашли в тупик, раскол принял уже зловещие, совершенно непримиримые черты.
В довершение всех бед «западные» инициировали принятие на Соборе нескольких канонов, начисто перечеркнувших надежды «восточных» на равное рассмотрение спорных вопросов в будущем. В частности, 3‑й канон Сардикского собора гласит, что любой смещенный со своего престола епископ, считающий свое низвержение из сана несправедливым, вправе апеллировать из уважения к памяти апостола Петра к Римскому папе Юлию, а тот вправе либо ратифицировать приговор, либо собрать новый Собор для решения этого вопроса. Конечно, это – прямое указание на опротестование св. Афанасием Великим у папы решений Тирского и Антиохийского соборов и попытка придать этому прецеденту значение вселенского и общеобязательного правила.
В 4‑м каноне говорится: «Если какой-либо епископ будет низложен судом находящихся в соседстве епископов (вновь откровенный намек на дело св. Афанасия. – А. В.) и объявит, что он предоставляет себе право оправдания, то на его кафедру не определять другого прежде, чем Римский епископ рассмотрит дело и произнесет о нем свое определение». Очевидно, что это правило также целиком и полностью было обусловлено желанием обеспечить права св. Афанасия Великого на Александрийскую кафедру. Но и оно, возведенное из рядового прецедента в общую норму, перекраивало все представления современников о строении Церкви и равенстве епископов.
Помимо этого, согласно 5‑му канону, вакантный епископский пост не мог быть занят без согласования с Римом, а папа в случае апелляции к нему вправе возобновить разбирательство с участием епископов ближайших провинций или прислать своих делегатов с полномочиями рассматривать этот вопрос с участием соседних архипастырей. Понятно, что столь новационные нормы совершенно исключали возможность для всех остальных архипастырей и даже Поместных церквей вынести собственное суждение по каким-либо вопросам помимо Рима.
После окончания параллельных Соборов епископы разъехались по своим епархиям, и волна раскола залила провинции Римской империи. В Андрианополе, куда вернулся солидарный с Римом епископ Лукий, вспыхнул мятеж, и император, дабы прекратить его, казнил десятерых организаторов, а самого епископа направил в ссылку. Аналогичная картина развернулась и в Анкире. В Антиохию на Пасху прибыли два епископа – Винцент Капуанский и Евфрат Кельнский с просьбой к Констанцию и Антиохийскому архиерею Стефану (341—345) о реабилитации ранее изгнанных епископов. Но Стефан, ненавидевший «западных», решил устроить им коварную и совершенно возмутительную провокацию – скомпрометировать Винцента и Евфрата ссылкой на их постыдную связь с одной подговоренной куртизанкой. К счастью, интрига не удалась, и сам Стефан пал жертвой собственной низости. Поступок Стефана многое изменил в симпатиях Констанция. Возмущенный его действиями, он потребовал лишения интригана священнического сана и на его место назначил епископом Леонтия (345—357), который вплоть до своей смерти вел примиряющую политику.
Констанций приказал прекратить гонения в Александрии на сторонников св. Афанасия Великого и сам обратился с письмом к святителю, приглашая того вернуться на кафедру. Вначале св. Афанасий несколько недоверчиво отнесся к этому посланию, но, наконец, согласился и прибыл в свой город, где его радостно встретили 21 октября 346 г. верные поклонники. Почти все египетские епископы собрались, чтобы приветствовать его, а некоторые вышли встречать за 100 км от города. Был возвращен из ссылки также Павел Константинопольский и Маркелл Анкирский; правда, последнему не удалось вернуть кафедру из-за народных волнений. Вожди ариан Валент и Урсакий, чувствуя перемену в настроениях императора, поспешили принести раскаяние. На короткое время в Церкви настал «дивный и глубокий мир»295.
Так в целом благодаря усилиям царственных братьев церковные партии еще удавалось сдерживать. Ни Констант, ни Констанций не желали гражданской войны, к которой все шло как следствие положения дел в Церкви, и проявляли готовность идти на взаимный компромисс.
Вслед за этим восточный василевс назначил новый Собор в Антиохии, состоявшийся в 344 г. На нем была составлена очередная формула Символа Веры, названная 5‑й Антиохийской или «многостраничным изложением». Редакция этого Символа, направленного вроде бы против Сардикского собора, начинается евсевианским исповеданием веры, но выходит за его границы. На упреки Запада, будто «восточные» учат о трех отдельных богах, авторы формулы отвечают, что действительно признают Отца, Сына и Святого Духа как трех самостоятельно существующих Лиц, но не отлучают Сына от Отца. Они исповедуют единое достоинство Бога и объявляют, согласно со св. Афанасием, Сына во всем подобным Отцу296.
С этим исповеданием «восточные» направили на Запад своих епископов-послов, и те не были отвергнуты. Это стало хорошим знаком для начала воссоединения церквей, но, к сожалению, еще далеко не конечной точкой в затянувшейся вражде. Минуты церковного перемирия сменялись часами откровенного противостояния, на которые остро откликалась государственная политика. Когда в 345 г. Констант и Констанций традиционно «переизбрались» консулами, Констанций не был принят в этом статусе на Западе – очевидно, здесь не обошлось без влияния церковных кругов Рима297. Состояние едва удерживаемого мира между Востоком и Западом продолжалось до 350 г., когда Констант погиб вследствие заговора Магненция.
Став единодержавным императором, Констанций вновь попытался наладить отношения двух противоборствующих сторон, но над ним довлели многие обстоятельства. Объективно он, находясь в состоянии войны с персами, крайне нуждался в мире именно на Востоке. А это было возможно только вследствие церковного мира – епископы к этому времени уже имели большую силу и влияние на гражданские круги в своих епархиях. Субъективно для него крайне тягостны были воспоминания о том унижении, которое он пережил от «западных» епископов по делам св. Афанасия. Кроме того, императора настолько раздражали бесконечные церковные споры и нестроения, повсеместно сопровождавшиеся мятежами, что он окончательно решил взять ситуацию в свои руки. Конечно, хотелось применить испытанное средство – Вселенский Собор, но он был невозможен в силу крайнего упорства в своем «староникействе» Запада и тех самодарованных прерогатив, которыми папа так оскорбил «восточных» епископов.
Желая максимально быстро примирить противоборствующие партии, царь принял на себя всю полноту власти в части церковного администрирования и даже признал себя «episcopus episcoporum» («епископ епископов»), а свой закон – высшим каноном; другой действенной альтернативы просто не нашлось. Но для мира и этого было мало: помимо обеспечения единства церковного управления, царю необходимо было опереться на такую богословскую позицию, которая могла бы максимально удовлетворить все стороны.
Первоначально император возлагал надежды на повсеместно принятое Востоком Антиохийское исповедание, которое его уговаривали чуть-чуть «подправить». К несчастью, авторами этих «поправок» стали старые ученики самого Ария – епископы Валент Мурзийский и Урзаций Сингидунский, хитростью снискавшие расположение царя. При их непосредственном участии в 351 г. была составлена 1‑я Сирмийская формула, где верх взяли старые арианские воззрения298. Но, к сожалению, эти хитрые и опытные интриганы смогли убедить царя, будто именно это данное вероопределение способно снискать расположение всех здравомыслящих епископов. Введенный в заблуждение василевс решил собрать очередной собор, способный придать Сирмийской формуле вселенское значение.
Казалось бы, Валент и Урзаций без труда доведут дело до полной победы. В 352 г. скончался давний покровитель св. Афанасия Римский папа Юлий, а его преемник папа Либерий (352—366), более уступчивый и мягкий по натуре, пытался найти некий компромисс для примирения Востока и Запада. Однако на Соборе 353 г. в Арле попытки добиться повсеместного признания Сирмийской формулы не увенчались успехом. Да, папские легаты сдались под давлением «восточных» и заочно осудили св. Афанасия как политического преступника, якобы участвовавшего в заговоре Магненция (очевидная ложь), но папа Либерий принципиально отказался признать соборное определение.
Но и на этот раз царь остался верен собственным убеждениям. Даже в качестве единовластного главы Церкви Констанций не собирался игнорировать соборную форму обсуждения вероисповедальных вопросов, при условии, конечно, совпадения соборного мнения с его собственным. После получения протеста папы Либерия на решения Арльского собора Констанций предпринял еще одну попытку примирить Запад и Восток. В 355 г. он назначил большой Собор в Медиолане (Милане), куда съехалось свыше 300 епископов299. Констанцию очень хотелось решить два принципиальных вопроса – установить единую формулу Символа и окончательно устранить св. Афанасия со своего пути. Святитель в глазах императора стал уже «притчей во языцех», и он искренне полагал, будто только личность и деятельность этого непримиримого никейца препятствуют воссоединению противников. Конечно, уверенность василевса в негативной роли св. Афанасия усиленно поддерживала арианская партия, состоящая при дворе.
Увы, и Медиоланский собор не принес утешения. Уже его начало сопровождалось скандалами и наглядно продемонстрировало стремление епископа Валента навязать всем присутствовавшим свою волю. Заседания пришлось переносить во дворец императора, где тот тайно присутствовал сам, скрываясь от глаз епископов за занавесом. Когда «западные» епископы в очередной раз попытались отстоять св. Афанасия, царь вышел из тайной комнаты и заявил: «Я сам обвиняю Афанасия. Ради меня вы должны верить Валенту». Собор покорился и подписал приговор св. Афанасию. Папе Либерию был направлен ультиматум и дано 3 дня на размышление; понтифик не выдержал и также подписал соборный орос. Этот период времени отличался от всех предыдущих особым накалом страстей и жестокостью по отношению ко всем, кто не был согласен с позицией императора и противился Валенту. Таким образом, благодаря принятым мерам внешне единство Церкви было восстановлено, Валент и Урзаций торжествовали, но это было ликование на час.
Как уже указывалось, «восточная» партия была далеко не однородна. Когда после 356 г. Валент попытался царским декретом установить новое вероопределение, его содержание испугало даже крайних «омиусиан» – настолько веяло от него духом Ария. В результате «восточная» партия стала быстро распадаться на различные группировки300.
Последней каплей для наиболее упорствующих антиникейцев стало вероопределение откровенных ариан Евдоксия Германикийского и Аэция, поставленных в 357 г. в епископы усилиями арианской партии при дворе императора. Эти два мужа без всякого стеснения надсмехались над Сыном, кощунственно вышучивая Его Божество. Совместно с крайними арианами они в 358 г. собрали очередной Собор в Антиохии, где провозгласили свою формулу (2‑ю Сирмийскую) вероисповедания, в которой Сыну вообще не оказалось места301.
Примечательно, что отношение самого императора Констанция ко 2‑й Сирмийской формуле было крайне негативным. Можно сказать категорично, что он сам не принимал никакого участия в ее составлении. А после того, как узнал об отрицательной позиции большинства епископов, его доверие к авторам формулы было окончательно подорванным302.
Немедленно епископ Георгий Лаодикийский обратился с окружным посланием ко всем церквам, призывая спасти Православие от безбожников. Его горячо поддержал Василий, епископ Анкирский. Используя удачный повод – освящение нового храма в Анкире – Василий созвал 12 апреля 358 г. Собор из 12 епископов, где была предложена совершенно новая формула (3‑я Сирмийская формула), в которой Сын признавался подобным Отцу по сущности – это был конец неопределенности и начало догматического уточнения «Единосущности»303.
Анкирский собор представляет собой результат победы лучшей части епископата для признания Никейского Символа. Самим фактом своего появления новое определение «подобный Отцу» уничтожило целый ряд недоразумений, мешавших Востоку принять орос Никейского Вселенского Собора. Анкирские отцы напрочь уничтожили подозрения о введении в Никее термина, не содержащегося в Писании и незнакомого народу304.
Собор направил своих посланцев к императору, который с радостью принял его орос. Желая завершить излишне затянувшийся спор, раздирающий Церковь, Констанций предложил новое вероопределение на «епископский плебисцит» и даже отозвал свое согласие на назначение Евдоксия на Антиохийскую кафедру. Составлена была новая формула, в основе которой лежало Антиохийское определение 341 г. с дополнением «подобный по сущности», и царь потребовал от епископата либо подписать данную редакцию, либо удалиться с кафедр. Папа Либерий и св. Осия Кордуский подписались под ним, а более 70 упорствующих арианских епископов император сослал. Начались жалобы другой стороны на самоуправство новых фаворитов, и императору ничего не оставалось делать, как созывать новый Вселенский Собор в 359 г. в Никомидии.
Только император издал указ на этот счет, как в Никомидии произошло очень мощное землетрясение. По свидетельству современников, разрушение было страшным, погиб почти весь город. После ударов стихии некоторые граждане и дома еще имели шанс уцелеть, но огонь, свирепствовавший повсюду в течение 5 дней, истребил все, что могло гореть. Языческие жрецы тут же использовали этот повод для того, чтобы упрекнуть христиан в незаконном служении новому Богу взамен «старых», отеческих305.
Начались поиски нового места для съезда епископов; предложили созвать Собор в Никее, но упорствующие ариане не желали даже слышать столь неприятное для них слово. И тут у кого-то возникла новая и совершенно безумная идея созвать «западных» и «восточных» епископов на один Собор, но так, чтобы они заседали раздельно. К несчастью, император поддержал ее, теша себя надеждой на то, что таким способом легче будет достигнуть согласия. Восток направил своих представителей в Селевкию Исаврийскую, а Запад – в Ариминиум (современный город Римини в Италии).
Царю уже надоело ждать, когда два лагеря сформулируют что-либо приемлемое для Церкви, поэтому он согласился с предложением заранее подготовить им некое новое определение. Таковым стала разработанная Марком Аретузским так называемая 4‑я Сирмийская формула (или «Датированная вера»), утвержденная 22 мая 359 г. императором и отправленная в Ариминиум, где уже собралось около 400 епископов. Можно категорично утверждать, что совещание, на котором писалась эта формула, проходило непосредственно в присутствии императора. Более того, в преамбуле этой формулы прямо говорится: «Изложена Кафолическая вера в присутствии государя нашего благочестивейшего и победоносного василевса Констанция Августа, вечно, досточтимого…» и далее по тексту.
Эта формула обладала многими достоинствами: она признала «единого единородного Сына Божия прежде всех век, прежде всякого умопредставляемого времени, прежде всякой умопостигаемой сущности, бесстрастного, рожденного от Бога – Сына, Которым совершились веки и все пришло в бытие, рожденного же единородным от единственного Отца, Бога от Бога, подобного родившего Его Отцу по Писаниям Сына, рождения Которого никто не знает, разве только родивший Его Отец». Однако в ней, как и во 2‑й Сирмийской формуле, содержится категорический запрет на использование понятия «сущность», а также совершено отсутствует учение о единстве Бога Сына и Бога Отца.
Разумеется, Рим не удовлетворился такими половинчатыми, по его мнению, формулами. Он совершенно не хотел замечать того, что в ситуации, когда спорящие стороны старались уже максимально отойти от спорных аспектов и сформулировать хоть какое-то единомыслие, большего требовать от авторов 4‑й Сирмийской формулы было едва ли возможно306.
Но все же отдельные претензии «западных» по редакции определения еще можно было бы смягчить, однако в дело вновь вмешались епископы Урзаций и Валент, доведшие спор до очередной крайности. Насильно заставив часть «западных» епископов подписаться под некоторыми сомнительными терминами, а других – обманув, вожди ариан «свернули» Собор; архиереи разъехались по домам307.
Интриганам очень способствовало то обстоятельство, что, во-первых, император уехал на Дунай для привлечения готов в качестве союзников для войны с персами; а, во-вторых, подавляющее большинство епископов, не желая зависеть от местных властей, отказались от казенного содержания. Время шло, находившийся за сотни верст от места проведения Собора и ничего не ведавший об условиях содержания его участников царь не разрешал архипастырям покидать Аринимиум, а голод и отсутствие каких-либо средств делали свое дело. Вконец обессиленные епископы подписали подготовленный Урзацием и Валентом орос, представлявший собой лишь слегка улучшенную редакцию 4‑й Сирмийской формулы. Префект гвардии Тавр – безучастный свидетель, имевший от императора указание поддерживать порядок и обеспечить единодушие всех участников Собора, не вторгался в содержательную часть диспутов308.
Но, несмотря на голод и лишения, небольшая группа епископов стоически не желала подписываться под арианскими формулами. Тогда Валент пошел на новую хитрость. Он категорически отказался от любых обвинений в свой адрес в арианстве и даже анафематствовал вождей старого арианства. После семимесячного заседания Собор наконец был закрыт, и Валент с Урзацием сообщили об этом императору309.
Одновременно с этим в Селевкии состоялся Собор «восточных». Он начался 27 сентября 359 г. и продолжался, в отличие от своего западного собрата, всего несколько дней. Хотя большинство епископов (около 100 из 160 присутствовавших на Соборе) не являлись сторонниками ариан, главенствовал Акакий Кесарийский, на первом же заседании предложивший вообще отменить Никейский Символ. Но остальные отцы категорически возражали против этого. Полученная от императора «Датированная вера» с осуждением взглядов Акакия была ушатом холодной воды для него и его сторонников. В результате Акакий покинул Собор. Оставшиеся участники выполнили повеление царя, но когда их посольство явилось во дворец, там уже пребывали посланники от Акакия с жалобами на противоправные якобы действия остальных епископов. Ситуацию окончательно запутали послы от Ариминийского собора, заявившие о своем неприятии определений Селевкийского собора; фактически, не желая того, они поддержали Акакия.
Вновь наступил черед действовать императору Констанцию. Он самовластно собрал представителей от обоих Соборов (а что ему оставалось делать в этой ситуации?!) и в ходе переговоров, длившихся до поздней ночи, добился от них принятия одобренной Ариминским Собором так называемой Никской формулы.
Никская формула должна считаться догматическим определением и историческим завершением обоих – Ариминского и Селевкийского соборов. Едва ли могут быть сомнения в том, что основной задачей обоих Соборов являлось не формирование нового догматического учения, а достижение некоего консенсуса, которого так желал император310. При помощи беззастенчивых способов вся Церковь вновь была приведена к вероисповедальному согласию, но в результате победа не досталась никому из противников. Никская формула, признавшая Сына только подобным Отцу, но не детализировавшая, насколько и в чем, открыла двери новой партии омиев, состоявшей в большинстве своем из людей, не сведущих в богословии и попросту совершенно беспринципных.
«Веруем в единого и одного истинного Бога Отца Вседержителя, из которого все, и в единородного Сына Божия, который родился от Бога прежде всех веков и прежде всякого начала, и через которого произошло все, видимое и невидимое – веруем, что единородный родился один от одного Отца, Бог от Бога, подобный родившему Его Отцу (выделено мной. – А. В.)», – говорится в Никском Символе Веры311.
Таким образом, вместо разрешения богословских проблем омии решили попросту их игнорировать. Но, как ни странно, такое положение дел устраивало многих, поскольку Никская редакция давала простор для творчества представителям самых разных группировок312. По крайней мере, ее подписали отец св. Григория Богослова епископ Григорий Старший и Дианий Кесарийский – друг и покровитель св. Василия Великого313.
Новая ситуация вновь требовала срочного созыва Собора епископов, который по указу Констанция и собрался в конце 360 – начале 361 г. в Константинополе. Первоначально приехало около 50 епископов, но потом их число увеличилось до 72. Отцам была предложена для утверждения Никская формула, хотя и в чуть измененном виде, а также предлагалось запретить к употреблению слова «сущность» и «ипостась», как непонятные народу. Попутно был осужден (наконец-то!) давний придворный интриган епископ Аэций, которого обвинили во внесении смуты в Церковь, и император отправил его в ссылку. Помимо Аэция сосланы были также, хотя и по иным причинам, вожди омиусиан – Василий Анкирский, Евстафий Севастийский, Македоний Константинопольский, Кирилл Иерусалимский и другие314. Император разослал Никский символ всем епископам, угрожая отказникам низложением из сана и гневом царя315. Единство Церкви опять внешне было восстановлено, хотя и ненадолго.
Константинопольский собор завершил свою работу в феврале 361 г., а в ноябре, лежа уже на смертном одре, царь с ощущением выполненного долга вспоминал о перипетиях многолетней церковной смуты, которую он, как ему казалось, наконец-то преодолел. Увы, Констанций ошибался. В ситуации, сложившейся вследствие тринитарных споров в Церкви, никакая сила и власть не смогли бы привести к разрешению всех догматических и богословских противоречий.
Но для того чтобы сама Церковь «разрешилась от богословского бремени» своих искушений, нужно было сохранить ее единство, что и было обеспечено последовательной церковной политикой Констанция. Не являясь богословом по призванию, он предпринимал все для того, чтобы противники садились за стол переговоров и искали компромисса. И вполне возможно, что без этого принуждения общение церквей вообще бы прекратилось – это не кажется невероятным, если вспомнить ригоризм противников. Бесконечные и безрезультативные Соборы заставляли Церковь искать свою веру, мужать разумом, преодолевать сомнения и богословски формулировать истину. В те же минуты, когда такое общение становилось совершенно невозможным, являлся император, который требовал во имя исполнения своей воли признания той компромиссной формулы, на основе которой, как казалось, можно было восстановить единство Церкви. В этом как минимум заключается величайшая заслуга императора Констанция перед всем православным миром и Церковью.
Глава 3. Личность Констанция
Теперь самое время обратиться непосредственно к личности последнего сына св. Константина Великого и тем оценкам, которые он снискал после смерти. Надо прямо сказать: если судьба при жизни долго щадила последнего отпрыска великого императора Рима, то впоследствии его не пожалели историки. Констанция часто изображают недалеким, высокомерным человеком, страдающим манией величия, бесталанным правителем и неудачным полководцем, безнравственным женолюбом (!), неразборчивым в способах достижения своих целей, «зверем», гонителем православных и т.п. С «легкой» руки Э. Гиббона (1737—1794) полагают, будто правление его было возможным только путем создания целой армии шпионов и доносчиков. А главнейшим способом пополнения казны, как рассказывают, стало вымогательство средств у обеспеченных граждан316. Почему-то именно западные авторы считают, что царь являл собой образчик завистливой, слабой, тщеславной фигуры, полностью находившейся под контролем евнухов, женщин и близких епископов317.
Но на самом деле пословица, будто «природа отдыхает на детях гениев», малопригодна для характеристики Констанция. Наверное, он не был гением, но занимает далеко не последнюю строчку в череде Византийских, а тем более европейских самодержцев. Возможно, в воинских успехах Констанций действительно уступал своему отцу – человеку, выигравшему все сражения без исключения. Однако в то же время Констанций имел и свои военные удачи, которые можно было бы привести в качестве положительного примера. В частности, он не без успеха противостоял персам – очень серьезному противнику, побеждал варваров и умело, быстро подавлял внутренние бунты, например Магненция. В персидских походах он неоднократно подвергал себя лишениям и опасности, за что пользовался уважением у солдат. Введя строгую дисциплину, проявив недюжинные организаторские способности, царь из деморализованной и самовольной массы создал мобильную и хорошо обеспеченную армию, наводившую страх на врагов318.
Допустим, он не обладал такой политической мудростью, как св. Константин Великий, и не сумел вовремя ликвидировать следы своих ошибок, быстро становившихся известными. Но, в отличие от четырнадцати мирных последних лет правления равноапостольного императора, Констанций жил в бушующем мире варварских нашествий, вечных войн и внутренних заговоров. Оставшись один на один с многочисленными проблемами, не обладая авторитетом своего отца, имея вначале под рукой разлагающуюся армию, нередко стремящуюся дезертировать с поля боя, Констанций сделал все, что было в его силах. При нем в тяжелейших условиях Римская империя сохранила свою территориальную целостность и политическую стабильность. Царь провел административную реформу и привел в порядок юстицию. Финансы были, конечно, в плохом состоянии, что обуславливалось частыми войнами и многочисленными Соборами епископов, содержащихся на казенный счет, – очень затратное мероприятие.
Обстоятельства последних месяцев жизни Констанция заставляют сомневаться в тех оценках, где он изображается слабым правителем и высокомерным себялюбом. Когда на чаше весов оказалась гибель восточных провинций и восстановление единовластия, царь без долгих сомнений отправился в поход на персов, тем самым фактически предопределив судьбу императорской короны и буквально отдав ее в руки беззастенчивого конкурента. Не стесняемый ничем, не встречая на своем пути почти никаких воинских подразделений соперника, Юлиан беспрепятственно шел к Константинополю. Именно он, а не Констанций, совершенно забыл о своей обязанности охранять западные границы Римской империи от варваров.
Тезис о «кровавом режиме» Констанция также весьма слабо сочетается с многочисленными проявлениями верности, которые демонстрировали войска императору даже в условиях, когда его участь уже была предрешена. Между тем прагматичный и привычный к своим «свободам» Рим никогда не ощущал пиетета к неудачным полководцам и слабым императорам. Считалось, что все они должны быть достойными его славы и истории, и если даже в ходе нашествия Юлиана многие города не желали перейти под власть удачливого и молодого узурпатора, то, очевидно, еще и потому, что искренне любили Констанция и, в отличие от поздних историков, не считали его тираном. Хрестоматийный пример этому – обстоятельства проводов тела покойного царя жителями тех населенных пунктов, через которые его вез Иовиан, и знаки почтения, какие они выказывали уже покойному Констанцию.
Да и о какой тирании и тотальном шпионаже может идти речь, если царь лишь в исключительных случаях прибегал к уголовному преследованию своих врагов и мятежников, что далеко не характерно для римских обычаев тех времен? Конечно, Констанций был последователен в своих решениях и не вполне толерантен к тем, кого относил к разряду нарушителей царских распоряжений. Но как настоящий христианин, пусть еще и не крещенный, он был милостивым и терпеливым к недостаткам своих подданных.
Наверное, по сравнению со св. Константином Великим линия поведения императора по отношению к инакомыслящим епископам могла казаться несколько более жесткой или даже жестокой. Действительно, равноапостольный царь, как известно, очень скоро возвратил из ссылки практически всех сосланных им после Никеи арианствующих епископов и самого Ария. Он искренне полагал, будто священник, подписавшийся под Никейским оросом, тем самым окончательно принял ту сторону, какой симпатизировал сам василевс. Его сын в этом отношении был куда более осторожным и не склонным к легким выводам – он не ограничивался простыми письменными признаниями тех, кто придерживался иной точки зрения в вопросах веры. Хотя за преследования инакомыслящих василевса иногда называли «зверем», но объективно гонения на епископов, отвергавших царские указы (а это по римскому закону являлось преступлением, равно как и во все другие времена), очень редко заканчивались смертной казнью, что, вообще-то говоря, было не вполне закономерным итогом для столь негативной характеристики, какую дают царю.
Личное участие императора в догматическом споре исходило из его глубокого религиозного чувства и понимания всей важности одного из кардинальных вопросов христианского вероучения. Как искренний христианин, хотя еще и не крещенный, Констанций желал церковного мира, то есть проводил в полной мере политику своего отца. Уже св. Константин, убедившийся в том, что Восток не понял и не принял Никейского Символа, предпринимал меры по компромиссному разрешению тринитарного спора. Констанций также полагал единство Церкви альфой и омегой своей деятельности; это была для него самодостаточная цель. Но, находясь под влиянием Евсевия Кесарийского, воспитателя своего детства, Констанций понимал единство Церкви исключительно на основе антиникейского богословия. Кроме того, император не мог игнорировать тот факт, что подавляющее большинство епископата и мирян придерживаются антиникейских настроений319.
Как и его великий отец, царственный сын искренне полагал, что истина открывается через Соборы епископов. Он также искренне полагал, что большинство епископов, соборно обсудивших догматические вопросы, ведомые Святым Духом, таинственно и промыслительно обладают свойством непогрешимости. К сожалению, они оба ошибались: сама по себе соборная форма не обладает столь высокими достоинствами – истина вообще не склонна ограничивать себя внешними формами. Тем не менее, последовательно реализуя эту идею в жизни, Констанций полагал, что просто нужно собрать необходимое большинство архиереев и найти ту догматическую формулу, которая устроила бы их.
Так, упрекая Римского папу Либерия за содействие св. Афанасию Великому, он, между прочим, сказал: «Приговор большинства епископов должен иметь свою силу. Ты один только стоишь за дружбу того нечестивца»320. По данной причине Констанций так «легко» метался от одного вероопределения к другому, не всегда отдавая отчет в том, что становится игрушкой в руках некоторых недобросовестных «богословов».
Но мог ли он оценить все те догматические тонкости, которые ставили в тупик или заставляли ошибаться даже столпов веры? Блестящий император, он был, как и подавляющее большинство верующих, посредственным богословом, обстоятельствами времени вынужденный скользить умом по поверхности Символа, не в силах совладать с теми задачами, которые оказались по плечу лишь таким отцам Церкви, как св. Афанасий, св. Григорий Богослов и св. Василий Великий.
Достаточно было Евдоксию, Аэцию, Валенту или Акакию убедить его в том, что большинство епископата придерживается какой-то конкретной редакции, как император, отчаявшийся обеспечить мир Церкви, шел на все, чтобы обязать остальных присоединиться к ней. В принципе такая позиция не столь легкомысленна и неверна, как это иногда кажется: искренне веря, что «врата адовы не одолеют» Церкви, он чистосердечно полагал, будто при обеспечении единства Церкви истина сама пробьет себе дорогу, а Господь даст епископам сил и разумения для словесного определения Своего Лица. В конце концов именно так и произошло.
В годы правления Юлиана, когда над Церковью нависли давно уже забытые угрозы гонения и физического уничтожения, архипастыри, словно прозрев, отставили взаимные упреки и покончили с расколом, 50 лет терзавшим тело Церкви. Чтобы приобрести новое качество, нужно было потерять и оценить все то, что имела Церковь при православных императорах.
Впрочем, по довольно многочисленным свидетельствам, Констанций занимал богословскую позицию, близкую к взглядам своего святого отца и братьев. В качестве примера можно привести его послание антиохийцам, в котором император напрямую признавал Сына подобным Отцу по сущности. Другое дело, что его официальная позиция во многом, как указывалось выше, ориентировалась на политические реалии и соответствующим образом корректировалась под соборные прения321.
Помимо попыток решения главнейшей задачи своего царствования – преодоления раскола, Констанций очень многое сделал для Церкви в своей обычной деятельности. Став единоличным самодержцем, вторя отцу, он покровительствовал ей и значительно расширил иммунитет духовенства, причем установил exemption от светского суда. Продолжая теснить язычество, Констанций ввел смертную казнь для похитителей женщин и дев, посвятивших себя Богу. Посетив Рим, император велел вынести из здания сената священный для язычников-римлян алтарь Победы322.
Стало уже привычным приводить слова Констанция, сказанные им от отчаяния епископам: «Мое слово – для вас канон!» – с чем традиционно связывают цезаропапистские настроения императора. Но как соотнести эту оценку с тем фактом, что лично царь инициировал Карфагенский собор в 346 г., два Собора в Милане – в 347 и 355 гг., два Сирмийских и один Анкирский собор в 349 и 351 гг., Ариминский в 359 г., Селевкийский в 351г. и Константинопольский в 360 г. для восстановления единства Церкви и установления единой догматической формулы?
Лично (опять же) безусловно скромный во внешних проявлениях своей власти, царь не из самолюбия принимал бразды церковного правления в свои руки. Помимо явственного раскола Церкви, когда не только Запад противостоял Востоку, но и в восточных провинциях епископы и Соборы постоянно анафематствовали друг друга, только внешняя сила могла хоть как-то сохранить саму возможность общецерковного общения и обсуждения догматического вопроса о Лице Христа. Такой силой мог быть и стал только сам император, никаких общепризнанных авторитетов из числа клириков в то время просто не существовало.
Можно сказать, что нередко царь в буквальном смысле слова оказывался одиноким, а вокруг него роились заговорщики, интриганы, карьеристы от клира. Увы, нравственный уровень епископата к тому времени уже не был так высок, как в первые столетия существования Христовой Церкви, и сам император прекрасно отдавал себе в этом отчет. Так, опровергая в 358 или 359 г. слухи о том, что недавно сосланный им епископ Евдоксий является его ставленником, император пишет: «Евдоксий пришел не от нас, пусть так не думают, мы далеки от этого. А кто, кроме сего, вдается еще в подобные софизмы, тот, очевидно глумится над Всевышним. Да и отчего по собственной воле удержатся те, которые, ища власти, проходят города́, перебегают из одного в другой, как бродяги, и влекомые жаждой к большему, проникают во всякое убежище. Между ними, говорят, есть пройдохи и софисты, которых и наименовать неприлично: это племя злое и нечестивейшее (выделено мной. – А. В.). Скопище их вам и самим хорошо известно»323.
Эти слова кажутся горьким преувеличением, но св. Афанасий, св. Григорий Богослов и св. Василий Великий приводят на этот счет эпитеты, куда более жесткие, чем оценки царя. В таких условиях действительно только слово императора имело шанс стать каноном для всех; слова многочисленных Соборов и епископов тонули во всеобщей сумятице, недоверии и недопонимании.
Полагают, что его тайная служба функционировала очень эффективно; но, кстати сказать, таковой она была уже при св. Константине Великом. А каким иным образом царь мог обеспечить собственную безопасность, если само царствование его уже изначально было под вопросом, а позднее в результате заговора погиб младший брат? Мог ли он легкомысленно отвергать традиционные средства охранения власти, если приближенные им люди, включая близких родственников, не раз предавали своего благодетеля? Кстати сказать, едва ли все же деятельность агентов Констанция заслуживает столь высокой оценки, и уж, во всяком случае, едва ли его тайная служба была столь разветвленной и вездесущей. Достаточно напомнить, что она «проморгала» два крупных заговора. Один из них (Галла) едва не стоил царю жизни, а второй (Юлиана) лишил его державы. Как известно, его чиновники годами находились рядом с Юлианом и даже приезжали с инспекциями, но не заметили наличия у молодого и дерзкого царевича столь дальних мыслей.
Действительно, Констанций был не единожды женат, но, конечно же, не являлся сластолюбцем. Его первая жена приходилась родной дочерью дяди – казненного в начале царствования цезаря Юлиана, в чем нет ничего удивительного. Родственные связи всегда являлись лучшей гарантией верности в межличностных отношениях внутри династических домов. Следующей женой вдовца Констанция стала знаменитая и очень любимая им Евсевия, так же, как и первая жена царя, оказавшаяся бесплодной. Наконец, в 360 г. Констанций заключил третий брак с Максимой Фаустиной, видимо, надеясь на появление мужского потомства. Однако его мечтам не суждено было сбыться. Объективно эти примеры не дают оснований говорить о царе столь скабрезно, как это иногда позволяют себе делать публицисты.
Надо сказать, современники были куда более благосклонны к своему царю. Даже отличающийся ригоризмом в оценках отдельных персон историк Феофан Византиец очень сочувственно описывает личность и поступки Констанция, постоянно обращая внимание на его добрые дела. В частности, историк отмечал, что, находясь в Риме после победы над Магненцием, император подавал много милостыни бедным, и вообще уважал священников до самой смерти324. Следующая оценка Феофана еще более интересна: «Следовало назвать благочестивейшим царя, который, не совсем еще избавившись от языческих привычек, увлечен был, скорее по простоте, нежели с умыслом, в ересь происками ариан»325.
Позицию Феофана вполне разделял и знаменитый епископ Феодорит Кирский (386—457). Он в очень мягких формах описывает поведение василевса, стараясь отметить его благородство и терпимость к мнению других людей. Особенно интересен в этом отношении приводимый им разговор августа со св. Афанасием, когда царь принял его сторону в вопросе о предоставлении отдельных храмов для православных в арианских епархиях, и наоборот326.
Очень сдержанным изображается царь и в беседе с Римским папой Либерием, которого он уговаривал отречься от св. Афанасия Великого. Как и его святой отец, Констанций искренне полагал, что сила веры – в большинстве голосов, высказанных за то или иное определение. Вообще, Феодориту принадлежит очень точная и яркая характеристика религиозных воззрений Констанция: «Если Констанций, – писал он, – обманываемый управлявшими им людьми, и не принимал слова “Единосущный”, то, по крайней мере, искренно исповедовал его значение (выделено мной. – А. В.), потому что Бога-Слово называл Сыном, истинным рожденным от Отца прежде веков, и явно отвергал дерзавших называть Его тварию, а идолопоклонство воспрещал решительно»327.
Вообще, для Феодорита Кирского характерны такие фразы, в которых речь идет о неприятных для православной партии действиях царя, как «поддавшись уговору ариан», «возбудив гнев царя» и т.п. Ссылаясь на административные действия царя против никейцев, историк неизменно приводит причины, вынуждающие василевса принять то или иное негативное для них решение. Он или обманут, или введен в заблуждение, но никак не ересиарх, сознательно борющийся с Церковью.
Пожалуй, если кто и имел моральное право упрекнуть императора Констанция, так это вечно гонимый им св. Афанасий Великий. Вот, в частности, как он оценивает роль императора в борьбе с православными епископами, которые подверглись гонениям: «Ибо написавшие с тем, чтобы концом их писания были изгнание и другие казни, могут ли быть не чужды христианам и не друзьями диаволу и его демонам, тем более, что богочестивейший Царь Констанций человеколюбив, а они против воли его разглашают (выделено мной. – А. В.), что хотят?»328
В известном послании самому императору Констанцию св. Афанасий Великий опять не желает верить в виновность царя: «Для чего же такие замыслы, или к чему предпринимали злоухищренно строить козни, когда можно было велеть и писать? Царское приказание дает большую свободу, а желание действовать скрытно делало ясным подозрение, что не имеют они царского приказания»329.
Император являлся блестящим воином и тайным аскетом, обладал большой физической силой и был обучен хорошим манерам330. Он мало спал и скромно ел, был трезвенник и целомудрен, терпелив к своим обидчикам. Например, он только посмеялся над жителями Эдессы, которые избили бичами его статую, приговаривая, что претерпевший такое наказание человек не способен к царствованию – то есть хорошо, что избили не его лично, а только статую331. Справедливый и щедрый, попечитель подданных, ценящий верную службу, он был недоверчив только в отношении посягательства на свою власть – более чем объяснимая линия поведения332.
Не был он чужд и других добрых человеческих чувств. Как указывалось выше, очевидно, василевсу было выгоднее принять предложенный Магненцием мирный договор, дававший ему без труда многое, чем рисковать – и очень серьезно! – всем, чем он владел. Но долг отмщения смерти брата не позволил царю занять конъюнктурную позицию даже на время. Он победил тирана, хотя победа над Магненцием вовсе не была предопределена.
Истинная роль Констанция в деле восстановления единства Церкви открылась современникам несколько позднее. Когда после попытки реставрации язычества св. Григорий Богослов составил два обличительных слова на Юлиана, где противопоставляет царя-язычника царю-христианину, оставшемуся верным, несмотря на все колебания, Никейскому Символу Веры, он имеет в виду не св. Константина Великого, как можно было предполагать, а… Констанция. Святитель Григорий именует его «великим Констанцием», «благочестивым», «божественнейшим и христолюбивейшим из царей», которого «мышца Божия руководствовала во всяком намерении и действовании».
Святитель Григорий пишет, что Констанций «сам возрастал с наследием Христовым и, постепенно утверждая оное, возрастил в такую силу, что стал через сие именитее всех прежних царей». Лишь один недостаток видит в нем обличитель Юлиана – то, что он «впал в грех неведения, весьма недостойный его благочестия; сам не зная, воспитал христианам врага Христа; из всех дел своего человеколюбия оказал одну худую услугу тем, что спас и воцарил ко вреду спасенного и царствовавшего (то есть Юлиана. – А. В.) 333. Правда, св. Григорий тут же оговаривается, что в его обвинении содержится уже и извинение Констанция: «Кто не надеялся, если не другого чего, по крайней мере того, что Констанций почестями сделает Юлиана более кротким? Кто не полагал, что после доверенности, какая ему сделана даже вопреки справедливости, и он будет праведнее?»334
По утверждению св. Григория, Констанций разумением и быстротой ума во многом превосходил не только современных, но и прежних царей. «Ты очистил, – заочно обращается он к нему, – пределы царства от варваров и усмирил внутренних мятежников; на одних действовал убеждениями, на других – оружием, а в том и другом случае распоряжался, как будто бы никто тебе не противодействовал. Важны твои победы, добытые оружием и бранями, но еще важнее и знаменитее приобретенные без крови. К тебе отовсюду являлись посольства и просьбы: одни покорялись, другие готовы были к покорности. Мышца Божия руководствовала тебя во всяком намерении и действии. Благоразумие было в тебе удивительней благоразумия; самой же славы за благоразумие и могущество еще удивительней благочестие»335.
«Кому из знавших сколь-нибудь Констанция неизвестно, что он для благочестия, из любви к нам, из желания нам всякого блага не только готов был презреть… честь всего рода, или приращение царской власти, но за нашу безопасность, за наше спасение отдал бы даже самую державу, целый мир и свою душу, которая всякому всего дороже?»336
«Если же и оскорбил несколько, – продолжает св. Григорий, – то оскорбил не из презрения, не с намерением обидеть, не из предпочтения нам других, но, желая, чтобы все были одно, хранили единомыслие, не рассекались и не разделялись расколами»337.
«Никто никогда ни к чему не пылал такой пламенной любви, с какой он заботился об умножении христиан и о том, чтобы возвести их на высокую степень славы и силы. Ни покорение народов, ни благосостояние общества, ни титло и сан царя царей, ни все прочее, по чему познается счастье человеческое, – ничто не радовало его столько, как одно то, чтобы мы через него и он через нас прославлялись пред Богом и пред людьми, и чтобы наше господство навсегда пребывало неразрушимым. Ибо кроме прочего, рассуждая именно по-царски и выше многих других, он ясно усматривал, что с успехами христиан возрастало могущество римлян»338.
Без него «Церковь сиротствует и вдовствует», а сам он «вчинен Богом, наследовал небесную славу». «Голос сил Ангельских был слышен при погребении Констанция», и сам св. Григорий молился об усопшем: «Мы почтили должным образом земную храмину того, кто жил достойно царя, окончил жизнь смертью праведника».
Констанций действительно был царем-праведником, положившим всю свою не очень долгую, но содержательную жизнь на благо Кафолической Церкви и Римской империи.
III. Юлиан-Отступник (361—363)
Глава 1. На пути к царству
Взошедшему на престол молодому царю было 30 лет от роду. Родившись в Константинополе в июне 331 г. в семье родного брата св. Константина Великого Юлия Констанция, Юлиан, как указывалось выше, рано остался без отца и родственников, казненных солдатами. Из всех родных рядом с ним находился только старший брат Галл, и оба они оказались под опекой императора Констанция. По свидетельству историков, братьев охраняли очень строго, прервав все их возможные сношения с внешним миром.
Очень возможно, что эта превентивная мера была вызвана желанием трех царственных братьев лишить некоторых своих недоброжелателей возможности использовать родственную близость Галла и Юлиана к семье равноапостольного императора в политических интригах – спустя тысячелетия мы часто оцениваем те или иные действия и поступки изолированно, вне контекста исторической картины ушедших времен. Зная «свободные» политические нравы тех времен, несложно предположить, что при желании Константин, Констанций и Констант без большого труда предали бы их смерти: что-что, а организовать «несчастный случай» умели и в IV в.
Сам Юлиан позднее, в 356 г., в своем сочинении напишет буквально следующее о Констанции: «Царь был добр ко мне почти с самого раннего детства, его щедрость не имела пределов, он спасал меня от опасностей столь великих, что даже “муж и летами цветущий” не мог бы легко избежать их; и после того, как мой дом был захвачен неким человеком из тех, что имеют власть, как будто бы не было никого, чтобы отстоять его, Констанций вернул его мне, как и было справедливо, и еще раз восстановил мое богатство. Я мог бы рассказать вам и о других его благодеяниях, достойных всяческой благодарности»339. Конечно, можно допустить, что в этом публичном обращении Юлиан несколько преувеличил участие императора в своей судьбе, но все же несложно сделать вывод о добром расположении Констанция к нему и его старшему брату Галлу.
В любом случае мальчики остались живы, и потому едва ли уместна версия, будто сыновья св. Константина вынашивали в отношении них какие-то преступные планы. Скорее, речь шла об их безопасности и, повторимся, о разумных мерах обеспечить политическую стабильность в государстве. Наверное, это были далеко не чрезмерные меры предосторожности – последующие события, во главе угла которых иногда в качестве активной стороны, а зачастую, в виде слепого орудия реализации замыслов языческой партии находился Юлиан, позволяют обоснованно предположить, что эти мероприятия были далеко не излишними.
Мальчики жили под опекой Констанция, и их окружение составляли в основном люди духовного звания, все или тайные сторонники Ария, или умеренные антиникейцы. Главным воспитателем Юлиана являлся знаменитый (и печально знаменитый) Евсевий Кесарийский, а после его смерти в 341 г. учителем будущего августа стал некий придворный евнух Мардоний. Едва ли тот был сведущ в науках, но зато сумел внушить своему воспитаннику твердое убеждение в том, что наибольшая добродетель человека – самообладание и скромность. Нет, конечно, родственникам царей не воспрещалось брать уроки и у других педагогов, но при непременном условии, чтобы те были христианами.
Эта важная деталь позволяет укрепиться во мнении, что уже тогда некоторые силы пытались манипулировать царственным статусом Галла и Юлиана. По-видимому, до Констанция доходили кое-какие слухи и донесения тайных агентов о происках язычников, поэтому он предпринял решительные меры для того, чтобы не допустить их влияния на Галла и Юлиана. Но его усилия оказались тщетны – учителем Юлиана по грамматике являлся некий лакедемонянин Никокл, внешне принявший христианство, но в душе сохранивший приверженность языческим культам. Очевидно, он был образованным человеком и сумел привить Юлиану любовь к античной литературе, в первую очередь к Гомеру. Вторым учителем, также не отличавшимся особой тягой к христианству, стал софист Экиволий, систематически переходивший из христианства в язычество и обратно. Неудивительно, что Юлиан в душе своей не стал христианином, все более и более увлекаясь языческими культами. Последующие события только укрепили его религиозные воззрения.
В 343 г. Мардоний внезапно был отставлен от двора, а братьев перевели в уединенный каппадокийский замок Макелл. Целых 6 лет, с 343 по 349 г., Юлиан пробыл в замке, не имея свободы перемещения. Там он продолжил изучение классической греческой литературы, познакомившись с сочинениями Аристотеля и Платона. Но это делалось тайно, так как окружавшие Юлиана евнухи и священники тщательно следили за внешними проявлениями его христианского благочестия. И повзрослевший царевич принял правила игры, противодействуя им, по-видимому, не без помощи своих взрослых воспитателей. Он постоянно присутствовал при богослужении, раздавал милостыню нищим и даже был зачислен в сонм чтецов, читая народу на службах священные книги340. Но это были только внешние поступки, ничуть не выражавшие ту революцию чувств, что бурлила в сознании Юлиана.
В маленьких братьях сыновья св. Константина едва ли видели потенциальных конкурентов или даже крупных государственных деятелей. Они сами были еще очень молоды и вряд ли могли предположить, что их семейная ветвь так внезапно прервется. Вообще, у некоторых писателей складывалось впечатление, будто Галла и Юлиана готовили к принятию духовного сана341.
Возможно, так оно и было, но, к сожалению, духовники, воспитывавшие мальчиков, относились, во-первых, к не самым образованным кругам своего общества, и, во-вторых, понимали христианство очень ограниченно, в арианском смысле. Поэтому при всей внешней принадлежности к Церкви оба брата, особенно Юлиан, были весьма холодны к учению Христа. Впрочем, св. Григорий Богослов приводит другие данные о молодости и воспитании детей: по его словам, Констанций «удостоил их царского содержания и царской прислуги, сохраняя их, как последних в роде, для царского престола». Поэтому все первоначальное обучение было дано им непосредственно царем Констанцием342.
Несмотря на ухищрения и скрытность Юлиана, для окружающих все же не укрылась перемена, произошедшая в нем после увлечения древней философией, литературой и языческими верованиями. Святитель Григорий Богослов приводит два эпизода, в которых наглядно проявилась богоотверженность подрастающего юноши. В Каппадокии оба брата подвизались над постройкой храма в честь святого мученика Маманта, разделив между собой наблюдение за работами. Дело старшего брата Галла шло успешно, «Бог охотно принимал его дар, как Авелиеву жертву, и сам дар был как бы некоторым освящением первородного, – а дар другого отвергал Бог мучеников, как жертву Каинову»343.
Как ни старался Юлиан, но его строительство шло очень плохо, казалось, сама земля не желала принять труды человека, в своей душе уже отвергшего Христа. Хуже того, построенный братьями храм еще не успели освятить, а он уже рухнул, к ужасу местных жителей344. Многие окружающие не без страха наблюдали за происходящим, делая для себя обоснованный вывод, что Юлиан в почитании Бога неискренен.
Кроме того, опять же по свидетельству св. Григория Богослова, Юлиан в разговоре с братом не раз в запале защищал язычников, ссылаясь потом для объяснения своей позиции на необходимость упражняться в красноречии. Едва ли старший брат верил ему, но и не доносил; скорее, эти факты стали известны ближнему окружению принцев, присутствовавшему при их ораторских диспутах, а через них доходили до Констанция. И, откровенно говоря, мало верится, будто их религиозные убеждения кардинально разнились между собой – едва ли обоснован тезис о наличии христианских добродетелей у Галла, зная, как он вскоре поведет себя в качестве цезаря Сирии. В этом отношении сравнение его трудов с «Авелиевой жертвой» могло являться со стороны св. Григория Богослова известным риторическим приемом, позволяющим таким гротескным сравнением еще более подчеркнуть антихристианские настроения Юлиана.
После того как в 351 г. Галл стал цезарем, Юлиан начал думать о собственной карьере – мысль, появлению которой также наверняка помогли некоторые воспитатели из близкого круга молодого человека. К этому времени его уединение закончилось: Констанций разрешил ему свободно передвигаться по стране, видимо, уверенный в его благонадежности. Прибыв в Константинополь, царевич встретил самый ласковый прием со стороны местных жителей. Им импонировали его ученость и склонность к науке, все видели в нем образованного и ласкового в обращении юношу, даже стали поговаривать о том, что именно он должен стать преемником бездетного Констанция. Все это не могло не возбудить недоверие к Юлиану со стороны императора, который уже получил известия о безобразном поведении Галла и его честолюбивых проектах.
Потому, от греха подальше, царь велел отправить Юлиана в Никомидию, что едва ли можно отнести к удачным решениям. Следует отметить, что этот славный город Малой Азии в то время был настоящим прибежищем для языческих ораторов, философов и софистов со всех границ Империи, так что Юлиан нашел вполне подходящее для себя окружение; например, там жил и преподавал известный софист Ливаний, язычник по своим убеждениям, которого страстно желал услышать юноша. Правда, опасаясь негативных последствий, Констанций предусмотрительно взял с Юлиана клятву, что тот не будет слушать лекций Ливания, и юноша охотно присягнул, даже и не думая, конечно, сдержать своего слова345.
Итак, в Никомидии Юлиан попал в самое «пекло» язычества – здесь собрались самые разнообразные его элементы, изгнанные или не признанные в других провинциях Римской империи. В юном царевиче они с восторгом для себя обнаружили лучшее орудие против христианства. И вновь сформированное окружение Юлиана поставило перед собой задачу окончательно укрепить его в политеизме с тем, чтобы получить энергичного защитника древнего культа. Самое решительное влияние на Юлиана имел философ Максим, известный в своих кругах теург и маг, который очень быстро подчинил Юлиана своему влиянию и посвятил в теургические и магические обряды346. Их отношения были очень близкими и доверительными. Через много лет, уже став царем, Юлиан, узнав о прибытии в его ставку Максима, бросил все дела и выбежал навстречу своему старому другу и воспитателю347.
Безусловно, мысль о скором поставлении Юлиана на царский престол уже давно витала в умах азиатских язычников. Дело в том, что в то время среди них были чрезвычайно популярны «пророчества», согласно которым христианство вскоре будет повержено. Понятно, что «ниспровергателем» мог стать только глава Римской империи, и таковым они видели Юлиана. Очевидно также, сам Юлиан не стремился их в этом разубеждать. Все же можно констатировать: эта группа вела весьма скрытный образ жизни и не давала повода для преследований, поскольку ни при каких обстоятельствах подозрительный Констанций не стал бы доверять человеку, замыслившему против него столь честолюбивые планы.
Постепенно в душе Юлиана утратились последние следы заложенных в детстве первооснов христианства. Если первоначально его увлечение язычеством можно было отнести к детской любознательности и специфичной психике «переходного возраста», когда назойливые наставления взрослых переходят в зримые формы протеста детей, то теперь принц стал сознательным приверженцем языческих культов. Он думал уже не о сравнении их с христианством, а о том, какой из них наиболее близок его воззрениям и эстетическим чувствам.
Юлиан искренне недоумевал, как люди могли воздавать поклонение Христу, и почему, по какой причине люди так быстро отпали от старых богов? Вместо сухих, по его мнению, обрядов христианства, Юлиана привлекала атмосфера античных образов, эстетика греческой литературы, ее богатство и разнообразие, таинственность древних культов, их мистика. Отпадению молодого царевича от Церкви в немалой степени способствовали события церковного раскола. Он с едва скрываемой брезгливостью наблюдал за противостояниями и непристойными страстями, нередко демонстрируемыми главами отдельных партий, их интригами и попытками любой ценой получить вселенское первенство собственных редакций Символа Веры.
Все же Юлиан был по-своему слишком образован, чтобы удовлетвориться только древними отеческими культами – сам политеизм уже был недостаточно для него интеллектуален. К этому времени его очень увлекли неоплатоники, вдохнувшие свежий ветер в казалось бы угасающую страсть; аллегоризм неоплатоников оказался в состоянии удовлетворить возрастающие потребности интеллектуального роста. Новые учителя еще более укрепили Юлиана в мысли о его первородном предназначении занять Римский трон и повернуть вспять колесо истории. Известно, что в это время до Констанция и Галла стали доходить отдельные слухи о новых увлечениях Юлиана, вполне возможно также, что Галл, уже замысливший занять трон Констанция, испугался не столько религиозных перемен в брате, сколько сведений о его амбициозных планах. Ведь если бы Констанций получил об этом более точные известия, участь Галла и Юлина могла считаться предрешенной.
По счастью для обоих братьев, посланный императором для ревизии дел арианский священник Аэций не усмотрел в поведении Юлиана ничего предосудительного. Он даже доложил царю, что тот регулярно посещает богослужения и гробницы мучеников и ревностно исполняет обязанности христианского благочестия348. Впрочем, через много лет сосланный Констанцием Аэций был возвращен Юлианом в епархию, и ему был сделан богатый подарок. Трудно уклониться от мысли, что таким образом Отступник отблагодарил того, в чьих руках в какой-то момент времени была его жизнь и карьера. Для Юлиана это был слишком очевидный сигнал, чтобы он им пренебрег. С еще большим рвением он начинает внешне исполнять христианские обряды, ведет аскетический образ жизни и даже сбрил бороду, которую ранее отпустил по примеру древних философов.
Но в 354 г. его положение становится критическим: неудачный заговор Галла едва не стоил жизни самому Юлиану. Помимо этого, Констанцию стали известны, хотя и в смутных деталях, замыслы языческой партии о возведении Юлиана на престол. Юношу срочно переводят в Милан, рядом со ставкой императора, где на царском совете решалась его судьба. Подавляющее большинство царского окружения безоговорочно высказалось за смерть царевича, но император не решался умертвить родственника, не видя за ним прямой вины. Целых шесть месяцев его жизнь висела буквально на волоске, он был окружен бдительной стражей и множеством шпионов, немедленно доносивших царю обо всех его телодвижениях. Наконец, в дело активно вмешалась царица Евсевия, убедившая царя в безосновательности возводимых на Юлиана обвинений. «Она настаивала на своих просьбах к императору, – писал сам Юлиан, – до тех пор, пока не привела меня пред царские очи и не устроила мне разговора с государем. Она радовалась, когда я оправдался от всех несправедливых обвинений и когда я пожелал вернуться домой, она первая стала убеждать царя удовлетворить эту просьбу»349.
Полагают иногда, будто таким образом она хотела обеспечить свое вдовье будущее на случай преждевременной гибели императора – одна из версий (правда, сомнительная), имеющих право на существование. Царю в то время не было еще и 40 лет, болел он редко и едва ли имелись реальные основания предполагать, будто он непременно должен был отойти к Богу раньше своей жены.
Более правдоподобно предположение о том, что царицей двигали более высокие побуждения – забота о Римской империи, которая после смерти бездетного Констанция осталась бы без царя. Возможно также, что здесь довлело и нечто личное – не имея детей, она желала утолить материнские чувства на умном и образованном Юлиане. Вообще, как известно, впоследствии Евсевия довольно ревниво относилась к жене Юлиана – естественная реакция всякой матери на невестку. Так или иначе, но именно она сумела добиться личной встречи царевича с Констанцием, в ходе которой Юлиан с присущим ему ораторским искусством и лукавством разрушил все подозрения на свой счет. Его освободили из-под стражи и даже разрешили выехать в Афины для продолжения образования, опять же, по хлопотам Евсевии.
Афины того времени были не только центром античного просвещения, но и местом, которое регулярно посещали деятели языческой партии, наиболее известные прорицатели и теурги. Вместе с ними Юлиан стал бывать на языческих капищах, устраивал богослужения и предавался гаданиям о собственной судьбе350. Вместе с ними юноша искренне сожалел о «падении нравов» и клялся немедленно восстановить древние культы после своего воцарения. Знакомство с теургами оказалось для Юлиана очень кстати. Да, неоплатоники дали ему необходимую рациональную основу для формирования собственного мировоззрения, но душа, оставившая Церковь, искала духовной пищи. Юлиан жаждал мистерии, чувств, способов познания духовного мира. И такой суррогат был ему в избытке предоставлен.
По свидетельству Феодорита Кирского, находясь в Элладе, он обходил гадателей и «провещателей», которые могли бы предсказать ему императорскую корону и удовлетворить духовный голод; подходящая кандидатура, конечно, вскоре нашлась. Вместе с этим безымянным для нас «предсказателем» Юлиан проник ночью в языческое капище, где ему явились демоны. Испугавшись их, юноша непроизвольно перекрестился, отчего те немедленно с испугом удалились вон. Но спутник Юлиана пристыдил его этим поступком, объяснив, что демоны якобы не боятся крестного знамения, а лишь презирают его, после чего ввел Юлиана в «тайны беззакония»351.
Хотя в это же время в Греции Юлиан встречался с будущими святителями Василием Великим и Григорием Низианзином, встречи с ними не оставили большого следа в его душе. Так, отправляясь после полугодичного пребывания в Афинах на западные границы государства для их защиты от варваров, он на виду всего народа горько стенал о предстоящем расставании и проливал горькие слезы, прося у богов смерти для себя.
6 января 361 г. на празднике Богоявления во Вьенском соборе Юлиан последний раз присутствовал на христианском богослужении. Спустя несколько месяцев он прошел несколько ступеней митраистских посвящений, заняв вторую ступень в иерархии и став Гелиодромом – Посланцем Солнца352.
Посвященный в элевзинские мистерии, Юлиан настолько проникся уважением к ним, что, отправляясь в поход в Галлию в 361 г., даже пригласил элевзинского жреца для совершения над собой особого таинственного обряда, в ходе которого торжественно засвидетельствовал формальный акт своего отречения от христианства353. Почувствовав собственную силу, приняв от Констанция титул цезаря, Юлиан уже не скрывал своей расположенности к язычеству. Но эти события произойдут в скором будущем, а до этих пор царевич продолжал скрывать свои пристрастия.
Если у Юлиана ладились дела на публичном поприще, то семейная жизнь не приносила радости. Царица Евсевия, столь много сделавшая для молодого цезаря, невзлюбила его жену – сестру своего мужа Елену. Поговаривали даже, что она сделала все, чтобы лишить Юлиана мужского потомства, в частности, при помощи повивальной бабки умертвила новорожденного младенца Елены, а потом тайно давала ей специальное снадобье, чтобы у царицы каждый раз случался выкидыш354. Впрочем, Юлиан не любил своей жены и через короткое время расстался с ней, попросту выгнав из дома.
Надо сказать, прибыв в новом и лестном для себя качестве цезаря на Запад, Юлиан сумел быстро выправить там положение. В течение времени своего правления Галлией, с 355 по 361 гг., он показал себя хорошим администратором, удачливым полководцем и государем, способным снискать к себе признательность подданных. Прибыв в качестве номинального правителя, в реальном управлении которого находилась только его личная охрана (360 человек), Юлиан тщательно изучает военное дело и вскоре уже делает прекрасные успехи. Когда в июне 356 г. германцы захватили нижнюю Галлию и Кельн, попутно осадив город Отен, принц решительно взял командование войсками в свои руки и отразил натиск варваров, сняв осаду с Отена, Страсбурга, Брумата, Цаберна, Зальца, Шпейера, Вормса и Манца, а затем даже отбил у германцев Кельн.
В 357 г., попав в опасное положение вследствие предательства некоторых римских военачальников, Юлиан с 13‑тысячным отрядом оказался лицом к лицу с 60 тысячами Хнодомара, которых блестяще разбил в битве при Страсбурге. Говорят, потери варваров были гигантские, а у римлян – несколько сот человек. В октябре, когда кампании уже обыкновенно не велись, правитель Запада внезапно перешел Рейн, восстанавливая старые укрепления и захватывая пленных. В 358 г. Юлиан заново отстроил флот, после чего Рейн окончательно перешел под контроль римских войск. В результате этого в 359 г. варвары вообще не осмелились напасть на римские провинции355.
Разбив франков и алеманов, он обеспечил правосудие на имперских территориях и облегчил нестерпимое бремя налогов, восстанавливал разрушенные селения и города, защищал население от произвола местных чиновников. Свои удачи молодой цезарь открыто относил к милости древних богов, сам исподволь потакая реставрации языческих культов в городах, находившихся под его властью, и принимая непосредственное участие в жертвоприношениях.
К этому времени он стал суеверным до крайности, особенно когда встал вопрос о войне с Констанцием. В Иллирике некий опытный оратор и тайный маг Апрункуллий, назначенный впоследствии Юлианом правителем Нарбоннской Галлии, устроил жертвоприношение, предсказав счастливое будущее для самопровозглашенного августа. Но Юлиан опасался, что таким образом друзья лишь желают поддержать его, потакая тайной слабости и честолюбию молодого правителя. В тот самый момент, когда Констанций умер, о чем узурпатор еще не знал, он садился на коня, и солдат, придерживавший Юлиана рукой, упал на землю. Узурпатор тут же громко воскликнул, что тот, кто поднял его на высоту, то есть Констанций, упадет от него, и его настроение заметно улучшилось356.
Что же представлял собой 30‑летний претендент на трон, поднявший руку на собственного благодетеля? Современники отмечали бытовую скромность и умеренность молодого царя. Он очень мало спал, да и то использовал в качестве кровати войлок, а вместо одеяла – бараний тулуп, был чрезвычайно неприхотлив в еде, довольствуясь малой пищей. Юлиан был религиозен, но к этому времени совершенно охладел к христианству и сделался его тайным недоброжелателем. Ночами он молился Меркурию (если находился на войне) и другим языческим богам (в мирные часы), а днем много времени уделял своему образованию и в первую очередь философии. Он хотел казаться милостивым императором, нередко значительно смягчая уже вынесенные судом приговоры. Однажды потерпевшие остались недовольны тем, что Юлиан сменил казнь ссылкой. На что царь ответил: «Пусть право сделает мне упрек в мягкосердии, но законы милосердия императора должны стоять выше остальных»357.
Юлиану хотелось продемонстрировать на собственном примере блистательного государя и полководца, наполненного всяческими доблестями и дарами, милостивого и снисходительного, благородного и твердого, такого философа на троне по примеру героев Гомера и мудрецов Платона. Когда его учитель Оривасий сказал Юлиану: «Не должно, быв в гневе, обнаруживать его голосом и взглядом», тот ответил: «Ты прав – увидишь, придется ли тебе в другой раз обвинить меня в этом»358. Обремененный многими государственными делами, он не оставлял упражнений в словесности, очень заботясь о впечатлении, которое производил на окружающих359.
Юлиан хотел всем показать, что добродетели не являются исключительной чертой христианина, но, напротив, приверженец отеческих богов должен снискать еще большее одобрение людей своими поступками и делами. Нельзя сказать, что все это было исключительно показными демонстрациями, но, надо признать, в основе всего этого лежали гордыня и самолюбование. Это был искренний в своем роде и честолюбивый молодой человек, носящий в себе печаль ранних утрат и недоверия к окружающим, скрытный и не без хитрости, в отдельные моменты циничный и дерзкий лицемер, решительный, сметающий все преграды со своего пути. Ему очень хотелось остаться в памяти потомков великим философом и бесстрашным государем, «Апология» Платона бередила ему душу и налагала некий образ мыслей и поступков, которым Юлиан желал следовать. Безусловно, он обладал твердым характером и незаурядной выдержкой. Так, уже на смертном ложе он беседовал со своим любимцем Максимом о высоте души, как будто тень смерти не стояла у изголовья его ложа.
Его философские настроения хорошо передает следующий случай. Задолго до своей смерти он получил предсказание собственной смерти: «Когда, потрясая мечами, ты покоришь скипетру своему персидское племя до Селевкии, тогда, освободясь от смертных, подверженных страданию членов, ты вознесешься к Олимпу на лучезарной колеснице и, возвращаясь в вихрях бурных, достигнешь родной обители эфирного света, откуда, заблудившись, ты нисшел в человеческое тело». Восторгу Юлиана не было предела! Он радостно говорил, что с удовольствием оставит свое смертное бренное тело и воспарит в мир идей и духов – ясный и классический пример, позволяющий доказать, что «предсказатель» вполне владел философскими настроениями Юлиана (а, судя по отрывку, он полностью был погружен в философию Платона) и слабыми сторонами его души360.
Эвнапий Сардиец (346 – после 404 г.), приверженец язычества и глубокий почитатель Юлиана, говорил, что тот имел любовь к воинам не потому, чтобы льстить им, но потому, что знал, что это полезно. Милосердный к преступникам, полагал историк, он всячески демонстрировал свою доступность и открытость людям, к которым выходил после языческих богослужений; «многие тяжебные дела доходили до Юлиана, все вполне удовлетворялись правосудием судящим их»361.
Однако некий неизвестный христианский писатель того века более жестко и, главное, объективно описывает василевса: «Он избрал царскую власть не для того, чтобы исправить жизнь человеческую, – да он ничего и не исправил, – но по необузданному славолюбию он оказался неблагодарным к благодетелю (Констанцию), и, предаваясь пагубному поклонению водящих его демонов (богам языческим), он не узнал, что получит от них и конец, достойный лжи и его неистовства»362. Если уж Феодорит Кирский в своей «Церковной истории» называет благочестивым Галла («который и в то время соблюдал благочестие, и после, до конца жизни был благочестив»), то можно представить, каков был в действительности Юлиан363.
Своей краткой биографией новый царь дал немало примеров решительности и способности идти на риск, даже чрезвычайный. Но за этим фоном нередко скрывалась душа робкая и нерешительная. Это была гордыня, поставившая себя на невероятную высоту собственного тщеславия, не имевшая внутри себя никакого нравственного стержня и потому нередко срывавшаяся с вершин до уровня «твари дрожащей». Юлиан мечтал стать по славе выше Александра Македонского и Юлия Цезаря, считал себя избранником богов, нисколько не колеблясь, высмеивая всех предыдущих государей в своих памфлетах. Но, приняв решение, нередко впадал в некое подобие психологического ступора, из которого мог выйти только при помощи своих льстивых соратников и многочисленных жертвоприношений. В минуты мистерий он, в буквальном смысле этого слова, призывал к помощи демонов и только успокоенный ими, поддавшись внушениям, которые признавал за слова утешений богов, приходил в себя и вновь являл решимость и настойчивость в реализации самых дерзновенных планов.
Глава 2. Царствование и преследования христиан
Жизнь показала, насколько Юлиан был готов к выполнению начерченной им же себе задачи построения «просвещенного государства» и соответствовал высокой роли благодетеля Римской империи. Став императором, Юлиан все же первое время опасался заявить о возврате языческих культов. Наконец, прибыв в Константинополь 11 декабря 361 г., он открыто сказал о своей принадлежности к язычеству, после чего стал именоваться в народе Юлианом-Отступником. Далее, пишет Феофан Византиец, «сделавшись самодержцем, Юлиан без стыда начал жить по-эллински, святое крещение смыл с себя кровью жертв и делал все для служения демонам»364. Наивно полагать, будто Отступник, вкусивший прелести мистерий и получивший посвящения в самые тайные культы, мог без улыбки взирать на «допотопные» отеческие культы. Но, как человек «просвещенный», он отдавал себе отчет в том, что положенное «избранникам богов и судьбы» не может быть преподано рядовому гражданину.
Казалось бы, склонность Юлиана к политеизму не предполагала введения какого-то нового персонифицированного культа. Но, как ни странно, в сочинении Отступника «Против христиан», письмах и философских отрывках, дошедших до нашего времени, он признавал существование «верховного разума» и «вечного отца, царя всего мира и всех людей», из которого рядом эманаций проистекает все обновление мира365. Кажется удивительным, но при всей нелюбви Отступника к иудеям он искренне пытался включить иудаизм в свою философскую систему366. Но тонкость заключается в том, что к этому времени иудаизм уже сделал решительный отход от древнееврейских благочестивых обычаев и сформировал собственную интерпретацию Ветхого Завета, включая каббалистические учения, принадлежавшие кругу избранных. Несложно предположить, учитывая характер Юлиана и его страсть входить в тайные группы особо посвященных, что такого рода учения очень льстили его самолюбию, давая выход безудержному стремлению познать мистические тайны и встать в некий тесный круг, где простым смертным нет места.
В целом, зная предысторию его духовного развития и круг учителей, трудно отделаться от мысли, что к тому времени Юлиан предался сатанистским культам. У современников складывалось небезосновательное ощущение, что на языческий алтарь укладывались не только жертвенные животные. Проходя с войском мимо города Карры во время похода на Персию, он велел закрыть на замо́к языческий храм, оставаясь там наедине со своими ближними духовными учителями. После ухода горожане открыли храм и обнаружили повешенную женщину с распоротым животом – Юлиан гадал о результатах похода на ее печени. А в Антиохии после смерти Отступника были обнаружены многочисленные человеческие головы и мертвые тела – также результат мистических опытов Юлиана367.
Незадолго до войны он велел восстановить Иерусалимский храм, возведенный некогда царем Соломоном (965—928 гг. до Р.Х.) и разрушенный Римскими императорами Веспасианом (69—79) и Титом (79—81)368. Безусловно, это предприятие было задумано василевсом не для того, чтобы подчеркнуть свой политеизм, с ним связывались и религиозные пристрастия Юлиана. Иногда предполагают, учитывая невероятную скаредность нового царя, что выделить громадные деньги для восстановления Иерусалимского храма его заставила тщеславная надежда опровергнуть пророчество Христа, согласно которому святой город и храм будут разрушены и пребывать в запустении. Ему не терпелось показать христианам, что их Бог ничтожен перед его языческими богами 369.
Представляется, что здесь были соединены несколько планов – и практический («унизить» Христа), и духовный, связанный с религиозными симпатиями Отступника. Он искренне симпатизировал иудеям, верование которых полагал вполне уместным в своем государстве и с которыми его роднила ненависть к христианству370.
Иудеи, уже несколько столетий мечтавшие восстановить храм, рьяно взялись за дело, тем более что по приказу царя правитель области выделил им из казны необходимые средства для приобретения строительных материалов – камень, кирпич, брус, глина и известь371. Для того чтобы сделать храм побольше, евреи, стекшиеся в Иерусалим со всех концов земли, разрушили остатки былых храмовых стен, выкопав старые каменные глыбы. Казалось, их мечты вскоре сбудутся. Однако Иерусалимский патриарх св. Кирилл I (350—357; 358—360; 362—367; 378—386), ссылаясь на пророчество пророка Даниила, успокаивал христиан, говоря: «Они сами низвергнули последние камни своего храма; посмотрим, как удастся им постройка нового»372.
И, несмотря на все старания евреев, работы в Иерусалиме не увенчались успехом – бури разбрасывали вырытую землю, огненные языки выходили из земли и прогоняли рабочих, иных даже умерщвляя, а потом землетрясение поглотило все возведенные постройки. А в небе воссияло знамение в форме креста, отражающееся на всех окружающих предметах и одеждах работников. Как и следовало ожидать, стать выше Христа Юлиану не удалось373.
Первой заботой нового царя стало восстановление справедливости, в его собственном понимании, в государстве и упразднение тех традиций, которые укоренились в бытность Констанция. Твердый аскет, новый царь немедленно освободил свой двор от многочисленной прислуги, которая тысячами промышляла при Констанции, и ввел буквально спартанский образ жизни. Он также отменил некоторые, наиболее непосильные налоги и обратил самое пристальное внимание на судопроизводство. С полным беспристрастием пытался вникать царь в каждое дело, переданное на его рассмотрение, желая воздать каждому по закону и высшей справедливости. Особенную строгость он испытывал к клеветникам, поскольку, пребывая иногда ранее едва ли не в заточении, на себе испытал последствия их наветов. Юлиан проявлял ревностное стремление разобраться в существе каждого дела, порой нарушая для этого даже правила судопроизводства.
Впрочем, высший судья не всегда был справедлив и объективен; например, он нередко в ходе процесса интересовался у сторон об их конфессиональной принадлежности и, надо полагать, ответ на этот важнейший для Юлиана вопрос нередко предвосхищал судебный приговор. Даже писатель Марцеллин, чрезвычайно благоволивший к Юлиану, был вынужден отметить, что «кое в чем он руководствовался не законом, а своим произволом (выделено мной. – А. В.) и кое-какими погрешностями омрачил широкий и светлый ореол своей славы»374. Конечно, это было серьезным отступлением от платоновских принципов, где закон являлся высшим мерилом справедливости вне зависимости от личных настроений.
И это было только начало. Спустя короткое время Юлиан устроил настоящий террор в отношении всех тех, кто служил Констанцию, стараясь стереть из памяти современников все, что так или иначе относилось к его предшественнику. В первую очередь он прогнал свою жену Елену – сестру Констанция375. Затем к изгнанию были приговорены Палладий, бывший магистр оффиций, бывший префект претория Тавр, о невиновности которого говорит даже Марцеллин. Столь же несправедливо был сослан Флоренций, сын магистра оффиций, а его тезка, другой Флоренций, приговоренный вместе с женой к смертной казни, едва успел бежать и до самой кончины Юлиана опасался заявлять о себе. Казнь Урсула, комита государственного казначейства, по словам Марцеллина, «оплакивала сама Справедливость, обличая императора в неблагодарности»376. Царю даже пришлось распространить слух, что сам он не причастен к гибели Урсула, которого якобы самовольно казнили ненавидевшие его военные. Надо сказать, казни также не отличались особым милосердием: некоторые осужденные, хотя бы и справедливо, по закону, были сожжены живыми на костре.











