Читать онлайн Антиквар. Повести и рассказы
- Автор: Олег Постнов
- Жанр: Современная русская литература
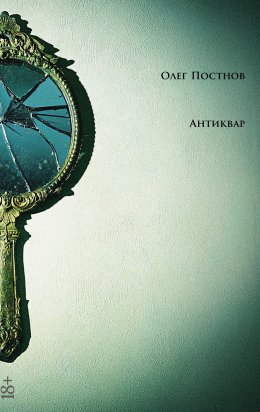
В ряде случаев сохранены авторская пунктуация и орфография.
Издатель Павел Подкосов
Главный редактор Татьяна Соловьёва
Руководитель проекта Мария Ведюшкина
Ассистент редакции Мария Короченская
Арт-директор Юрий Буга
Корректоры Мария Павлушкина, Ольга Смирнова
Верстка Андрей Фоминов
Все права защищены. Данная электронная книга предназначена исключительно для частного использования в личных (некоммерческих) целях. Электронная книга, ее части, фрагменты и элементы, включая текст, изображения и иное, не подлежат копированию и любому другому использованию без разрешения правообладателя. В частности, запрещено такое использование, в результате которого электронная книга, ее часть, фрагмент или элемент станут доступными ограниченному или неопределенному кругу лиц, в том числе посредством сети интернет, независимо от того, будет предоставляться доступ за плату или безвозмездно.
Копирование, воспроизведение и иное использование электронной книги, ее частей, фрагментов и элементов, выходящее за пределы частного использования в личных (некоммерческих) целях, без согласия правообладателя является незаконным и влечет уголовную, административную и гражданскую ответственность.
© Постнов О., 2013
© ООО «Альпина нон-фикшн», 2024
Aнтиквар[1]
Пакет № 3
Вы снова здесь, изменчивые тени…
ГЁТЕ. ФАУСТ
Я не антиквар! Начну сразу с признания: я никого еще не выкопал и даже не осквернил. Мало того, нет смысла обращать внимание на все эти «даже» и «еще». Риторика, только риторика, ничего сверх риторики – в этом все дело. Я никого не убью и не съем. И если кому-то есть дело до моих воззрений – а надо сказать, всегда находятся те, кому есть дело до чужих воззрений, так, будто им собственных мало, – то вот: я убежденный вегетарианец и натуропат. Впрочем, те, кто меня допрашивал, разбираются, надо сказать, в некоторых вещах, относящихся к их профессии. Их нельзя назвать недоумками либо невеждами. Иначе, конечно, не возник бы вопрос об антиквариате. Была, была одна книжка – французская, очень маленькая даже для покетбука, вернее для ливр де пош, – и на нее-то они и намекали. Вернее, хотели застать меня врасплох, думая, что я не пойму, в чем суть их вопроса. И это спасло меня. Я не подал виду, что знаю, к чему они клонят, а попросту изобразил удивление, так, словно речь шла о посторонней вещи. Сказал, что старый хлам мне безразличен, дескать, при чем тут он? В итоге я на свободе, во всяком случае пока, и мой статус – свидетель. Свидетель, а не соучастник, и, видит Бог (Который все видит), это тоже чистая правда. Как правда и то, что моя японочка попалась. Влипла в это дело вместе со своей усатой подружкой. Ту мне не жаль, а как спасти девочку, еще, в сущности, ребенка – во всяком случае подростка, – я не знаю. Вся надежда, что ее сочтут сумасшедшей. И ведь должна же быть где-то справка о ее черепно-мозговой травме (она попала под «КамАЗ», тридцать минут клинической смерти), какой же тут спрос? Справку найдут, конечно. А вот то, что мой дед по отцу был антиквар, – это им никак не узнать.
Да, дед – но не я! Даже если меня снова станут бить, что, впрочем, вряд ли. Это было вначале, а потом мне удалось все объяснить, доказать свою непричастность. К счастью, никто и не думал делать у меня обыск. Все же они меднолобые, хоть и не копы. Правда, у копов медная бляха, не лоб[2]. Но это так, к слову. Я вернулся домой к утру и застал квартиру именно такой, какой она должна быть, когда единственный жилец отсутствовал всю ночь: словно бы отстраненной, чуть-чуть чужой, с бархоткой пыли на полировке стола (à la Louis XIII: дивный столик, доставшийся мне за бесценок; я люблю писать за ним, как, например, теперь, хоть в кабинете есть и писчее бюро, и даже еще компьютер). Я принял душ. Потом стер пыль, расправил постель, уже тронутую углом солнечного луча, сдвинул шторы и даже накинул поверх них черный чехол с фисгармонии, просторный, но неудобный: он повис, как летучая мышь, посреди окна, а сбоку все же пробивался свет. Тогда я вытащил из кладовки ширму (ничего особенного, конец прошлого века – виноват, уже позапрошлого, вот уж действительно хлам!) и в ее тени заснул. Не могу теперь вспомнить, что мне снилось.
Проснулся я на закате. Тело ныло от побоев, но не так сильно, как я ожидал. Всегда, с детства, именно закат был моим любимым временем суток. Я позволил себе полежать еще минут десять, любуясь игрой пылинок в пурпурном отблеске на стене, хотя очень уже хотел в туалет. Впрочем, то, что я терпел, потом, как всегда, окупилось сладостью избавления от лишней влаги, и это тоже напомнило мне детство. Да, странно устроен наш мир: кажется, прежде вовсе не придавали такого значения первым годам жизни человека, первым опытам, впечатлениям. А теперь не вспомнить их в иных случаях – дурной тон. Но что, если я, например, не считаю столь уж важными все эти глупости, которые с легкой (а вернее – тяжкой, несносной) руки Австрии принято выставлять в строку, словно приговор или материал следствия? И как быть, если не первая любовь была самой светлой и сильной? И если какой-то вздор, вроде привычки грызть ногти, так и кажется мне вздором, вопреки мнению ученых мужей? Что тогда? Коли на то пошло, я сам ученый муж и потому знаю цену всем этим вздорным истинам.
Расскажу о себе. Это, впрочем, непросто. И вовсе не оттого, что я сам так уж сложен, нет. Если опять же «по науке», то вся подноготная уместится на развороте медицинской карты. Но в шарлатанство-то я и не верю, а потому знаю, что к ней, к подноготной (милое, кстати, словцо, если вдуматься), человек никак не может быть сведен, даже тупой мерзавец, даже эта усатая девка, подружка моей Инны (так зовут японочку – на деле нанайку; она сплела целую историю, чтобы скрыть это). В отуманенном злым миром и тяжкой судьбой существе все же есть человек – пусть только останки человека, но человека все-таки, не инфернальной твари. Для ненависти, разумеется, хватит и подноготной. Иногда, увы, ее хватает и для любви. Впрочем, для любви порой вообще не нужно подробностей. Только это уж Афродита плебейская, и язычество, и идолопоклонство. Тут черта, рубеж, это нужно понять. И заметьте: я никого не сужу. Просто знаю про себя: зайдя за черту, уже нельзя воротиться назад, кроме как покаянием, и этой черты боюсь, ибо не умею каяться. А в том, чтó до черты, в мире людском и в мире божеском, есть разнообразие, есть много чуднóго, нерешенного, и вот эти разнообразности и дива и составляют человека, но их назвать, поймать словом – трудно, если вообще возможно. И это я понял давно, тоже в детстве.
Может быть, потому я не слишком люблю читать. Не важно, что к моим сорока годам мне пришлось и прочесть, и написать много. Все же вещи в их плоти и соби (in propriae, как писал Сведенборг), в их присутствии, разделяемом мной, тоже присутствующим тут же, в их утвердительном здесь – вещи мне интересней букв. Буквы слишком покорны. Их можно размножить, как блох, и каждая будет не хуже прочей. Тогда как вещь всегда одна. Ее копия – копия, а не она сама. И хотя век штамповки плавно перетек в другой век, еще большей штамповки, все-таки неповторимость иных предметов пока еще сопровождает нас, словно старый друг, с которым видишься время от времени.
Да, а вот друзей у меня нет. И, кажется, никогда не было. Были женщины, но тоже не много, я помню всех. Возможно, о них, а не о себе, и следовало бы рассказать…
Отвлекся. Внезапная мысль, что ведь обыск может произойти и позже, а не сразу после ареста, пусть даже я временно отпущен с предупреждением не покидать город, эта мысль ошеломила меня. Я вскочил, огляделся. Моя квартира уже давно вновь была моей после утренней чуждости. Но как раз теперь я хорошо понимал, нужно было смотреть вокруг совсем чужими глазами, глазами холода и протокола, примерно так: двуспальная кровать, обычная, с мятым от сна бельем; бра над ней, типовая, с регулятором света; рисунок пером в остекленной раме – речка, камыш – подлинник; ширма-складень, трехстворная, XIX век, мореный дуб, сукно – совсем ветхое, правда, а все же… Так, столик. И комод из тех, что достаются в наследство, только очень хорошей сохранности. Канделябр на нем – сатир с виноградной гроздью. Совсем худо: XVIII век, бронза, штучное литье. Ну, это, положим, нигде не сказано, а вот акварель над комодом – «Закат» Борисова-Мусатова, подлинник, подпись в углу. И тут уж не отвертишься.
Будто я и впрямь вертелся, у меня поплыло в глазах. Американская фисгармония – они украшали гостиные богатых горожан времен Гекльберри Финна – собственно, уже чепуха, вздор: я играю на ней, может быть, я учитель музыки, только где же свидетельство, а если частные уроки, то где лицензия? Ну хорошо, ну нарушил закон, учил без лицензии – тогда кто ученики? И «Закат» Борисова-Мусатова есть, конечно, в Симферополе, в тамошнем нищем художественном музее, и это можно проверить, но можно также знать, что их существует два, как, например, и две «Ночи» Архипа Иваныча Куинджи (или даже три)… Нет, нет, это все лишнее, это из допроса, которого не будет, потому что и так все ясно с одного взгляда, а еще кабинет, и там Сомов и Айвазовский, приобретенный отцом в Питере, в середине прошлого века, за пять тысяч рублей старыми деньгами в «Букинисте» на Невском, и бюро, и… бог мой, а эротические рисунки уже безумного Врубеля, купленные когда-то с восторгом у безумного пьяницы – архитектора, а теперь безумно опасные, невозможные, подпадающие под статью о порнографии девяносто первого года, и плевать им, что это ведь Врубель, пусть и безумный, но я-то нет, я в своем уме, стало быть, все равно! Все равно.
Я сел. Действительно все равно. Моя квартира меня убьет, стóит сюда войти хоть одному блюстителю нравов. И изменить этого нельзя, никак нельзя, разве переехать, но у них мой адрес, этот адрес, и где бы я ни жил… Э, стой! Где бы ни жил? Жить я могу здесь. А вещи – вещи-то могут побыть и в другом месте. Конечно могут! Кажется, нашел. Только не надо спешить, нужно все спокойно обдумать. А сейчас – почему бы мне не поесть? Ведь я голоден. Вернее, должен быть голоден, я не ел уже сутки, а то и больше… Вот за едой и подумаю. Время уходит? Ерунда. Если придут сейчас, сегодня, я не смогу ничего сделать в любом случае. Но не придут, рабочий день кончился, опять ерунда, у них он, наверное, не кончается. Да я могу просто не открыть им дверь. Ведь не обязан же я быть дома! Так сразу ломать замок они вряд ли станут. Не те времена. То есть времена уже, может быть, и те, но только еще начинаются, и значит, можно пока не спешить. И спокойно подумать. Всё.
Я пошел на кухню. Меня изрядно тошнило, болели – уже сильно – почки, и весь я был в поту, кухня же прогрелась за день так, что ветерок из форточки ничуть не спасал. Я открыл всю створку, зажег газ, поставил чайник с старательно отфильтрованной водой и вынул из шкафа старинную овощерезку. Да, старинную. И пусть идут к чорту. Ее я прятать не намерен, овощи мне нужны, а мяса и яиц я не ем. Салат получился отменный. От горячего зеленого чая с лотосом я, словно спутник Улисса, почти забыл свои невзгоды – во всяком случае, поздравил себя со спокойствием. Нет лучше средства от жары, чем зеленый китайский чай, да еще, пожалуй, мате. Признáюсь все же, что не удержался и, сложив ширму, уволок ее прочь в кладовую. Потом прошел в кабинет. Продолговатый Айвазовский – тоже закат, но над морем – и, напротив него, простого формата Сомов сильно склоняли меня к тому, чтобы и их, зачехлив, переправить в компанию к ширме. Бессмысленно, конечно: ни диван для курения (а с ним и коллекцию трубок), ни пресловутое бюро, один чернильный прибор которого и то способен стать тяжкой уликой, ни тем паче шкап с книгами (всего лишь две сотни томов, но отборных по содержанию и экстерьеру) никуда спрятать нельзя. Только компьютер в углу на простом офисном столе и с таким же креслом (терпеть не могу все это) вполне безопасен.
Вдруг пришло мне на ум, что если я поступлю, как задумал, то есть спрячу все лишнее в снятой квартире, то пустота моего собственного жилья сделается очевидной и тоже подозрительной. Конечно, подозрения не доказательство, а все же. Я опять огляделся. Да, только компьютер и остается. А тогда, тогда что можно придумать? Лето. Может быть, затеять ремонт? Стащить все, что останется, в гостиную, а тут ободрать обои, начать побелку, поставить стремянку… К тому же ремонт я не делал лет пять. А значит, кстати, в этой, восточной комнате обои выгорели, и на месте картин будут явные, правильной формы пятна. Чтобы проверить свою догадку, я взял стул – резной, с прямой спинкой и упругим пружинным сиденьем, – придвинул его к стене, к подножью Сомова, встал на звякнувшие пружины и приподнял раму. Она чуть не выпала из моих рук. Кто-то уже начал ремонт без меня! Клок обоев был выдран, а цемент под ним расковырян так, что образовалось круглое углубленьице. Из него тотчас скользнул и шлепнулся на пол полиэтиленовый прозрачный куль. И веером по паркету рассыпался вдруг мелкий белый порошок. Не стиральный.
Я, конечно, сразу понял, чьих рук это дело, понял и то, для чего. То-то что для чего! Пожалуй, я и впрямь учитель, по крайней мере педагог. Преподавать в школе мне довелось лишь дважды, и о первом случае еще предстоит сказать. Что же касается последнего, то все началось с почти случайной просьбы довольно далеких моих знакомых, учительской четы, прочесть в курируемом ими классе доклад о русских архаиках, об истории их изучения: Погодин, Древлехранилище и все в этом духе. Доклад удался, за ним последовал второй, потом возник кружок – для старшеклассников, по вечерам, – и почти всю зиму того года я аккуратно ездил чрез полстолицы на заседания, ведóмые мной, но интересные, как я видел, многим. Там я и познакомился с Инной. Кружок к весне распался – дети готовились к экзаменам, мы же с ней завели свои встречи, уже не в школе, а где придется. Как раз открылись тогда знаменитые «Пироги», там мы могли всласть болтать чуть не всю ночь, затем она стала просто ездить ко мне, и краткая наша повесть переросла в роман. Не стану оправдываться: она была двадцатью годами младше меня, и, пожалуй, досужий бесстыдник истолкует это самым гадким образом. И ошибется: она успела перейти в десятый класс, а летняя листва пожухла и опала к тому времени, когда мы сделались любовниками в самом деле. Кстати, о романах: мне всегда были несносны женщины, склонные к сочинительству. Между тем моя Инна чуть не в самом начале приволокла мне рукопись в триста страниц, и это было лишь первое ее сочинение.
Я был изумлен, прочтя. Блестящий сюжет, небывалая архитектоника – роман оканчивался словно бы отдельной новеллой, где два персонажа, в романе почти незаметные на фоне внешних событий и других людей, внезапно оказывались главными героями, судьба которых определила судьбу всех прочих, – и рядом с этим какой-то дурацкий, даже не детский, а именно подростковый безликий язык, почти хулиганское небрежение им, вернее, его незнание. Я был восхищен и разочарован одновременно: не понимал, что ей сказать и что теперь нужно делать. Я сам умею писать. Пусть я прежде не пускал в ход этого дара ради чего-либо, кроме кропотливых записок из истории нашего дома, моего рода (о них ниже), но уметь-то всегда умел и цену своему слову знал. Знал и то, как труден путь постижения языка, его тайн и уловок, эти тайны скрывающих, превращения его в спутника мысли, в инструмент чувств, где клавиш – не десять октав, а тысяча. Нет, я не стал учить ее писать. Я думаю, это и невозможно, коль скоро речь идет о чем-то большем, чем механический навык. Но я стал ей рассказывать – все подряд, о себе, о своих предках (это слово ее смешило, так как означало в ее жаргоне только лишь пренебрегаемых родителей), о тех удивительных вещах, с которыми нам довелось иметь дело, вещах столь небывалых, что самый вымысел рядом с ними – лишь скромный ученик пред лицом правды. Она слушала, иногда удивляясь, иногда не веря и пытаясь спорить, но все же слушала и, как я думал, уже могла кое-что понять.
Мой род – древний, но самая древность его не так интересна, как события двух последних веков, начиная с той поры, как мой прапрадед учредил торговый дом «Ивлинъ и сыновья» в 1819 году в Петербурге. Прославленный своим издательством Смирдин в юные годы был прикащиком в нашем доме, среди клиентов было немало знаменитостей, особенно коллекционеров, охотников до экзотики. И тут сошлюсь на слова своего деда, переданные мне отцом: он говорил, что Ивлин-основоположник, то есть его дед, отличался от прочих любителей древностей, как торговцев, так и покупателей, своим равнодушием к моде. Это-то и позволило ему с легким сердцем продавать вещи, в глазах его сверстников бесценные, но с годами (и подавно – с веками) терявшие свое обаяние, зато оставлять за собой безделушки, которым потом, как оказывалось, и впрямь нет цены. Он отдал военные барельефы Толстого – конечно, не даром, однако без сожалений, но по свежим следам известной пушкинской баллады вначале узнал историю черепа барона Дельвига, пращура поэта, а после смерти владельца и приобрел этот череп у глупой и вздорной баронессы за такие деньги, что та посчитала его своим благодетелем. Десятки икон прошли чрез его руки, однако ж первый дагерротип Дагера и Ньепса попался ему уже в 1841 году и никогда не был выставлен на продажу; а в 1843-м он присоединил к нему пластинку Талбота, хоть, правда, не первую, зато сохранившую на века голую девочку с широко раздвинутыми ногами. Чуть более скромная фаянсовая скульптурка творца Медного Всадника словно сама пришла к нему в дом, но он продал ее, не чинясь, в том же году, о чем можно узнать из седьмой (торговой) тетради нашего дома, и – что ж, пусть украшает Эрмитаж, оживляя скучающих туристов, хоть мне порой и жаль, что я не могу прикоснуться к этому белому хладному тéльцу чужой грезы. Но тень живой голышки мне все же милей. Прапрадед был прав.
Увы! Не все его наследие, как и наследие его потомков, а моих дедов, перешло мне. Бесценные их находки малочисленней моих потерь. Как быть! Жизнь учит не скорбеть об утратах, она твердит, что заменит прежнее новым. И я знаю, что это так, но знаю и то, как это может быть страшно. Откройте-ка Библию, Иов, 42:13. Семь сыновей и три дочери. Вместо прежних. Возможно, что иудеи и считали детей, как скот, – по головам, но в том нет их вины, а только принятие данности: так делал (и делает!) Бог. Но для людей это грех, и боль, и ужас. Прошлое не может попросту превратиться в ничто. Ибо тогда и нынешнее – ничто, и будущее – дрянь, стóит ли оно наших сил, наших душ, если, уйдя вспять, растает, как снег весной, хуже, как облако в небе, без следа, без всякого следа?..
Опять отвлекся. На сей раз зазвонил телефон. Я сразу бросился к нему, чуть не упав, чуть не держась за сердце и понимая, что этого-то я и ждал, жду каждую минуту… Ошибка: не туда попали. И тотчас – снова звонок. Но нет, не то, и теперь не то, не милиция. А только старушка снизу: опять ее залило, и опять виноват я. И тут меня осенило. В самом деле, как же ее залило, если ночь и все утро я не был дома? Нет, говорит, залило. В шесть утра. Она уж звонила, да я не брал трубку. Верно, не брал: я спал. А в шесть вообще давал показания очень далеко отсюда. Значит, одно из двух: либо тут кто-нибудь был (но никто не мог быть, Инна ведь арестована), либо – и это, конечно, так и есть – ее залил не я, а кто-то из соседей. Должно быть, труба в нашем этаже дала течь. Я и раньше удивлялся несовпадению времени таких происшествий с тем, когда я открывал кран. И только теперь понял. И радостно изложил старушке: да, вот оно как, это возмутительно, нужно звонить в домоуправление, нужно требовать починки, меня самого заливает (чистая правда: я утром не раз заставал воду на кухне и все не мог взять в толк, откуда она течет)! Вот в чем дело! Но если так, мириться нельзя! Будем бороться! Будем звонить! Ошеломленная старушка притихла, и мы мирно сошлись на том, что завтра вызовем сантехника.
Но с мысли она меня сбила. Впрочем, мысль не так уж важна. Куда важней то, что все мои усилия в отношении Инны были напрасны, а я был плохой педагог. Этот мешок с героином – или с кокаином? – был лишь цитатой из ее книги. Там одна девушка подсунула его другой, чтобы «вывести из спячки», заставить шевелиться, заметить вокруг мир. И то, что теперь этот мешок валялся на моем полу, означало лишь то, что глупая девка так ничего во мне и не поняла. Знай я об этом раньше, пойми я это (а ведь я должен был понять, ведь она говорила же что-то мне, отвечала порой на мои слова, да я не слушал, слушал самого себя), меня сегодня не били бы по почкам на кладбище, у разрытой могилы. Впрочем, к чорту: ей самой досталось больше, чем мне, а я старше и должен был быть умней.
Да, но кто мог подумать? В моих объятьях она предавалась вслух мечтам, обострявшим ее и мой пыл, я сам научил ее этой нехитрой уловке, «простому возбудителю», как она ее называла, однако там вовсе не было ничего такого. Гм; а что же там было? Все еще стоя над телефоном, я попытался вспомнить. К моему изумлению, возникли образы и стали выстраиваться в ряд. И я увидал странную историю, которую она плела из ночи в ночь, словно дальневосточная Шахразада. И теперь я понимал то, что и раньше мог бы заметить, но не заметил: мирный секс (к примеру, как наш с ней) вовсе не находил себе места в ее фантазиях, как, впрочем, и вообще мирный мир. Вечно там кого-то крали, насиловали, продавали в рабство – и только теперь я понял, что, собственно, не было вообще многих историй: была одна, возобновлявшаяся всякий раз, стоило ей открыть рот, и эту историю, как оказалось, я давно знал наизусть.
Трое приятелей (неужели японцы?), все богачи, юны и хороши собой, решают жениться. В глухой окрестности они купили дом, обставили его по-царски – так, как обставил бы я, будь свободен в средствах и удачлив в находках, – и выкрали трех девиц, тех, что им приглянулись. Тут пуант, нотабене: эти девицы понравились всем троим. Каждую из девиц увезли иным хитроумным способом. Одну – с карнавала, покормив снотворным мороженым (уж не Лизу ли из «Маскарада»? Как раз школьная программа). Другую – подкупом ее дяди, скряги и опекуна (я помню уморительную торговлю, которую Инночка разыграла в лицах). Третью, совсем девочку, один похитил, а другой якобы спас, так что она, вся в слезах благодарности, сама бросилась за своим спасителем – натурально, в тот самый дом. Там их насиловали по очереди – а то и всех вместе, потом влюбили в себя и чуть не повели под венец. И снова Инночке было что изобразить. Их ужас и вскрики в первые дни. Их беседы друг с дружкой. Их попытки то ли бежать, то ли покончить с собой. Их первые стыдливые признания, что, в конце концов (славная уступительная конструкция!), все не так уж и плохо. Действительно, порой было даже очень хорошо. Одна вдруг оказалась нимфоманкой (я помню несколько бурных ночей, призванных показать, как она себя вела). Другая – простодушна и угодлива, этакая Жюстина без жестких правил морали ехидного маркиза, влюбленная в своих «палачей»… Чуть-чуть фальшиво, сознаюсь, но – была дивная нега в том, как она старалась им «угодить». И наконец, третья, самая умная. Эту-то «героиню» я и проглядел. Между тем как раз она, в отличие от меня, в один миг поняла весь смысл событий. Она обаятельна и хитра – только это что-то не русская хитрость (как, верно, добавил бы автор Печорина). Исподволь она взяла в руки бразды правления в этом симметричном гареме: «Милый, ты правда веришь, что утром мне это приятней, чем кофе в постель?», и вот друзья ссорятся из-за нее. Каждый жаждет, чтоб она предпочла его прочим. Ревность, дуэль, кровь. Все всплывает. Девушки спасаются и (опять нотабене!) проводят в скуке остаток дней. Зато их ловкая подруга вовсе не думает скучать. Она давно накинула цепкую лапку на золото трех своих любовников (нотабене с тремя восклицательными, в честь каждого из них), забрала все, спровадив их в могилы, и вышла замуж по любви за ловкого и смелого проходимца. Их первая брачная ночь, их медовый месяц – прекрасны (я знаю, о чем говорю. Не знаю только, как это от меня укрылось, что всё вместе – один сюжет). Ах, глуп я, глуп и стар! Я все это испытал, сходил с ума, терял голову, полагал себя «проходимцем»… Где уж, господи! Я просто спал, как убитый, а утром в блаженстве собственной жизни то нес ей кофе в постель, то пил его сам средь подушек, из настоящего китайского фарфора, помешивая сахар ложечкой с расписной эмалью, вставленной в изгиб витой ручки. Да, я был глуп, глуп. Я попросту давно отвык думать, любя. И что толку в том, что еще могу думать теперь?
Стук в дверь напомнил мне, что порошок на полу до сих пор не убран. Но – и это меня утешило – на сей раз я нисколько не испугался. Я так твердо решил не открывать, так полно убедил себя, что меня дома нет, что я где-то на улице, на прогулке – да хоть тут же, на Фестивальной, просто вышел к прудам, – что лишь приглушил шаги, уйдя в кабинет с совком и щеткой.
Я люблю убирать. Грязь, а особенно пыль, – наш главный враг, возможно, более страшный, чем сама смерть. Во всяком случае, они приспешницы и подружки. Еще в детстве я всегда удивлял свою мать готовностью мыть пол, или натирать паркет, или даже драить кафель на кухне и в ванной. Она удивлялась… впрочем, бог с ней. Мне всегда было неприятно думать о ней. С нею я никогда не был близок – возможно, сказывалась разница в возрасте. Я был поздний ребенок, и мои родители скорее годились мне в бабушки и дедушки. А может быть, дело было в другом. Блаженный Августин в своем духовном восхождении научился углядывать в своей матери сестру и так всегда и молился о ней, завещал ученикам о ней так молиться. Он хорошо исполнил пятую заповедь, и я бы тоже хотел ее исполнить по его примеру, но никогда не мог. Он, впрочем, не был моим любимым святым. Но его душевная чуткость, весь склад его утонченного ума – еще язычника, еще римского интеллектуала, просвеченного верой, привлекал меня. Я подпадал под строй его чувств, особенно там, где он писал о времени. О, он, как никто другой, понимал это безмерное чудо, время! И тут же отказывал в праве певчим исполнять молитвы в полную силу звука, торжества стиха. Странно! Есть ли в православии что-либо более светлое и в то же время нежное, чем молитва, эти слова, расплавленные музыкой, словно воск, и, словно ярый огнь, жгущие в нас все лишнее, преходящее? Я бы хотел, но не мог его понять. Упразднить время – вот что казалось мне главным обетованием Бога. Но он, похоже, искал чего-то еще, еще более важного – и так же моей матери казались ересью мои слова о том, что в каждой частице бытия, будь то вещь или тварь, заключена вечность, не время. Что именно потому и следует очистить все от времени, от пятнающего грязью, от рушащего, как Шива, вещи и людей времени, тогда как все они живы, и живы чувства и мысли, воплощенные в них. Мать уходила от таких разговоров. А после приезда моего с педпрактики – это было важное, может быть, самое главное в моей жизни время – и вовсе отдалилась от меня. Я тогда жестоко страдал. Она не могла не знать, как мне худо, но только спрашивала, не случилось ли что. Что я мог ей ответить! И даже, право, не лгал, отвечая, что все в порядке. Да, все было в порядке, в порядке вещей, в порядке той ненавистной жизни, которую сочинил наш век – или век перед ним, или, может быть, век Реформации, Просвещения. Бог мой, как люто я не терпел мерзавцев вроде Кальвина, вроде Вольтера! Уже Ламетри с его человеком-машиной был только жалкий эпигон, а вслед за ним и творцы анатомических чудес, праотцы ужасов, так называемые романтики. Однажды мне попал в руки том Энциклопедии, бесценное – не с моей точки зрения – первое издание. Запершись у себя, я прилежно сжег лист за листом этот волюм на свечке, а обложку телячьей кожи (экая мерзость, кстати!) отправил в мусорный бак. Вскоре после того мать заявила, что хочет жить одна. Наша старая квартира в тупичке близ Тверской не была дорога мне. Мы легко и быстро разменяли ее на две, в разных концах столицы. По смерти матери я продал ее жилищную долю – как раз ради Врубеля – за солидные деньги и так и остался у себя, на окраине, с каждым годом, впрочем, все расцветавшей и улучшавшейся. Мне было хорошо здесь. Мое одиночество – мое вечное одиночество человека, который не в тягость самому себе, – захватило меня. И держало до прошлой зимы, той самой зимы, когда я встретился с Инной. То есть добрый десяток лет.
Я многое узнал в ту пору. Мои интересы шли об руку с моими делами и теперь, по закону новых времен, не нуждались в тайне. Я мог позволить себе искать то, что считал достойным поисков, зарабатывать средства себе на жизнь своим умом и ловкостью (чуждой, впрочем, обмана), мог вообще выйти из подполья. Дед прожил в нем всю старость, а отец – всю жизнь, я же был свободен. Так, по крайней мере, казалось мне – и вдруг в один миг наивные упованья на общий здравый смысл, на возвращение ценностей, до того попранных, а теперь будто восставших из грязи, расчет на призрачную свободу – все это разлетелось в прах. Мир показал свое лицо. И в уже сгущавшихся сумерках долгого летнего дня я собирал – так мне чудилось – этот прах в жестяной совок посреди кабинета, орудуя щеткой и тряпкой. Нечего сказать: достойный итог! Я был глуп, но в том, что касается «новых времен», надо признать, я не один ошибся. И пострадал, разумеется, не один.
Я, впрочем, был вознагражден за свое бесстрашие: возвратясь в уборную с полным совком героина – или как там его? – я услыхал беседу на лестнице. Нет, никакой милиции не было. Просто добрейшая Ираида Петровна, старушка снизу, с которой я говорил о бесчинствах канализации, заходила ко мне, чтобы вместе с Любовью Львовной, старушкой напротив, моей соседкой vis-à-vis, договориться о вызове слесарей. Оказалось, кстати, что она их уже и вызвала: один из них, запойный пьяница, проживал где-то рядом. Она встретила его во дворе и умолила приехать завтра с утра, со товарищи, к нам: чинить проклятую трубу, выдуманную мной в разговоре. Это-то она и хотела сообщить мне, а теперь сообщала Любови Львовне, сетуя, что вот-де меня опять нет дома. Двойная удача! Завтра утром мне не придется трястись, вскочив с постели от звонка в дверь. Я вернулся в кабинет и водворил Сомова на стену. Щетка и тряпка не оставили от порошка ни крупицы внизу, даже в щелях паркета. Довольный собой, я уже думал скоротать время до сна как-нибудь на свой лад: с книгой в руках (давно стоявшим на очереди Сенковским, девятый том первого посмертного издания, естественнонаучные и критические статьи), с чашкой мате и галетным печеньем на блюдце, сухим и сладким, с сахарной, без яиц, глазурью, когда внезапно острая боль – не то в пояснице, не то под ребром – вернула меня к реальности. Я вдруг снова испугался.
В самом деле: как будто речь шла о порошке! А ведь Инна о нем и не вспомнила, должно быть, довольствуясь тем, во что ей удалось-таки меня втравить… Конечно, может, еще и вспомнит, как знать, но все же главная улика не та. Главная – это я сам: я и моя квартира. Схватившись руками за бока, я вновь затравленно огляделся. Сомов, Борисов-Мусатов. Шкаф книг – низкий, дубовый, с резными дверцами и фигурными стеклами. Сами книги внутри. Конторка в углу (собственно, бюро) с надстройкой для ящичков и откидной доской, обтянутой синим сукном. Диван, трубки. Что с ними делать? Их нельзя спрятать. Нельзя и выбросить (не гадкий же порошок!). Неужели и впрямь затевать переезд? Постанывая, я прошел к кровати. Уже смерклось совсем, до полной тьмы. Тьма стерла закат и накрыла город. Окна в дому напротив образовали световой кроссворд: я часто любил подставлять в него буквы, сперва выстраивая, а потом читая послание, адресованное мне. Если одно из окон гасло – все следовало начинать сызнова, и то, что получалось в конце, бывало не хуже загадок пифии. Но теперь не радовал и этот мой оракул. Первое же слово, которое подходило по горизонтали, вполне могло быть «допрос». А накрест пересекало его «скоро». Я закрыл глаза. Боль не уходила, и все, что мне оставалось теперь, это, забыв крестословицу, пытаться понять смысл мига, ценного, по Вайтхеду, не меньше, чем два часа алгебры (он где-то так и писал). Вайтхед был мой любимец – возможно, за то щедрое и спокойное презрение, с которым осмысливал XVII век, – но алгебру я тоже терпеть не мог. Вчуже я удивлялся себе: как могло быть иначе, если меня били – и при задержании, и на допросе, – как мог я думать, что это все так, почти случайность, достаточно выспаться и все пройдет? Постанывая, я перевернулся и подоткнул под бок подушку. Слегка полегчало. Конечно, можно было дойти и до молитв. Но вот уж этого я не люблю: этого спешного бормотанья заклятий, словно Бог – верховный волшебник, словно бы чудо мира – пустяк в сравнении с насущной нуждой, одолевшей просильца. Едва ли Вайтхед молился о чем-то. Конечно нет. Кто-кто, а он знал цену миру и вряд ли даже пел псалмы от зубной боли – как (впрочем, ценимый им) Августин.
Так, так (часы на тумбочке). Но, если подумать, в чем же смысл этого мига? Этой моей потери здоровья, неожиданной боли, страха, пустоты? Не открывая глаз, я постарался сосредоточиться. Испытание? Нет, испытаний в достатке и без того. Мы бываем испытываемы каждым своим шагом, всякой мыслью, соответствием воли и чувств, любви и дел. И в том, что вот я во тьме пустой квартиры корчусь средь подушек, не в силах избавиться от страха пред чужими людьми, пред неведомым будущим, во всем этом испытания не больше, чем в миг узнавания контуров своей комнаты после сна, в миг пробуждения, когда дела дня, только еще готового начаться, столь чужды телу, его теплу, расслаблению плоти, отдыху. Да что там! Едва ли можно съесть пирожок, не испытав себя. Нет, тут другое, совсем другое. Неуловимое – да, но в том-то и дело, что его нужно поймать.
Мне это, однако, не удалось. Мысли расползлись, как, кстати, и боль, превратившись из острой скобки в не слишком сильное нытье между ребер, и я сам не заметил, как стал думать о посторонних вещах. Теперь на ум приходило что-то смутное, бессвязное, о судьбе нашего рода, что ли, о ее необычности. Да, вот именно: об уникальности. Ведь и само слово «антик» (одна буква угасла в горизонтальной полосе напротив, и тут я заметил, что снова открыл глаза), да, так само это слово означает, среди прочего, «редкость», не только «древность». Мои предки окружили себя редкими вещами и стремились обменять просто редкие на действительно уникальные, единственные. Зачем? И не потому ли их жизнь тоже сделалась непохожей на все прочие, а кстати, и хрупкой, словно музейный экспонат. Да, да, правильно: уникальность. Она есть и во мне, не будь ее, не было бы событий прошедших суток. Но если так – а это так, я не раз убеждался в том, как простые для всех вещи поворачиваются ко мне совсем неожиданной стороной, – то вот, собственно, и ответ. Нельзя решить, к чему вообще нужна любая боль. Мыслить так – значит идти на поводу тех глупцов, что ломали Церковь, ломали веру в чужих умах и воздвигли бессмыслицу, где вместо Бога прогуливается фертом дважды два (Достоевский)… А если мыслить иначе, то нужно понять идею этой боли, моей боли, а не боли вообще, ее – еще раз – уникальность, ее исток и ее значение. Что, пожалуй, осуществимо. Я даже привстал на подушках. Все так просто! Мир вздумал напомнить мне о себе, о том, что он не схема, не механизм дурака Гольбаха. Что на его реальность нужно ответствовать своей реальностью, а она состоит в том, что Инна арестована, я избит, а моя квартира опасна. Нужно действовать, ведь этот мир – мир действия. Недаром именно евреи, в чьих ученьях этот мир так и назван и противопоставлен всем прочим, шеолу, зачастую как раз они были антиквары. Моя семья тут – исключение, но правило касается не одних же евреев! Я снова лег и неспешно, взвешивая слова и поступки, стал придумывать план. И не слишком удивился, когда за окном просветлело, а часы (простой будильник с подсветкой) показали без четверти семь. Я кивнул часам, завернулся в одеяло и уснул. Опять не помню, что мне снилось вначале.
Зато помню конец. В дверь звонили настойчиво, долго, то прижимая кнопку, то сигналя ею, словно азбукой Морзе. Потом принялись стучать. Конечно, старушка и слесарь. Лишь беруши в ушах не дали им вовсе согнать мой сон. Сами они превратились в фарфоровую группку на резном комоде, а стук – в гром сотрясшей мой сон грозы. Этот гром во сне я знал очень хорошо: это был странный сон, странный уже тем, что время от времени он повторялся. Я начал его видеть вскоре после той педпрактики, о которой, увы, придется сказать. Но еще не теперь, позже, позже…
Итак, мне снилось, будто я вхожу в большой сад или в загородный дом, окруженный этим садом. В действительной жизни я никогда в таком не был. Дом был очень велик, комнат в двадцать, с огромной гостиной, в которой обычно все и начиналось. Я стоял посреди нее, в сумраке, а за окном собиралась гроза. Именно поэтому, из-за грозы, никак нельзя было понять, какое же на дворе время суток: раннее утро или – тоже ранний – вечер. Мне, однако, казалось, что утро; не знаю уж почему, но гроза утром страшней, а это был страшный сон. Правда, вначале в нем как будто ничего не происходило. Сполохи зарниц в окнах, какая-то дряхлая, будто съежившаяся мебель по стенам, да еще смутное чувство, что я не один. Сколько помню, выяснить, так ли это, я никогда не пытался. Вместо того, оставив гостиную, я проходил тесным и длинным коридором к выходу, и вот уж передо мной был сад. Мой спутник (тут становилось ясно, что он – есть) сперва следовал за мной, а потом держался все по правую руку, но так, что я не мог (возможно, что не хотел) его видеть. Собственно, я смотрел всегда вниз – чтобы не оступиться. Сад был сильно запущен. Дорогу преграждали то упавшие ветви, то кривые канавки с желтой водой, в которых внезапно отсверкивала молния. Но дождя не было. Серое небо – порой я взглядывал и вверх – было как-то неестественно высоко, и именно там, в вышине, будто сошлись углом две гряды туч, словно цепи бойцов, готовых к битве. Мы между тем всё идем, сад редеет, вот и пустырь – не пустырь, но что-то вроде опушки. Земля и здесь вся в комьях, вперемешку с травой. Но уже понятно, в чем дело: кто-то построил и грубо врыл тут столбы деревянных лавок и столов, таких, как ставят в деревнях на свадьбу или поминки. Сейчас они пусты; лишь с краю, ближе к нам, сидит сгорбившись человек в черном. Мы садимся напротив, и я вижу, что это совсем еще молодой человек. Крупное тело, руки с тяжелыми ладонями – все скрыто черной одеждой, только ладони и видны. Неприязненно, без улыбки он смотрит на нас.
– Я не буду с тобой разговаривать, – говорит он моему спутнику, – на тебе креста нет.
От ужаса я весь сжимаюсь, я знаю, что уж ему-то такое сказать нельзя, а сам между тем смотрю себе на грудь. Занятно: я тоже весь в черном, только одежда не падает складками, а, скорей, облегает тело, и поверх нее на цепочке висит крест – мой.
– Ты сам без креста, – слышу я спокойный, без злости, ответ. – Но я повешу его тебе на шею.
Я снова взглядываю украдкой: на столе, перед нами, три чаши и темный сосуд с вином. Чаши пусты. Одну из них наш собеседник придвинул к себе и теперь потрогивает край белым пальцем. Кругом его воротника бежит толстая цепь с тоже толстым крюком в форме обращенной S. При последних словах гадкая улыбка искажает его лицо. Но он – это видно в глазах – уже понял, ктó мой спутник. Он хочет что-то сказать, усиливается вскочить, когда удар грома будто пригвождает его к месту, а ветвь огромной, во все небо, молнии ударяет в грудь. Молния гаснет, и тяжкое медное распятие виснет на крюк, натянув цепь. Я снова вижу гадкую улыбку, распятие тает – тает, словно лед в воде, – и исчезает совсем. Тьма сгущается. Уже ничего нельзя понять. Гром сливается в череду разнородных шумов, гудений, вскриков. Новый сон бессвязен, ярок. И я открываю глаза от боли в боку, куда равнодушный граф в одежде Louis XIII вонзил узкий, щербатый нож. На дворе закат. На комоде звенит телефон.
Да, Ариадна Петровна. Ах, простите – Ираида. Запутался в лабиринте. Да, конечно. Буду обязательно. Извините, что не открыл: спал. В следующий раз открою. Конечно, конечно, ведь нужно же починить трубу. Да, я понимаю. Так уж случилось. Простите великодушно, виноват, виноват… Доброй старушке, правда, надлежит принять все это телепатически: боль в боку такая, что встать и снять трубку я не могу. Господи, да не отбил же мне почку этот проклятый мент?!
Снова кряхтя, морщась, я дотащился до туалета и так же с болью (к счастью, не с кровью) справил нужду. Потом вернулся к телефону. Он уже смолк. Ничего, мы это исправим. Вот, кстати, тот лист, на котором мне записали номер, прежде чем выпнуть из милиции. Мой план, правда, совсем уже не казался мне столь надежным, как ночью, тем не менее я набрал этот номер и вслушался в наушник. Всего два гудка. Потом тихое и грозное:
– Алло?
Так, словно он как раз и поджидал меня. Ладно.
– Я хотел бы слышать следователя Сорокина.
– Я у телефона.
– Говорит имярек, свидетель по делу об осквернении могилы, имевшему место на ***ском кладбище позапрошлой ночью.
– А, Степан Васильич, – в голосе Сорокина вдруг явилась необычайная мягкость. – Как же, как же. Мы уже заезжали к вам. Сегодня утром. Но дверь никто не открыл.
Ага, значит, это был не монтер. Весьма удачно. Но какой милый тон! Прямо нежный упрек старого приятеля.
– Верно. Я слышал звон. Но не мог встать, – сказал я.
– Не могли встать? Почему?
– Накануне вечером у меня болели почки. После побоев (это я произнес четко). Так вот, чтобы уснуть, я был вынужден выпить снотворное. А поскольку обычно снотворных я не пью, оно подействовало сильно. Сквозь сон я слышал, что в дверь звонят. Но не сумел подняться и открыть.
– Так-так. А сейчас вы находитесь дома?
– Мне было дано предписание не покидать город. И я не намерен его покидать. А, кроме как в своей квартире, мне находиться негде.
– Таким образом, вы можете явиться к нам для дачи новых показаний?
«И получения новых пинков», – добавил я мысленно. Но вслух сказал:
– Да, могу. Когда нужно это сделать? Сейчас? Завтра?
Сорокин помялся.
– Мы вас известим, – сообщил он затем. – Конечно, если вы будете дома.
– Мне нужно выйти в магазин за продуктами, но он рядом. Других дел у меня нет.
– Вот и отлично. Вы что-то хотели спросить меня?
– Да, хотел.
– Что именно?
– Могу ли я видеть Инну?
Я очень старался, чтобы мой голос не дрогнул, но он дрогнул все равно. Что ж, так тому и быть. В конце концов, это не запрещается.
– Инну? А зачем вы хотите ее видеть?
Тут у меня все было продумано наперед.
– Поскольку она моя невеста, – сказал я.
Сорокин вновь замялся.
– В деле этого нет, – сообщил он потом.
– Да, и не может быть: прежде я этого не говорил.
– Очень интересно, – сказал он на сей раз бесцветным тоном, явно показывая, что ничего интересного в моем признании нет. – Теперь, однако же, вы это говорите. Почему?
Тут уж замялся я – для виду.
– Я делал ей предложение, – сказал я наконец.
– Она отказала?
– Она не сказала «нет». Просила подождать с ответом.
– Так-так, – он, верно, покивал у себя над трубкой. – Должен вас огорчить, Степан Васильич. Свидания с ней до конца следствия ограничены.
– Это касается всех?
– За вычетом ее родителей. Но вас-то касается прямо. Даже можно сказать – в первую очередь. Не забывайте: вы ведь у нас свидетель.
Скажите пожалуйста! А я и не знал.
– Я не забываю. Но это значит чтó: что она – обвиняемая?
– Подозреваемая, скажем так. – Голос опять стал вкрадчивым. – До суда вы можете видеться с ней разве что на дознании. И это если вас пригласят.
– А меня пригласят?
Он вздохнул.
– Не могу вам этого обещать.
На том разговор и завершился. Я еще раз посулил быть в пределах досягаемости и положил трубку. Да, как же, повесишь им крест на шею, чорта с два! Даже и пытаться не стоит.
Бил и допрашивал меня, однако ж, не он. Того фамилия была, кажется, Иванов. Или, возможно, Захаров. Но не Сорокин, точно. А вот о книжке Витткоп осведомлялся кто-то в углу, кого я не разглядел. И если судить по голосу, то очень может быть, что и он, очень может быть… Те же вкрадчивые, ласковые интонации, тот же дружеский голосок: «А вот такую-то, часом, вы не читали?» Порфирий Петрович хренов. Не читал-с. Тоже мне психолог нашелся…
Эх-х. Хорошо ругаться, да от ругани толку мало. Дело мое ведет, судя по всему, как раз Сорокин. И это крайне опасно. Некрофил г-жи Витткоп был наследственный антиквар. В несчетный раз я поглядел вокруг. Вот когда я пожалел, что продал квартиру матери. Можно было бы перебраться туда, хотя, конечно, это не спасло бы: меня могли обыскать и там и здесь, просто проверили бы обе квартиры. Да нет, вздор. При чем тут мать? С тем же успехом я могу просто снять комнату, что с того? Там известен мой адрес. Вчерашний план казался теперь каким-то вялым, совсем не подходящим к темпу событий, уже готовых захлестнуть меня. Машинально я снова взял трубку и позвонил вниз, старушке Ираиде. Так и есть: это не она набирала мой номер минут двадцать назад. И не знает, когда будет слесарь. Хорошо бы, чтоб я тоже подал заявку, а то от соседа-пьяницы толку мало. Что ж, подам. Я положил трубку, окончательно уверившись, что и утром в дверь, и вечером по телефону звонил мне именно он, Сорокин. А краткий диалог с ним столь же твердо убеждал в том, что мой «вайтхедовский» план – все толком объяснить в милиции, нанять адвоката Инне, вообще занять спокойную, полную достоинства позицию – прекраснодушный бред интеллигента. «Вы ведь пока свидетель…» Именно так. А значит, надо спасать свою шкуру. Все же, поскольку была половина шестого, я позвонил в справочную и узнал номера адвокатских контор вблизи моего дома. Звонки туда окончательно выбили меня из колеи. Почти всюду делами вроде моих не занимались. Какой-то малый с «Аэропорта» сказал с ухмылкой, что я, конечно, могу его навестить, но, когда я спросил, как дойти до него от метро, мерзавец нагло гоготнул, добавив, что дороги не знает, так как в метро не ездит. Вдобавок почки опять принялись ныть. Я дождался, пока жара спадет, снова пошел на кухню и съел еще одну порцию салата, запивая его на сей раз мате. Подумал, что эдак питаться – один раз в день – никак нельзя. И вдруг впервые, с полной ясностью, до конца и уж теперь без тени сомнений, осознал, всем существом своим понял, что мое дело – дрянь.
Меня как будто тряхнуло. Уже двадцать четыре часа я тут разлеживаюсь, думаю о царе Горохе, вспоминаю философов да спускаю в унитаз героин, меж тем как менты на хвосте, обыск – наверняка – завтра утром, и, кроме невнятных бормотаний о своей невинности, в голове у меня ничего нет. Я даже вскочил. Потом сел. Кстати, о героине. С чего я взял, что Инна сделала лишь один тайник, за Сомовым? Да она могла всю квартиру этой дрянью напичкать! И потом помалкивать на допросе, зная, что и так ведь найдут. Да, найдут! Господи, где же был мой ум?
Я снова вскочил и умчался в кабинет. Айвазовский накренился у меня в руках, но, кроме яркого пятна обоев (в сравнении с выгоревшими вокруг), за ним ничего не открылось. Так, а просто мебель? С четверть часа я выдвигал ящики бюро, шарил в тумбах стола и на полках шкафа. Потом перешел в гостиную и обследовал комод. Хотел снять нижнюю панель с фисгармонии, но вспомнил, что делал это недавно, с неделю назад (запала одна из педалей). Однако «Закат» и «Камыш» над кроватью все же проверил. Если забыть про паркет, больше смотреть было негде. Я пошарил и по полу – не шелохнется ли какая из досок. Не шелохнулась. Но когда я поднял к глазам выпачканные пылью руки, то был уже весь в поту. Сел на пол и разрыдался. Все было напрасно! Я снова делал не то! Ведь тут будут искать не героин, разумеется, тут будут искать меня, мою душу, мою суть! И даже не искать – смотреть! Боже, где же выход? Где выход? Ведь он должен быть!
Не знаю, сколько прошло времени, прежде чем я пришел в себя. Дом напротив уже опять зажег свой кроссворд, но на сей раз я не подставлял в окна букв. Что, если мыслить логически? Тогда следует признать то, что я и так сразу понял: кому-то там известна связь между раскапыванием могил и антиквариатом. До тех пор, пока я скучный имярек сорока лет, с плешью и избыточным весом, мое присутствие ночью на кладбище вполне объяснимо – так, как я его и объяснил. Однако стóит мне стать наследником моих дедов, хранителем некоторых, не совсем обычных сокровищ, древностей особого рода (как, скажем, череп прославленного барона), интерес к моей бледной персоне может быть проявлен куда больший, а дознание, как знать, доберется и до прошлого, к примеру до моей педпрактики. Этого нельзя допустить. Так вот: что я с этим могу реально сделать? Конечно, прозорливец, спросивший о той книжке, способен и сам, без подсказок, навести обо мне справки. Но тут, даже если ему повезет, ему, пожалуй, скажут, что я нумизмат: нумизмат, а не антиквар, и только; даже не фалерист (я действительно много лет латаю дыры в бюджете меной одного презренного металла на другой, и это тем легче, что я равнодушен к обоим). Он даже не сможет ничего доказать: у меня нет коллекций. Зато то, что у меня есть, наводит на другой след. Значит, этот след нужно спрятать. Не рыдать, не заламывать руки, а искать квартиру, искать тех, кто поможет мне все туда отвезти, сделать это как можно скорее, а здесь начать ремонт. Как это ни трудно и громоздко, но это осуществимо. Значит, нужно осуществить. Внезапная мысль, что ведь осквернение могил карается по закону не только в уголовном порядке, но также и путем предъявления гражданского иска, то есть, попросту говоря, штрафом с описью и распродажей имущества (которое за бесценок скупают, понятно, сами судебные исполнители), эта мысль окончательно вернула меня на землю. Я сидел на полу у кровати, с размазанной по щекам грязью, держался руками за бока, но уже не плакал, а думал. Боль постепенно уходила, но не это было главное. Главное, я теперь знал, что делать и кто мне в этом может помочь.











