Читать онлайн Диоген
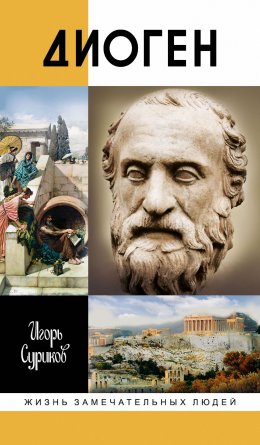
Пролог
«Непристойный образ»
…Был у нас грузчик один, гимназист, бродяга. В грузчики из форсу поступил. Он нам рассказывал как-то: черт его знает когда в Греции были такие ученые, что много о себе понимали, называли их философами. Один такой типчик, фамилии не помню, кажись, Идеоген, жил всю жизнь в бочке и так далее. Лучшим спецом среди них считался тот, кто сорок раз докажет, что черное – то белое, а белое – то черное. Одним словом, были они брехуны.
Н. Островский. «Как закалялась сталь»
Как можно видеть из эпиграфа, персонаж романа Николая Островского, простой рабочий, при всем своеобразии его представлений о древнегреческой философии, все-таки запомнил, пусть и в искаженном виде, имя одного – и только одного – из ее представителей (хотя просвещавший его грузчик-гимназист наверняка называл и других). Примечательно, что этим единственным оказался именно тот, кто станет героем нашей книги. Ситуация, между прочим, в высшей степени характерная: даже и поныне каждый, кто хоть что-то слышал об античных философах, обязательно знает Диогена. Он может быть максимально далек от всего этого круга сюжетов, он может понятия не иметь о Платоне или Сократе, но Диоген с пресловутой бочкой (и как раз благодаря бочке) точно всплывет в его памяти.
Да, этот древнегреческий мыслитель действительно популярнее, даже «роднее» людям, чем остальные. Прежде всего, конечно, из-за рассказов о его многочисленных «чудачествах» (которые для него на самом деле были отнюдь не чудачествами, а элементами последовательного, продуманного, выверенного образа жизни, отражающего совершенно определенную мировоззренческую позицию). И у нас о них, конечно, будет говориться много – какая же книга о Диогене без этого? Но, кстати, порой в связи с ними придется делать неожиданные разоблачения.
Начнем с бочки – ее не было. Точнее, это была вовсе не бочка. Во всяком случае, не то, что нам представляется, когда мы произносим слово «бочка». Однажды в детской иллюстрированной книжке о Древней Греции автору этих строк попалась помещенная при главке о Диогене картинка: стоит обычная деревянная бочка, обитая железными обручами, а из нее сверху торчит бородатая голова. Не можем не констатировать, что в данном случае художник, не подумав, изобразил сущую нелепость.
Собственно, в чем состоит цель жилища? Любой скажет – в защите от холода. Безусловно, но не только. Не менее важна защита от осадков (не случайно «кров», «крыша над головой» – устойчивые синонимы слова «дом»). А в условиях мягкого субтропического климата Эллады, где не бывает сильных морозов, эта функция выдвигалась на первый план. Ибо греческая зима – это прежде всего частые проливные дожди.
- Дождит отец Зевс с неба ненастного,
- И ветер дует стужею севера;
- И стынут струйки дождевые,
- И замерзают ручьи под вьюгой.
Уже это четверостишие, принадлежащее одному из величайших лириков античности, демонстрирует, что зимнее время в Греции (а здесь описывается именно оно) напоминает скорее осень в нашей средней полосе. И скажите на милость – какой прок в подобных условиях может быть от стоящей под открытым небом бочки? Мало того что она не спасет от ливней – она очень скоро сама наполнится водой и в ней будет просто невозможно находиться.
Да и вообще у древних греков не существовало привычных нам деревянных бочек. Страна их всегда была бедна лесом, но зато богата глиной. К дереву как материалу приходилось относиться бережно, и оно шло преимущественно на постройку кораблей – ведь из глины судно не слепишь. Поэтому не только посуду, но и по возможности большую часть прочей домашней утвари старались делать керамической (само слово «керамика» – от древнегреческого керамос, «глина»).
Та роль, которую у нас выполняют бочки, принадлежала пифосам – очень большим глиняным сосудам продолговатой формы, с закругленным или заостренным днищем и широким горлом. Пифосы обычно вкапывались в землю, и в них хранили сыпучие и жидкие продукты (зерно, оливковое масло). Один такой сосуд лежал (подчеркиваем, именно лежал – стоять пифосы не могли) на главной площади Афин Агоре; в нем-то и обосновался Диоген. Приведем соответствующие цитаты из источника. Сразу оговорим, что в русском переводе (его сделал наш выдающийся ученый М. Л. Гаспаров) «пифос» оригинала передан выражением «глиняная бочка». Перевод ведь рассчитан на широкого читателя, которому слово «пифос» вряд ли что-то скажет.
«Однажды в письме он (Диоген. – И. С.) попросил кого-то позаботиться о его жилище, но тот промешкал, и Диоген устроил себе жилье в глиняной бочке при храме Матери богов; так он сам объясняет в своих „Посланиях“» (Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов[1]. VI. 23). И далее: «Афиняне его любили: так, например, когда мальчишка разбил его бочку, они его высекли, а Диогену дали новую бочку» (Диоген Лаэртский. VI. 43).
Мать богов (иногда Великая мать богов) – культовый эпитет древнегреческой богини Реи, родительницы Зевса. Ее храм в Афинах (Метроон) выходил на западную сторону Агоры и в те времена, когда жил Диоген, ассоциировался уже не столько с религиозными, сколько с государственными делами: в нем размещался главный архив Афин1. Фундамент этого здания обнаружен в ходе археологических раскопок. Где-то тут же, рядом, находился и Диогенов пифос (видимо, по какой-то причине его уже не использовали по назначению).
Городская площадь – место по определению людное. Помимо местных жителей, на ней всегда было и немало чужеземцев, приехавших из других греческих полисов[2] с торговыми или туристическими целями – чтобы посмотреть на афинские достопримечательности. Большим количеством таковых «город Паллады» как магнит властно притягивал к себе целые толпы таких паломников. Еще до прибытия нашего героя один комедиограф писал:
- Коль ты Афин не видел, пень ты; ежели,
- Увидев, не влюбился в них – осёл; а коль
- Покинул с удовольствием – ослище ты.
С появлением же Диогена (а он, как мы увидим, тоже был не коренным афинянином, а человеком пришлым) число этих достопримечательностей пополнилось пифосом и его обитателем. Несомненно, многие специально шли взглянуть на него – а вдруг повезет стать свидетелем какой-нибудь его очередной выходки. Афинские власти, следует полагать, понимали ценность этих «реликвий» и не хотели их утратить – даже, как было упомянуто выше, дали Диогену новую «бочку» взамен разбитой.
Кто не видел древнегреческих керамических сосудов! Каждый сколько-нибудь уважающий себя художественный музей считает своим долгом иметь их коллекцию – пусть хоть небольшую. Есть такие коллекции и в московском ГМИИ им. А. С. Пушкина, и – многократно превосходящая ее по количеству экспонатов – в санкт-петербургском Эрмитаже. Правда, на музейных витринах размещают, как правило, зрелищную расписную керамику, хранившуюся в комнатах и употреблявшуюся на пирах: амфоры, в которых вносили вино, гидрии, служившие для воды, кратéры, где пирующими вино и вода смешивались – таков был эллинский обычай, – килики, из которых пили, и т. п.
Пифосы, понятно, не расписывались. Им красота была не нужна, в них ценили другое – вместительность. Они могли быть воистину огромными – и два метра в длину, и больше. Так что не следует думать, будто философ сидел в своем жилище скрючившись. Припоминается из студенческих лет – преподаватель, рассказывающий нам о Диогене, вдруг бросает язвительную реплику: «Вот говорят – бочка, бочка… Да он в ней гостей принимать мог!»
Думается, не случайно в связи с Диогеном чаще всего вспоминают именно этот сосуд. Он, по сути, является символом всей его личности, всего его поведения. И действительно, человек, избирающий себе жильем предмет, для жилья не предназначенный и в общем-то не приспособленный, демонстративно заявляет всем: он делает и будет делать вещи, которые приличные, «социализированные» люди не сделают ни в коем случае.
«Когда кто-то привел его в роскошное жилище и не позволил плевать, он, откашлявшись, сплюнул в лицо спутнику, заявив, что не нашел места хуже» (Диоген Лаэртский. VI. 32).
«Увидев сына гетеры, швырявшего камни в толпу, он сказал: „Берегись попасть в отца!“» (Диоген Лаэртский. VI. 62).
«Однажды он рассуждал о важных предметах, но никто его не слушал; тогда он принялся верещать по-птичьему; собрались люди, и он пристыдил их за то, что ради пустяков они сбегаются, а ради важных вещей не пошевелятся» (Диоген Лаэртский. VI. 27).
«Нуждаясь в деньгах, он просил друзей не „дать ему деньги“, а „отдать его деньги“» (Диоген Лаэртский. VI. 46).
«Однажды он закричал: „Эй, люди!“ – но, когда сбежался народ, напустился на него с палкой, приговаривая: „Я звал людей, а не мерзавцев“» (Диоген Лаэртский. VI. 32).
«Однажды он голый стоял под дождем, и окружающие жалели его; случившийся при этом Платон сказал им: „Если хотите пожалеть его, отойдите в сторону“, имея в виду его тщеславие» (Диоген Лаэртский. VI. 41).
«То и дело занимаясь рукоблудием у всех на виду, он говаривал: „Вот кабы и голод можно было унять, потирая живот!“» (Диоген Лаэртский. VI. 69).
«Все дела совершал он при всех: и дела Деметры, и дела Афродиты» (Диоген Лаэртский. VI. 69). К этой фразе необходимы некоторые пояснения. Всем, наверное, понятно, что имеется в виду под «делами Афродиты». А «дела Деметры» – это то, что связано с питанием. Богиня Деметра почиталась как подательница хлеба, а именно хлеб и другие блюда из злаковых составляли основу рациона древних греков. Собственно, только это и воспринималось как пища в прямом смысле слова, остальные продукты (например мясо) называли «приправами».
Есть на улице, прилюдно, у греков тоже считалось очень неприличным. Наш же герой попирал и эту норму. «Рассуждал он так: если завтракать прилично, то прилично и завтракать на площади; но завтракать прилично, следовательно, прилично и завтракать на площади» (Диоген Лаэртский. VI. 69). Обратим внимание: тут ведь перед нами самый настоящий силлогизм. Или скорее пародия на силлогизм.
Блестящий знаток античной философии (и сам, как известно, один из виднейших русских философов XX века) Алексей Федорович Лосев (1893–1988) назвал тот образ Диогена, который предстает перед нами из рассказов о нем, «вполне непристойным»2. И вот об этом-то, как видим, крайне необычном человеке у нас и пойдет речь. О мыслителе, который широкой публике известен «бочкой» да пресловутыми непристойностями, а для ученого, специалиста по античности, является прежде всего крупнейшим представителем философского направления, известного как кинизм (а его приверженцы – как киники). Кстати, от этих древнегреческих терминов (что они буквально означают, мы со временем узнаем), воспринятых современными языками в латинской огласовке, идут хорошо известные всем слова «цинизм» и «циники», – согласимся, вполне уместные применительно к Диогену и таким, как он.
Среди античных философских школ киническая – одна из наименее изученных. Если о платонизме, аристотелизме, стоицизме и др. написаны тома и тома (можно сказать, целые библиотеки), то о кинизме лишь редко-редко найдешь научную работу. В частности, в нашей стране им серьезно занимался, пожалуй, лишь один исследователь – Исай Михайлович Нахов (1920–2006). Его перу принадлежит, например, книга «Философия киников»3; он также составил «Антологию кинизма» – сводку свидетельств о философах, разделявших это учение, сохранившихся отрывков из их трудов, приписываемых им изречений и т. п.4.
И. М. Нахов посвятил киникам, можно сказать, всю свою жизнь. Он настолько увлекся этими мыслителями, что просто-таки полюбил их и стал их страстным апологетом. Процитируем хотя бы суждение, которым завершается его только что упомянутая монография:
«Киники проделали огромный исторический путь. Их появление на арене истории греческой философской мысли и культуры на рубеже V и IV вв. до н. э. знаменовало начало конца мировоззрения классической древности. Зародившись в недрах античности, киники не пережили ее, но они одни из первых громко заявили миру, где один находится в рабстве у другого, что такой порядок никуда не годен, несправедлив и подлежит отмене. В свой жестокий и несентиментальный век киники, эти бунтари-одиночки, настойчиво привлекали внимание к обездоленным и неимущим, „кричали“ о недопустимости всяческого рабства, об отвратительности мира сытых и самодовольных, будили заснувшую совесть людей. И этот голос, пришедший из дали веков и народных глубин, трогает нас и поныне»5.
Кстати, ощущаете сам дух этой риторики? Сразу видно, что цитата взята из работы времен СССР: сейчас так уже не пишут. Главный, принципиальный тезис Нахова заключался в том, что кинизм представлял собой идеологию трудящихся античного мира, особенно рабов. И это не могло не «прийтись ко двору» в условиях советского режима с его официальной марксистско-ленинской идеологией («единственно верным учением»), основной пафос которой – воспевание борьбы угнетенных людей труда против «сытых и самодовольных» эксплуататоров.
Кроме того, марксизм – философия подчеркнуто материалистическая. Более того, это воинствующий материализм, яростно борющийся против любых идеалистических взглядов. Соответственно, И. М. Нахов и киников делал союзниками марксистов, материалистами. «Мы… должны рассматривать кинизм как демократическую и материалистическую реакцию на аристократический идеализм и этику Сократа и Платона»6.
В условиях идеологического монополизма мало кто мог решиться возразить на эти положения. Одним из немногих, кто имел смелость так поступать, был как раз А. Ф. Лосев (к тому времени уже прошедший лагеря), опиравшийся, конечно, и на свои колоссальные знания, и на беспрецедентный авторитет среди коллег. Великий ученый писал, например:
«…В исследованиях И. М. Нахова имеется одна весьма сильная тенденция, которую уже нельзя назвать удачной… Этот исследователь во что бы то ни стало хочет сделать киников чем-то весьма положительным и чуть ли не революционным, а их противника Платона чем-то обязательно очень плохим, идеологом аристократического рабовладения и нечестным возражателем киникам. Противопоставляя киников Платону, автор весьма откровенно сочувствует киникам, а не Платону»7.
По поводу постулируемого Наховым материалистического характера кинического учения Лосев заметил: «…Если исходить из основной характеристики философии киников, то может возникнуть вопрос, является ли эта философия материализмом. В основе всего познания у киников признаются только одни единичные чувственные восприятия и запрещается делать из них какие бы то ни было обобщения. Отпадает всякое участие разума или рассудка, отпадает установление всех закономерностей даже чувственно воспринимаемого мира, а тем самым не признается никаких законов природы… Спрашивается: какой же это материализм? Это – не материализм, но чистейший агностицизм»8.
Агностицизм – «философское учение, согласно которому не может быть окончательно решен вопрос об истинности познания окружающей человека действительности»9. С материализмом агностицизм абсолютно несовместим; он, напротив, свойствен некоторым системам идеалистической философии (в первую очередь имеем в виду субъективный идеализм Нового времени и таких его представителей, как Беркли, Юм, Кант).
Не согласен А. Ф. Лосев и с определением кинизма как идеологии «угнетенного народа и рабов»10. И аргументы его воистину убийственны (используя его собственный эпитет11): «Никакой идеологии у рабов не было и не могло быть… Да и хороша же была бы передовая идеология угнетенных, основанная только на одном агностицизме!.. Неужели такая низкопробная идеология могла в какой-нибудь мере соответствовать потребностям рабских масс и демократических низов греческого общества?»12
Невозможно не увидеть в этих словах беспощадную иронию. Один из спорящих буквально кладет другого на лопатки. Причем побивает его его же собственным оружием – обращаясь к марксистско-ленинской фразеологии.
Да и на самом деле концы с концами не сходятся, если признать, что тот же Диоген исповедовал идеологию трудящихся и эксплуатируемых. Сам он никогда не трудился (во всяком случае, с того момента, как стал киником) и, более того, возвел это в принцип. А что касается «эксплуатируемых» – попробовал бы кто-нибудь поэксплуатировать человека, который с самим царем разговаривал дерзко и надменно, а когда его продавали в рабство кричал: «Не хочет ли кто купить себе хозяина?» Эти эпизоды его жизни еще пройдут перед нами.
Но если кинизм выражал интересы не трудового народа, то чьи же, по мнению А. Ф. Лосева? Ведь, опровергая точку зрения оппонента, нужно взамен предложить иную, собственную. И у Лосева она была, но о ней (мы ее полностью разделяем) пока умолчим. Сохраним интригу. Негоже уже в прологе, как говорится, выкладывать все козыри.
Самые нетерпеливые могут заглянуть в главу «Собачья философия», ближе к концу книги. Но мы бы не рекомендовали это делать. Советуем просто читать все по порядку, и по ходу чтения каждый сам поймет позицию Диогена из его слов и дел. Это приятнее, чем получить готовое разъяснение.
Следует отметить, что проблема «социальных корней» кинического учения ставилась и в западной науке, в том числе в самое последнее время. Так, Ф. Босмэн опубликовал по этому вопросу статью, в которой он поставлен уже в заголовке: «Античный кинизм: для элиты или для масс?»13, и пришел к выводу, что однозначный ответ невозможен, поскольку в данной философии переплелись элементы и элитарных, и массовых идей. У. Десмонд в работе, специально посвященной Диогену, «главному кинику», тоже подчеркивает неоднозначность, противоречивость, парадоксальность (в частности, и в социальном плане) его взглядов14. Как бы то ни было, Диоген неотделим от кинизма, а кинизм – от Диогена, о том и о другом придется рассказывать, учитывая их неразрывную связь.
Приступая к работе над жизнеописанием «мыслителя-хулигана» (его, кстати, высоко ставил другой «хулиган от философии», Фридрих Ницше, так и заявивший: «Кинизм – самая высокая вещь на земле»15), автор отдает себе отчет в том, насколько трудной будет эта работа в силу крайней скудости биографических данных о нашем герое. О ком-то из знаменитых людей античности известно больше, о ком-то меньше… Автору этой книги, например, давно хочется написать биографию Фемистокла. Жизнь этого знаменитого полководца и политика освещена в источниках достаточно детально, она так и просится на бумагу, тем более что такой книги на русском пока нет16. Однако в издательстве «Молодая гвардия» говорят: Фемистокл – не оптимальный выбор с маркетологической точки зрения. Не будет продаваться: его мало кто знает. А Диогена знают все (собственно, это мы и отметили на самой первой странице).
Так-то оно так, но… Да, мы все знаем его, а вот много ли мы знаем о нем? Приходится констатировать: мало, до досадного мало. А если иметь в виду в полной мере достоверную информацию – ее вообще почти нет. Мы даже не можем сказать, когда Диоген родился и когда умер, приходится давать в известной степени условные датировки, весьма приблизительные и неточные. В чем причина такого положения дел? Сейчас как раз об этом и пойдет речь. Но предварительно оговорим: в книге наряду с самой личностью философа будет занимать очень значительное место эпоха, в которую он действовал, – IV век до н. э. Это особое, переломное время в истории древнегреческой цивилизации. Познакомившись со свойственными ему процессами, мы лучше поймем, почему именно тогда, а не раньше и не позже, мог появиться (и, наверное, даже должен был появиться) «феномен Диогена».
Сотканный из анекдотов
Тот, кому доводилось интересоваться мыслителями античности, наверняка не раз открывал сочинение «О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов», автор которого – тезка нашего героя, некто Диоген Лаэртский (или Лаэрций, или Лаэртий – пишут по-разному1, а что означает этот эпитет, собственно, никто в точности не знает2).
Здесь необходимо оговорить, что Диоген («Зевсородный») – одно из самых частых, распространенных древнегреческих мужских имен. В истории философии оно тоже встречается неоднократно. Чтобы отличать разных его носителей друг от друга (а фамилий, как известно, у античных эллинов не было), имя сопровождают каким-нибудь пояснением. Чаще всего – указанием на город, который был местом рождения данного лица.
Так, раньше Диогена, которому посвящена эта книга, – Диогена Синопского (о его родине будет говориться в следующей главе) – был Диоген Аполлонийский (V в. до н. э.), один из последних натурфилософов. Так называют представителей древнейшей греческой философской традиции, занимавшихся изучением «природы» (лат. natura) в самом широком смысле слова, то есть физического мира, космоса. Позже, во II в. до н. э., был Диоген Вавилонский, видный философ стоической школы.
Что же касается Диогена Лаэртского, к которому мы возвращаемся, он жил спустя много столетий после тех событий, о которых здесь у нас идет речь, – тогда Греция давно уже находилась под римским владычеством. Написанный им в начале III в. н. э. вышеупомянутый труд представляет собой единственный дошедший до нас из античности сборник биографий древнегреческих философов – а тем самым как бы и очерк истории древнегреческой философии. Таким образом, перед нами ценнейший источник – а в то же время в высшей степени своеобразный. Автор сам, судя по всему, был ритором и грамматиком, а не философом, стало быть, в философских вопросах являлся скорее дилетантом, разбирался в ним поверхностно. Приведем яркую характеристику того, что он написал, принадлежащую А. Ф. Лосеву:
«…Книга переполнена всякими не относящимися к делу биографиями, анекдотами, уклонениями в сторону и острыми словцами. С одной стороны, читатель Диогена Лаэрция будет вполне разочарован уже по одному тому, что у него он не найдет никакого систематического изложения истории греческой философии. С другой стороны, однако, всякий читатель Диогена Лаэрция переживает настоящее удовольствие, погрузившись благодаря этой книге в самую гущу античной жизни и надивившись разнообразным и ярким личностям, изображенным здесь, и получает несомненное удовольствие от всюду разбросанной здесь античной и аттической „соли“… Это-то и делает трактат Диогена Лаэрция замечательно интересной античной книгой, которая никогда не теряла и еще и теперь не теряет своего интереса, несмотря на весь содержащийся в ней историко-философский сумбур. Перед нами здесь выступает вольный и беззаботный грек, который чувствует себя весело и привольно не только вопреки отсутствию последовательной системы и более или менее точно излагаемой истории, но скорее именно благодаря этому отсутствию… Этот веселый и беззаботный грек буквально „кувыркается“ в необозримой массе философских взглядов, трактатов, имен и часто среди всякого рода жизненных материалов, даже и не имеющих никакого отношения к философии. Отвергать Диогена Лаэрция за это историко-философское „кувырканье“ с нашей стороны было бы весьма неблагоразумно… Беря в руки трактат Диогена Лаэрция, удивляясь его наивности и хаотичности, мы не только доставляем себе удовольствие от этого веселого „барахтанья“. Мы погружаемся еще и в эти веселые просторы античной историографии и начинаем понимать, до какой степени античный грек мог чувствовать себя беззаботно в такой серьезной области, как история его же собственной, то есть древнегреческой, философии»3.
Жизнеописание Диогена («нашего», Синопского) – одно из самых объемных в трактате (Диоген Лаэртский. VI. 20–84). Ему уделено больше страниц, чем даже таким крупнейшим фигурам, как Сократ или Аристотель. Превосходят его по своим размерам только биографии Платона, Эпикура и Зенона (основателя стоицизма), но это потому, что большую их часть составляет изложение не фактов из жизни этих мыслителей, а их философских систем.
Итак, в нашем распоряжении, повторим, довольно большое жизнеописание Диогена. Так почему же выше было сказано, что о нем имеется крайне мало сведений? Казалось бы, вот они – бери и пользуйся. Но в том-то и дело, что не получается: биография, о которой идет речь, очень уж специфична.
Откроем, например, те главы трактата Диогена Лаэртского, в которых повествуется об Аристотеле (Диоген Лаэртский. V. 1—35), – и перед нами проходят все основные вехи его жизненного пути. Прибытие в Афины из захолустного Стагира. Учеба и потом преподавание в Академии у Платона. Конфликт с коллегами и отъезд в городок Атарней к другу и бывшему однокашнику Гермию. Знаменательное приглашение стать воспитателем наследника македонского престола – будущего Александра Великого. Возвращение в Афины, основание собственной философской школы – Ликея. Судебный процесс над философом, его бегство на остров Эвбею, смерть от болезни в отнюдь еще не преклонном (в том числе и по тогдашним меркам) возрасте 62 лет. Конечно, кое-где попадаются некоторые погрешности в хронологическом порядке событий, но в целом все более или менее информативно.
Аналогичным образом обстоят дела с рассказами Диогена Лаэртского о Сократе, Платоне и др. Но совершенно иная картина предстает перед нами, когда речь у него заходит о Диогене-кинике. Встречаем, в частности, следующее:
«На вопрос, где он видел в Греции хороших людей, Диоген ответил: „Хороших людей – нигде, хороших детей – в Лакедемоне (т. е. в Спарте. – И. С.)“» (Диоген Лаэртский. VI. 27).
«Он осуждал тех, кто восхваляет честных бессребреников, а сам втихомолку завидует богачам. Его сердило, что люди при жертвоприношении молят богов о здоровье, а на пиру после жертвоприношения объедаются во вред здоровью… Он хвалил тех, кто хотел жениться и не женился, кто хотел путешествовать и не поехал, кто собирался заняться политикой и не сделал этого, кто брался за воспитание детей и отказывался от этого, кто готовился жить при дворе и не решался. Он говорил, что, протягивая руку друзьям, не надо сжимать пальцы в кулак» (Диоген Лаэртский. VI. 28–29).
«В храм Асклепия (бога врачевания. – И. С.) он подарил кулачного бойца, чтобы он подбегал и колотил тех, кто падает ниц перед богом» (Диоген Лаэртский. VI. 38).
«Когда кто-то читал длинное сочинение и уже показалось неисписанное место в конце свитка, Диоген воскликнул: „Мужайтесь, други: виден берег!“» (Диоген Лаэртский. VI. 38).
«Когда один развратный евнух написал у себя на дверях: „Да не внидет сюда ничто дурное“, Диоген спросил: „А как же войти в дом самому хозяину?“ Умастив себе ноги благовониями, он объяснял, что от головы благоухание поднимается в воздух, а от ног – к ноздрям» (Диоген Лаэртский. VI. 39).
«Он один хвалил рослого кифареда[3], которого все ругали; на вопрос, почему он это делает, он ответил: „Потому что, несмотря на свои возможности, он занимается кифарой, а не разбоем“. Кифареда, от которого постоянно убегали слушатели, он приветствовал: „Здорово, петух!“ – „Почему петух?“ – „Потому что ты всех поднимаешь на ноги“» (Диоген Лаэртский. VI. 47–48).
«Один юноша разглагольствовал перед народом. Диоген набил себе пазуху волчьими бобами (люпин, корм для скота. – И. С.), сел напротив него и стал их пожирать. Когда все обратили взгляды на него, он сказал: „Удивительно, как это вы все забыли о мальчишке и смотрите на меня?“» (Диоген Лаэртский. VI. 48).
«Он просил подаяния у статуи; на вопрос, зачем он это делает, он сказал: „Чтобы приучить себя к отказам“» (Диоген Лаэртский. VI. 49).
«На вопрос, есть ли у него раб или рабыня, он ответил: „Нет“. – „Кто же тебя похоронит, если ты умрешь?“ – спросил собеседник. „Тот, кому понадобится мое жилище“» (Диоген Лаэртский. VI. 52).
«На вопрос, в каком возрасте следует жениться, Диоген ответил: „Молодым еще рано, старым уже поздно“… На вопрос, какое вино ему вкуснее пить, он ответил: „Чужое“» (Диоген Лаэртский. VI. 54).
«Однажды он подошел к ритору Анаксимену, который отличался тучностью, и сказал: „Удели нам, нищим, часть своего брюха, этим ты и себя облегчишь, и нам поможешь“. В другой раз среди его рассуждений он стал показывать его слушателям соленую рыбу и этим отвлек их внимание; ритор возмутился, а Диоген сказал: „Грошовая соленая рыбка опрокинула рассуждения Анаксимена“» (Диоген Лаэртский. VI. 57).
«На вопрос, что дала ему философия, он ответил: „По крайней мере готовность ко всякому повороту судьбы“» (Диоген Лаэртский. VI. 63).
«Человека, который толкнул его бревном, а потом крикнул: „Берегись!“, он ударил палкой и тоже крикнул: „Берегись!“» (Диоген Лаэртский. VI. 66).
«Увидев неумелого стрелка из лука, он уселся возле самой мишени и объяснил: „Это чтобы в меня не попало“» (Диоген Лаэртский. VI. 67).
«Зайдя в школу и увидев много изваяний муз и мало учеников, он сказал учителю: „Благодаря богам, у тебя ведь немало учащихся!“» (Диоген Лаэртский. VI. 69).
Как видим, перед нами сплошные анекдоты – причем максимально разнообразного характера. Это показывает даже та небольшая их подборка, которую мы сейчас привели, а в дальнейшем читатель познакомится с новыми и новыми… По замечанию одного современного зарубежного специалиста4, эти анекдоты представляют собой наш главный источник об античном кинизме, и хотя каждый из них, взятый по отдельности, может быть сомнительным в плане своей исторической достоверности, в совокупности они дают довольно объективную картину идей и нравов киников.
Это, безусловно, верно. Рассмотрим хотя бы такое высказывание Диогена: «Ему сказали: „Многие смеются над тобою“. Он ответил: „А над ними, может быть, смеются ослы; но как им нет дела до ослов, так и мне – до них“» (Диоген Лаэртский. VI. 58). Из этих слов с предельной ясностью видна одна из важных черт Диогенова мировоззрения и поведения – его демонстративное пренебрежение мнением окружающих. Даже презрение к этому мнению, которое фактически уподобляется мнению ослов.
Итак, читать о подобных сценках крайне занимательно, но много ли отсюда можно извлечь позитивных данных биографического характера? А мы пишем все-таки биографию. Следует еще отметить, что источник тем больше ценится учеными, чем ближе по времени он находится к событиям, которые в нем излагаются. Идеальный случай – когда свидетельство принадлежит современнику этих событий, который их видел или даже сам в них участвовал. Почему мы так хорошо знаем о жизни Сократа? Потому, что о ней рассказали в своих произведениях его ученики – великий философ Платон, историк и моралист Ксенофонт. То есть люди, которые, естественно, были с ним прекрасно знакомы.
Тот же Платон и с Диогеном был знаком (хотя отнюдь не дружен – уж очень разными они были людьми). Однако во всем корпусе сочинений Платона – а это четыре довольно толстых тома в современном издании – невозможно найти хоть одно упоминание о Диогене5. Конечно, нужно учитывать, что действие почти всех философских диалогов, написанных Платоном, происходит во времена Сократа (казненного в 399 г. до н. э.) и Сократ – их главное действующее лицо. А Диогена тогда в Афинах, естественно, еще не было, и он не мог быть изображен в числе собеседников Сократа.
Но, чувствуется, дело не только в этом. Учитель Диогена Антисфен, основатель кинической школы, являлся учеником Сократа, однако и он почти не появляется на страницах диалогов Платона. Точнее, появляется всего лишь один раз (Платон. Федон. 59b) – в связи с тем, что перечисляются те, кто был с Сократом в тюремной камере в день его казни: коль скоро Антисфен присутствовал в их числе, нельзя было пропустить его имя. В целом же Платон очень не любил киников (а они платили ему взаимностью) и старался не говорить о них.
Аристотель, ученик Платона, тоже знал лично и Антисфена, и Диогена. О первом в его трудах все-таки побольше упоминаний (например: Аристотель. Метафизика. 1024b32; 1043b24; Топика. 104b20; Политика. 1284a16; Риторика. 1407a9). А вот о Диогене – лишь одно-единственное, причем Аристотель характерным образом ухитряется даже не назвать его по имени.
Это свидетельство интересно, сейчас мы скажем о нем подробнее, но вначале поясним: как может быть так, что в тексте имя Диогена не появляется, а мы тем не менее понимаем, что речь идет именно о нем? Диоген был всем известен под прозвищем Kýōn – «собака, пёс». Именно под этим прозвищем он фигурирует в соответствующем пассаже Аристотеля: «Пёс называл харчевни аттическими фидитиями» (Аристотель. Риторика. 1411a24).
Что бы это значило? Без комментария не разобраться. Многие, конечно, знают смысл прилагательного «аттические». Оно означает то же, что «афинские»: полис Афины занимал территорию древнегреческой области под названием Аттика. Но тут еще какие-то труднопонимаемые «фидитии»…
Чтобы пояснить значение этого слова, нужно углубиться в некоторые детали порядков, свойственных Спарте. Как известно, это государство отличалось строгой регламентацией всех сторон деятельности своих граждан. Любое имущественное неравенство в нем предотвращалось. Все спартиаты обязаны были вести одинаковый, крайне простой и неприхотливый образ жизни. Им запрещалось пользоваться какими-либо предметами роскоши. А чтобы и в питании не было никакого различия, им предписывалось обязательное участие в общественных трапезах – так называемых сисситиях, или фидитиях. Каждый спартанский гражданин, достигнув совершеннолетия, должен был вступить в одну из групп граждан, собиравшихся на сисситии, предоставлял на их проведение долю продуктов из своего хозяйства и отныне уже не имел права обедать у себя дома – а иначе как проследишь, что все едят одно и то же?
Главным блюдом на фидитиях была знаменитая «черная похлебка», которую никто, кроме спартанцев, даже и в рот взять не мог. «Некий житель Сибариса[4], находясь в Спарте и сидя со спартанцами за их общей трапезой, сказал: „Понятно, что спартанцы – самый храбрый из всех народов: кто в здравом уме, тот лучше тысячу раз умрет, чем согласится жить так убого“» (Афиней. Пир мудрецов. IV. 138d).
Уподобляя афинские харчевни, где, понятно, каждый мог вволю полакомиться, скудным спартанским обедам, Диоген иронически противопоставлял мужественных, суровых, приученных к трудностям и лишениям спартиатов избалованным и от этого как бы женственным жителям Афин. О подобной же позиции говорит и еще один анекдот: Однажды он возвращался из Лакедемона в Афины; на вопрос: «откуда и куда?» – он сказал: «Из мужской половины дома в женскую» (Диоген Лаэртский. VI. 59).
Ясно, какой из двух образов жизни был больше по душе ему, живущему в пифосе и не имеющему (вполне сознательно) почти никакого имущества. Впрочем, справедливости ради отметим, что симпатии к Спарте были свойственны и многим другим греческим мыслителям этого времени, в остальном Диогену совсем не близким – например, тому же Платону. Что же касается рассмотренного сейчас отрывка из Аристотеля, нельзя не отметить, что это хронологически, кажется, самое раннее (во всяком случае, из числа дошедших до нас) свидетельство о язвительном остроумии Диогена.
Писал о нашем герое также ученик Аристотеля Феофраст, тоже крупнейший философ. Об этом сообщает опять же Диоген Лаэртский: «Феофраст в своем „Мегарике“ рассказывает, что Диоген понял, как надо жить в его положении, когда поглядел на пробегавшую мышь, которая не нуждалась в подстилке, не пугалась темноты и не искала никаких мнимых наслаждений» (Диоген Лаэртский. VI. 22). Приходится только сожалеть, что это сочинение, «Мегарик», не сохранилось: в нем наверняка было много и другой ценной информации о Диогене, которого Феофраст тоже знал лично.
Итак, свидетельств, которые бы принадлежали современникам крупнейшего киника, мы почти не имеем. А какие имеем? К сожалению, в подавляющем большинстве такие, которые принадлежат авторам, отделенным от Диогена в лучшем случае несколькими столетиями. Среди них, в частности, Цицерон (I в. до н. э.), Сенека, Валерий Максим, Дион Хрисостом (I в. н. э.), Плутарх (I–II вв. н. э.), Лукиан, Эпиктет, Максим Тирский (II в. н. э.), Элиан (III в. н. э.), император Юлиан (IV в. н. э.), Иоанн Стобей (V в. н. э.) и другие – еще более поздние.
И что же они нам сообщают? Приведем несколько примеров. «Диоген-киник обычно говаривал, что Гарпал, который в его времена прослыл самым удачливым разбойником, является наиболее верным свидетельством против богов, раз ему так долго улыбается счастье» (Цицерон. О природе богов. III. 83). «Тому же Диогену в Сиракузах, когда он мыл овощи, Аристипп (философ-гедонист, который еще будет не раз упоминаться в дальнейшем. – И. С.) сказал: „Если бы ты захотел польстить Дионисию (знаменитому сиракузскому тирану, очень богатому. – И. С.), то ел бы не это“. „Напротив, – сказал тот, – если бы ты захотел есть это, то не льстил бы Дионисию“» (Валерий Максим. Девять книг достопамятных деяний и высказываний. IV. 3. ext. 4b). «Диоген говорил, что мудрый человек должен быть похож на хорошего врача, который спешит с помощью туда, где больше всего больных. Так и место мудреца там, где больше всего детей неразумных, и он должен изобличать и порицать их неразумие» (Дион Хрисостом. Речи. VIII. 5). «Увидев безумного мальчика, Диоген сказал: „Дитя, тебя породил пьяница“» (Плутарх. О воспитании детей. 3). «Диоген говорит, что смерть не является злом и не заключает в себе ничего безобразного. Далее он утверждает, что слава – это только пустая болтовня безумцев» (Эпиктет. Беседы. I. 24. 6). «Его царскими чертогами были храмы, гимнасии[5] и священные рощи, его богатством, не вызывающим никакой зависти, надежным и неотъемлемым, была вся земля и ее плоды, были рожденные землей источники, которые изливали для него питье щедрее, чем весь Лесбос и Хиос[6]» (Максим Тирский. Предпочитать ли кинический образ жизни? 5). «Диоген утверждал, что даже Сократ не был чужд роскоши, ибо в противном случае обходился бы без своего дома, без постели, пусть скромной, без сандалий, которые он иногда надевал на ноги» (Элиан. Пестрые рассказы. IV. 11). «Когда его кто-то спросил, каким образом человек может стать самостоятельным, он ответил: „Если он прежде всего станет упрекать себя в том, в чем порицает других“» (Иоанн Стобей. Антология. I. 32).
Повсюду звучат ровно те же самые мотивы, что и в приводившихся выше цитатах из Диогена Лаэртского. Однако минус поздних свидетельств – в их слабой достоверности. На тот момент, когда делались только что прошедшие перед нашими глазами высказывания, прошло уже очень много времени с тех пор, как ушел из жизни обитатель пифоса. А память человеческая – вещь крайне ненадежная, способная на серьезные ошибки. Как давно было отмечено6, в ней даже важнейшие деяния сохраняются в корректной форме от силы сотню лет. А потом, по мере того как одно поколение сменяется другим, многие события, порой значительные, стираются из нее, забываются. И в то же время, что еще хуже, «вспоминаются» (то есть бессознательно сочиняются) события, которых никогда не было. На место фактов приходят слухи, сплетни и пресловутые анекдоты, масса которых нарастает со временем как снежный ком…
В случае же с Диогеном ситуация усугублялась тем, что он принадлежал к таким личностям, которые в особенной степени притягивают к себе разные выдумки. Почитаем хотя бы, что знали (или думали, что знают) в античности о том, как он скончался.
«О его смерти существуют различные рассказы. Одни говорят, что он съел сырого осьминога, заболел холерой и умер; другие – что он задержал себе дыхание… Третьи говорят, что, когда он хотел разделить осьминога между собаками, они искусали ему мышцы ног и от этого он умер. А рассказ о том, что он задержал дыхание, – это… домысел его учеников: Диоген жил в это время в Крании – так назывался гимнасий поблизости от Коринфа; однажды, явившись к нему, как обычно, ученики увидели, что он лежит, закутавшись в плащ, и подумали, что он спит, – вообще же он не страдал сонливостью; а когда откинули плащ, то увидели, что он уже не дышит, и подумали, что он сделал это умышленно, чтобы незаметно уйти из жизни.
Между учениками, говорят, разгорелся спор, кому его хоронить, и дело дошло даже до драки; но вмешались родители и старейшины и указали похоронить Диогена возле ворот, ведущих к Истму[7]. На его могиле поставили столб, а на столбе – собаку из паросского камня (мрамор. – И. С.)…
Некоторые рассказывают, что, умирая, он приказал оставить свое тело без погребения, чтобы оно стало добычей зверей, или же сбросить в канаву и лишь слегка присыпать песком; а по другим рассказам – бросить его в Илисс, чтобы он принес пользу своим братьям (то есть собакам. – И. С.)» (Диоген Лаэртский. VII. 76–79).
Речка Илисс протекает близ Афин. Стало быть, в последней версии Диоген умирает не в Коринфе, а в Афинах. В дальнейшем мы увидим, что именно с этими двумя городами его преимущественно связывали.
«Диоген из Синопы, уже смертельно больной, едва передвигая ноги, добрел до моста вблизи гимнасия, упал там и велел сторожу, когда тот заметит, что он уже не дышит, бросить его в Илисс. Столь равнодушен был философ к смерти и погребению» (Элиан. Пестрые рассказы. VIII. 14).
Когда о кончине одного и того же лица ходит столько разных (и действительно сильно отличающихся друг от друга) рассказов, перед нами верный признак того, что ее истинные обстоятельства уже совершенно не помнят. А коль скоро не помнят, как и где это произошло, то, скорее всего, не помнят в точности и когда. Потому-то в высшей степени шаткими и сомнительными являются датировка смерти Диогена и выводимая из нее датировка рождения. В литературе эти даты чаще всего обозначают как «около 412 г. до н. э.» и «323 г. до н. э.»7. Получают их путем комбинации двух свидетельств, содержащихся у Диогена Лаэртского. Первое: «Деметрий (ученый I в. до н. э. – И. С.) сообщает, что Александр (Македонский. – И. С.) в Вавилоне и Диоген в Коринфе скончались в один и тот же день. Он был уже стариком в 113-ю олимпиаду (328–324 гг. до н. э. – И. С.)» (Диоген Лаэртский. VII. 79). И второе: «Говорят, что он умер почти девяноста лет от роду» (Диоген Лаэртский. VII. 76).
Прекрасно известно, что смерть Александра Македонского приходится на 323 г. до н. э. Получается, и смерть Диогена – тоже. А далее прибегают к простому вычислению. Сказано, что он умер в почти девяностолетнем возрасте, иными словами, ему было, скажем, 89 лет. Прибавим это число к 323 – и выйдет, что родился философ в 412 г. до н. э. Для подстраховки добавляют слово «около». Но подстраховаться все равно не получается, ибо абсолютно нет уверенности, что вся эта традиция хоть с какой-нибудь степенью точности отражает действительные факты. Более того, есть почти полная уверенность в том, что не отражает. Чего стоит уже хотя бы якобы имевшее место совпадение не только года, но даже и дня кончины знаменитого философа и знаменитого полководца! Слишком это красиво, чтобы быть правдой, да и по теории вероятности возможность такого подозрительного совпадения близится к нулю. Поскольку существует немало историй на тему «Диоген и Александр» (мы с ними еще познакомимся), то, скорее всего, и этот «квази-факт» (сообщение о нем приводится со ссылкой на Деметрия – писателя, тоже отделенного от Диогена нескольким столетиями) был кем-нибудь придуман для пополнения количества таких историй.
Да и в целом мы уже выяснили, что при таком-то разнобое рассказов о смерти мыслителя ни один из них не может быть признан верным. А тут вмешивается еще одно обстоятельство: среди анекдотов о Диогене есть такие, которые могут относиться только к тому времени, когда Александра Македонского уже не было в живых.
«В ответ на приглашение Кратера явиться к нему он (Диоген. – И. С.) сказал: „Нет уж, лучше мне лизать соль в Афинах, чем упиваться в пышных застольях Кратера“» (Диоген Лаэртский. VII. 57). «Когда Пердикка грозился казнить Диогена, если он не явится к нему, Диоген ответил: „Невелика важность: то же самое могли бы сделать жук или фаланга“ и „Хуже было бы, если бы он объявил, что ему и без меня хорошо живется“» (Диоген Лаэртский. VII. 44).
Упомянутые здесь македонские вельможи Кратер и Пердикка входили в узкий круг друзей и приближенных военачальников Александра. Когда «покоритель полумира» нашел свой конец в Вавилоне, эта группа лиц взяла в свои руки власть над только что созданной им огромной державой. Их так и называют диадохами («преемниками»); уже вскоре они вступили в кровавую борьбу между собой, в ходе которой почти все погибли. Данные свидетельства о контактах (мнимых или истинных) Диогена с диадохами предполагают по контексту, что последние уже правят. Александр, выходит, мертв, а Диоген еще жив – так как же они скончались в один день? Разумеется, всегда можно сказать: «Анахронизм»8. Да конечно же анахронизм. Но ведь вся история жизни Диогена состоит из подобных анахронизмов – и может ли в их потоке где-нибудь быть найдена прочная опора?
А вот еще один анахронизм – очередной рассказ о смерти Диогена, который мы пока не приводили. «У Ксениада (коринфянина, купившего Диогена в рабство. – И. С.) он жил до глубокой старости и когда умер, то был похоронен его сыновьями. Умирая, на вопрос Ксениада, как его похоронить, он сказал: „Лицом вниз“ – „Почему?“ – спросил тот. „Потому что скоро нижнее станет верхним“, – ответил Диоген: так он сказал потому, что Македония уже набирала силы и из слабой становилась мощной» (Диоген Лаэртский. VI. 32).
Македония приобрела военное и политическое могущество, перестав быть третьестепенным периферийным государством греческого мира, в царствование отца и предшественника Александра Македонского – Филиппа II (правил в 359–336 гг. до н. э.). Иными словами, если доверять этому сообщению, Диоген вообще скончался заведомо до того, как Александр вступил на престол. Очередная несообразность!
И таких вот несообразностей, нестыковок, противоречий в традиции о нашем герое – сколько угодно. В результате, повторим, хоть какая-то степень точности в определении времени основных событий его жизни (даже таких «базовых», как рождение и смерть) в принципе невозможна. Приходится прибегать к самым осторожным и приблизительным формулировкам, таким, как «родился ближе к концу V в. до н. э.», «умер, видимо, в 320-х гг. до н. э.». Да и в них, честно говоря, полной уверенности нет.
Иногда просто-таки хочется воскликнуть: да знаем ли мы твердо о Диогене хоть что-нибудь?! Успокоим читателя: все же кое-что знаем. Знаем, во всяком случае, что однажды он родился. И, более того, знаем, в каком городе. Теперь – как раз об этом.
Как уроженец захолустья попал в «школу Эллады»
Эти строки пишутся в Алупке, на отдыхе, и перед глазами автора – Черное море. Его ослепительная синева виднеется в окне дачного домика, в обрамлении сочной крымской зелени. Взгляд перемещается на экран компьютера, где уже напечатано название главы, и вдруг приходит в голову мысль: а ведь не так-то далеко отсюда находится место, где появился на свет наш герой. По глобальным масштабам – даже, можно сказать, совсем рукой подать: в каких-нибудь трех сотнях километров.
Говорят, в сильный морской бинокль из Крыма даже можно увидеть противоположный, южный берег Черного моря (здесь его самое узкое место). Впрочем, есть и те, кто решительно отрицает такую возможность. Трудно сказать, кто прав. Если оптимисты, то прибор следует направить практически прямо перед собой: именно там находилась Синопа, «малая родина» Диогена. Впрочем, почему находилась? Город существует и поныне; даже название его почти не изменилось (теперь оно звучит как Синоп). Только населен он уже, естественно, не греками, а турками.
Итак, в детстве и молодости, до того как отправиться в Афины, Диоген, как и все его земляки, смотрел на тот же морской бассейн (эллины называли его Понтом Эвксинским или просто Понтом), который столь хорошо знаком и нам, жителям России. Но смотрел, следует сразу сказать, с совсем другими чувствами. Для нас Черное море – самое южное, самое теплое и ласковое из всех морей Отечества. А для тогдашних греков оно было самым северным, самым холодным и суровым из всех известных им морей. Лишь где-то уже в самом конце жизни Диогена путешественнику Пифею довелось проплыть еще дальше на север (сам Диоген об этом, скорее всего, не успел узнать): он, выйдя в Атлантический океан через пролив, который позже стал называться Гибралтарским, а в те времена именовался «Геракловыми столпами», обогнул Британию и, возможно, добрался даже до Скандинавии.
В любом случае, если для нас черноморские побережья – место курортного отдыха, то в античности они были местом самой суровой ссылки, этакой Сибирью. Туда, например, угодил в начале I в. н. э. знаменитый римский поэт Овидий (он, правда, жил не на южном, а на западном берегу, на территории нынешней Румынии), и вот как он описывает окруживший его ландшафт:
- Маюсь в бесплодных песках отдаленнейшей области света,
- Где беспрерывно земля снегом укрыта от глаз,
- Где не найдешь нигде ни плодов, ни сладостных гроздей,
- Ив лишены берега, горные склоны – дубов.
- Море такой же хвалы, что и почва, достойно: валами,
- Темное, вечно бурлит под бушевание бурь.
- Сколько видно вокруг, поля лишены землепашцев,
- И без хозяев лежит сонной пустыней земля.
- Здесь не бывает весны, венком цветочным увитой,
- Здесь не увидишь в полях голые плечи жнецов,
- Осень в этих местах не приносит кистей винограда —
- Холод безмерный всегда держится в этой земле.
- Море оковано льдом, и в глубинах живущая рыба
- Часто ходит в воде словно под крышей глухой.
- Даже источники здесь дают соленую влагу —
- Сколько ни пей, от нее жажда сильнее томит.
- Чахлых деревьев стволы возвышаются в поле открытом
- Редко, и видом своим морю подобна земля.
- Птиц голоса не слышны. Залетев из далекого леса,
- Разве что в море одна пробует горло смочить.
- Только печально полынь в степи топорщится голой,
- Горькая жатва ее этому месту под стать.
Таким адом увидел уроженец Италии Причерноморье, которое для нас предстает в образе некоего благодатного рая. Воистину, все относительно…
Но вернемся к грекам. Черное море было ничуть не похоже на родное и знакомое им Эгейское. Оно крупнее по размеру, более глубокое, более бурное, а главное – почти совершенно лишено островов. Здесь особенно резок контраст с Эгеидой, которая просто-таки усеяна большими и малыми клочками суши. Кстати, наличие множества островов чрезвычайно способствовало развитию мореходства в Элладе. Дело в том, что в античную эпоху парусное оснащение кораблей было еще весьма примитивным, что не позволяло уходить далеко в открытое море. Поэтому моряки предпочитали совершать каботажные плавания, то есть двигались вдоль береговой линии. На ночевку причаливали, а утром отправлялись дальше: проводить ночь в пути считалось чем-то совершенно экстраординарным.
Вот тут и помогали острова. В Эгейском море они нигде не отстоят друг от друга больше чем на 60 километров. Таким образом, за день вполне можно было доплыть от берега до какого-нибудь острова и, по обыкновению, заночевать на суше. За следующий день – до очередного острова. А там, глядишь, показался уже и противоположный берег.
В Черном море так поступать было невозможно, и вначале ограничивались чистым каботажем. Потом, – судя по всему, в V в. до н. э. и совершенно точно еще до рождения Диогена – был все-таки освоен краткий поперечный маршрут: от мыса Карамбис (ныне мыс Керемпе в Турции) до мыса Бараний Лоб в Крыму (по нашему предположению, так в те времена назывался мыс Айя восточнее современного Севастополя1). Это, конечно, значительно сократило время плавания к северному берегу Понта, зато приходилось плыть и ночью:
- А за морем, насупротив Карамбиса,
- Лежит огромная…
- Гора, что круто в воду обрывается.
- «Бараний Лоб» зовут ее…
- Путь в ночь и день дотуда от Карамбиса.
На юге этот маршрут брал свое начало как раз поблизости от Синопы, которая в некоторые исторические периоды, похоже, даже держала его под своим контролем. В любом случае, соседство с оживленным торговым путем, по которому из Скифии в Грецию везли зерно и другие товары, было, конечно, очень благоприятным фактором для родного города Диогена, и он быстро стал самым большим и богатым из всех черноморских поселений греков.
Но не будем забегать вперед – вернемся к началу освоения Понта Эвксинского, что, кстати, означает в переводе «Гостеприимное море». Несмотря на такое название, этот обширный водный бассейн долго пугал оказывавшихся там редких гостей из Эллады, воспринимался, наоборот, как место очень недружелюбное. Возможно, эпитет «гостеприимное» был присвоен Черному морю в качестве, так сказать, оберега, от противного – как благое пожелание на будущее. Существует также версия, согласно которой вначале море было названо Понтом Аксинским – «негостеприимным морем», каковым оно тогда и было для греческих мореходов. Это потом уже они стали в нем чувствовать себя как дома и заменили «Аксинский» на «Эвксинский».
О Понте и окружающих его землях рассказывали страшноватые легенды и истории. На самом входе в него из узкого пролива Боспор, дескать, находятся Симплегады – движущиеся скалы, которые, сталкиваясь, разбивали в щепки любой корабль, пытающийся пройти между ними. Впрочем, однажды Ясону на его знаменитом «Арго» удалось-таки проскочить между ними, после чего Симплегады навсегда утратили способность передвигаться.
Черноморские берега народная фантазия населила разнообразными мифологическими существами. Тут и гарпии – отвратительного вида птицы с человеческими головами, и амазонки – отважные женщины-воительницы… Если же плыть по понтийским волнам все дальше и дальше на восток, то в конце концов попадешь в Колхиду (древнее название Западной Грузии). А там уж и вовсе сплошные чудеса: огнедышащие быки, вырастающие из земли вооруженные воины, ужасный дракон, стерегущий золотое руно…
Но все-таки однажды для эллинов пришла пора активных путешествий в Понт Эвксинский. И не только путешествий, а закрепления в этом регионе, создания городов. Это произошло в ходе грандиозного процесса, который называют Великой греческой колонизацией. Речь идет о масштабном миграционном движении, растянувшемся практически на три столетия (VIII–VI вв. до н. э.) и позволившем цивилизации греков самым решительным образом расширить свои географические рамки, выйдя за пределы Греции как таковой на широкие просторы Средиземноморья и Причерноморья, где были основаны десятки и сотни эллинских поселений.
Каковы же были причины столь уникального явления, что погнало жителей Эллады в новые места? Главную роль сыграл, безусловно, земельный голод, неизбежный в их маленькой, неплодородной, скудной природными ресурсами и притом густонаселенной стране. Во многих полисах рано или поздно наступал момент, когда уже просто невозможно было обеспечить нормальное существование всем гражданам, элементарно прокормить их. В результате часть их вынуждена была эмигрировать, искать средства к жизни на чужбине.
Не случайно наиболее важными центрами основания колоний (метрополиями) стали самые развитые в экономическом и политическом отношении полисы, обладавшие значительным населением и при этом малой территорией. В них нехватка земли и пищи сказалась раньше, чем где-либо. Много таких было в Ионии – греческой области на западном побережье Малой Азии. Из ионийских городов самым крупным и знаменитым был Милет, и вполне закономерно, что он стал «рекордсменом» по количеству колоний (около 70!). Между прочим, Синопа, где родился Диоген, как раз принадлежит к их числу, то есть предками философа были милетские выходцы.
К основанию колонии любой греческий полис относился весьма ответственно. Перед отправлением колонистов стремились разведать место предполагаемого поселения, позаботиться об удобных гаванях, плодородной земле, по возможности – о дружественности местных жителей. Очень часто городские власти обращались за советом в знаменитое святилище Аполлона в Дельфах (о нем у нас еще пойдет речь в связи с судьбой Диогена), жрецы которого, похоже, стали настоящими экспертами в такого рода вопросах.
Затем составлялись списки желающих отправиться в колонию, назначался глава экспедиции – ойкист (по прибытии на место он обычно возглавлял и вновь основываемый город), и колонисты, взяв с собой священный огонь с родных алтарей, на кораблях пускались в путь. Прибыв на место, они первым делом приступали к созданию всех атрибутов нормального греческого полиса: возводили оборонительные стены, храмы богов и постройки общественного назначения, делили между собой окрестную территорию на земельные участки (клеры











