Читать онлайн Государство. Диалоги. Апология Сократа
- Автор: Платон
- Жанр: Античная литература, Биографии и мемуары, Зарубежная образовательная литература, Зарубежная старинная литература
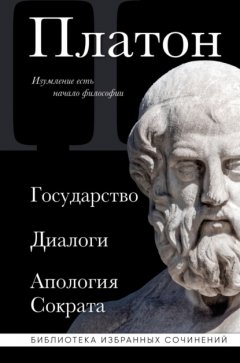
© ООО «Издательство «Эксмо», 2024
Государство
Введение
Главная мысль, окрылявшая душу Платона, когда он писал книги, озаглавленные общим именем ποςιτεία, с давних времен была предметом споров[1], которые, как видно, не прекратились и доныне. Лица спорившие расходились в этом отношении на две стороны: одни утверждали, что Платон в тех книгах предположил себе задачу – указать и раскрыть свойства справедливости, и что философствования его о гражданском обществе введены лишь для сообщения большего света этой добродетели; другие, напротив, думали, что в них изображается возможно лучшее устройство государства, а рассуждения о справедливости в этом изображении имеют только второстепенное значение. Сколь ни противоречущи эти мнения, но каждое из них опирается на основаниях, которые нельзя почитать неважными и оставить без исследования.
Защитники того мнения, что в означенных книгах дело идет главным образом о наилучшем государстве, сперва ссылаются на самое заглавие тех книг и говорят, что его нельзя перетолковать наперекор единодушному свидетельству древности, так как оно, по всей вероятности, произошло от Платона; потом берут во внимание и то, что Платон, в V книге о «Законах» (р. 739. В), государству, требующему общности имуществ, дает первое место, а управляющемуся законами – второе. Сверх того, в начале Тимея[2], о содержании политики философ отзывается так, как будто в этом сочинении только и речи, что о делах гражданских. Таких оснований отвергать, конечно, нельзя. Что рассматриваемые книги словом ποςιτεία озаглавил сам Платон, можно заключить даже из того, что это заглавие придавали им все писатели, начиная от Аристотеля до позднейших отцов церкви. Другая надпись – περὶ δεκαίου, навязанная им Генр. Стефаном, из древних читателей Платона никому не была известна. Если же заглавие ποςιτεία – в самом деле подлинное, то по всей справедливости надобно полагать, что гражданский вопрос в этом сочинении, по мнению самого писателя, должен был иметь важное значение и обнимать собою не малую часть целого. Замечательно и то, что Платон в других своих диалогах, вышедших в свет после рассматриваемого творения, указывает на него словом ποςιτεία, а заглавия περὶ δικαίου при упоминании о нем нигде не употребляет. Отсюда, конечно, еще не следует, что описание возможно лучшего государства он представлял себе как главную часть своего сочинения; однако ж здесь видно основание для заключения, что не наилучшее государство описано им с целью представить в большем свете природу справедливости, а скорее наоборот – природа справедливости раскрыта с целью рельефнее начертать образ возможно лучшего государства. Этому мнению, как мне кажется, сообщает правдоподобие и прекрасный рассказ Критиаса в Тимее (р. 20 D – 25. D), написанный, по всей вероятности, с намерением показать, что представленное в «Политике» общество всего более идет к тем людям, которые особенно совершенны и близки к богам. В самом деле, для чего бы иначе в упомянутом разговоре повторять эту мысль и подтверждать ее новыми доказательствами, если бы в Платоновом государстве главным образом имелось в виду раскрытие справедливости? Да и то сказать: пусть бы темою рассматриваемого сочинения была одна справедливость: тогда представлялось бы очень странным, что о предмете боковом Платон рассуждает с такою философскою отчетливостью и своими рассуждениями о нем наполняет почти половину целого своего труда, нередко доходя до таких подробностей, которые к главному его вопросу вовсе не относятся. Вот почти все, чем доказывают свое мнение критики, утверждающие, что в означенных книгах Платон решал задачу о возможно лучшем государстве.
Но немаловажны доказательства и тех, которые защищают мнение противное, говоря, что существенный вопрос «Политики» есть вопрос о справедливости. Ποςιτεία, замечают они, тем и начинается, что предметом исследования поставляется справедливость, а не государство. Притом Сократ в кн. II, р. 368 С ясно высказывает, что так как природу справедливости в одном человеке определить трудно, то он хочет создать общество, чтобы эта добродетель выразилась в нем яснее и осязательнее. А отсюда видно, что все последующие рассуждения о государстве направляются только к раскрытию справедливости и служат как бы дополнением и прибавкой к исследованиям этой добродетели. Надобно заметить и то, прибавляют они, что Сократ, начав разговор исследованием справедливости, по временам снова к ней возвращается, как к предмету, ради которого предпринято исследование. Такие обороты можно видеть Libr., IV, р. 434 Е., V, р. 471 В. С. D. Да и самое, наконец, заключение «Политики» выставляет на вид ту мысль, что справедливость должна быть всячески соблюдаема; ибо чрез это лишь мы можем быть и собою довольны, и бессмертным богам благоугодны. Таковы доказательства критиков, утверждающих, что в рассматриваемых книгах Платона говорится главным образом не о государстве, а о справедливости. Так как эти доказательства взяты из самого содержания речей Сократа, то им надобно, по-видимому, приписать еще более силы, чем первым. Посему неудивительно, что почти все новейшие исследователи Платоновой «Политики» больше склонялись к той мысли, что в ней рассматривается природа справедливости.
Этот взгляд на «Политику» Платона утвердился особенно с того времени, когда Карл Моргенштерн издал прекрасные свои замечания, в которых между прочим говорится о цели всего этого сочинения. Обстоятельно рассмотрев и критически взвесив обоесторонние мнения, о которых мы говорили, он старался доказать, что Платон в своей «Политике» главным образом предполагал раскрыть природу справедливости и вообще добродетели, какова она сама по себе и относительно к проистекающему из нее счастью. С этою коренною задачею Платона, по его мнению, стоят в связи и многие другие вопросы, не только способствовавшие к объяснению главного предмета беседы, но и сами по себе казавшиеся Платону достойными того, чтобы рассмотреть их обстоятельно. Между такими вопросами, по словам Моргенштерна, первое место следует дать тому, который говорит о наилучшем государстве; ибо весь ход исследований, весь порядок мыслей в «Политике» ясно показывает, что, кроме изъяснения справедливости, Платон более всего старался начертать образ совершеннейшего общества – с целью воспитать добродетель граждан и на этом основании утвердить их счастье. Если же рассуждения Сократа о делах гражданских в «Политике» Платона действительно так направлены, что все относятся к добродетели, то не могло быть, говорит Моргенштерн, чтобы, при таком сопоставлении учения политического с ифическим, не представлялось повода к ограничению жизни как частной, так и общественной одними и теми же законами. Этому мнению нисколько не мешает то, что все рассматриваемое сочинение надписано словом ποςιτεία; ибо если и другие диалоги Платона получили надписания по именам собеседников и иных, часто даже неважных предметов, то нет ничего удивительного, что и эти книги озаглавлены соответственно не тому, что в них τὸ προηγουμενως ζητούμενον, а тому, что в сочинении стоит на втором плане, – особенно если озаглавить их таким образом было удобно. А что об этом самом государстве, которое устроено в «Политике» Платона, упоминается также в диалоге о «Законах» и дается ему первое место, то отсюда еще не следует, что описание наилучшего государства составляет главную часть «Политики». В «Тимее» же, говорит Моргенштерн, излагается не полная, а краткая рецензия раскрытых в «Политике» рассуждений, дающая повод догадываться, что цель этой рецензии была частная, имевшая в виду только гражданские постановления, а не всецелое содержание «Политики». Эти замечания Моргенштерна, конечно, остроумны; и неудивительно, что многие критики, увлеченные ими, приняли образ его мыслей, особенно когда видели, что мнения стороны противной были тонко опровергнуты. Но мне кажется, что Моргенштерн в некоторых своих замечаниях не вполне удовлетворителен. Не удовлетворяет меня ни то, что говорит он о заглавии рассматриваемого сочинения, ни то, что высказывает об указанных местах в «Тимее» и в пятой книге «Законов»; а на то, для чего Платон в своей «Политике» рассуждает о государстве так обширно и входит в такие подробности, у Моргенштерна не намекнуто ни одним словом, хотя это обстоятельство при решении настоящего вопроса весьма важно.
Можно было надеяться, что этот вопрос удовлетворительнее будет решен Шлейермахером, и Шлейермахер действительно занимался им. Он во многом не согласился с Моргенштерном и возвратил немало силы доказательствам тех, которые утверждали, что главная задача Платоновой «Политики» есть устроение государства; потому что и надписание этого сочинения, и указанные места в «Законах» и «Тимее» признал важнейшими опорами их мнения. Но если частно, в отношении к этому пункту, он противоречил Моргенштерну, то в общем взгляде на содержание «Политики» сходился с ним. Вот результат исследований Шлейермахера, выраженный собственными его словами. «Точный анализ этого сочинения, – говорит он, – показывает, что постановленный в начале его вопрос о потребности праведной и нравственной жизни в самом деле есть господствующий; так что все, к нему не относящееся, надобно почитать как бы уклонением от предмета». Но потом: «Не стал ли бы этот Платонов Сократ (в „Тимее”) смеяться над предложенным здесь разложением целого, с которым в неразрывной связи мысль, что главный предмет его – справедливость?» Из снесения этих слов видно, что Шлейермахер поставляет Платона в явное противоречие с самим собою, если думает, что, в «Политике» объяснив главным образом силу и превосходство добродетели, в позднейших сочинениях он той же самой «Политике» приписывает другое содержание и дает ей другую надпись. Чтобы защитить философа от этого произвольно навязываемого ему противоречия, германский критик придумывает очень оригинальное предположение. Он представляет себе, что «Политика» Платона, с одной стороны, есть свод всех мыслей о различных способах умственной и нравственной деятельности человека, в таком значении, в каком те мысли раскрыты были в прежде написанных им диалогах, с другой – она заключает в себе инициативу нового порядка идей, вводящих человеческую деятельность в формы гражданской жизни. «В чем же теперь остается согласиться нам? – спрашивает Шлейермахер. – Остается сказать, что Платонов Сократ есть как бы какой-то двулицый Янус: в сочинении Платона, носящем заглавное имя ποςιτεία, он, по-видимому, смотрит назад; а в „Тимее” мы видим его смотрящим вперед и обращающим взор на будущее. С этим стоит в связи и то, что в книгах „Политики” есть немало вопросов, которые в прежних диалогах или едва затронутые, или слегка только рассмотренные, теперь рассматриваются обстоятельнее, и притом так, что переплетаются с другими вопросами, которые в прежних сочинениях представлялись сомнительными, а в настоящем сочетании мыслей получают определенное значение и доставляют читателям удовольствие. В „Тимее” же „Политика” потому только имеется в виду, что в ней начинается новый ряд рассуждений, в которых роль Сократа наконец передается Тимею, Критиасу и Гермократу. Итак, в „Политику” входят две стороны, – и если мы будем различать их, то едва ли не найдем возможности разогнать мрак, окружающий отдельные ее части».
Как ни остроумно это предположение Шлейермахера, но всякий заметит, что в его мнении «Политика» Платона теряет единство предмета и, как одно целое, держится только единством Сократовой личности. Такая неудовлетворительность Шлейермахеровых заключений не скрылась от многих последовавших за ним критиков, из которых каждый, по этому поводу, представляет собственный свой взгляд на содержание рассматриваемого сочинения. Так, например, Мунк ифический и политический его отделы соединяет в одной идее блага и, зерном всей «Политики» Платона почитая рассуждения о свойствах и воспитании истинного философа, существенную ее часть видит в книгах пятой и шестой; Оргес, желая сколько возможно далее раздвинуть тесный объем этой существенной ее части, полагает, что идея государства и идея блага – просто одно и то же; Гернгард для той же цели устанавливает различие между φρόνησις, которое, по его мнению, состоит в теоретическом знании идеи блага, и σοφία, которая выражает правительственную опытность государственного человека и, завися от справедливости, становится практическою стороною мудрости; Штейнгарт содержание диалога находит также в идее блага, которую понимает как начало нравственного порядка в мире и средоточие его развития, обнаруживающееся в своем развитии не иначе как порядком гражданским. Все эти взгляды, конечно, благовидны и пред судом формального мышления неукоризненны; но относительно всех их можно, по справедливости, сделать одно замечание: они страдают общею болезнью последней германской философии – логическим формализмом, или притязаниями чисто субъективными; положения Платона и взаимное отношение их остаются недопрошенными и отсылаются на задний план сочинения. Почему, например, в идее блага, как идее нравственного мирового порядка, Платон берет один момент – справедливость? Для чего о гражданском обществе рассуждает он так обширно? Зачем было с такою подробностью говорить ему об отдельных частях воспитания воинов, о различных родах поэзии, об общности жен и имущества и о многих других предметах, которыми даже и не обнаруживается никакая добродетель?
Между тем законы науки требуют, чтобы всякое сообразное с ее правилами сочинение имело целость и единство содержания, чтобы не было в нем ничего, к его организму не относящегося. Древние драматические поэты, составляя свои трилогии из каких-нибудь мифических сказаний, обыкновенно обрабатывали их так, что хотя отдельные мифы представлялись у них частями самостоятельными, имеющими каждый особую свою организацию, однако ж предмет целой драмы пред глазами их развивался как один и тот же. Этого именно можем мы, кажется, искать и у своего диалогиста-философа – тем более что в рассматриваемом теперь его диалоге говорится о таких вещах, которые, при всем сродстве содержания, находятся не в такой близкой связи между собою, чтобы не могли быть отделены одна от другой. Мы вовсе не одобряем мнения тех, которые приписывают Платону одно какое-нибудь намерение, управлявшее его мыслями при изложении «Политики», то есть намерение – либо создать наилучшее государство, либо описать природу справедливости. Хотя рассуждение Сократа начинается исследованием понятия о правде, однако ж в дальнейшем своем развитии оно с одинакою подробностью раскрывает свойства как наилучшего человека, так и наилучшего общества. Посему мы не сомневаемся, что в этом именно и должна состоять главная задача диалога. Но о двояком его содержании следует нам судить, конечно, так, что оба входящие в него вопросы должны содержаться в объеме какой-нибудь одной мысли. И если эта мысль будет найдена и окажется такою, что прольет довольно света как на целый диалог, так и на отдельные его части, то надеемся, что в ней все его содержание придет к совершенному единству.
Но чтобы открыть ее в душе Платона, мы должны гадать о ней по одним главным задачам его сочинения; а для этого нам следует показать, каким образом он решил каждую из них, и потом вникнуть, как из этого решения составилась у него картина человеческой жизни в полном и всестороннем ее развитии. Не излагая здесь непрерывного хода Платоновых мыслей, который в кратких обзорах будет показываем пред началом каждой книги, мы сведем сперва все, относящееся к одной задаче диалога, потом все, имеющее отношение к другой. Нам, выражаясь словами самого Платона и соображаясь с его понятием, надобно сперва оттенить οἰκειοπραγίαν ήϑίχήν каждого человека, потом обрисовать форму возможно лучшего государства. После этого можно будет правильнее судить как о сродстве и связи обеих задач, так и об организации, цели и духе всего сочинения.
Исследование начинается раскрытием понятия о справедливости. Но так как черты ее были нелепо перетолковываемы софистами, то в первой книге и опровергаются различные толки о ней. Потом собеседники Сократа, Главкон и Адимант, просят его рассмотреть добродетель саму в себе, независимо ни от каких внешних ее интересов, – и Сократ соглашается, только для этого считает нужным наперед начертать пред их глазами картину совершеннейшего государства, что и делает, начиная от кн. II, р. 386 С до кн. IV, р. 434 Е. Доказав в этой части исследований, что государственная справедливость усматривается в неуклонном исполнении своих обязанностей всеми сословиями и в дружеском согласии всех граждан, он далее эти же самые черты приписывает справедливости в душе каждого неделимого, и такое обратное направление диалогу дает, начиная от страницы 435 В; хотя время от времени не забывает делать рефлексий и к идее наилучшего государства.
В душе человеческой, говорит Сократ, есть три стороны: разумная, раздражительная и пожелательная. Первая превосходнее последних и должна господствовать над ними. Середину занимает раздражительная. Раздражительность, по своей природе, иногда сдружается с умом, проникается любовью к добродетели и противится неистовому желанию. Поэтому, надлежащим образом умеряемая и поставляемая в должные пределы, она бывает мужеством, а отвергнув владычество над собою ума, становится дерзостью. Между тем раздражительности естественно подавать помощь уму против стороны пожелательной, которая не имеет в себе ничего высокого и божественного и потому, без сомнения, должна повиноваться части разумной и раздражительной[3]. Если же в человеческой душе три стороны, то из различных свойств и взаимного отношения их возникают четыре добродетели: мудрость, мужество, рассудительность и справедливость, – и этими добродетелями условливается совершенство человека. Мудрость принадлежит одному уму, которому свойственно познавать и провидеть, что полезно каждой стороне души и всей ее природе. Таким же образом и мужество живет исключительно в раздражительности и помогает уму защищать силу его предписаний. К этим добродетелям присоединяется рассудительность, выражающая подчинение пожелательной стороны души требованиям ума и сердца и умеряющая ее порывы к излишествам. Но три указанные добродетели имеют значение как бы частное; каждая определяет деятельность одной относящейся к себе силы, а на другие стороны души не простирается. Поэтому-то троица добродетелей у Платона увенчивается четвертою – справедливостью, без которой полнота и совершенство нравственной жизни невозможны. Справедливость сближает и соглашает все три части души; ее действенность видна не только в том, что каждая способность в человеке выполняет свое дело соответственно требованиям свойственной себе добродетели, не давая простора страстям чувственности и порывам раздражительности, но и в том, что человек точно таким же бывает и во внешней жизни, каков он внутренно, сам в себе, в своих правилах и началах, и чрез то, при всем многоразличии своих выражений, является существом единичным, согласным с собою в чувствованиях и действиях. Кто бережет и поддерживает в себе такое состояние, тот достигает добродетели вообще, называющейся здоровьем души, красотою и благонастроенностью[4]. А достигаем мы ее тогда, когда благороднейшие стороны своего существа образуем искусствами и науками, особенно философией, и всю свою жизнь располагаем по идее высочайшего блага. Такое настроение наших душ, говоря словами Платона, есть не что иное, как ἡ ἐν ἡμὶν ποςιτεία[5]. Сила и действенность добродетели весьма велики; ибо с упадком ее падает и истинное счастье человека, разрушается внутреннее его спокойствие, ограждаемое сознанием порядка и согласия всех душевных движений. С истинною добродетелью всегда соединяется и истинное удовольствие, и никто в такой мере не наслаждается им, как истинный мудрец. Толпа, даже в то время, когда думает наслаждаться радостями, ловит только тени и призраки их. Напротив, любителей мудрости и добродетели, даже и в самые скорбные минуты их жизни, надобно почитать блаженными. Те не стоят внимания, которые проповедуют, будто великую истину, что несправедливость изобилует богатством, осыпается почестями, а добродетель и правда большею частью далеки от этих благ; потому что искать добродетели надобно ради самой добродетели и любить ее без всяких видов корысти, хотя и внешние награды иногда бывают не чужды ей. Справедливых людей не забывают и боги: они награждают всех любящих добродетель и старающихся, по своим силам, восходить к богоподобию. В настоящей жизни это, конечно, не всегда бывает – уравнение добродетели с внешними благами здесь – явление редкое; зато в другой жизни каждому воздается мерою законною, ибо дух наш бессмертен.
Вот легкий очерк, или как бы сущность того, что высказал великий философ о свойствах добродетели в человеке. В самой верной параллели с этим ее описанием начертывает он образ и наилучшего государства – такого государства, которое совершенно выражает собою добродетель одного человека, имеет те же части, характеризуется теми же свойствами, управляется теми же законами, стремится к той же цели. Чрез начертание такого образа внутреннее настроение нравственных сил неделимого стало у Платона предметом как бы осязательным и, представ пред очи наблюдателя, поражает их, с одной стороны, гармонией своих требований, с другой – многими парадоксами. В самом деле, только этим развитием форм «Политики» из начал психологических можно объяснить, почему Платон в некоторых пунктах учения о государстве так далеко отступил от народных понятий и вдался в странности: он слишком далеко увлекся желанием образовать политическое тело по психологической модели одного человека, не испытав вполне верности психологического своего взгляда, и этим нехотя доказал, что чем идеальнее добродетель в мире внутреннем, тем невозможнее осуществить ее в условиях быта внешнего. Потому-то в мире христианском философы-юристы редко мирились в своих идеях с философами-моралистами, не унижая одной из них в пользу другой. Впрочем, и Платон, формы жизни политической приведши к совершенному тожеству с началами психологии и ифики, сам же признал их неосуществимыми[6]. Предположив это, взглянем теперь на самый образ начертанного Платоном государства.
Замечая, что человек, по природе, не может быть достаточен сам для себя, Платон в этой недостаточности его для самого себя находит начало общества и образует его из стольких же сословий, сколько сторон в человеческой душе. Сословие начальников у него совершенно подобно τῷ ςόγῳ, сословие воинов вполне соответствует τῷ θυμῷ, а народ, или грубая толпа, по его мнению, имеет ближайшее сходство с чувственными пожеланиями. Как в человеке, уму усвояет он власть и господство над прочими сторонами души, так и в государстве стражи и народ, по его идее, должны повиноваться правителям. Народ, как чуждый мудрости и состоящий не из философов, нужно, говорит он, удалять от управления государством и держать его в повиновении посредством стражей. Стражи государства – раздражительная сторона человеческой души, назначенная для защиты прав и выполнения распоряжений природы разумной, должны получать такое воспитание и быть в такой степени образованными, чтобы, повинуясь мудрым внушениям правительства, легко могли охранять благоденствие общества и мужественно предотвращать в нем как внешние, так и внутренние опасности. Итак, образованность предоставляется Платоном исключительно сословию воинскому; заботливее всего должно быть воспитываемо сердце государства. Образовать его, по мнению Платона, следует гимнастикою и музыкою. Гимнастика, по-видимому, может способствовать только к развитию и укреплению тела; но ее надобно преподавать и направлять таким образом, чтобы она нисколько не вредила совершенствам души, а напротив, еще содействовала к возвышению их. Музыка же должна быть такова, чтобы все ее виды клонились именно к образованию душевных сил, и не заключала в себе ничего, могущего вредить доброй нравственности. Поэтому некоторые виды поэзии, для чувствований и действий граждан опасные, в обществе благоустроенном терпимы быть не могут. Особенно надобно стараться, чтобы стражи не имели никакой собственности и не страдали любостяжанием; потому что иначе не станут они как следует выполнять своих обязанностей и будут гибельны для безопасности отечества. Из числа стражей, наконец, должны быть избираемы вожди и правители государства. Общество, если хотят, чтобы оно было наилучшим, должно быть управляемо такими мужами, которые признаны превосходнейшими по общему суду людей умных. Итак, в главе общества пусть стоят такие лица, которые и в самом раннем возрасте выказали отличные способности души и, пришедши в возраст зрелый, далеко превзошли других своими добродетелями. Как человек частный становится добродетельным тогда, когда вся его жизнь настрояется умом и управляется по образцу высочайшего блага, так и общество в таком только случае может достигнуть совершенной добродетели и вполне наслаждаться счастьем, когда его вожди направляют свой ум к познанию вечной истины и исполняют великое свое дело, созерцая духом высочайшее благо. Поэтому правителями должны быть философы. Но под именем философов Платон разумеет здесь не тех людей, которые вдаются только в отвлеченные исследования вещей или нечто знают о всем, о чем их спрашивают: философы, по его мнению, суть те, которые, взирая на вечные образцы явлений, познают самую истину – созерцая красоту добродетели, не только удивляются ей, но и всеми силами следуют за нею и воплощают ее в себе своими делами, которые богаты сколько знанием вечной истины, столько же и опытностью в употреблении вещей. Так как те три сословия граждан вполне соответствуют трем сторонам человеческой души, то и добродетели, свойственные последним, переносятся у Платона равным образом на первые; потому что совершенство государства условливается теми же четырьмя формами добродетельной жизни, которыми определяется совершенство неделимого. Мудрость, говорит Платон, есть добродетель правителей; мужество свойственно более всего сословию воинов, согласно с предписаниями правительства, ограждающими благоденствие и безопасность общественную; рассудительность усматривается в подчинении народной толпы воле правителей и во взаимном согласии граждан; а справедливость – в том, что не только согласны между собою граждане, но и целые сословия их строго исполняют свои обязанности и таким образом каждое из них более и более утверждается в свойственной себе добродетели. Но если и в государстве, и в частных людях – одни и те же добродетели, то как там, так и здесь надобно предполагать возможность одних и тех же пороков: ибо каково бы ни было общество, с царского его пути всегда идут какие-нибудь стези, на которые вступая, оно уклоняется в соседнюю область заблуждения. Так самое благоустроенное государство иногда незаметно перерождается в тимократию, из тимократии переходит в олигархию, из олигархического потом становится демократическим, а из демократического является тираническим.
Все это бывает следующим образом. Как добродетель души возникает при господстве ума, когда не дается места произвольным движениям стороны пожелательной и дерзости раздражения, так и пороки зарождаются в том случае, когда парализуется авторитет разумности и ее права захватываются стороною раздражительною и похотливою. Во-первых, под владычеством раздражительности является надменность, еще менее прочих пороков удаляющаяся от справедливости. Этому пороку души очень подобна тимократия, какую видим в республиках Критской и Лакедемонской, ближайших к обществу наилучшему. Когда же против разумности возмущается сторона пожелательная, тогда душа заражается еще большими пороками, из которых самый близкий к надменности есть скупость, или любостяжательность, а в обществе сообразнейшее с этою болезнью зло называется олигархией. Но если пожелательность, не ограничиваясь одною любостяжательностью и стремлением к корысти, предается разврату всякого рода, то порча души доходит уже до крайности, – и тогда правительственная власть переходит в руки народа, общество является демократическим. Наконец, может еще случиться, что душой овладеет какое-нибудь одно пожелание, какая-нибудь одна страсть, и притом сильнейшая, так что под ее владычеством замрут все другие, более благородные, чувствования: в этом случае государство должно нести бремя тирании, самое тяжелое и совершенно противоположное форме правления наилучшего. Вот круг всех возможных реформ, которые волею-неволею испытывает человеческое общество. Хотя эти реформы следуют одна за другою по какому-то как бы роковому закону, однако ж надобно всячески стараться, чтобы то наилучшее состояние государства поддерживалось и сохранялось сколько можно долее. А достигнуть этого иначе нельзя, как непрерывным согласием граждан и невозмутимою гармонией всех государственных сословий: ибо как в человеческой душе тогда только возникает совершенная добродетель, когда все ее силы и способности находятся во взаимном согласии и действуют сообща, так и государство, чтобы оно могло быть наилучшим, несмотря на множество своих членов, должно представлять собою просто одного человека. Для сохранения такого единства в многосложном государственном теле требуются некоторые условия. Во-первых, надобно смотреть, чтобы границы государства не были слишком обширны и своею обширностью не подавали повода к разобщению его частей. Во-вторых, все сословия граждан необходимо должны заниматься – каждое своим делом и не мешаться безрассудно в дела чужие; потому что иначе между гражданами должны возникнуть ссоры и враждебные отношения, которые для общества хуже всякой заразы. Кроме того, надобно удалять из государства все, что может вредить доброй нравственности или ослабить авторитет законов и постановлений. Поэтому нужно всячески остерегаться, чтобы в уроки стражам, равно как в гимнастику и музыку, не привносимо было каких-нибудь нововведений[7]; ибо такими изменениями удивительно как ускоряется разрушение общества. Далее, домашние вещи должны быть распределены так, чтобы в общество не могло прокрасться ни одно худое пожелание, способное возмутить согласие граждан. Поэтому стражи как другими благами, так женами и детьми должны владеть сообща; а отсюда произойдет то, что своекорыстие не вытеснит попечения об общем благе и согласие граждан сделается неразрушимым. Притом, чтобы еще более уравнять состояние всех членов государства, женщины в нем должны получать такое же воспитание, какое и юноши, и смотря по тому, к каким занятиям способна каждая из них, – годные для дел воинских пусть идут на войну, а расположенные к делам гражданским пускай занимают места правительственные. Этими и подобными установлениями можно достигнуть того, что описанное государство будет надежно и твердо, причины внутренних раздоров в нем устранятся, и добродетель, свойственная наилучшему обществу, упрочится. Но как счастье частных лиц зависит от их добродетели, так и целые государства не могут наслаждаться благоденствием, если политическое устройство их не будет скреплено добродетелью. Поэтому, как весьма жалок бывает человек, если душа его находится под владычеством страстей, и весьма счастлив, если она любит справедливость и добродетель, так и бессильная власть тирана достойна величайшего сожаления, а ἀριστοκρατια, или наилучшее правление, приносит гражданам столько благ, сколько может принять их человек чрез посредство гражданского общества.
Изложив сущность исследований, в которых Платон решает обе предположенные им задачи – ифическую и политическую, что можно сказать теперь о главной мысли всего сочинения? Скажу коротко, что думаю. Мне кажется, ни первая часть исследований, которая занимается описанием нравов наилучшего человека, ни последняя, в которой начертывается картина наилучшего государства, – ни то ни другое, рассматриваемое в отдельности, само по себе, не обнимает главной задачи философа, какая решена в этом диалоге. Но если оба упомянутых вопроса будут сведены в один, то легко откроется единство формы этого превосходного сочинения и совершенная целость его содержания. Сводя их один с другим, мы замечаем, что при изложении своей «Политики» Платон имел мысль – начертать образ совершенной человеческой добродетели, какая должна быть созерцаема как в душах отдельных лиц, так и в гражданском обществе, показать ее силу и превосходство и вместе научить, что худого и порочного может прививаться к общественной жизни и как этим злом разрушается человеческое счастье. Допустив это, мы поймем, для чего философ соединил описание наилучшего человека с описанием наилучшего государства, и притом так, что раскрытию того и другого предмета посвятил равную меру труда. Не будет для нас темно и то, почему свой диалог начал он с определения справедливости и кончил похвалами ей. С этой точки зрения нетрудно также усмотреть, что заставило его назвать свое сочинение словом ποςιτεία и почему в «Тимее» и «Законах» упоминается о нем как о сочинении просто политическом. Объясним это самым делом.
Если мы согласимся, что коренною мыслью Платона, при изложении «Политики», было изобразить совершенную добродетель в ее бытии и явлениях, то не трудно понять, что расположило его в одном и том же сочинении представить образ наилучшего человека и наилучшего государства. Намереваясь нарисовать, так сказать, картину человеческой природы в полном ее развитии, он не мог не видеть, что одна сторона ее – ифическая, скрывается в душе неделимого, а другая – политическая, в общественной жизни людей. Эти две ее стороны – то же самое, что предмет в себе и предмет в явлении. Тут внутреннее и внешнее в человеческом существе, под пером Платона, должны были сделаться душой и телом его диалога; и диалог его стал зеркалом человеческой природы, отразившим в себе ту и другую ее сторону. Да и могло ли быть иначе? В чем добродетель нашла бы свойственное себе выражение, как не в доброй деятельности? Где возможен предмет доброй деятельности, как не в нравственных отношениях человека? Чем устанавливаются и осуществляются нравственные отношения человека, как не гражданскою организацией прав и обязанностей? Посему-то на целое государство Платон смотрел не иначе, как на одно нравственное неделимое, как на добродетель одного лица, раскрывшуюся во множестве неделимых и получившую осязательный свой облик в многоразличных рефлексиях; и это-то ифико-политическое лицо изобразил он в рассматриваемом нами сочинении.
Но при этом, может быть, скажет кто-нибудь: почему внешнее выражение добродетели Платон видел именно в государстве, а не в обществе, обнимающем весь род человеческий? Ведь таким образом, кажется, можно было бы ему полнее и совершеннее выразить образ человеческой природы. Очевидно, что этим вопросом требовали бы от Платона не иного чего, как взгляда нравственно-космополитического. Что ж, если целая организация его «Государства» развита из начал психологии и ифики и если предположим, что понятия его о душе и добродетели безусловно верны, так что ими могут быть объяснены все явления человеческой жизни и все ее требования, где и когда они ни возникли бы, то он в своем «Государстве», конечно – космополит, или, по крайней мере, хотел быть космополитом. Но сколь ни идеален психологический взгляд Платона, природа человеческой души, рассматриваемая сама в себе, не подтвердит всех его положений, и человечество не дождется от них ответа на многие свои вопросы. Платон, как и всякий другой философ, хотя и высоко стоял над уровнем понятий своего века, не мог, однако ж, совершенно выйти из-под его влияния и, полагая, что описывает душу с ее добродетелями по образцу души общечеловеческой, сам не заметил[8], как описал духовное настроение лучшего греческого мудреца. Сделавшись же мыслителем национальным в психологии и ифике, он оказывается еще более частным, когда понятие о добродетели начинает облекать в формы жизни гражданской и устрояет государство. По его мысли, устроенное им общество до того выше и совершеннее всех возможных обществ, что не осуществимо даже никаким космополитизмом; а между тем оно явно носит на себе много черт национального образования. Впрочем, если и допустим, что Платон не имел взгляда космополитического, а просто видел возможность выразить природу добродетели не иначе как в определенных формах гражданского общества, то и это легко объясняется направлением современной Платону философии. Греческие философы так называемой политики не отделяли от теории нравственности и совсем иначе судили о свойствах, природе и цели государства, чем как ныне судят об этом: они частную пользу, выгоду и безопасность граждан становили не на первом плане и законов гражданских не отделяли от законов нравственности; но, науку добродетели почитая наукою каждого человека, вместе смотрели на нее как на кодекс прав и обязанностей государственных, ограждающий и упрочивающий общественное счастье. Поэтому, как законодатели, например Залевк, Харонд, Ликург, Солон и другие, были не только воспитателями и учителями народов, но и творцами гражданских постановлений, так и философы не только развивали теорию добродетели, но в то же время видели, что она должна быть прилагаема и к самому управлению обществом[9]. Вот почему и Платону показалось бы странным науку о государственном устройстве отделять от науки о добродетели: ему представлялось, напротив, делом весьма естественным – соединить ту и другую сколько можно теснее. Кроме того, он, без сомнения, имел в виду и другую, более важную причину обращать свое внимание на задачу политическую и соединять ее с учением о добродетели. Известно, что в Афинской республике, с развитием гибельных следствий народного правления, обнаруживавшихся внутренними волнениями и неурядицами, стали являться толпы софистов и ораторов с объявлениями, что они не только обладают искусством красноречия, но могут преподавать и науку добродетели, как домашней, так и общественной, и, гибельными своими правилами подрывая основания доброй нравственности, угрожали государству окончательным разрушением его благоденствия. Эти торговцы науками, уча других единственно ради материальных своих выгод, преподавали не то, что истинно, справедливо и честно само в себе, а то, что льстило и нравилось их слушателям, и в этом видели средство вкрасться в их расположение; так что все искусство их состояло в бесстыдной готовности льстить. Они, по свидетельству Платона, старались изгнать из ума всякую мысль об истине и утверждали, что ни в одной науке нет ничего столь положительного, чего нельзя было бы поколебать умствованиями, а потому объявляли, что о каждом предмете могут говорить pro и contra. Главною опорою их умствований были чувства, и на этом авторитете основывалось мнение Протагора, что человек есть мера всех вещей и что у всякого человека – своя истина. Что же касается до добродетели, то они оценивали ее не собственными ее достоинствами, а суммою соединенных с нею выгод и удовольствий. Поэтому одни из них, отделяя прекрасное от честного, жизнь честную хотя и почитали более прекрасною, однако ж несправедливая казалась им лучше и полезнее. Другие же, находя различие между природою (φύσις) и человеческими обычаями (νόμος), настаивали на том, что по природе злое, по природе и постыдно: поэтому получать обиды и переносить их есть дело постыдное; а отсюда выводили заключение, что все справедливое основывается только на мнении, а не на природе, и что гражданские законы написаны людьми – в видах оградить ими свою слабость против людей более сильных и могущественных. Напротив, с природою сообразен такой образ деятельности, чтобы человек приобретал все выгоды жизни и, сбросив с себя ярмо общественных законов, заботился о личной своей пользе и преобладании над прочими людьми. По их мнению, общественные законы – как бы тираны, повелевают и запрещают многое такое, что противно природе. Итак, справедливость, говорили они, состоит в том, чтобы всякий приобретал себе что ему полезно; ибо наносить обиду – дело хорошее и согласное с природою, а терпеть ее есть зло. Поэтому и в республике справедливым почитали они то, что полезно сильнейшему, – τό τοῦ κρείττονος ξυμφέρον, и это мнение старались подтвердить опытом. Кто имеет в своих руках власть, тот, по их мнению, всегда дает законы, полезные для самого его; демагог – народные, тиран – тиранические, другой – другие, и не повинующийся им наказывается как нарушитель гражданских прав. А чтобы этим своим мнениям придать больше важности, софисты сравнивали жизнь справедливую с несправедливою и доказывали, что несправедливость более содействует счастливой жизни, а справедливость есть не иное что, как благородная глупость, которая, служа пользе других, много вредит самой себе. Все эти заблуждения их происходили, очевидно, из того, что они в области познания и деятельности опирались на одни чувства и, рассуждая о добродетели, на самом деле имели в виду не добродетель, а удовольствие. Сколь далеко простирались они в таком своем бесстыдстве, видно, между прочим, из слов оратора Тразимаха (Lib. XI, р. 359 С – 362 С). Такое учение софистов, в самом корне разрушавшее добродетель, как домашнюю, так и общественную, особенно успешно прививалось к афинскому обществу со времени Персидских войн, познакомивших его с азиатскою роскошью и чрез то внесших в него порчу нравов. Видя это, Платон счел обязанностью греческого мудреца противостать, по возможности, такому наплыву софистических ухищрений и, раскрыв значение добродетели, показать, каким образом она должна быть осуществляема в обществе. Это делал он по местам, так или иначе, и в других своих диалогах, в которых восставал против современных софистов; а в своей «Политике» все отдельные опровержения их мнений свел как бы в один состав и, пользуясь этим материалом, начертал образ наилучшего государства по идее наилучшего человека.
Посмотрим теперь на предмет и с другой, противоположной стороны. Если Платон требовал, чтобы каждый человек вступал в общество и действовал в нем, всматриваясь в образ добродетели, оживляющей душу неделимого, и таким образом достигал гражданского счастья, то и самое общество, по его требованию, долженствовало быть так устроено, чтобы направлялось к воспитанию и развитию добродетели в каждом человеке и упрочивало счастье его нравственное. Государство, устроенное по идее совершенной добродетели, как заключает в себе добродетель и счастье отдельных, живущих в нем лиц, так и само, будто один совершенный человек, есть образец совершенной добродетели. Прежде всего в нем каждому назначен свой род жизни, чтобы, следуя известным путем, граждане стремились ко всему наилучшему; ибо никому не заграждена дорога к степеням в обществе самым высшим. Детям людей третьего сословия открыт путь ко второму, а отсюда – к первому, смотря по тому, в какой мере отличаются они умом и добродетелью; напротив, дети правителей и стражей, если отвергаются ими отцовские добродетели, переводятся в низший класс граждан. Потом, управление государством находится в руках людей истинно мудрых, которые, ревностно и глубоко изучая науки, прекрасно образовали свой ум и сердце, которые чрез долговременное наблюдение за ходом человеческих дел приобрели довольно сведений и опытности для управления обществом, которые, наконец, с самых юных лет так высмотрены, что в верности их, постоянстве, честности и мудрости никто уже сомневаться не может. Далее, добродетель, предназначенная, по мысли Платона, господствовать в обществе, не есть какая-нибудь частная ее форма, как, например, мужество или гражданская доблесть, но добродетель полная и безусловная, к приобретению которой должна быть направлена не одна какая-нибудь способность, но все силы души, надлежащим образом упорядоченные и пропорционально настроенные; так чтобы в общественной жизни граждан отражалось все истинное, доброе и прекрасное. Для этого граждане первых сословий должны быть сильно располагаемы к музыке, гимнастике и высшим наукам, так как ими только поддерживается здоровье и тела, и души. Наконец, правители государства, чтобы вполне соответствовать своей обязанности, должны постоянно обращаться умом к образцу высочайшего блага и стараться мудро сообразовать как собственную жизнь, так и жизнь целого общества с теми вечными формами мудрости, справедливости, честности и красоты, которые отражаются в уме, поколику он созерцает высочайшее благо; ибо иначе общество, говорит философ, никак не достигнет той высочайшей добродетели и того счастья, которое для него должно быть предположено. Если же так, то всякий легко может видеть, что цель Платонова государства – всячески поддержать добродетель граждан, представляя им в самом себе образец совершенной добродетели.
Но если государство в «Политике» Платона есть часть столь важная, видная, необходимая, то для чего и начинается это сочинение вопросом только о справедливости и оканчивается похвалами только ей? Мне кажется, если философ имел в виду представить образ как наилучшего человека, так и совершенного общества, то своего дела не мог он не начать исследованием справедливости, и нет ничего удивительного, что свои исследования заключил похвалами ей; потому что эта добродетель в ифике философа есть восполнение и совершенство всех добродетелей политических, и для раскрытия ее природы равно было необходимо обращаться к рассматриванию их как в неделимом, так и в государстве. В первой и второй книгах «Политики» такого обращения, конечно, еще не видно; однако ж, чтобы в самом начале диалога показать, в чем состоит сущность вопроса, философ весьма правильно приступает к делу с пересмотра различных понятий о справедливости, и все эти понятия были таковы, что внимание слушателей вводили в круг исследований не только ифических, но и политических. Притом здесь видна и другая сторона благоразумной методы философа: вознамерившись предложить образ совершенной добродетели, чтобы не только показать истинный ее характер, но и защитить ее от нелепого порицания софистов и ораторов, он необходимо должен был частью объяснить, частью опровергнуть положения, враждебные задуманному им учению. Но так как учение о справедливости заключало в себе и политику, а софисты, искажая понятие об этой добродетели, подкапывали вместе основания государства, то Платон весьма мудро заставляет Сократа обнять своими исследованиями всю человеческую добродетель – сколько частную и домашнюю, столько же гражданскую и общественную. Посему начав и окончив свое «Государство» мыслями о справедливости, Платон не только не сказал этим, что главный вопрос ее – справедливость в смысле ифическом, а напротив, доказал, что справедливости ифической даже и отделить нельзя от политической, что та и другая – одна и та же добродетель.
Но если это справедливо, если то есть добродетель, по идее Платона, тогда только получает совершенство и полноту, когда развивается не только в хорошо настроенной душе отдельного человека, но и в наилучше устроенном теле государственном, то, раскрывая свое учение о добродетели в значении ее ифическом и политическом и излагая его в одном сочинении, почему не озаглавил он этого сочинения как-нибудь иначе, а надписал словом ποςιτεία, которым обнимается, по-видимому, не все содержание диалога, а только политическая часть его? Этот вопрос, конечно, представлялся еще Стефану и расположил его – к древнему, несомненно, подлинному заглавию ποςιτεία прибавить другое, как бы дополнительное – περὶ δικαίου (о справедливом). Но рассмотрим, что, собственно, значит надписание ποςιτεία, – и мы тотчас увидим, нужна ли эта Стефанова прибавка и не прав ли был Платон, что так озаглавил свое сочинение. Под словом ποςιτεία этимология и употребление велят разуметь управление города. А так как городом греки называли метрополию со всем ее округом или подвластною ей страною, то ποςετεία было у них знаком понятия об управлении гражданского общества. Вникая в смысл этого слова в русском переводе, мы замечаем, что в нем есть нечто подлежательное и предлежательное, – есть действие управления и предмет управляемый, следовательно – момент нравственный и физический, внутренний и внешний. И если бы какой-нибудь русский филолог захотел Платоново ποςετεία означить на своем языке одним термином, который вполне выражал бы заключающуюся в нем мысль, то, без сомнения, напрасно искал бы такого термина. Правда, принято у нас и устоялось слово полиция; но оно получило столь частное значение, что момент внутренний, или нравственный, в нем почти вовсе потерялся, и ему осталось быть знаком лишь внешнего, понудительного управления. Сло́ва, совершенно соответствующего Платонову ποςιτεία, не имелось и в языке латинском, и римляне, переведши его словом Respublica, погрешили вдвойне: во-первых, приняли его только в смысле предлежательном, во-вторых, обозначили им только частную – республиканскую форму правления, тогда как Платон в своем сочинении рассуждает о городском управлении вообще. Поэтому я своего перевода не озаглавил ни латинским словом Respublica, ни переродившимся у нас в своем значении словом Полиция, но, стараясь, по возможности, вполне обнять смысл греческого ποςιτεία, выразил его двумя словами: Политика или Государство. Понимая так, как сказано, слово ποςιτεία, мы легко увидим, почему Платон озаглавил им такое свое сочинение, в котором раскрывается не только общественная, но и внутренняя, или нравственная, жизнь человека. Управление государством, по учению Платона, есть дело одной и той же справедливости, управляющей жизнью души; поэтому правитель, выходя с своею политикою в среду общества, обнаруживает не что иное, как нравственные правила самоуправления. Каждый человек есть более или менее гармонически устроенный город, более или менее светлым управляется умом, более или менее ясно сознаваемым руководствуется законом правды. И это – управление основное, это, говоря словами Платона, есть ἡ ἐν ἡμῖν ποςιτεία (L. IX, р. 59 Е) или ἡ ἡμῶν πόςις (L. IX, р. 592 А. Сравн. 608 В). По нем уже устрояется и управление государственное. И так те очень ошибаются, которые под словом ποςιτεία разумеют только предмет управления, или один предлежательный момент смысла, заключающегося в Платоновом надписании. Им не менее означается и управление нравственное, или момент подлежательный. Поэтому оно обнимает собою не одну часть озаглавленного им диалога, но все его содержание, и ничего не говорит в пользу тех, которые в рассматриваемом сочинении хотят считать главною только политическую его сторону.
Не больше твердым основанием их мнения служит и то, что в начале Платонова «Тимея» упоминается о «Политике» как бы о сочинении, имеющем содержание исключительно гражданское. В книгах «Политики» Платон от созерцания добродетели отдельных лиц перешел к устроению совершенного общества, которое управлялось бы, как один человек, по идее высочайшего блага. Поэтому с вопросом о нравственности людей и об образе действий и чувствований их он в этих книгах соединил исследование о наилучшем состоянии какого бы то ни было общества. Что же в «Тимее»? Доказав в прежде написанных диалогах, что во всей человеческой жизни, как частной, так и общественной, должна владычествовать идея высочайшего блага, в «Тимее» он говорит, что та же самая идея владычествует и в природе, поколику все, в ней существующее, для восхождения на высшую степень совершенства, должно сообразоваться с этою идеей. Таким образом, как в «Политике» Платон от нравственности отдельных лиц перешел к рассматриванию гражданского общества, так в «Тимее» от гражданского общества направился к рассматриванию всех вещей. Стало быть, нет ничего удивительного, что в начале «Тимея» упомянул он только о гражданской стороне своей «Политики», и отсюда еще не следует, будто ифическая часть ее имеет значение второстепенное.
Нельзя выводить такого заключения и из известного места в диалоге о «Законах» (Legg. V, р. 739 В – Е), где Платон упоминает о своей «Политике» как о сочинении, в котором у граждан все общее, и это описанное в нем общество называет первым. Причина, по которой в указанном месте поставляется на вид только вопрос гражданский, заключается в том, что там о гражданском лишь вопросе и надлежало говорить; ибо там проектируются три теории[10] государства: одна должна представить образец общества совершеннейшего, какого на этой земле и не найдешь; другая обязана устроить общество по образцу совершеннейшего, сколько позволяют это местные и прочие условия; третьей следует показать, каким образом общества, уже существующие, но не имеющие требуемых совершенств, могут быть исправляемы и усовершаемы. Выполняя эту программу, философ, по изложении учения о совершеннейшем обществе, озаглавленном просто словом ποςιτεία, в позднем уже возрасте приступил к описанию такого общества, которое хотя и далеко ниже того первого, однако ж сообразнее с слабостью человеческой природы. Но третье общество, по случаю ли смерти или по каким другим причинам, осталось неописанным[11]. Во втором своем описании, или в диалоге о «Законах», Платон изображает такое государство, которое хотя близко подходит к образу того совершенного, однако ж, при случаях, нуждается и в законодательстве внешнем; потому что здесь должно быть обращаемо внимание на гений народа, на свойства страны, на местность и на другие обстоятельства. Занятый же исключительно политическим устройством второго своего государства, удивительно ли, что при сравнительном взгляде на первое, он должен был смотреть и на него тоже со стороны политической, а часть его нравственную, так как она к настоящему его делу не относилась, оставил на тот раз без внимания. Если бы в своей «Политике» вопроса о наилучшем обществе касался он даже и мимоходом – и тогда, по поводу своих рассуждений в диалоге о «Законах», указал бы, без сомнения, только на этот боковой вопрос прежнего своего сочинения. Итак, наше понятие, что Платонова «Политика» начертывает образ совершенной человеческой добродетели, какая должна быть созерцаема – как в душах отдельных лиц, так и в гражданском обществе, стоит вне всех возможных недоумений и должно служить твердым основанием для определения характера и достоинств этого сочинения.
Мы уже прежде сказали, успел ли Платон везде и во всем выдержать общечеловеческие свои тенденции, но что он стремился развить идею совершеннейшей добродетели и по ней начертать образ совершеннейшего государства для всего человечества, – в том нет никакого сомнения. Точка зрения, из которой он выходит в своей «Политике», есть именно человеческая, или ифическая, и положена Сократом, основателем философии действительно человеческой. Но она должна была совершить круг всестороннего своего развития, следовательно, принять организацию, явиться в ограничениях, войти в формы жизни общественной, – и тут уже Платон, несмотря на общечеловеческие свои тенденции, становится афинским мудрецом в тоге дорической, – истину, добро и красоту определяет законами музыкальной гармонии, которые не проявляются нигде, помимо величайших законов гражданских (L. IV, р. 424 С). Отсюда музыкальность у него есть созвучие всей жизни, есть психический узел, не только соединяющий отдельные личности в одно прекрасное гармоническое целое, но и сообщающий государству единство чувствований, согласие желаний и непреоборимую силу в действиях. Поэтому государство, на взгляд Платона, делается не чем иным, как расширенным в своих пределах пифагорейским союзом, основным законом которого было пифагорейское начало: κοινά τὰ τῶν φίςων[12]. Поэтому также воспитание и образование почитается у него главным условием общественной жизни; так что все устройство и законы, по которым воспитывается юношество, суть не внешние ограничения, навязываемые гражданам волею правителя, а свободное развитие. Этот доризм в «Политике» Платона, равно как в сочинениях и других сократических писателей, особенно Ксенофонта, идет прямо наперекор разнузданному произволу и деспотизму афинского правления (потому что разнузданный народ всегда тиран, и не ограничиваемая ничем свобода всегда соединена с деспотизмом). Дух доризма проявляется у Платона преимущественно в воспитании и образе жизни стражей государства, в нераздельном их помещении и в общности имуществ их и жен. При этом он, без сомнения, имел пред глазами свободные отношения спартанских женщин[13] и по ним составил себе такое понятие о женском поле, что нашел возможным допустить его к участью в государственных делах, тогда как у афинян он находился в самом рабском состоянии[14]. Мы не хотим здесь приводить возражений, какие возникали против Платонова взгляда, потому что они вообще основывались на недоразумениях; не указываем также ни на отдельные женские личности, ни на факты из истории воинственных народов древности[15], на которые Платон тоже мог бы сослаться. Скажем только, что наш философ слишком далеко простирал идеализацию человеческой добродетели и понятия не имел о неисцелимой порче человеческой природы, когда, приготовляя женщин к отправлению должностей общественных вместе с мужчинами, не отделял первых от последних даже в стенах обнаженной гимназии. Платонова философия не доходила до исследования психических разниц, отличающих один пол от другого и неопровержимо доказывающих, что назначение их здесь, на земле, по самому характеру сил, дарованных тому и другому, весьма различно. Положим, можно еще владеть телом, если крепка душа, и приготовить его в орудие, годное для известной физической работы; но с душой ничего не сделаешь. Если хотите, чтобы она не отличалась от мужеской, – напрасно будете стараться передать ей свойства мужчины: вы достигнете этого разве тогда, когда лишите ее свойств женщины. Но потеряв свойства женщины, она будет преследуема презрением мужчин и ненавистью женщин. Обратим еще внимание на органическую целесообразность стихий, определяющих нравственное состояние людей в собственной их душе и в обществе. Эти стихии там и тут – в числе тройственном: там – τὸ ςογιστικὸν, τὸ θυμοειδές, τὸ ἐπιθυμητικόν; тут – τὸ Βουςευτικόν, τὸ ἐπικουρικόν, τὸ χρηματιστικόν. Но как скоро эти начала мыслятся во взаимном отношении и, кроме того, направляются к миру внешнему, троичность их превращается в четверичность, и те стихии, приходя в деятельность, становятся добродетелями. Из обоих первых начал рождаются мудрость и мужество; а когда в отношение к ним вступает и сила пожелательная, тогда в человеке является полное созвучие его стихий – высших и низших, и отсюда происходит добродетель, называемая рассудительностью. Рассудительность – это внутренняя гармония, которая, выходя наружу, как равенство и благоустройство отношений, становится справедливостью[16]. Таковы добродетели человека и государства, развивающиеся по тому самому закону четверицы, по которому развиваются стихии природы (см. Tim.); так как и в природе есть стихии – высшая и низшая – огонь и земля, которых противоположность приходит в гармонию чрез посредство двух других стихий, то есть чрез внешнее равенство – в воду, а чрез внутреннее равенство – в воздух. Таким образом, огонь есть дух физической жизни, земля – ее тело, а соединительный или посредствующий узел обоих – жидкость – начало материальное или видимое, и воздух – начало духовное или невидимое, как бы душа естественной жизни. Это учение о стихиях, которого новейшее естествознание не оценило, в главных своих чертах весьма древнее; потому что указания на него мы находим еще у древнейших народов Востока. Но научную форму сообщили ему, без сомнения, пифагорейцы, а после них Платон в «Тимее», где основной закон физической жизни поставляется в самую близкую аналогию с существом человека и государства. Даже главные формы правления (аристократия, тимократия, олигархия, демократия и тирания) выведены Платоном из различных настроений человеческой природы. И при этом замечательно остроумие, с которым он, внедряясь, так сказать, в самую душу гражданской жизни и схватывая каждую ее форму в сущности, не только изображает ее особенность, но и показывает физически непреложный закон ее образования и изменений. Три коренные формы правления – аристократия, тимократия и олигархия – имеют свою почву в трех существенных сторонах человеческой природы: в уме, раздражительности и пожелательности (ибо при олигархии владычествует богатство, следовательно τὸ χρηματίστικὸν). Но если государство сделалось олигархическим, то есть совершенно погрузилось в чувственную и корыстолюбивую жизнь, то оно наконец естественно распадается на хаотическое множество лиц; потому что в разливе чувственности единство, ум и законность необходимо глохнут и теряются, – и вот олигархия переходит в демократию. Потом из не ограничиваемого ничем множества лиц и чувственного рассеяния их необходимо вырождается произвол одного; потому что народ, в состоянии безначалия, – лишь бы только не суждено было ему рассеяться и погибнуть в междоусобной борьбе, – наконец вверяет себя водительству такого человека, который хитрыми средствами сумел обуздать этого многоглавого зверя, – и вот является тирания.
Обрисовав таким образом характер и научное построение «Политики», мы должны теперь указать ее место между другими диалогами Платона. Ученые критики, обращая внимание на богатство и полноту содержания в этом сочинении, справедливо замечают, что оно не могло быть написано прежде, чем были изданы Платоном другие книги, служащие к специальному объяснению некоторых встречающихся в нем истин из области ифики, диалектики и метафизики: потому что здесь сводятся многие главные части всей Платоновой философии; и это показывает, что философ, излагая свою «Политику», имел уже в виду тот образ своих мыслей, который высказан был им прежде, в других диалогах. Притом в некоторых местах «Политики» даже прямо указывается на содержание прежних сочинений. Мы видим, например, что как в первой и второй ее книгах вообще, так и в некоторых местах в частности предметы исследования живо напоминают «Горгиаса». То же надобно сказать и о «Федоне»: что говорилось в нем о вещах земных и небесных, также о бессмертии души, – это самое перенес Платон и в «Политику». По замечанию Шлейермахера, в «Политике» делается намек и на «Парменида», когда в кратких словах решаются вошедшие в этот диалог диалектические сомнения. Не без основания также полагает упомянутый критик, что есть довольно общего между «Политикою» и «Политиком», а из известного места L. IX, р. 588 С sqq. даже несомненно заключает, что, когда излагаема была «Политика», «Федр» уже ходил по рукам читателей. Не без вероятности можно думать, что и «Пир», или «Симпосион», вышел в свет прежде «Политики»; ибо что говорится здесь о любви к прекрасному божественному, то самое в «Симпосионе» изложено на основаниях, раскрытых с большею подробностью. Ища связи «Политики» с другими диалогами Платона, обращают внимание и на «Филеба». В «Филебе» говорится, что для достижения счастья, какое только возможно человеку, надобно направлять свою жизнь по идее высочайшего блага. В «Политике» объясняется, в чем состоят совершенство и полнота человеческой добродетели; потом это понятие прилагается к государству и говорится, что государство должно быть управляемо тоже по норме высочайшего блага. Отсюда можно заключить, что «Политика» вышла в свет после «Филеба». Если же захотели бы мы сравнивать это сочинение с другими разговорами Платона и по изяществу изложения, то, кроме «Горгиаса», «Протагора», «Федона», «Федра» и «Симпосиона», весьма немногие могли бы идти в сравнение с ним.
Но как скоро все упомянутые нами диалоги, носящие печать ума и возраста зрелого, написаны были Платоном прежде «Политики», а «Тимей», «Критиас» и «Законы», как выше замечено, явились в свет после ее, то почти необходимо заключить, что «Политика» была плодом поздних лет Платоновой жизни: ибо только в довольно поздние годы философ мог привести в одну систему отдельно обработанные им и требовавшие также не раннего возраста части своей науки и сверх того решить много новых, еще нетронутых вопросов. Впрочем, есть и другие причины так думать. Во-первых, Платон никак не мог написать «Политику» прежде смерти Сократа, случившейся в 1 году 95 олимп., или в 400 году до Р. X. В VII письме (р. 225 A sqq.) Платон рассказывает, что в молодых летах он желал занять какую-нибудь общественную должность, но увидев потом необузданное правление тридцати тиранов, совершенно оставил свое желание. Когда же иго тирании было свергнуто, в Платоне снова пробудилось было стремление к государственной службе: но в это время пришлось ему дознать на опыте, до какой степени афинское правление уродливо, законы неправосудны, народ развратен и своеволен. Да в таком же почти состоянии все это находилось и в других республиках. Τεςευτῶντα δὲνοῆσαι (Πςάτονα) περὶπάντωντῶνπόςεων, ὅτικακῶςξὐμπασαιποςιτεύονται, τὰγὰρ τῶννόμωναὐταῖςσχεδὸνἀνιατωςἔχονται. Довольно было одной поразительной катастрофы Сократа, чтобы в высокой душе Платона убить всякое сочувствие к официальному служению обществу. Может быть, к этому времени грустных дум о гражданском неустройстве греческих республик надобно относить первое возникновение мысли в уме Платона о начертании образа наилучшего государства по природе и образу наилучшего человека. Но нельзя думать, чтобы тогда же и осуществлена была мысль его. Известно, что, по смерти Сократа, друзья и родственники его принуждены были бежать в Мегару. В Мегаре Платон провел немало времени в дружеских беседах с Эвклидом; потом долго путешествовал то в Италию, то на Восток и, собирая сокровища мудрости, в тот период своей жизни не написал почти ничего, кроме нескольких диалогов, имевших целью оправдать Сократа пред обществом. Поэтому можно с достоверностью полагать, что «Политика» в первое десятилетие после Сократовой смерти, то есть до первого путешествия Платона в Сицилию, не была еще написана. Впрочем, это положение может быть подтверждено и другими соображениями. Во-первых, если верны наши замечания, что в некоторых местах «Политики» делаются указания на содержание «Симпосиона», то она не могла выйти в свет прежде 4 года XCVIII олимп. Во-вторых, в восьмой и девятой ее книгах нрав тирана Платон изображает такими чертами, что в его характеристике как бы осязательно видишь Дионисия Сиракузского; а этого не могло бы быть, если бы те книги вышли прежде начала XCVIII олимп. Сверх того, в этом сочинении очевидны следы пифагорейского учения[17], бросающиеся в глаза особенно в книгах 8, р. 546 A sqq., и 10, р. 616 С. sqq. Но так как неизвестно, знал ли Платон в точности правила и постановления пифагорейские прежде первого своего путешествия в Италию и Сицилию, то и это обстоятельство приводит к той же мысли, что «Политика» могла быть написана не ранее XCVIII олимп. С другой стороны, трудно представить, чтобы Платон начал излагать ее после после 100-й олимпиады, когда было ему от роду уже 50 лет. На это нелегко согласиться частью потому, что читая «Политику» с надлежащим вниманием, видишь в ней на каждой странице признаки не только светлого ума и глубокого мышления, но и необыкновенную живость выражения, и блестящие красоты речи, какие можно предполагать только в возрасте мужеском; а частью и потому, что в позднейшей жизни Платона надобно отделить еще много лет, в которые он должен был написать книги о «Законах», «Тимея» и «Критиаса», – сочинения, вышедшие в свет, несомненно, после «Политики» и запечатленные характером мысли, хотя столь же глубокой и зрелой, однако ж более положительной и спокойной. Основываясь на этих соображениях, едва ли мы ошибемся, если заключим, что «Политика» написана Платоном в продолжение XCIX и С олимп., или между 46-м и 54-м годами его жизни.
Но против этого, как и против всякого другого ограничения времени, к которому относили бы издание «Политики», по-видимому, имеет силу делаемое иногда возражение, что части этого сочинения написаны не в один период Платоновой жизни и что иные из них, быв изложены прежде, впоследствии подверглись новой редакции. Рассказывают, конечно, что по смерти Платона, на его таблицах найдено начало его «Политики» с некоторыми изменениями, состоявшими в иной расстановке слов[18], но этот факт не доказывает еще, что то была новая ее редакция, особенно когда Дионисий и Квинтилиан упоминают только о самых первых ее словах: κατέβην χθὲς εἰς Πειραιᾶ μετὰ Γςαύκωνος, и прибавляют, что это было сделано propter numerum oratorium conservandum. Рассказывает и Геллий (Noctt. Attic. XIV, 3), что Ксенофонт, прочитав почти две книги Платоновой «Политики», вышедшие в свет прежде других, нарочито написал и противопоставил им иное управление государством, под именем Παιδὶα Κύρου[19]. Ссылаясь на это сказание, нетрудно прийти к мысли, что «Политика» в разных своих частях изложена не в одно время. Но если и допустим, что, по словам Геллия, первые две ее книги изданы были отдельно, то все-таки невероятно, чтобы между изданием их и целого сочинения протекло много времени. Во-первых, в Платоново «Государство» вошло много постановлений египетских и пифагорейских, которых следы отчасти видны уже и во второй его книге и которые предполагают первое путешествие Платона как дело совершившееся. Во-вторых, господствующий в целом сочинении один и тот же характер речи, равномерно проявляющееся везде изящество выражения и постоянно поддерживаемое во всех частях соотношение мыслей показывают, что тон и склад «Политики» не испытал влияния со стороны разных возрастов жизни ее писателя. Кроме сего, не справедливо ли будет и то замечание, что если Платон, в первой книге своего «Государства» (р. 336 А), упомянув о фивском Исмениасе, поставил его под один взгляд с Периандром, Пердиккою и Ксерксом – людьми давно прошедшего времени, то не разумел ли он и Исмениаса как человека уже умершего? А этот фивянин, по свидетельству Ксенофонта (Hist. Gr. V, 2, 55 sq.), был убит в 3 году XCIX олимп. Следовательно, изложение Платоновой «Политики» могло быть начато не раньше этого или следующего года.
Если все сказанное нами верно, или по крайней мере правдоподобно, то на нашей стороне уже достаточная причина – не соглашаться ни с мнением Моргенштерна, когда он старается доказать, что Аристофан в своих Εκκςησιαζούσαις осмеивал «Политику» Платона, ни с словами Визета, который, излагая содержание этой комедии, говорит: Ἀριστοφάνης τοὺς φιςοσόφους, οἷςἐχθρὸς ῆν, μάςςίστα δὲ τὰ τοῦ Πςάτωνος περὶ ποςιτείας Βίβςία ψέγειν, σκώπτειν καὶ κωριωδεῖν δοκεῖ (Аристофан, по-видимому, осмеивает и преследует этою комедиею философов, особенно же «Политику» Платона). Если бы эта мысль была верна, то не только многочисленные диалоги Платона, на которые он указывает в рассматриваемом теперь сочинении, но и самое это сочинение должны были бы выйти в свет ранее 4 года XCVI олимп.; потому что в этом году Аристофановы Εκκςησιαζούσαι поставлены были на театральную сцену. Допустив же последнее заключение, надлежало бы согласиться, что Платон написал и издал свою «Политику», не имея еще и 37 лет от роду (так как 37-й год Платоновой жизни совпадает с 4-м годом XCVI олимп.), что выходит из пределов всякой вероятности. Между тем упомянутая Аристофанова комедия, если всмотреться ближе в цель, к которой она направлена, осмеивает вовсе не «Политику» Платона, а тех безумцев афинского общества, которые до исступления превозносили нравы лакедемонян и слепо подражали их обычаям. Это видно особенно из тех мест комедии, в которых лакедемонские обычаи выдвигаются на первый план действия; наприм. v. 60 sqq., v. 74 sqq., v. 279 sqq., v. 365, v. 426, v. 530, v. 564. Многие более благоразумные афиняне видели жалкое расстройство своего отечества и причину общественных бедствий усматривали в легкомысленности, непостоянстве и развращении народа. Несомненно, что эти благомыслящие люди старались по возможности удержать разлив зла и указывали своим согражданам на строгость нравственности спартанской. Мы, конечно, не знаем, кто были такие нравоучители, однако ж можем, наверное, угадывать их в лице многих философов и общественных ораторов. Это видно даже из 244 ст. τῶν Ἐκκςησιαζουςῶν, где Праксагора на вопрос: откуда почерпнула она свою мудрость? – отвечает так: ἐν ταῖς φυγαῖς μετὰ τὰνδρὸς ὤκησ’ ἐν Πνυκί. ἔπειτ’ άκούουσ’ ἐξέμαθον τῶν ρητόρων (во время моего бегства я жила с моим мужем во Фнисе и слушала ораторов; так от них и научилась), – и из 569 и след. стихов, где поет хор: Νῦν δὴ δεῖ σὲ πυκνὰν φρένα καὶ φιςόσοφον ἐγείρεινаροντίδ’ἐπισταμένην ταῖς φίςαισιν ἀμύνειν (теперь тебе, умеющей помочь своим подругам, надобно возбудить в себе твердую волю и философскую заботливость). В этом же можно увериться и из слов Платона в «Горгиасе» (р. 515 Е), где Калликл на замечание Сократа, что Перикл развратил нравы афинян, отвечает с колкою насмешкою: τῶν τὰ ὧτα κατεαγότων ἀκούεις ταῦτα, то есть такие речи ты слышишь от людей, прокалывающих, подобно спартанцам, свои уши. Мы заметили выше, что Платон и прочие последователи Сократа всем другим обществам предпочитали общества дорические. Кажется, нельзя сомневаться, что преимущество их сознавал и народ, только многие не понимали, в чем именно состоит оно, и увлекались одною внешнею стороною жизни, принятой дорянами. Любители их одевались в лакедемонские туники, носили большие сапоги, ходили с палками, упражнялись в борьбе, носили в ушах серьги – и думали, что, следуя таким обычаям, они – настоящие спартанцы. Даже женщины, прежде скромно сидевшие в своих гинекеях и прявшие шерсть, теперь, по примеру мужей, получили большую свободу и подражали спартанским героиням, которые, хотя и не добивались гражданских почестей, однако ж на мужей своих имели столь сильное влияние, что, по свидетельству Аристотеля (Polit. 11. 9, р. 438 С. D), Платона (Legg. 1, р. 637 С) и Плутарха (Lycurg. Sect. 14. 15), произвол их входил в решение многих важнейших дел. И эту-то эманципацию афинских женщин, столь несогласную с прежнею скромностию их, осмеивал Аристофан в своих Ἐκκςησίαζούσαις, Θεσρφοριαζούσαις и в «Лизистрате». В первой из этих комедий главное действующее лицо – Праксагора, одетая в мужескую одежду и подвязавшая себе бороду, предписывает народу закон, вручающий женщинам кормило правления, – в той мысли, что под женским правлением государство избавится от величайших бедствий, навлекаемых на него слабыми мужчинами. В законе Праксагоры нет ничего, прямо противоречащего постановлениям спартанским, а только есть преувеличения, сделанные, конечно, с целью комическою – для возбуждения смеха, и чрез то подавшие повод думать, будто этим осмеивается Платонова «Политика». Праксагора прежде всего приказывает учредить общественные пиршества, чем делается намек на сисситии спартанцев, а не на те общие столы, которые Платон установил в своем государстве для стражей или воинов. Потом эта облеченная верховною властью женщина узаконяет все имущества почитать общими – с целью изгнать из государства воровство и всякий обман, чем также намекается на постановления спартанские относительно равенства полов и некоторым образом общности богатства (Morgenstern., р. 307. Xenoph. de Republ. Lac., p. 681 E., 682 A. B. Aristot. Polit. 11, 5. Plutarch. Instit. Lac. p. 236 E). Слова Плутарха об этом предмете особенно замечательны: «По выполнении этого, у лакедемонян исчезли многие роды несправедливости. Кто бы после сего вздумал или воровать, или брать взятки, или отнимать, или грабить, когда не было надобности приобретать и приобретенного невозможно было спрятать?» Но мнение, будто в Εκκςησιαξούσαις осмеивается «Политика» Платона, произошло особенно от того, что Праксагора в этой комедии постановляет также закон женам быть общими – в той мысли, что тогда старцы будут пользоваться всеобщим уважением, как отцы уважаются детьми, и целое государство сделается как бы одним семейством. Хотя это постановление и походит на Платоново, однако ж и оно гораздо ближе к учреждениям лакедемонским; так что и здесь не представляется причины думать, почему означенная Аристофанова комедия скорее осмеивает Платона, чем безрассудное подражание спартанским обычаям. У Платона этот закон имеет значение только в отношении к воинам; а в спартанской республике все, о чем говорится у Плутарха (Vit. Lycurg., p. 49 A. D., Sect. 15) и Ксенофонта (de Rep. Lac. 015 7), относится к каждому гражданину. Вот слова Плутарха: ΕξὲΒαςε τῆν κενὴν, καὶ γυναικώδη ζηςοτυπίαν, ἐν καςῷ καταστὴσας ὕΒριν μὲν καὶ αταξίαν πᾶσαν εἴργειν ἀπὸ τοῦ γάμου, παίδων τε καὶ τεκνώσεως κοινονεῖν τοῖς αζίοις, καταγεςῶν τῶν ὡς ἄμικτα καὶ ἀκοινώνητα ταῦτα μετιόντων σφαγαῖς καὶ ποςέμοις. Ἐξῆν μὲν γὰρ ἀνδρί πρεσΒυτέρω νέας γυναικὸς, εἰ δή τινα τῶν καςῶν καὶ ἀγαφῶν ἀσπάσαιτο νέων καὶδοκιμάσειεν, ἐιςαγαγεῖν παρ’ αὐτ]γν καὶ πςήσαντα γενναίου σπερματος ἴδιον αὐτος ποιήσασθαι τὸ γεννγθέν. Εξῆν δὲ πάςιν ἀνδρὶ τῶν εὐτέκνων τινά καὶ σωφρόνων θαυμάσαντι γυναικῶν ἐτερῳγεγαντημένιην πεῖσαι τὸν ἄνδρα συνεςθεῖν, ὥςπερ ἐν χώρᾳ καςςικάρπῳ φυτεύοντα καὶ ποιούμενον παῖδας ἀγαθοὺς ἀγαθῶν ὁμαίμους καὶ σνγγενεῖς ἐσομένους. Эти и подобные этим черты спартанской жизни совершенно уничтожают мнение тех, которые полагают, что Аристофан в своих Εκκςησιαξούσαις смеялся над «Политикою» Платона; потому что вместо «Политики» выставляют сами себя как готовый и весьма приличный предмет для Аристофановой комедии. Впрочем, такого мнения нельзя принять и по другим причинам. Во-первых, читавшие Аристофана должны удивляться, почему этот комик нигде не только не упоминает имени философа, но не делает и намеков, что над ним смеется. Во-вторых, у Аристофана вводится много таких вещей, которыми прямо указывается на обычаи и уставы спартанцев, но которые нисколько не касаются «Политики» Платона; таково, например, описание одежд и всей внешней обстановки женского управления. В-третьих, Платон позволяет женщинам только принимать участие в государственных делах; а Аристофан предоставляет им верховную власть в государстве. Платон постановляет, чтобы имущество было общим только в сословии воинов; а Аристофан, напротив, распространяет это постановление на все государственные сословия. Платон велит продовольствовать своих стражей на общественные деньги; а Аристофан заставляет всех граждан нового государства веселиться на общих пирах. Платон позволяет общие браки только воинам, и притом под заведованием мудрых начальников; а Аристофан в этом отношении дает полную свободу всем гражданам, особенно же женщинам. Надобно сверх сего взять в соображение и то, что сам Платон в своей «Политике» (L. V, р. 452 В. С, р. 457 A. В) упоминает о насмешках комиков, направленных против обычаев и постановлений спартанских. Следовательно, эти насмешки, по времени, предшествовали «Политике», и к ним-то, без сомнения, принадлежала означенная комедия Аристофана.
Этим оканчиваем мы обозрение содержания Платоновой «Политики» и исследование намерения, с которым философ написал ее. Рассматривать, какие частные мысли вошли у него в теснейшую связь с общими вопросами и какою именно держатся они связью, было бы делом излишним. Это с возможною краткостью показано будет в очерках содержания каждой книги и пред каждою книгою. Из предполагаемых очерков откроется, какое значение в целом диалоге имеют рассуждения Платона о превратных понятиях относительно справедливости и несправедливости, о способностях человеческой души, о различных родах удовольствий, о многообразных нравах добрых и злых людей, об идее высочайшего блага, о достоинстве истинного философа, о видах гражданских обществ, о состоянии человеческого рода на земле, об участии людей по смерти, о занятии свободными науками, особенно поэзией, и о многих других предметах. Платон в своей «Политике» сводит познания о всем, чего может касаться человеческая пытливость, и представляет их в систематической связи и взаимной зависимости.
Профессор В. Н. Карпов
Содержание первой книги
Первая книга Платонова «Государства» начинается дружескою беседою Сократа со стариком Кефалом – о старости, и – когда по этому поводу было замечено, что человек, проведший жизнь праведно и свято, наслаждается спокойною и веселою старостью, – возник у них вопрос: что называется праведностью или правдою? Р. 327–331 С. После сего Кефал уходит, и о постановленном предмете начинает рассуждать с Сократом сын Кефала, Полемарх. Этот правду определяет так, что называет ее добродетелью, отдающею всякому свое. Но Сократ находит, что его определение в человеке справедливом не предполагает довольно осмотрительности; потому что в таком случае вещь, вверенную нам для сохранения человеком здравомыслящим, возвратить ему тогда, когда он сошел с ума, значило бы поступить справедливо. Р. 331 С – 332 А. Посему Полемарх, изменив свое мнение, видит теперь справедливость в том, чтобы благотворить друзьям и делать зло врагам. Но Сократ отвергает и это определение: предлагая Полемарху вопрос за вопросом, он незаметно приводит своего собеседника к заключению противному, что человек справедливый был бы несправедлив, если бы стал вредить кому-нибудь. Р. 332 А – 336 А. После того в беседу с Сократом вступает софист Тразимах и утверждает, что справедливость есть не что иное, как действие, полезное мужественнейшему и превосходнейшему. Но Сократ опровергает и это мнение, – притом многими доказательствами, и учит, что человек справедливый, заведуя общественными делами и имея силу в государстве, должен смотреть не на личную свою, а на общую пользу, или на благосостояние тех, которыми он управляет. Р. 336 А – 342 Е. Тразимах, однако ж, за такой взгляд сильно укоряет Сократа, почитая подобную деятельность глупою, и, чтобы своему понятию о справедливости придать более веса, начинает великими похвалами превозносить несправедливость, говоря, что последняя приносит человеку гораздо больше выгоды, чем первая. Р. 342 Е – 344 С. Сократ, конечно, не соглашается с этим и подробно раскрывает, что несправедливость и не полезнее, и не счастливее справедливости. Р. 344 С – 354.
Книга первая
Вчера я с Главконом[20], сыном Аристона, сошел в Пирей[21] поклониться божеству[22], а вместе посмотреть, как будет идти праздник, совершаемый ныне в первый раз. И мне показалось, что церемония выполнена здешними жителями столь же хорошо и благоприлично, как будто бы выполняли ее сами фракияне. Поклонившись и посмотревши, мы отправились назад в город. Тут Полемарх, сын Кефалов[23], увидев издали, что мы спешим домой, приказал своему мальчику догнать нас и просить, чтобы мы подождали. Мальчик, схватив меня сзади за плащ, сказал:
– Полемарх просит вас подождать.
А я обернулся и спросил: где же он?
– Он назади, идет сюда, – отвечал мальчик, – подождите, сделайте милость.
– Хорошо, подождем, – сказал Главкон.
Немного спустя к нам присоединились и Полемарх, и Адимант, сын Главкона, и Никират[24], сын Никиаса, и некоторые другие, возвращавшиеся с церемонии. Тогда Полемарх сказал:
– Сократ! Вы, кажется, спешите в город.
– Тебе не худо кажется, – отвечал я.
– А видишь ли, сколько нас?[25] – прибавил он.
– Как не видеть?
– Так вам, – говорит, – надобно или быть посильнее этого общества, или остаться здесь.
– Но есть еще одно, – возразил я, – убедить вас, что должно дать нам отпуск.
– А разве возможно убедить тех, которые не слушают? – подхватил он.
– Совершенно невозможно, – отвечал Главкон.
– Будьте же уверены, – сказал он, – что мы слушать вас не станем.
– Ужели вы не знаете, – примолвил Адимант, – что вечером в честь божества будет бег с факелами[26] на конях?
– На конях? – воскликнул я. – Да это новость: то есть, обгоняя друг друга на конях, будут передавать[27] один другому факелы? Или как ты говоришь?
– Именно так, – отвечал Полемарх, – и сверх того устроят ночные увеселения, которые стоит посмотреть. После ужина мы увидим их и, встретив там много молодых людей, будем разговаривать с ними. Останьтесь-ка, не упрямьтесь.
– Да, приходится остаться, – сказал Главкон.
– Если угодно, пусть так и будет, – примолвил я.
Итак, мы пошли в дом к Полемарху и встретили там Полемарховых братьев – Лизиаса и Эвтидема, вместе с халкидонцем Тразимахом[28], пеанцем Хармантидом и Клитофоном Аристонимовым. Тут же был и отец Полемарха – Кефал. Он показался мне очень устаревшим; ибо прошло много времени с тех пор, как я не видел его. Старик сидел увенчанный на мягком, покрытом подушкой стуле[29], потому что приносил жертву на домашнем жертвеннике. Мы уселись подле него, так как здесь вокруг стояли стулья. Увидев меня, он тотчас сделал мне приветствие и сказал:
– Сократ! Ты ныне редко жалуешь к нам в Пирей, а надобно. Если бы я имел довольно силы легко ходить в город, то тебе хоть бы и не бывать здесь; тогда мы сами посещали бы тебя. А теперь ты должен приходить к нам чаще; ибо знай, что чем более чуждыми становятся для меня удовольствия телесные, тем сильнее возрастает во мне желание и удовольствие беседовать. И так не отказывайся, но и занимайся-таки с этими молодыми людьми, да не забывай навещать и нас, как друзей и коротких знакомых.
– Как же мне приятно, Кефал, беседовать с глубокими старцами, – сказал я, – они уже прошли тот путь, которым идти, может быть, понадобится и нам; а потому у них то, думаю, должно спрашивать, каков он – ухабист и труден или легок и ровен. Особенно тебе я охотно верил бы в этом отношении; потому что ты уже в том возрасте, который поэты называют порогом старости. Что же, трудна эта часть жизни? Как ты скажешь?
– Я скажу тебе, Сократ, ради Зевса, именно то, что мне кажется, – отвечал он. – Несколько нас человек, почти равных лет, часто сходимся в какое-нибудь одно место, оправдывая старинную пословицу[30]. В наших собраниях многие оплакивают вожделенные для них удовольствия юности, воспоминания о любовных связях, попойках, пирушках и других забавах того же рода, и обнаруживают брюзгливость, как будто лишились чего-то великого, как будто в те времена они жили прекрасно, а теперь вовсе не живут. А иные оскорбляются и тем, что их старость подвержена насмешкам со стороны ближних; а потому о ней, как о виновнице всех своих зол, они поют ту же жалобную песню. Но, по-моему, Сократ, так они не попадают на причину. Если бы причиною действительно была старость, то и я терпел бы от ней то же самое, что все прочие, достигшие того же возраста. Напротив, мне уже случалось встречаться и с другими – не такими стариками, и с Софоклом. Раз кто-то спросил поэта Софокла: каков ты теперь, Софокл, в отношении к удовольствиям любви? Можешь ли еще иметь связь с женщиною? – А он отвечал: говори лучше, добрый человек; я ушел от этого, с величайшею радостью, как бегают от бешеного и жестокого господина. – Такой ответ мне и тогда казался хорошим, и теперь не менее нравится. В самом деле, старость, в отношении к подобным вещам, есть время совершенного мира и свободы. Когда страсти перестают раздражаться и ослабевают, тогда является именно состояние Софокла – состояние освобождения от многих и неистовых господ. Причина и этого, Сократ, и домашних неприятностей – одна: не старость, а человеческий нрав. Если старики доблественны и нрава легкого, то старость для них удобопереносима: а когда нет – и старость, и молодость, Сократ, равно несносны им.
Восхитившись его словами и желая возбудить его к дальнейшему разговору, я сказал:
– Мне кажется, Кефал, что люди не примут таких твоих рассуждений: они подумают, что ты легко переносишь старость не от своего нрава, а потому, что владеешь великим богатством; говорят же, что у богатых много утех.
– Ты прав, – примолвил он, – точно, не примут, и, однако ж, думая так, ошибаются. Мне нравится ответ Фемистокла одному серифянину[31], который порицал его, говоря, что он обязан славою не самому себе, а своему отечеству. «Я не прославился бы, – отвечал он, – быв серифянином, а ты – быв афинянином». Эта самая речь идет и к тем небогатым людям, которые с трудом переносят свою старость: то есть и для человека добронравного нелегка может быть старость, сопровождаемая бедностью; и человеку недобронравному трудно бывает владеть собою, несмотря на богатство.
– Но большая часть того, чем ты владеешь, Кефал, досталась ли тебе по наследству, – спросил я, – или приобретена самим тобою?
– Где мне было приобрести, Сократ! – отвечал он. – Целою половиною своего состояния я обязан деду и отцу. Дед, соименник[32] мой, наследовал почти такое же богатство, какое теперь у меня, да еще сам увеличил его; а Лизаниас, мой отец, уменьшил его даже в сравнении с теперешним моим. Что же касается до меня, то я хотел бы передать его этим детям не уменьшенным, но хоть немного увеличенным против того, которое я получил.
– Я спросил тебя об этом потому, – сказал я, – что не замечал в тебе большой привязанности к деньгам; а привязанности к ним не имеют те, которые не сами нажили их. Напротив, кто сам наживал деньги, тот любит их вдвое более, чем другие. Как поэты любят свои стихотворения, а отцы – своих детей, так разбогатевшие любят деньги, собственное стяжание, – любят, не по мере их полезности, подобно другим. Оттого-то обращение их и тяжело, оттого то они и ничего не хвалят, кроме богатства.
– Ты правду говоришь, – отвечал он.
– Без сомнения, – примолвил я, – но скажи мне еще вот что: каким самым великим благом думаешь ты насладиться, стяжав большое богатство?
– О, мой ответ на это покажется убедительным, вероятно, не для многих, – сказал он. – Знай, Сократ, что кто близок к мысли о смерти, у того рождаются боязнь и забота о таких предметах, о которых прежде он и не думал. Рассказываемые мифы о преисподней, что порочные должны там получить наказание, до того времени бывают им осмеиваемы; а тут в его душу вселяется мучительное недоумение – что, если они справедливы. От слабости ли, свойственной старику, или уже от близости к той жизни, он как-то более прозирает в загробное. Полный сомнения и страха, он начинает размышлять и рассматривать, не обидел ли кого как-нибудь. Находя в своей жизни много несправедливостей и, подобно детям, нечаянно пробужденный от сна, он трепещет и живет с горькими ожиданиями. А кто не сознает в себе ничего несправедливого, тому всегда сопутствует приятная надежда, добрая питательница старости, как говорит Пиндар[33]. Уж куда мило, Сократ, изображает он человека, проводящего свою жизнь праведно и свято.
- Сладкую сердце его лелеет надежду;
- Питает старость и ей сопутствует в жизни —
- Эта надежда – правитель умами людскими,
- Хитро которые, так изворотливо мыслят.
Да, он говорит удивительно как сильно. Потому-то я и полагаю, что приобретение денег весьма важно не для каждого человека, а только для добронравного. Деньги содействуют большею частью к тому, чтобы не обманывать и не лгать нехотя, и выйти отсюда не боясь, что или богу не принесены известные жертвы, или людям не заплачено жалованье. Они доставляют много и иных выгод. Для человека с умом, по моему мнению, одно, конечно, лучше другого; однако ж и богатство, Сократ, все-таки весьма полезно.
– Ты прекрасно рассуждаешь, Кефал, – сказал я. – Но эту самую справедливость назовем ли мы просто истиною и отдаванием того, что получено от другого, или подобные поступки иногда бывают справедливы, а иногда нет? Как бы так сказать: всякий ведь согласится, что кто взял оружие у своего друга, обладающего здравым умом, тот не должен отдавать его этому другу, сошедшему с ума, когда он того требует, – и отдавший был бы неправ даже и в том случае, когда высказал бы ему всю истину.
– Твоя правда, – отвечал он.
– Следовательно, не это определение справедливости, что она есть высказывание истины и отдавание взятого.
– Нет, именно это, Сократ, – подхватил Полемарх, – если только верить Симониду.
– Ну так предоставляю вам продолжать разговор, – сказал Кефал, – а мне уже пора заняться жертвоприношением.
– Значит, твоим наследником[34] будет Полемарх? – примолвил я.
– Конечно, – сказал он, усмехнувшись, и тотчас пошел к жертвеннику[35].
– Скажи же ты мне, наследник беседы, – продолжал я, – какое мнение Симонида о справедливости, по-твоему, правильно.
– То, – отвечал Полемарх, – что справедливость состоит в воздаянии всем должного. Говоря так, он, мне кажется, говорит хорошо.
– Разумеется, – примолвил я, – Симониду-то нелегко не верить: ведь это человек мудрый и божественный. Однако ж ты, Полемарх, может быть, и знаешь, что говорит он, а я не знаю: уж верно не то, о чем мы сейчас рассуждали, – чтобы, то есть, залог, каков бы он ни был, отдавать требующему не в здравом уме, хотя залогом-то в самом деле налагается долг. Не так ли?
– Так.
– Ведь залога никак не следует отдавать, если требует его человек не в здравом уме?
– Без всякого сомнения, – отвечал он.
– Стало быть, Симонид разумеет что-то другое, когда говорит, что справедливость состоит в воздаянии должного.
– Да, другое, клянусь Зевсом: у него – та мысль, что долг друзей делать друзьям что-нибудь доброе, а зла не делать.
– Понимаю, – сказал я, – тот отдает не должное, кто возвращает вверенные себе деньги, когда и принятие, и возвращение их бывает вредно; друзьями же называются те, из которых один принимает, а другой отдает. Не эту ли мысль приписываешь ты Симониду?
– Конечно, эту.
– Что ж? а врагам надобно ли воздавать то, чем мы при случае бываем им должны?
– Да, непременно – то, чем должны, – отвечал он, – а долг врага, в отношении к врагу, состоит, думаю, в воздаянии того, что прилично, то есть в воздаянии зла.
– Поэтому Симонид, – сказал я, как поэт, – изобразил значение справедливости, должно быть, гадательно, то есть мыслил, кажется, так, что справедливость состоит в воздаянии каждому, что прилично, и это назвал долгом[36].
– А ты как же думаешь? – спросил он.
– Ради Зевса, – отвечал я. – Да если бы кто-нибудь предложил ему вопрос: Симонид! Чему и что должное, или приличное, воздает искусство врачебное? Какой, думаешь, дал бы он нам ответ?
– Очевидно, сказал бы, что оно доставляет телам лекарства, пищу и питье.
– А чему и что должное, или приличное, воздает искусство поварское?
– Оно сообщает кушаньям вкусность.
– Пусть; но кому и что может воздавать искусство справедливости?
– Если надобно сообразоваться с прежними ответами, Сократ, – сказал он, – то это искусство друзьям оказывает пользу, а врагам наносит вред.
– Поэтому справедливость он поставлял бы в делании добра друзьям и зла врагам?
– Мне кажется.
– Но кто особенно способен делать добро страждущим друзьям и зло врагам, в отношении к болезни и здоровью?
– Врач.
– А кто – плавателям, в отношении к опасностям морского путешествия?
– Кормчий.
– Что же справедливый? Какою деятельностью и в каком отношении может он быть полезен для друзей и вреден для врагов?
– Мне кажется, нападением и защитою в сражении[37].
– Пусть; однако ж людям, не страдающим болезнью, любезный Полемарх, врач ведь не полезен.
– Правда.
– А не плавающим не полезен кормчий.
– Да.
– Стало быть, не сражающимся не полезен справедливый?
– Нет, этого я не думаю.
– Значит, справедливость полезна и во время мира?
– Полезна.
– Равно и земледелие. Не так ли?
– Да.
– Для собирания плодов?
– Да.
– И сапожническое мастерство?
– Да.
– Скажешь, думаю, для приготовления обуви?
– Конечно.
– Ну что ж? А справедливость во время мира для какой нужды или приобретения почитаешь полезною?
– Для сделок, Сократ.
– Сделками ты называешь сношения или что другое?
– Разумеется, сношения.
– Но с кем лучше и полезнее сноситься, когда хочешь расстановить шашки[38], – с человеком справедливым или с игроком?
– С игроком.
– А при кладке плит и камней, неужели лучше и полезнее обратиться к человеку справедливому, чем к домостроителю?
– Отнюдь нет.
– В каких же сношениях справедливый будет, например, лучше цитриста, как цитрист бывает лучше справедливого в игре на цитре?
– Мне кажется, в денежных.
– Может быть, кроме употребления денег, Полемарх; потому что когда надобно за деньги сообща купить или продать лошадь – полезнее, думаю, снестись с конюхом. Не так ли?
– Видимо.
– А когда корабль – с кораблестроителем или кормчим.
– Естественно.
– В каком же случае, для употребления золота или серебра сообща, полезнее других человек справедливый?
– В том, Сократ, когда бывает нужно вверить деньги и сберечь их.
– То есть когда надобно не употребить, а положить их, говоришь ты?
– Конечно.
– Значит, справедливость, в отношении к деньгам, тогда бывает полезна, когда деньги бесполезны?
– Должно быть.
– Подобным образом, для хранения садового резца в общественном и домашнем быту полезна справедливость; а для употребления его нужно искусство садовника?
– Очевидно.
– И чтобы сохранить щит и лиру без употребления, скажешь, полезна справедливость; а когда нужно употребить их – требуются искусства оружейное и музыкальное?
– Необходимо.
– Так и во всем другом, справедливость при полезности бесполезна, а при бесполезности полезна?
– Должно быть.
– Не слишком же важное у тебя дело – справедливость, друг мой, если она полезна для бесполезного. Рассмотрим-ка следующее: не правда ли, что человек в сражении, в кулачном бою, или в каком-нибудь другом случае, умеющий ударить, умеет и поберечься?
– Конечно.
– И умеющий сохранить себя от болезни, не подвергаясь ей, умеет и сообщать ее?
– Я думаю.
– А оберегатель-то лагеря – не тот ли хорош, который знает также, как похитить замыслы и действия неприятелей?
– Конечно.
– Значит, кто отличный чего-нибудь сторож, тот и отличный вор той же вещи.
– Естественно.
– Итак, если человек справедливый умеет сохранять деньги, то умеет и похищать их.
– Ход речи действительно требует такого заключения, – сказал он.
– Следственно, человек справедливый, по-видимому, есть вор, и этому ты научился, кажется, у Омира, который, превознося похвалами Одиссеева деда по матери, Автолика, заключает, что он более всех людей отличался воровством и обманом. Так выходит, что справедливость, и по твоему, и по Омирову, и по Симонидову мнению, есть искусство воровать – в пользу, то есть друзьям, и во вред врагам[39]. Не так ли ты говорил?
– О нет, ради Зевса; я и сам не знаю, что говорил. Впрочем, мне все еще представляется, что справедливость велит приносить пользу друзьям и вредить врагам.
– Но друзьями тех ли называешь ты, которые всякому только кажутся добросердечными, или тех, которые в самом деле добросердечны, хотя бы и не казались? Такой же вопрос и о врагах.
– Естественно любить тех, – отвечал он, – которых почитают добросердечными, и ненавидеть тех, которых признают лукавыми.
– Да не обманываются ли люди в этом отношении? То есть не кажутся ли им добросердечными многие недобросердечные, и наоборот?
– Обманываются.
– Значит, для таких людей добрые – враги, а злые – друзья.
– Конечно.
– И в этом случае справедливость все-таки требует, чтобы они приносили пользу злым и вредили добрым?
– Явно.
– Между тем добрые-то справедливы и несправедливыми быть не могут.
– Правда.
– Так, по твоим словам, справедливо делать зло и не делающим несправедливости.
– О нет, Сократ, – отвечал он, – такая мысль преступна.
– Стало быть, справедливо вредить несправедливым и приносить пользу справедливым, – сказал я.
– Поступающий так, кажется, лучше того.
– Но так-то, Полемарх, многим, ошибающимся в людях, случится признавать за справедливое – вредить друзьям, потому что они кажутся им злыми, – и приносить пользу врагам, потому что они, по их мнению, добры. А тогда ведь мы будем утверждать противное тому, что приписали Симониду.
– И часто случается, – отвечал он, – но давай поправимся: мы, должно быть, неправильно определили значение друга и врага.
– А как определили, Полемарх?
– Сказали, что друг – тот, кто кажется добросердечным.
– Каким же образом поправиться? – спросил я.
– Друг и кажется добросердечным, и действительно таков, – отвечал он, – а кто только кажется добросердечным, в самом же деле не таков; тот, хоть и кажется, а не друг. Подобное же определение и врага.
– Из твоих слов видно, что друг будет добр, а враг – зол.
– Да.
– Но справедливому-то прикажешь приписать иное, или то, что приписано прежде, то есть справедливость требует другу делать добро, а врагу зло? Не прибавить ли к этому вот чего: справедливость требует – другу, так как он добр, делать добро, а врагу, так как он зол, вредить?
– Без сомнения, – отвечал он, – это, мне кажется, хорошо сказано.
– Однако ж к человеку справедливому идет ли наносить вред кому бы то ни было из людей? – спросил я.
– Уж конечно, – сказал он, – людям лукавым-то и враждебным надобно вредить.
– А что, лошади, когда им вредят, лучше ли становятся или хуже?
– Хуже.
– По качествам собак или лошадей?
– По качествам лошадей.
– Стало быть, и собаки, когда им вредят, становятся хуже по качествам не лошадей, а собак?
– Необходимо.
– Ну, а когда вредят людям, друг мой, – не скажем ли мы также, что они становятся хуже по качествам человеческим?
– Конечно, скажем.
– Но справедливость – не человеческая ли добродетель?
– И это необходимо.
– Значит, люди, когда им вредят, по необходимости становятся несправедливее, друг мой.
– Вероятно.
– Но могут ли музыканты, посредством музыки, образовать немузыкантов?
– Невозможно.
– Или конюшие, посредством науки коннозаводства, – неконюших?
– Нельзя.
– А справедливые, посредством справедливости, – несправедливых? Или вообще, добрые, посредством добродетели, – злых?
– Никак не возможно.
– Ведь не теплоте, думаю, свойственно прохлаждать, а противному.
– Да.
– И не сухости – увлажнять, а противному.
– Конечно.
– И не доброму вредить, а противному.
– Кажется.
– Но справедливые верно добры?
– Конечно.
– Следовательно, не тот будет вредить, Полемарх, кто справедлив, – другу ли то или кому иному, а тот, кто противен ему, то есть несправедлив.
– Ты, Сократ, говоришь совершенную правду, – сказал он.
– Поэтому, кто справедливое поставляет в воздаянии каждому должного и разумеет это так, что человек справедливый врагам обязан вредить, а друзьям приносить пользу, тот, говоря подобные вещи, не мудрец, потому что говорит неправду, так как мы нашли, что вредить кому бы то ни было есть дело вовсе несправедливое.
– Согласен, – сказал он.
– Будем же спорить сообща и заодно, – примолвил я, – если кто вздумает навязывать это Симониду, Виасу, Питтаку или кому другому из мужей мудрых и славных.
– Я в самом деле готов принять участие в споре, – сказал он.
– А знаешь ли, – спросил я, – чье, кажется мне, то положение, что справедливость велит приносить пользу друзьям и вредить врагам?
– Чье? – сказал он.
– Думаю, оно принадлежит либо Периандру, либо Пердикке, либо Ксерксу, либо фивскому Исминиасу[40], либо кому другому из тех людей, которые слишком полагаются на свою силу и обладают богатством.
– Совершенная правда, – заметил он.
– Положим, – сказал я. – Но если не в этом состоит справедливость и не это – справедливое, то чем же иным можно бы признать его?
Среди нашего разговора Тразимах неоднократно порывался прервать речь, но все был удерживаем другими, тут сидевшими, которым хотелось выслушать беседу до конца. Когда же мы остановились и я предложил этот вопрос, он уже не удержался, но, наежившись, подобно зверю, подбежал к нам, как будто с тем, чтоб изорвать нас. Я и Полемарх испугались; а он, крича на средине комнаты, сказал:
– Какая болтовня давно уже обуяла вас, Сократ! Какими глупостями меняетесь вы, уступая друг другу! Если уж в самом деле ты хочешь узнать, что такое справедливость, то не ограничивайся одними вопросами и не любуйся опровержением предлагаемых тебе ответов. Ведь известно, что спрашивать легче, нежели отвечать. Так отвечай сам и скажи, что ты почитаешь справедливым. Да не говори мне, что это должное, что это полезное, что это выгодное, что это прибыточное, что это пригодное. Все, что говоришь, говори ясно и точно, а таких пустяков не принимаю[41].
Пораженный этими словами, я посмотрел на него со страхом и подумал, что если бы он взглянул на меня прежде, чем я на него, – мне и слова бы не вымолвить[42]. Но так как неистовство Тразимаха началось речью, то мой взгляд на него был первый, а потому, имея возможность отвечать, я сказал с трепетом:
– Не гневайся на нас, Тразимах. Если я и он, при исследовании предмета, в чем-нибудь погрешили, то – будь уверен – погрешили против воли. Подумай, что, ища золота, мы охотно не уступили бы друг другу в искании и не мешали бы самим себе найти его; таким же образом, ища справедливости, которая драгоценнее всякого золота, могли ли мы столь безумно уступать один другому и не стараться открыть ее всеми силами? Нет, не мысли этого, друг мой. Напротив, я думаю, что мы не в состоянии, и потому от вас, людей сильных, заслуживаем больше сожаления, чем гнева.
Выслушав это, он усмехнулся слишком принужденно и примолвил:
– Вот она и есть, клянусь Гераклом, обыкновенная Сократова ирония. Я уже наперед заметил, что ты не захочешь отвечать, но будешь притворяться и скорее все сделаешь, чем согласишься давать ответы на чьи-нибудь вопросы.
– Разумеется, ты – мудрец, Тразимах, – сказал я, – следственно, знаешь, что если кого спросишь, как велико число двенадцать, и спрашивая, наперед скажешь: не говори мне, сударь, что двенадцать равно дважды шести, или трижды четырем, или шестью двум, или четырежды трем; иначе твоей болтовни я не приму; то уже для тебя, думаю, понятно, что никто не будет в состоянии отвечать на такой вопрос. А когда бы спросили тебя: что ты это говоришь, Тразимах? Как же не сказать ничего того, что ты наперед сказал? Да если это-то справедливо[43], неужели надобно говорить отличное от справедливого? Или как тебе кажется? – Что отвечал бы ты на это?
– Так, – сказал он, – это как раз походит на то[44].
– Какая нужда, – примолвил я, – пусть и не походит; да если спрошенному кажется так, думаешь ли, что он будет отвечать не то, что представляется ему самому, хотя бы мы запрещали, хотя бы нет?
– Не намерен ли и ты так же делать? – спросил он. – Не хочешь ли и ты говорить то, что я запретил?
– Неудивительно, – отвечал я, – если к этому приведет меня исследование.
– А что, когда я укажу на другой ответ о справедливости, – сказал он, – который отличен от всех тех и лучше их – какое тогда изволишь избрать себе наказание?[45]
– Какое больше, – отвечал я, – кроме того, которому должен подвергнуться человек незнающий? Вероятно, надобно будет поучиться у знающего, – и на такое наказание я охотно соглашусь.
– Сладок ты, – примолвил он, – но за то, что будешь учиться, заплати-ка деньги.
– Пожалуй, если бы они были, – сказал я.
– Есть, есть! – вскричал Главкон. – Как скоро нужны деньги, Тразимах, говори, мы все здесь внесем за Сократа.
– Конечно, – сказал он, – видно для того, чтобы Сократ был верен своему обычаю, то есть сам не отвечал, а подхватывал ответы другого и опровергал их.
– Да как же отвечать-то, любезный мой, когда, во-первых, не знаешь и признаешься в своем незнании, и когда, во-вторых, если бы и имел какое понятие о предмете, – человек порядочный запрещает тебе говорить, что думаешь. Тебе, конечно, более пристало говорить; потому что ты-то вот знаешь и можешь сказать. Так не откажись же и не скрывай; научи, сделай милость, своими ответами и меня, и этого Главкона, и всех других.
Вслед за мною стали просить его и Главкон, и прочие, чтобы он не отказывался. Видно было, что Тразимаху и самому сильно хотелось говорить; его подстрекало желание похвалы, и он надеялся, что ответ будет прекрасен, но все еще притворно спорил, заставляя меня отвечать. Наконец он должен был уступить и сказал:
– Такова уж и есть мудрость Сократа, что сам он не хочет учить, а бродит и учится у других, да еще и не платит за то благодарностью.
– Что я учусь у других, – был мой ответ, – это правда, Тразимах; но что я, по твоим словам, остаюсь неблагодарным, – это ложь. Благодарю, как могу; а могу благодарить только похвалою: денег у меня нет. И с каким усердием это делаю, когда чьи-нибудь слова мне нравятся, ты тотчас же ясно узнаешь, как скоро будешь отвечать; потому что твои ответы, думаю, будут хороши.
– Так слушай, – сказал он, – справедливым я называю не что иное, как полезное сильнейшему. Ну, что же не хвалишь? Видно, не хочешь?
– Наперед надобно понять, что ты говоришь, – примолвил я, – теперь пока еще не понимаю. Справедливое, говоришь, есть полезное сильнейшему[46]: но что же бы это такое, Тразимах? Не разуметь ли тебя следующим образом? Если наш Полидамас[47] – самый сильный боец и для его тела полезно бычачье мясо, то и нам, которые слабее его, полезна и вместе справедлива та же самая пища?
– Ты крайне бесстыден, Сократ, – сказал он, – принимаешь слово в таком смысле, в каком только можно уронить его.
– Совсем нет, – отвечал я, – но вырази свою мысль яснее.
– Да разве ты не знаешь, – сказал он, – что одни из городов управляются тиранами, другие – народом, а иные – вельможами?
– Как не знать?
– И не тот ли сильнее в каждом городе, кто управляет?
– Конечно.
– Но всякая власть дает законы, сообразные с ее пользою: народная – народные, тиранская – тиранские, то же и прочие. Дав же законы, полезные для себя, она объявляет их справедливыми для подданных, и нарушителя этих законов наказывает как беззаконника и противника правде. Так вот я и говорю, любезнейший, что во всех городах справедливое – одно и то же: это – польза постановленной власти. Но власть господствует, стало быть, кто правильно мыслит, тот и заключит, что справедливое везде одно, – именно, польза сильнейшего.
– Теперь понимаю, что ты говоришь, – сказал я, – остается поучиться, истинны ли эти слова или нет. Ведь и твой ответ – таков, Тразимах, что полезное справедливо: мне-то ты запрещал отвечать подобным образом, а между тем сам прибавил только «для сильнейшего».
– Конечно, прибавка маловажная[48], – примолвил он. – Да и неизвестно еще, важна ли она; известно лишь то, что надобно исследовать, правду ли ты говоришь. И я тоже согласен, что справедливое есть нечто полезное, но ты прибавил и утверждаешь, что полезное для сильнейшего; а я не знаю этого, стало быть, надобно исследовать.
– Исследуй, – сказал он.
– Так и будет, – продолжал я. – Скажи-ка мне: почитаешь ли ты действительно справедливым повиноваться правительству?
– Да.
– А правители во всех городах непогрешимы или могут и погрешать?
– Без сомнения, могут и погрешать, – отвечал он.
– Следовательно, приступая к постановлению законов, одни из них предписывают правое, другие неправое?
– Я думаю.
– Предписывать же правое значит ли предписывать полезное самому себе, а неправое – неполезное? Или как ты полагаешь?
– Я полагаю так.
– Но что предписано, то подчиненные должны исполнять, и это есть дело правое?
– Какое же иначе?
– Стало быть, по твоим словам, справедливо будет исполнять не только полезное сильнейшему, но и противное тому, – неполезное.
– Что ты говоришь? – сказал он.
– Кажется, – то же, что и ты. Рассмотрим получше: не согласились ли мы, что правители, давая предписание подчиненным, иногда погрешают против того, что в отношении к ним самим есть наилучшее, и между тем для подчиненных исполнять предписания правителей есть дело правое? Не согласились ли мы в этом?
– Я думаю, – отвечал он.
– Так рассуди, – сказал я, – ты согласился, что справедливо будет исполнять неполезное для сильнейших и правителей, когда, то есть, они нехотя предписывают зло самим себе, и в то же время справедливо будет, говоришь, исполнять то, что они предписали. В таком случае, мудрейший Тразимах, не придем ли мы к необходимости признавать справедливым исполнение противного тому, что ты говоришь? Тут ведь подчиненным предписывается исполнять неполезное для сильнейшего.
– Да, это, Сократ, очень ясно, клянусь Зевсом, – сказал Полемарх.
– Особенно, если засвидетельствуешь[49] ты, – подхватил Клитофон.
– А к чему тут свидетельство? – сказал он. – Ведь сам Тразимах сознается, что правители иногда предписывают злое для самих себя и что исполнять это – со стороны подчиненных есть дело правое.
– Конечно, по мнению Тразимаха, исполнять повеления, даваемые правителями, есть дело правое, Полемарх. И пользу сильнейшего счел он также делом правым, Клитофон. Допустив же то и другое, он тотчас согласился, что сильнейшие иногда предписывают низшим и подчиненным исполнять дела, несообразные с своею пользою. А при согласии на это польза сильнейшего становится уже делом не более правым, как и непольза.
– Но пользою сильнейшего, – заметил Клитофон, – названо то, что сам сильнейший признает для себя полезным. Это-то надобно исполнять низшему, и это-то Тразимах почитает справедливым.
– Однако ж он говорил не так, – отвечал Полемарх.
– Какая нужда, Полемарх, – сказал я, – если Тразимах теперь говорит уже так, то так и будем понимать его.
– Скажи-ка мне, Тразимах, то ли хотел ты назвать справедливым, что сильнейшему представляется полезным для сильнейшего, было ли бы это в самом деле полезно или не полезно? Так ли мы должны понимать тебя?
– Всего менее, – отвечал он, – ты думаешь, что сильнейшим я называю погрешающего, когда он погрешает?
– Да, мне думалось, что это твоя мысль, – сказал я, – как скоро правителей признал ты не непогрешимыми, а подверженными ошибкам.
– Какой ты лжетолкователь в разговорах, Сократ! Врачом ли, например, назовешь ты человека, погрешающего касательно больных, – именно в отношении к тому, в чем он погрешает? Логиком ли – человека, погрешающего в умозаключении, именно тогда, когда он подвергается этому самому роду погрешностей? Я думаю, что мы так только говорим, будто погрешил врач, погрешил логик, грамматик: в самом же деле ни один из них и никогда не погрешает, будучи тем, чем мы кого называем. Говоря собственно, или с свойственною тебе самому точностью, из мастеров никто не грешит; потому что погрешающий погрешает от недостатка знания в том, в чем он – не мастер: то есть ни мастер, ни мудрец, ни какой правитель не погрешает тогда, когда он – правитель; хотя всякий говорит, что врач погрешил, правитель погрешил. Так-то понимай ты и мой теперешний ответ. Настоящий смысл его таков: правитель, поколику правитель, не погрешает; не погрешая же, предписывает наилучшее самому себе, – и подчиненный должен исполнять это. Одним словом, как и прежде сказано, справедливым я называю того, кто делает полезное сильнейшему.
– Пускай, Тразимах, – сказал я, – так ты почитаешь меня лжетолкователем?
– Без сомнения, – отвечал он.
– Видно, думаешь, что вопросы, которые я предлагал тебе, предлагал с умыслом хитрить в разговоре?
– Это мне совершенно известно, – сказал он. – Только ведь ничего не выиграешь; потому что, сколько ни хитри ты, – замысел твой не спрячется, сколько ни укрывайся, – не пересилишь меня в речи.
– Да и не намерен, почтеннейший, – сказал я. – Но чтобы опять не случилось с нами того же, определи, как будешь ты разуметь правителя и человека сильнейшего, выполнение пользы коего низший должен почитать делом справедливым – так ли, как о нем обыкновенно[50] говорят, или в смысле точном, как ты сейчас сказал?
– Я буду разуметь правителя в смысле точном, – отвечал он. – Хитри теперь и клевещи, сколько можешь, – умаливать не стану; да только не успеть тебе.
– Неужели, думаешь, я до того безумен, – продолжал я, – что решусь стричь льва[51], – клеветать на Тразимаха?
– Ты было и решался, – сказал он, – да куда тебе!
– Но довольно об этом, – примолвил я. – Скажи-ка[52] мне: врач в смысле точном, о котором ты сейчас говорил, есть ли собиратель денег или попечитель о больных? Да говори о враче истинном.
– Попечитель о больных, – отвечал он.
– А кормчий? Истинно кормчий есть ли правитель корабельщиков или корабельщик?
– Правитель корабельщиков.
– Ведь не то, думаю, надобно брать в расчет, что он плавает на корабле и что, следовательно, должен называться корабельщиком; потому что кормчий называется не по плаванию, а по искусству и по управлению корабельщиками.
– Правда, – сказал он.
– Но для каждого искусства есть ли что-нибудь полезное?
– Конечно, есть.
– И искусство, – спросил я, – не к тому ли естественно направляется, чтобы отыскивать полезное для всякого и производить это?
– К тому, – отвечал он.
– А для каждого искусства есть ли нечто полезное вне его, в чем оно имеет нужду? Или каждое из них достаточно само для себя, чтобы сделаться совершеннейшим?
– Как это?
– Например, пусть бы ты спросил меня, – сказал я, – довольно ли телу быть телом или оно в чем-нибудь нуждается? Я отвечал бы, что непременно нуждается. Для того-то врачебное искусство ныне и изобретено, что тело худо и что таким быть ему не довольно. Стало быть, это искусство приготовлено для доставления пользы телу. Говоря так, правильно ли, кажется тебе, сказал бы я или нет?
– Правильно, – отвечал он.
– Что же теперь? Самое это врачебное искусство – худо ли оно? Равным образом и всякое другое – нуждается ли в каком-нибудь совершенстве, как, например, глаза – в зрении, уши – в слышании? И потому для искусств требуется ли еще искусство, которое следило бы за их пользою и производило ее? В самом искусстве есть ли какой-нибудь недостаток, и каждое из них имеет ли нужду в ином искусстве, которое наблюдало бы его пользу? А это наблюдающее не чувствует ли надобности опять в подобном, и так до бесконечности? Или оно само заботится о своей пользе? Или, для усмотрения пользы относительно худого своего состояния, не нуждается ни в самом себе, ни в другом, – так как ни одному искусству не присуще ни зло, ни заблуждение, и искусство не обязано искать пользы чему-нибудь иному, кроме того, для чего оно – искусство, само же, как правое, оно – без вреда и укоризны, пока всякое из них сохраняет именно ту целость, какую должно иметь? Смотри-ка, в принятом тобою точном смысле так ли это или иначе?
– Кажется, так, – сказал он.
– Значит, искусство врачебное, – спросил я, – старается доставить пользу не врачебному искусству, а телу?
– Да, – отвечал он.
– И конюшенное – не конюшенному, а коням, и всякое другое – не само себе, так как ни в чем не нуждается, – а тому, в отношении к чему оно есть искусство?
– Видимо так, – сказал он.
– Но искусства то, Тразимах, над тем, для чего они – искусства, конечно, начальствуют и имеют силу.
– Согласился, хоть и с трудом.
– Стало быть, и всякое также знание имеет в виду и представляет пользу не сильнейшего, а низшего и подчиненного себе.
– Согласился наконец и на это, а пробовал было спорить.
Когда же он согласился, я спросил:
– Так не правда ли, что всякий врач, как врач, предписывает пользу, имея в виду не врача, а больного? Ведь мы согласились, что врач в смысле точном есть правитель тел, а не собиратель денег. Не согласились ли мы?
– Подтвердил.
– Не правда ли также, что и кормчий в смысле точном есть правитель корабельщиков, а не корабельщик?
– Согласился.
– Следовательно, такой-то кормчий и правитель будет предписывать пользу, имея в виду не кормчего, а корабельщика и подчиненного.
– Едва подтвердил.
– Поэтому, Тразимах, – сказал я, – и всякий другой, в каком бы то ни было роде управления, как правитель, предписывает полезное, имея в виду не себя самого, а подчиненного и того, в отношении к кому он есть деятель. На него он и смотрит, для его пользы и пригодности он и говорит все, что говорит, и делает все, что делает.
Когда наш разговор дошел до этого и для всех было явно, что речь о справедливом обратилась в противную; тогда Тразимах, вместо того чтобы отвечать, спросил меня:
– Скажи мне, Сократ, есть ли у тебя нянька?
– К чему это? – возразил я. – Не лучше ли было бы тебе отвечать, чем предлагать такой вопрос?
– Да к тому, – сказал он, – что она не обращает внимания на нечистоту твоего носа и не утирает тебя, когда нужно; ты у ней даже не отличаешь овец от пастуха.
– Как же это именно? – спросил я.
– Так, что ты думаешь, будто овчары или волопасы заботятся о благе овец либо быков, кормят их и ходят за ними, имея в виду что-нибудь другое, а не благо господ и свое собственное; и будто не те же мысли в отношении к подчиненным у самих правителей обществ, управляющих ими по-надлежащему, какие – в отношении к овцам у пастухов: иное ли что-нибудь занимает их день и ночь, кроме того, как бы отсюда извлечь свою пользу? Ты слишком далек от понятия о справедливом и справедливости, о несправедливом и несправедливости: ты не знаешь, что справедливость и справедливое на самом деле есть благо чужое, то есть польза человека сильнейшего и правителя, а собственно для повинующегося и служащего это – вред. Людьми, особенно глупыми и справедливыми, управляет-то, напротив, несправедливость; подчиненные сами устрояют пользу правителя, как сильнейшего, и служа ему, делают его счастливым, а себя – нисколько. Смотреть надобно на то, величайший простяк, Сократ, что человек справедливый везде выигрывает менее, нежели несправедливый: и, во-первых, в сношениях частных, когда тот и другой вступают в какое-нибудь общее дело, – нигде не найдешь, чтобы конец этого дела приносил более пользы справедливому, чем несправедливому, а всегда менее; во-вторых, в сношениях общественных, если бывают какие-нибудь денежные сборы, то из равных частей справедливый вносит больше, несправедливый меньше, а когда надобно получать, первому не достается ничего, а последнему много. Да пусть даже тот и другой – лица правительственные, все-таки справедливому приходится, если не терпеть какого другого вреда, то, чрез опущение домашних дел, видеть их в худом состоянии, а пользы от дел общественных он не получает никакой – именно потому, что справедлив; мало того, справедливый еще подвергается упрекам со стороны домашних и родственников за то, что, вопреки справедливости, не хочет ничего для них приготовить. У несправедливого же все бывает напротив. Говорю, что и недавно сказал: у человека многосильного много и любостяжания. Так на то-то смотри, если хочешь судить, во сколько полезнее ему лично быть несправедливым, чем справедливым. Легче же всего узнаешь это, когда дойдешь до несправедливости совершеннейшей, которая обидчика делает самым счастливым, а обижаемых и не желающих обижать – самыми несчастными. Такова тирания, которая не понемногу похищает чужое – тайно и насильственно, не понемногу овладевает достоянием храмов и государственной[53] казны, имуществом домашним и общественным, но всецело. Обидчик, в частных видах преступлений, не укрывается, но подвергается наказанию и величайшему бесчестью. Совершатели этих злодеяний по частям называются и святотатцами, и поработителями людей, и подкапывателями стен, и обманщиками, и хищниками; напротив, кто не только похищает имущество граждан, но и самих содержит в узах рабства, тот, вместо этих постыдных имен[54], получает название счастливца – не только от граждан, но и от других, уверенных в совершенной его несправедливости; потому что порицатели несправедливости порицают ее не за то, что она делает неправду, а за то, что угрожает им собственными страданиями. Так-то, Сократ: несправедливость на известной степени – и могущественнее, и свободнее, и величественнее справедливости; поэтому, как я вначале сказал, справедливость есть польза сильнейшего, а несправедливость – польза и выгода собственная.
Сказавши это и своею порывистою и обильною речью заливши наши уши, как банщик, Тразимах думал уйти; однако ж бывшие тут не пустили его, но принудили остаться и сказанное подтвердить причинами. В этом именно я и сам имел великую нужду, а потому продолжал:
– О божественный Тразимах! Поразив нас такою речью, ты намереваешься уйти и не хочешь достаточно научить либо научиться, так ли оно в самом деле или не так. Определение этого предмета неужели считаешь делом маловажным, а не правилом жизни, которым руководствуясь, каждый из нас мог бы прожить с наибольшею пользою?
– Но разве я понимаю это иначе? – примолвил Тразимах.
– Однако ж о нас-то по крайней мере, – сказал я, – ты, кажется, нисколько не заботишься, и тебе нет дела, худо ли, хорошо ли мы живем, не зная того, что, по твоим словам, ты знаешь. Нет, добрый человек, постарайся показать это и нам. Не в худое место положишь ты свое добро, облагодетельствовав им нас, слушающих тебя в таком количестве. Что же касается до меня, то я все-таки говорю тебе, что не верю и не думаю, будто несправедливость выгоднее справедливости, хотя бы даже оставили ее в покое и не мешали ей делать что хочет. Да, добрый человек, пусть она несправедлива и в состоянии обижать либо тайно, либо насильственно, но меня-то не убедит, что с нею соединено больше выгоды, чем со справедливостью. Да может быть, и еще кто-нибудь из нас то же чувствует, а не один я. Докажи же нам, почтеннейший, удовлетворительнее, что мы несправедливо думаем, предпочитая справедливость несправедливости.
– Но как же я докажу тебе? – спросил он. – Если не веришь сейчас сказанному, то что еще с тобою делать? Могу ли я свое слово, будто ношу, вложить в твою душу?
– Ах, ради Зевса, – сказал я, – ты только настаивай на том, что утверждал сначала, а если изменишь свое мнение, то изменяй открыто и не обманывай нас. Возвратимся к прежнему предмету. Видишь ли, Тразимах, определив сперва значение настоящего врача, ты уже не думал о том, что впоследствии надобно также удержать значение и настоящего пастуха; напротив, думаешь, что если он пастух, то пасет овец, имея в виду не их благо, а пированье, как какой-нибудь едок и человек, приготовляющий себе роскошный стол, либо, если смотреть на проценты, как собиратель денег, а не как пастух. Между тем пастушество-то не заботится ни о чем, кроме того, над чем оно поставлено, как бы то есть вверенных себе овец привести в наилучшее состояние; ибо, что касается до него самого, то его состояние уже достаточно хорошо, пока оно не имеет нужды ни в чем, чтобы быть пастушеством. Потому-то и считал я недавно необходимым для нас делом согласиться, что никакое правительство, будет ли оно общественное или домашнее, как правительство, не должно иметь в виду ничего, кроме блага подчиненных и управляемых. Ты думаешь, что правители обществ, управляющие по-надлежащему, управляют добровольно?
– Ради Зевса, не думаю, – отвечал он, – а совершенно знаю.
– Что же другие-то начальства, Тразимах? – сказал я. – Разве не замечаешь, что никто не хочет управлять добровольно, но все требуют платы, так как от управления должна произойти польза не для них самих, а для управляемых? Скажи-ка мне теперь вот что: каждое искусство не потому ли всегда называем мы отличным от других, что оно имеет отличную от других силу? Да говори, почтеннейший, не вопреки собственному мнению, чтобы нам чем-нибудь кончить.
– Потому что имеет отличную от других силу, – отвечал он.
– Не правда ли также, что и пользу каждое из них приносит нам особенную, а не общую, – например, искусство врачебное доставляет здоровье, искусство кормчего спасает во время плавания, то же и прочие?
– Конечно.
– А искусство вознаграждательное – не плату ли? Ведь в этом его сила. Разве врачебное пользование и управление кораблем для тебя все равно? Если уж, согласно с предположением, ты решился делать определения точные, то потому ли единственно признаешь ты врачебное искусство, что какой-нибудь правитель корабля здоров, так как плавание по морю для него здорово?
– Нет, – сказал он.
– И искусства вознаграждательного, думаю, не назовешь тем же именем, когда кто-нибудь, получая плату, здравствует.
– Нет.
– Что ж, врачебное искусство, по твоему мнению, будет ли искусством вознаграждательным, если иной врачующий получает плату?
– Нет, – отвечал он.
– Не согласились ли мы, что пользу-то каждое искусство приносит свою особенную?
– Пусть так, – сказал он.
– Стало быть, когда все мастера получают известную пользу сообща, то, очевидно, получают ее от того самого, чем пользуются сообща.
– Вероятно, – отвечал он.
– И мы говорим, что мастера, получающие плату, находят эту пользу в том, что пользуются искусством вознаграждательным.
– С трудом подтвердил.
– Значит, эту самую пользу, то есть получение платы, каждый из них приобретает не от своего искусства, но, если исследовать точнее, искусство врачебное доставляет здоровье, а вознаграждательное сопровождает это платою; искусство домостроительное созидает дом, а вознаграждательное сопровождает это платою, так и все прочие: каждое делает свое дело и производит пользу, сообразную тому, над чем оно поставлено. Но пусть к искусству не присоединялась бы плата, – мастер пользовался ли бы от него чем-нибудь?
– По-видимому, нет, – отвечал он.
– А неужели, работая даром, он не приносил бы и пользы?
– Думаю, приносил бы.
– Так вот уж и явно, Тразимах, что ни одно искусство и никакое начальствование не доставляет пользы самому себе, но, как мы и прежде говорили, доставляет и предписывает ее подчиненному, имея в виду пользу его, то есть низшего, а не свою, или сильнейшего. Потому-то, любезный Тразимах, я недавно и говорил, что никто не хочет начальствовать и принимать на себя исправление чужого зла добровольно, но всякий требует платы; так как человек, намеревающийся благотворить искусством, никогда не благотворит самому себе, и предписывающий добро, по требованию искусства, предписывает его не себе, а подчиненному; и за него-то, вероятно, людей, имеющих вступить в управление, надобно вознаграждать – либо деньгами, либо честью, а кто не начальствует – наказанием.
– Что это говоришь ты, Сократ? – возразил Главкон. – Первые две награды я знаю, но что упомянуто еще о наказании, и это наказание отнесено к числу наград, того как-то не понимаю.
– Стало быть, ты не понимаешь награды самых лучших людей, – сказал я, – той награды, ради которой управляют люди честнейшие, когда они хотят управлять. Разве не известно тебе, что честолюбие и сребролюбие почитаются и бывают делом ненавистным.
– Известно, – отвечал он.
– Так вот добрые, – сказал я, – не хотят управлять ни для денег, ни для чести; потому что не хотят называться ни наемниками, управляя открыто для вознаграждения, ни хищниками, пользуясь от управления чем-нибудь тайно; не хотят они также управлять и для чести, потому что не честолюбивы. Только необходимостью и наказанием должно ограничивать их к принятию на себя правительственных обязанностей. Отсюда-то, должно быть, рождается унизительное мнение о тех, которые вступают в управление добровольно, а не ожидают необходимости. Величайшее из наказаний есть – находиться под управлением человека, сравнительно худшего, когда сам не хочешь управлять; и люди честные, если они управляют, управляют, мне кажется, из опасения именно этого наказания: они тогда вступают в управление не потому, чтобы стремились к какому-нибудь благу, и не потому, чтобы хотели удовлетворить собственному чувству, но как бы увлекаясь необходимостью, поколику не могут вверить себя лучшим или подобным себе правителям. Таким образом, если бы город состоял из мужей добрых, то едва ли бы не старались они устраняться от правительственных обязанностей, как ныне домогаются принимать участие в них. А отсюда явно, что на самом деле истинный правитель обыкновенно имел бы тогда в виду не собственную пользу, а выгоду подчиненного; так что всякий, понимающий дело, скорее согласился бы получать пользу от другого, чем озабочиваться доставлением пользы другому. Посему я никак не уступлю Тразимаху, будто справедливость есть польза сильнейшего. Впрочем, это-то мы еще рассмотрим впоследствии. Для меня гораздо важнее недавние слова Тразимаха, что жизнь человека несправедливого лучше, нежели жизнь справедливого. А ты, Главкон, – примолвил я, – которую избираешь? Что здесь, по-твоему, говорится вернее?
– По-моему, жизнь справедливого выгоднее, – отвечал он.
– Но слышал ли, сколько благ в жизни несправедливого открыл сейчас Тразимах? – спросил я.
– Слышал, да не верю, – сказал он.
– Так хочешь ли, убедим его, лишь бы только отыскать доказательства, что он говорит неправду?
– Как не хотеть, – отвечал он.
– Однако ж, – продолжал я, – если, пререкая ему, мы слову противопоставим слово и в свою очередь покажем, как много благ заключается в жизни справедливой; потом, если он начнет возражать нам, а мы снова – отвечать ему, то блага, высказанные тою и другою стороною о том и другом предмете, понадобится исчислять и измерять, и нам уже нужны будут какие-нибудь судьи и ценители. Напротив, если дело подвергнется исследованию обоюдному и согласию общему, как прежде, то мы сами будем вместе и судьями и риторами.
– Конечно, – сказал он.
– Что ж, первое или последнее нравится тебе? – спросил я.
– Последнее, – отвечал он.
– Хорошо же[55], Тразимах, – продолжал я, – отвечай нам сначала. Говоришь ли ты, что совершенная несправедливость полезнее совершенной справедливости?
– Конечно, – отвечал он, – и говорю, и сказал – почему.
– Положим; а что скажешь ты об их качествах? Одни из них, вероятно, назовешь добродетелью, а другие пороком?
– Как не назвать?
– Справедливость, видно, добродетелью, а несправедливость – пороком?
– Положим, любезнейший, – сказал он, – если я утверждаю, что несправедливость приносит пользу, а справедливость не приносит[56].
– Да как же иначе?
– Наоборот, – отвечал он.
– Неужели справедливость – пороком?
– Нет, но слишком благородною простотой.
– Следовательно, несправедливость называешь ты хитростью?
– Нет, благоразумием, – сказал он.
– Однако ж несправедливые кажутся ли тебе, Тразимах, мудрыми и добрыми?
– Да, по крайней мере те, – отвечал он, – которые умеют отлично быть несправедливыми и подчинять себе человеческие общества и народы. А ты, может быть, думаешь, что я говорю о тех, которые отрезывают кошельки? Полезно, конечно, и это, – сказал он, – пока не обличат, да не важно, – не таково, как то, на что я сейчас указал.
– Теперь понимаю, что хочешь ты сказать, – примолвил я, – и удивляюсь только тому, что несправедливость относишь ты к роду добродетели и мудрости, а справедливость – к противному.
– Да, я именно так отношу их.
– Это, друг мой, уж слишком резко, – сказал я, – и говорить против этого нелегко кому бы то ни было. Ведь если бы ты и положил, что несправедливость доставляет пользу, но, подобно другим, согласился бы, что это дело худое и постыдное, то мы нашли бы еще что сказать, следуя обыкновенному образу мыслей; а теперь несправедливость назовешь ты, очевидно, делом и похвальным и могущественным, и припишешь ей все прочее, что мы обыкновенно приписываем справедливости, так как она смело отнесена тобою к добродетели и мудрости.
– Ты весьма верно угадываешь, – сказал он.
– Однако ж нечего медлить-то подробнейшим исследованием этого мнения, – продолжал я, – пока, заметно, ты говоришь что думаешь. Ведь мне кажется, Тразимах, что ты нисколько не шутишь, но утверждаешь, что представляется тебе истинным.
– Какая тебе нужда, что мне представляется, что нет? – возразил он. – Не угодно ли исследовать?
– Нужды никакой, – сказал я, – но попытайся отвечать еще на следующий вопрос: кажется ли тебе, что один справедливый хотел бы иметь более, чем другой справедливый?
– Нисколько, – отвечал он, – иначе справедливый был бы не так смешон[57] и прост, как теперь.
– Ну, а более справедливую деятельность?[58]
– И справедливой деятельности не более, – сказал он.
– Но угодно ли ему было бы иметь более, чем сколько имеет несправедливый, и почитал ли бы он это справедливым или не почитал бы?
– Почитал бы, – отвечал он, – и это было бы ему угодно, только превышало бы его силы.
– Да ведь не о том спрашивается, – заметил я, – а о том, что если справедливому не угодно и не хочется иметь более, чем сколько имеет справедливый, то, видно, более, чем несправедливый?
– Точно так, – сказал он.
– Ну, а несправедливый? Угодно ли ему иметь более, чем сколько имеет справедливый, с справедливою его деятельностью?
– Как не угодно, – отвечал он, – когда ему нравится иметь более всех?
– Неужели же, стремясь получить более всех, несправедливый будет завидовать и соревновать даже человеку несправедливому с несправедливою его деятельностью?
– Да.
– Так мы говорим вот каким образом, – примолвил я, – справедливый хочет иметь более, в сравнении не с подобным себе, а с неподобным; напротив, несправедливый – более, в сравнении и с подобным себе и с неподобным.
– Очень хорошо сказано, – заметил он.
– Несправедливый также умен и добр, – сказал я, – а справедливый – ни то ни другое.
– И это хорошо, – примолвил он.
– Несправедливый притом подобен умному и доброму, а справедливый – не подобен? – спросил я.
– Будучи таким, как ему и не уподобляться таким же, а не будучи – как уподобляться? – отвечал он.
– Хорошо, стало быть, каждый из них таков, каким подобен.
– Да почему же не так? – сказал он.
– Положим, Тразимах, называешь ли ты одного музыкантом, а другого – немузыкантом?
– Называю.
– Которого умным и которого неумным?
– Музыканта, конечно, – умным, а немузыканта – неумным.
– И как умным – то и добрым, а как неумным – то и злым?
– Да.
– Ну, а врача? Не так же ли?
– Так.
– Не кажется ли тебе, почтеннейший, что какой-нибудь музыкант, настраивая лиру, хотел бы в натягивании и ослаблении струн превзойти музыканта или иметь более его?
– Не кажется.
– Что ж, немузыканта?
– Необходимо, – сказал он.
– А врач как? Хотел ли бы он в предписании пищи и питья превзойти врача – либо лично, либо делом?
– Нисколько.
– Так не врача?
– Да.
– Однако ж в отношении ко всякому-то знанию и незнанию, тебе, смотри, думается, что знаток, какой бы то ни был, хотел бы на деле или на словах избрать лучшее, чем другой знаток, и что касательно одного и того же дела, не желал бы оставаться при одном и том же с подобным себе.
– Это-то может быть, необходимо так бывает, – сказал он.
– А не знаток? Не желал ли бы он иметь более – и знатока, и не-знатока?
– Может быть.
– Но знаток мудр?
– Думаю.
– А мудрый – добр?
– Полагаю.
– Следовательно, человек добрый и умный захочет иметь более, в сравнении не с подобным себе, а с неподобным и противным.
– Походит, – сказал он.
– Напротив, человек злой и невежда – более, в сравнении и с подобным, и с противным себе.
– Явно.
– Но не правда ли, Тразимах, – спросил я, – что несправедливый у нас захочет иметь более, чем неподобный ему и подобный? Не так ли ты говорил?
– Так, – отвечал он.
– Справедливый не захочет более, в сравнении не с тем, кто подобен ему, а с тем, кто не подобен?
– Да.
– Следовательно, справедливый, – сказал я, – походит на человека мудрого и доброго, а несправедливый – на злого и невежду.
– Должно быть.
– Да мы и в том согласились, что кому тот или другой подобен, таков тот или другой сам.
– Конечно, согласились.
– Стало быть, справедливый становится для нас добрым и мудрым, а несправедливый – невеждою и злым.
Тразимах подтверждал все это, однако ж не столь легко, как я говорю, но нехотя и чуть-чуть; а сколько поту-то! – тем более что было лето. Тут только я видел его покрасневшим, а прежде никогда. Итак, получив согласие, что справедливость есть добродетель и мудрость, а несправедливость – зло и невежество, я сказал:
– Пусть же это будет у нас так; но мы утверждали еще, что несправедливость могущественна. Или не помнишь, Тразимах?
– Помню, – отвечал он, – да мне и то не нравится, что ты сейчас говорил, и я думаю начать речь о прежнем. Но когда начну, ты, знаю наверное, скажешь, что я ораторствую. Итак, либо предоставь мне говорить, что я хочу, либо спрашивай, если хочешь спрашивать; а я буду тебе такать и, в знак согласия либо несогласия, кивать головою, как кивают старухам, рассказчицам басен.
– Только отнюдь не вопреки своему мнению, – сказал я.
– Постараюсь тебе нравиться, – примолвил он, – если уж не позволяешь говорить. Чего ж еще?
– Ничего более, клянусь Зевсом, – сказал я, – но если будешь делать так – делай, а я буду спрашивать.
– Ну спрашивай.
– Вопросы мои будут касаться того же предмета, о котором говорено сейчас, чтобы наконец нам определить, какова справедливость в отношении к несправедливости. Было ведь сказано, что несправедливость и сильнее, и могущественнее справедливости; но теперь, – примолвил я, – когда справедливость признана мудростью и добродетелью, теперь легко, думаю, открылось бы, что, наоборот, она могущественнее несправедливости, так как несправедливость есть невежество; и это уж всякий понял бы. Однако ж я не удовлетворяюсь, Тразимах, столь простым рассматриванием дела, но хочу рассмотреть его как-нибудь следующим образом: согласишься ли ты, что есть несправедливый город, который намеревается несправедливо поработить и другие города, да и поработил, и многие уже раболепствуют ему?
– Как не быть? – сказал он. – И это-то, скорее всего, сделает самый сильный, который в полной мере несправедлив.
– Знаю, – заметил я, – что таково было твое мнение, но я вот как исследую его: город, возвысившийся силою над другим городом, будет ли иметь эту силу над ним без справедливости или необходимо со справедливостью?
– Если справедливость есть мудрость, как недавно говорил ты, то – со справедливостью; а если она такова, как утверждал я, то – с несправедливостью, – отвечал он.
– Я весьма рад, Тразимах, что ты не довольствуешься одним качанием головы, в знак согласия или несогласия, но даже прекрасно отвечаешь.
– Ведь тебе угождаю, – сказал он.
– И хорошо делаешь; угоди же мне ответом и на следующий вопрос: думаешь ли ты, что или город, или войско, или разбойники, или воры, или иная толпа, несправедливо приступая к чему-либо сообща, могли бы что-нибудь сделать, если бы не оказывали друг другу справедливости?
– Не думаю, – отвечал он.
– А что, если бы оказывали? Тогда скорее бы?
– Конечно.
– Видно, потому, Тразимах, что несправедливость-то возбуждает смуты, враждебные чувствования и междоусобия, а справедливость рождает единодушие и дружбу. Не правда ли?
– Пусть так, чтобы не спорить с тобою, – сказал он.
– И хорошо делаешь, почтеннейший. Отвечай мне еще на это: если несправедливости свойственно возбуждать ненависть везде, где она находится, то, находясь и в людях свободных, и в рабах, не заставит ли она их ненавидеть друг друга и восставать друг на друга? Не доведет ли она их до невозможности действовать сообща?
– Конечно, доведет.
– Да что? Пусть она будет только в двух – не рассорятся ли они, не возненавидят ли один другого и не сделаются ли врагами – как взаимно себе, так и справедливым?
– Сделаются, – сказал он.
– Но, положим, почтеннейший, что несправедливость находится в одном: потеряет ли она свою силу или тем не менее будет иметь ее?
– Пускай тем не менее имеет, – сказал он.
– А сила ее не такою ли является нам, что где она есть – в городе, в племени, в войске или в чем другом – там ее подлежащее, питая в себе и смуты, и распри, прежде всего приходит в бессилие действовать согласно с самим собою, да сверх того становится врагом и себе, и всему противному или справедливому? Не так ли?
– Конечно, так.
– Стало быть, находясь и в одном, несправедливость, думаю, все то же будет делать, что обыкновенно делает: то есть возмущающееся и не единодушное с самим собою подлежащее сперва приведет в бессилие действовать, а потом вооружит его и против него самого, и против справедливых. Не правда ли?
– Правда.
– Но справедливые-то, друг мой, суть и боги?
– Пускай, – отвечал он.
– Следовательно, несправедливый-то будет врагом и богов, Тразимах, тогда как справедливый – их другом.
– Угощайся беседою смело, – сказал он, – чтобы не огорчить слушателей, противоречить тебе не стану.
– Хорошо, – примолвил я, – угости же меня и остальными ответами, как доселе. Теперь справедливые представляются нам и мудрее, и лучше, и сильнее для деятельности; а несправедливые ничего не могут сделать вместе. Мы хоть и говорим, что совокупное усилие людей несправедливых иногда бывало могущественно, но говорим не совсем верно, потому что, будучи несправедливыми, они не слишком пощадили бы друг друга. Явно, что в них находилось еще несколько справедливости, которая мешала им оказывать несправедливость и самим-то себе, и тем, на кого они восставали. Посредством этой справедливости они и совершили все, что совершили, хотя, быв вполовину злы, несправедливостью стремились к несправедливости. Если же люди питают злобу всецелую и несправедливость совершенную, то бывают и совершенно бессильны для деятельности. Так вот как дело-то я разумею, а не так, как ты сперва полагал. Наконец остается исследовать, что мы предположили к исследованию впоследствии, то есть лучше ли и счастливее ли живут справедливые в сравнении с несправедливыми. Из сказанного это видно и теперь уже, сколько мне, по крайней мере, кажется; однако исследуем еще обстоятельнее, потому что речь у нас не о каком-либо маловажном предмете, а о том, как надобно жить.
– Исследуй, пожалуй, – сказал он.
– Исследую, – примолвил я. – И вот скажи мне: кажется ли тебе, что есть какое-нибудь дело лошади?
– Кажется.
– Не то ли признал бы ты делом лошади или другой вещи, что совершают либо ею одной, либо ею всего лучше?
– Не понимаю, – сказал он.
– Да вот как: можешь ли ты видеть чем-нибудь, кроме глаз?
– Не могу.
– Ну а слышать чем-нибудь, кроме ушей?
– Нисколько.
– Следовательно, не вправе ли мы назвать это их делом?
– Конечно.
– Но что? Виноградные ветви ты можешь обрезывать и ножом, и ножницами, и многими другими орудиями?
– Как не мочь?
– Однако ж все-таки, думаю, ничем так хорошо не обрежешь, как садовым резцом, который для того и сделан.
– Правда.
– Так не признаем ли это его делом?
– Конечно, признаем.
– Значит, теперь ты легче можешь понять недавний мой вопрос: не то ли есть дело каждой вещи, что совершается либо ею одною, либо ею лучше, чем другими?
– Да, теперь-то я понимаю, и мне кажется, что в этом состоит дело каждой вещи.
– Хорошо, – продолжал я, – но как тебе кажется? У всякого, кому свойственно известное дело, есть ли и добродетель? Возвратимся опять к тому же: у глаз, говорили мы, есть известное дело?
– Есть.
– Стало быть, есть и свойственная им добродетель?
– И добродетель.
– Ну а ушам приписали известное дело?
– Да.
– Следовательно, и добродетель?
– И добродетель.
– Что же касательно всего прочего? Не так же ли?
– Так.
– Постой теперь; глаза могут ли когда-нибудь хорошо делать свое дело, не имея свойственной себе добродетели, но, вместо добродетели, подчиняясь злу?
– Как мочь? – сказал он. – Ведь ты, вероятно, говоришь о слепоте вместо зрения.
– Какая бы то ни была добродетель их, – примолвил я, – теперь ведь не об этом спрашивается, а о том, точно ли глаза хорошо делают свое дело свойственною себе добродетелью, а худо – злом?
– Правда, ты именно об этом говоришь, – примолвил он.
– Так и уши будут худо делать свое дело, не имея свойственной себе добродетели?
– Конечно.
– Стало быть, и все прочее мы приведем к тому же основанию?
– Мне кажется.
– Хорошо. Теперь исследуй вот что: душа имеет ли какое-нибудь дело, которого ты не мог бы совершить ничем другим? Например, стараться, начальствовать, советоваться и все тому подобное, приписали ли бы мы по справедливости чему-нибудь другому, кроме души, и не сказали ли бы, что это собственно ее дело?
– Ничему другому.
– Или опять жить – не назовем ли делом души?
– Даже всего более, – отвечал он.
– Стало быть, не припишем ли душе и какой-либо добродетели?
– Припишем.
– Так душа, Тразимах, может ли когда-нибудь хорошо совершать свои дела, не имея свойственной себе добродетели? Или это невозможно?
– Невозможно.
– Следовательно, душа худая, по необходимости, и начальствует, и старается худо, а добрая все это делает хорошо.
– Необходимо.
– Но мы согласились, что добродетель души есть справедливость, а зло – несправедливость?
– Да, согласились.
– Стало быть, душа справедливая или человек справедливый будет жить хорошо, а несправедливый – худо.
– Из твоих оснований следует, – сказал он.
– Но кто живет хорошо, тот-то и счастлив, и блаженен; а кто – нет, тот напротив.
– Как же иначе?
– Итак, справедливый счастлив, а несправедливый бедствует.
– Пускай, – сказал он.
– Но бедствовать-то неполезно; полезно быть счастливым.
– Как же иначе?
– Стало быть, почтеннейший Тразимах, несправедливость никогда не бывает полезнее справедливости.
– Угощайся себе этим на вендидиях, Сократ, – сказал он.
– Лишь бы твое было угощение, Тразимах, – примолвил я, – тем охотнее, что ты сделался кроток и перестал сердиться. Впрочем, я не довольно насытился, – и вина моя, а не твоя. Как обжоры с жадностью хватаются за все блюда, непрестанно приносимые к столу, прежде нежели порядочно покушают из первого, так, кажется, и я, не нашедши еще рассматриваемого нами предмета, что такое справедливость, оставил его и поспешил исследовать, зло ли она и невежество или мудрость и добродетель; а после, по поводу речи о том, что несправедливость полезнее справедливости, не удержался, чтобы от того предмета не перейти к этому. Таким образом из нашего разговора я теперь ничего не узнал; ибо, не зная, что такое справедливость, едва ли узнаю, добродетель ли она и счастлив ли тот, кто имеет ее, или несчастлив.
Содержание второй книги
Так как в первой книге изложено не столько положительное понятие о справедливости, сколько отрицательное, то Главкон и Адимант – защитники несправедливости, требуют, чтобы Сократ представил достаточные основания, по которым справедливость должна быть предметом любви сама по себе, независимо от соединенной с нею пользой. P. 357–367 Е. Тогда Сократ, похвалив их за ревность и заметив, что они для того-то и защищают несправедливость, что хотят отчетливее узнать этот предмет, приступает к исследованию природы справедливости и несправедливости, с намерением указать потом пользу той и другой. Р. 367 Е – 368 А. Но справедливость может проявляться как в отдельных лицах, так и в целом государстве; поэтому, чтобы лучше рассмотреть ее природу, надобно прежде решить вопрос: что такое она в недре государства? – и решить, смотря на государство только рождающееся, чтобы вместе с тем видеть и рождение справедливости. Р. 367 А – 369 А. Итак, в следующем теперь рассуждении Сократ предполагает как бы создать государство, ради усмотрения, с чего оно начинается. Государство рождается, говорит, от недостаточности человека самого для себя; так что каждое неделимое имеет нужду в помощи другого. Стало быть, прежде всего необходимо знать, что нужно человеку, чтобы он жил. Для жизни, во-первых, нужна пища, без которой поддерживать существование невозможно; потом нужны: жилище и одежда, чтобы защитить тело от стужи и зноя; кроме того, для удовлетворения телесным его нуждам требуется и многое другое. Поэтому государство, если смотреть на то, что ему существенно необходимо, должно состоять из землевладельцев, плотников, ткачей, кожевников и многих других мастеров, которых занятия и искусства обязаны поддерживать жизнь граждан. Все такие мастера будут каждый делать свое дело – с тем, чтобы своими занятиями помогать друг другу; и в самих этих делах их можно уже будет заметить начало справедливости и несправедливости. Р. 369 А – 372 А. Но развитие их еще более обнаруживается в способах жизни людей, вступающих в общежитие. Ведь и при нарочитой простой жизни нужны многие вещи, служащие к ее изяществу и украшению. Посему необходимо, чтобы мало-помалу родились роскошь и нега, хотя это, конечно, есть уже признак государства испорченного. А отсюда произойдет то, что представится нужда во многих художниках, которые своими занятиями будут удовлетворять не необходимым потребностям, а удобствам жизни, – и число граждан от того естественно увеличится. Но с увеличением их, для легчайшего удовлетворения желаниям всех, придется вести войны с пограничными государствами; а при этом понадобится сословие воинов, без которого безопасность и благосостояние общества обеспечены быть не могут. Прочим же гражданам заниматься воинскими делами неудобно; ибо тогда как всякий из них занимается собственным своим делом, у них не будет ни возможности, ни способности успешно вести войну. Р. 372 А – 374 D. Но чем важнее и благодетельнее обязанность тех, которые должны охранять государство, тем нужнее особенная внимательность при выборе их, чтобы для этой цели предпочитаемы были люди, по природе и свойствам весьма годные для ведения войны. К числу их надобно относить тех, которые одарены остротою чувств, быстротою ног, крепостью сил и некоторою горячностью души. Р. 374 D – 375 Е. А это потребует великой заботливости и осторожности. Так как требующиеся здесь сила и горячность души легко могут переродиться в дерзость в отношении к прочим гражданам, то надобно всячески стараться давать воинам такое воспитание, посредством которого в них с теми добродетелями совмещались бы кротость и любовь к мудрости. Тело их надобно развивать гимнастикою, а душу – музыкою. К музыке прежде всего относятся разного рода речи. Из речей одни – истинные, а другие исполнены лжи и обмана. Этих последних надобно всячески беречься, как бы не заразили они детские души, особенно если будут обаять их пустыми рассказами поэтов. Посему из поэтов надобно старательно избирать те сказания, которые могут быть переданы детям не вредя чувству честности; наполненные же ложью нужно отвергать и всячески скрывать. Сюда относится многое, что рассказано Омиром, Исиодом и иными поэтами, которые приписали богам такие дела, какие вовсе не достойны божественной природы. Они говорят, например, что Уран и Кронос постыдно лишены царства, что боги нередко совершают дела самые бесчестные и питают сильную друг к другу вражду. При выборе рассказов для чтения детям, надобно иметь в виду то, чтобы они помогали пробуждению, развитию и укреплению добродетели. Итак, требуется, чтобы Бог описываем был в них таким, каков Он действительно, то есть добрым; требуется также, чтобы Он не выставлялся как обморочиватель, принимающий разные виды, тогда как природа его проста – по высоте и превосходству добродетели не подлежит никаким переменам. Да и нечестиво думать, будто Бог принимает разные образы, чтобы обманывать людей; потому что Он – высочайшая истина, чуждая всякой лжи. Р. 375 Е – 383 Е.
Книга вторая
Сказав это, я думал, что уже избавился от разговора; однако ж открылось, что то было только вступление, ибо Главкон, по обычаю всегда и для всего мужественный, не одобрил даже и теперь отказа Тразимахова, но сказал:
– Сократ! Неужели ты хочешь, чтобы мы казались убежденными или действительно поверили, что во всяком случае лучше быть справедливым?
– Да, в самом деле хотелось бы, – отвечал я, – если бы это было по моим силам.
– Так ты не делаешь того, чего хочешь, – возразил он. – Скажи-ка мне[59], не представляется ли тебе благо чем-либо таким, что мы желали бы иметь, стремясь не к следствиям, из того вытекающим, но любя желаемый предмет ради его самого? Например, мы желали бы наслаждаться радостью[60] и неподдельными удовольствиями, хотя из них для времени последующего не вытекает ничего, кроме радости того лица, которое ими наслаждается.
– Да, мне представляется оно чем-то таким, – отвечал я.
– А что? Не благо ли и то, которое мы любим и ради его самого, и ради его следствий? Например, умствование, зрение, здоровье: ведь это приятно нам, должно быть, по той и другой причине.
– Да, – сказал я.
– Но не видишь ли, – спросил он, – и третьего рода блага, к которому относятся и телесные упражнения, и пользование больного, и врачевание, и, кроме того, собирание денег? Эти занятия можно назвать трудными, однако полезными для нас, и мы, конечно, не хотели бы предпринимать их для них самих, а предпринимаем за плату и ради других выгод, которые из того проистекают.
– Точно, это третий род, – сказал я. – Так что ж?
– В котором из них, – спросил он, – поставляешь ты справедливость?
– По моему мнению, – отвечал я, – она заключается в роде превосходнейшем, именно в том, который всякому, желающему счастья, должен быть любезен и ради его самого, и ради его следствий.
– Однако ж большинству людей кажется не это, – сказал он. – Люди поставляют справедливость в роде трудном, которым надобно заниматься для платы и известности, производимой молвой; а сама по себе[61] она должна быть отвергаема как дело тяжелое.
– Знаю, что так кажется, – продолжал я, – и Тразимах давно уже порицает ее за это, а несправедливость хвалит: но, видно, я как-то тупоумен.
– Постой-ка, – сказал он, – выслушай и меня; не то же ли покажется тебе самому? Тразимаха-то ты очаровал, будто змея[62], по-видимому, слишком скоро; а мне исследование того и другого предмета все еще не по мысли. Я желаю слышать, что такое – обе они[63], и какую силу имеет предмет сам по себе, находясь в душе, а вознаграждения и то, что за ними следует, оставляю. Так вот что хочу я сделать, если и тебе будет угодно: я возобновлю речь Тразимаха и скажу, во-первых, о том, какою называют и откуда производят справедливость; во-вторых, о том, что все, которые исполняют ее, исполняют невольно, не как дело доброе, а как необходимое[64]; в-третьих, о том, что такая деятельность нужна, поколику жизнь несправедливого, как говорят, много лучше жизни справедливого. Хотя мне-то, Сократ, и не совсем так кажется; однако ж, слушая Тразимаха и тысячи других, я, оглушенный ими, нахожусь в недоумении; доказательств же в пользу справедливости, что она лучше несправедливости, чего желаю, ни от кого не слыхал. Так вот мне хочется слышать похвалу тому, что называется само по себе, и особенно поверил бы в этом, думаю, твоему исследованию. Посему я буду настойчиво превозносить жизнь несправедливую и, говоря о ней, укажу тебе тот способ, которым ты, сообразно с моим желанием, должен будешь в свою очередь порицать несправедливость и хвалить справедливость. Но смотри, согласен ли ты на то, чего я хочу?
– Всего более, – отвечал я. – Чем особенно и наслаждаться разумному существу, как не возможностью часто говорить и слышать об этом?
– Прекрасно сказано, – заметил он. – Слушай же, я начинаю, как обещался, исследованием того, какова справедливость и откуда она произошла.
Хотя обыкновенно говорят так, что делание несправедливости есть добро, а испытывание ее – зло; однако ж у испытывающего несправедливость избыток зла больше, чем у делающего ее – избыток добра. Посему, когда люди стали делать несправедливость друг другу и испытывать ее друг от друга – отведывать одно и другое, тогда, не могши избегать последнего и избирать первое, нашли полезным условиться между собою, чтобы и не делать несправедливости, и не испытывать ее. При этих-то условиях начали они постановлять законы и договоры и предписание закона называть законным и справедливым. Вот каково происхождение и существо справедливости: она находится в средине между самым лучшим, когда делающий несправедливость не подвергается наказанию, и самым худшим, когда испытывающий несправедливость не в силах отмстить за себя. И это справедливое, находящееся в средине между двумя крайностями, вожделенно не как благо, а как нечто уважительное для человека, не имеющего силы делать несправедливость. Напротив, кто может делать ее, тот истинно муж – тот не будет ни с кем входить в договоры касательно делания и испытывания несправедливости: разве он с ума сойдет! Эта-то и такова-то природа справедливости, Сократ; вот источник, из которого она, как говорят, проистекла.
А что и исполнители справедливости исполняют ее невольно, от бессилия делать несправедливость, это мы легко заметим, если тому и другому, справедливому и несправедливому, мысленно дадим волю делать что угодно и потом будем следовать за ними наблюдением, куда желание поведет каждого из них. Мы схватим справедливого на одном и том же деле с несправедливым: движась любостяжанием, и он идет к тому, к чему, как к благу, обыкновенно стремится всякая природа; а закон и сила отвлекают его к уважению мерности. Дай только им, говорю, столько же воли, сколько было, как рассказывают, у Гигеса, предка Брезова. Гигес[65] был пастух, нанятый тогдашним правителем Лидии. В том месте, где пас он стадо, по случаю проливного дождя и землетрясения треснула несколько земля и появилась расселина. Видя это и удивившись, он сошел в нее и там, кроме других чудес, нашел, говорят, медного коня, который был пуст и с дверями. Заглянув внутрь, он заметил в коне мертвеца, ростом, казалось, выше человека. У мертвеца не было ничего, кроме золотого перстня на пальце: сняв этот перстень, Гигес вышел. Так как все пастухи обыкновенно сходились в известное место, чтобы каждый месяц отправлять к царю посланников и доносить ему о состоянии стад, то отправился туда и Гигес с перстнем на руке. Сидя с прочими пастухами, он случайно повернул перстень камнем к себе, внутрь руки, и тотчас для сидевших с ним людей стал невидим; так что они начали говорить о нем, будто о человеке вышедшем. Гигес изумился, снова взялся за перстень, повернул его камнем наружу и, повернувши, сделался видимым. Заметив это, он пробует перстень, не скрывается ли в нем такой силы, и ему приключается всегда то же самое: повертывая камень внутрь, он становится невидимым, а наружу – видимым. Поняв это, он тотчас обработал дело так, что назначен был в числе посланников идти к царю; пришедши же к нему, обольстил его жену и, вместе с нею напав на царя, умертвил его и удержал за собою власть. Итак, если бы было два перстня, и один на руке справедливого, а другой – несправедливого, то никто, как надобно полагать, не был бы столь адамантовым, чтоб остался верным справедливости, решился воздерживаться от чужого и не прикасаться в нему, тогда как имеет возможность и на площади, без опасения, брать что ему угодно, и входя в домы, обращаться с кем хочет и убивать или освобождать от оков кого вздумает, и делать все прочее, будто бог между человеками. Поступая же таким образом, один из них ничем не отличался бы в действиях от другого, но оба шли бы к одинаковой цели. Так это можно почитать сильным доказательством, что никто не бывает справедлив по своей воле, но всякий – по принуждению: ибо лично ни один человек не добр, потому что, где только кто-нибудь находит возможность обидеть, – обижает. Сам по себе каждый думает[66], что несправедливость гораздо полезнее справедливости, и по убеждению человека, рассуждающего об этом, думает верно; ибо кто, получив такую возможность, не хочет делать никакой несправедливости и не прикасается к чужому, тот людям, знающим это, должен показаться человеком самым жалким и безумным, хотя, из опасения обиды, обманывая один другого, они и хвалят его друг другу. Так вот так-то.
Что же касается до суждения о жизни в рассматриваемых нами отношениях, то мы будем правильно судить о ней, если противоположим самого справедливого самому несправедливому, а когда не противоположим, то неправильно. Но в чем состоит их противоположность? Вот в чем: мы нисколько не отвлечем ни справедливости от справедливого, ни несправедливости от несправедливого, напротив, представим обоих совершенными в их качествах. Потом пусть сперва действует несправедливый и действует с достоинством отличных мастеров. Как наилучший кормчий или врач отличает в своем искусстве возможное от невозможного и одно предпринимает, а другое оставляет; да сверх того, если и ошибается в чем-нибудь, то умеет поправиться, так и несправедливый, решаясь сделать неправду правильно, должен постараться скрыть ее, если хочет быть сильно несправедливым. Кто пойман, тот плох. Крайняя несправедливость состоит в том, что несправедливый кажется справедливым. Итак, совершенно несправедливому надобно предоставить совершенную несправедливость, надобно – не отвлекать от него, а позволить ему величайшими неправдами приобрести себе величайшую славу справедливости. Пусть он будет в состоянии поправиться, если и ошибется в чем-нибудь, пусть будет способен убедительно говорить, если обнаружатся его неправды, или, пользуясь мужеством и силою, обществом друзей и богатством, пусть он употребит насилие, где оно бывает нужно. Представляя себе таким несправедливого, противоположим ему мысленно справедливого, то есть человека простосердечного и благородного, который, по словам Эсхила[67], хочет не казаться, а быть добрым. Показность надобно отвлечь от него: ведь если бы он казался справедливым, то ему, кажущемуся таким, воздавали бы почести и награды; а тогда было бы неизвестно, ради ли справедливости он таков, или ради наград и почестей. Итак, надобно отнять у него все, кроме справедливости, и поставить его в состояние, противоположное состоянию первого: то есть не делая никакой неправды, пусть он прослывет в высшей степени неправедным; пусть он будет испытываем в своей справедливости тем, что не трогается худою молвой и ее следствиями, пусть он останется неизменен до смерти, проводя, по-видимому, жизнь несправедливую, а в самом деле будучи справедливым, чтобы, когда оба они дойдут, – один до последней степени справедливости, а другой – несправедливости, можно было судить, который из них счастливее.
– Ох, любезный, Главкон, – сказал я, – как сильно отполировал ты, будто статую[68], каждого из этих мужей, желая сделать их предметом суждения!
– Сколько мог более, – примолвил он. – И если они таковы, то уже нетрудно, думаю, исследовать, как должна проходить жизнь того и другого. Мы скажем об этом. Впрочем, если слова мои довольно жестки, то не думай, Сократ, что это говорю я; говорят те, которые предпочитают несправедливость справедливости: они полагают, что такого праведника будут сечь, пытать и держать в оковах, что ему выжгут и выколют глаза, и что наконец, испытав все роды мучений, он пригвожден будет ко кресту и узнает, что человеку надобно хотеть не быть, а казаться праведником. Следовательно, те слова Эсхила гораздо вернее было бы приложить к несправедливому. Ведь и действительно говорят, что несправедливый, стараясь о деле, заключающем в себе истину, и живя не для молвы, хочет не казаться, а быть несправедливым:
- Черта глубокая, рожденная умом.
- Из ней-то мудрые желанья вытекают —
сперва, представляясь справедливым, получить правительственную должность в городе, потом жениться где будет угодно, выдать замуж за кого захочется, входить в связи и сношения с кем вздумается и, кроме всего этого, с приобретаемыми выгодами соединять еще пользу спокойствия при нанесении обид; вступая в споры, преодолевать частно и публично своих неприятелей и брать над ними верх; взявши же верх, богатеть и благодетельствовать друзьям, а врагам вредить; с довольством и пышностью приносить богам жертвы и возлагать на жертвенник дары, – вообще, чтить богов и кого захочется из людей, гораздо лучше, чем чтит справедливый; так что и богам-то он, по-видимому, должен быть гораздо приятнее справедливого. Таким образом, несправедливому, Сократ, и от богов, и от людей достается жить лучше, говорят, чем справедливому.











