Читать онлайн История скрипача. Москва. Годы страха, годы надежд. 1935-1979
- Автор: Артур Штильман
- Жанр: Биографии и мемуары, Документальная литература
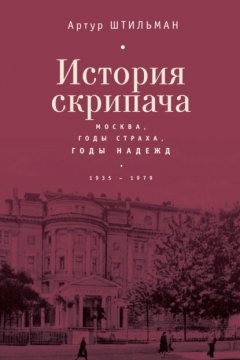
На последней странице обложки – фрагмент картины художника Александра Риза «Берсеньевская набережная Москвы-реки»
© А.Д. Штильман, 2017
© Издательство «Алетейя» (СПб.), 2017
Вместо предисловия
Замечательный писатель Владимир Войнович писал в своей книге «Монументальная пропаганда» о времени и ощущении возраста людей разных поколений:
«Человека можно вообразить идущим в середине большой колонны: и впереди ещё много народу, и сзади кто-то вливается. Человек идёт, идёт и вдруг замечает, что приблизился к краю и впереди уже никого. Не стало людей, которые были старше на двадцать лет, на десять, на пять, да и ровесники сильно повымерли. И уже куда не сунься, везде он самый старший. Он оглядывается назад, там много людей помоложе, но они-то росли, когда оглянувшийся был уже не у дел, с ними он не общался и не знаком. И получается так, что старый человек, ещё оставаясь среди людей, оказывается одиноким. Вокруг шумит чужая жизнь. Чужие нравы, страсти, интересы и даже язык не совсем понятен. И возникает у человека ощущение, что попал он на чужбину, оставаясь там, откуда он не уезжал».
Здесь нужно внести некоторую ясность: в отличие от этого абстрактного человека автор этих воспоминаний о жизни в Москве от рождения до 1979 года, то есть прожив в ней 44 года уехал из Москвы и из страны, хотя «чужбины» вокруг себя никогда не ощущал, жил со своей семьёй, потом родители приехали в Америку и даже успели тут прожить не один год. Но, как говорят – «биологические часы идут для всех», что совершенно справедливо. Кроме того мир великого исполнительского искусства, к которому автор был причастен всю свою «рабочую» жизнь, стал исчезать и уходить в небытие в конце 1990-х годов.
Автор этих воспоминаний родился через 17 лет после окончания Первой мировой войны, то есть в 1935 году. 17 лет – это много или мало? Считается, что смена поколений происходит примерно каждые 20 лет. Так, что поколение выросло со времени не только окончания 1-й «Великой» войны, но и после величайших потрясений, происшедших в России: Революций, Гражданской войны и некоторых других социальных экспериментов…
Издатели первого издания этой книги задавали себе вполне резонный вопрос: кому сегодня могут быть интересны воспоминания о жизни в Москве с 1935-го по 1979-й? Однако издательство «Аграф» книгу выпустило, с небольшими редакторскими сокращениями, и в результате, по сведениям из редакции тираж книги, хотя и небольшой (юоо экз.), полностью разошёлся. Через год-полтора вышла моя вторая книга воспоминаний – о работе в Большом театре и Метрополитен Опере «Годы жизни в Москве и Нью-Йорке» в Санкт-Петербургском издательстве «Алетейя», которая также по сведениям из издательства хорошо расходится в книжных магазинах.
В начале мая 2016 года я совершил второе «путешествие в прошлое», то есть в Москву – первое состоялось через 25 лет после отъезда на Запад в 2004 году. Конечно, «прошлое» – весьма условное и приблизительное слово – ведь жизнь в городе меняется быстро, растёт уже, наверное, третье поколение после нашего отъезда, да и для самих москвичей – моих старинных друзей или почти ровесников – жизнь также меняется очень быстро, а иногда им даже много труднее приспособиться к новому времени – ведь я приезжаю всё же как гость – не живу подолгу, и не могу судить о жизни в городе, где прошла почти половина всей жизни.
Встреча же с новым поколением – детьми моих старых друзей и коллег – произвела на меня особенно благоприятное впечатление: эти молодые люди, к счастью, нисколько не напоминают знакомых мне американских студентов – они, не теряя своего обаяния молодости, как мне кажется, не утратили и старых духовных ценностей предшествующих поколений. Это вселяет оптимизм и веру в людей.
Это особенно приятно было ощущать после очевидной деградации морали и поведения, прежде всего по отношению к старшему поколению – не презрительному, столь распространённому теперь (особенно за годы правления Обамы в Америке стала заметна такая деградация духовной сущности молодого поколения – студентов и даже уже работающих…), но вполне естественному ощущению как собственной ценности человеческой индивидуальности, так и вообще к уважению, а не презрению к старшему поколению. Возможно, мой опыт слишком мал и краток, чтобы судить в целом о молодом поколении города, в котором я родился и прожил 44 года, но по крайней мере две юных дочери моих старинных друзей дали мне такое ощущение.
Начнём с места моего рождения и первых лет жизни в Москве.
Часть I
Глава 1
Белорусский вокзал
Сегодня кому-то это покажется странным, что зимой 1936-37 года в Москве на Садовом кольце было уже довольно оживлённое движение автомобилей. Тем не менее так и было. Картинка эта и сегодня видится ясно: заснеженное Садовое Кольцо (в начале спуска от пл. Маяковского – напротив «Дома Булгакова» и «Театра Сатиры»), по нему довольно быстро двигаются чёрные, длинные автомобили. Мальчишки постарше говорят, что это автомобили «Амо», «Линкольны» и «Форды». Все машины, однако, похожи друг на друга – все чёрные, четырёхдверные, с огромными фарами. Поближе к тротуару, за линией сугробов, не спеша едут повозки или сани, запряжённые лошадьми. Картина чёрно-белая, бессолнечная.
В действительности первое, самое раннее воспоминание об окружающем мире относится к моим восьми с половиной месяцам. Эта дата точна, потому что связана с фотографией. Как-то мой отец пригласил своего приятеля сфотографировать меня, так как сам отец снимать не умел, да и камеры у него не было. Во время съемки я сначала лежал в кровати, а потом отец взял меня и посадил к себе на колени. Сделали один снимок. Вдруг он сказал маме: «Ну, сейчас он захочет перейти к тебе на руки». Я прекрасно понял смысл сказанного им и тут же продемонстрировал, что действительно хочу перейти к маме на руки. Фотография точно зафиксировала этот момент. Впоследствии он никогда мне не верил, что я отчётливо помнил этот первый «выход в свет». «Это я тебе рассказывал», – говорил он всегда. Тогда я ему точно описывал, где мы сидели, какие вещи были вокруг, но он всё же не верил мне… Так же, как не верил и в то, что я отлично помнил, как он в 1937 году готовил свою дипломную программу для окончания Московской Консерватории, занимаясь на скрипке часами в моём присутствии. Я напомнил ему пятьдесят лет спустя о том, что он играл одну из вариаций «Каприса» Паганини № 24 не в оригинале, а в какой-то обработке. Тут он растерялся… «Но как ты мог это помнить? Ведь тебе было два года?» – всякий раз говорил он. «Ну, тогда откуда я могу это знать?» – всегда отвечал я, приводя ему даже некоторые детали его исполнения. Только тогда его охватывала некоторая неуверенность – действительно таких тонкостей он уже и сам не мог теперь вспомнить.
Некоторые мои знакомые уверяют, что их самые ранние воспоминания относятся к возрасту… шести лет! Если они так говорят, вероятно, так оно и было, но в каждом случае можно доверять лишь своему жизненному опыту.
Справа от большого строящегося дома, одна из первых новостроек на Тверской (тогда ул. Горького), трёхэтажное строение (бывшая гостиница) – дом, где я жил с родителями с мая 1935 по декабрь 1939 года. Фото площади перед Белорусским вокзалом сделано в июле 1937 года во время встречи лётчика-героя В. П. Чкалова
Другая картина, тоже часто повторявшаяся, – площадь перед Белорусским вокзалом. На месте памятника А. М. Горькому стояло небольшое здание – бывшая гостиница, ставшая с начала 30-х жилым домом. Это и был наш дом, где я родился и жил до декабря 1939 года. «Папа, мама, служанка и я» – почти, как во французском фильме. Жили здесь мои родители, я и моя нянька – в отличие от фильма на территории в восемь квадратных метров.
Почему особенно запечатлелись эти две картинки? Потому что я гулял по улицам в сопровождении домработниц, т. к. оба родителя работали. Няньки мои пренебрегали всеми предписаниями моей мамы и прогуливали меня только по перрону Белорусского вокзала или же на упомянутом месте на Садовой. Последнее место было приятным для моей первой няньки Лушки, как она называла себя сама, перешедшей ко мне «по наследству» от моей старшей кузины. Лушка любила её родителей, доводившихся мне дядей и тётей, и скоро вернулась к ним опять на Садовую. Другие няньки любили Белорусский вокзал, потому что там, на перроне, всегда можно было встретить «марьяжных королей», нагаданных им картами, – либо, если повезёт, действительно кого-то серьёзного, либо – хотя бы временных приятелей. По молодости их лет и то и другое было одинаково привлекательным.
Начав рано говорить, я пользовался этим инструментом познания очень активно и, задавая бесконечные вопросы, пополнял свою информацию об окружающем мире. Так, уже к двум годам я отлично разбирался в форме родов войск – знанием этого я был полностью обязан своим нянькам, потому что именно среди военных и искались «марьяжные короли». Вскоре это неожиданно пригодилось. Как-то зимой 1938 года к нам в дверь постучали. Мама была со мной дома, потому что взяла на несколько дней отпуск из-за внезапного бегства очередной няньки. При стуке в дверь она страшно побледнела, увидев в дверях военного. Я слышал, конечно, о том, что очень часто «берут» по ночам, и хотя я не понимал, что значит «берут», но, видя, с каким страхом произносят эти слова взрослые, сочувствовал им в их опасениях.
В дверном проёме стоял офицер в чёрной морской зимней форме и спрашивал фамилию каких-то соседей, живших, по его мнению, в нашем доме. Мама едва смогла сказать что-то вразумительное насчёт разыскиваемых им людей и, закрыв за ним дверь, без сил опустилась на стул… «Этот дядя – моряк», – сказал я. «Откуда ты знаешь?» – взглянув на меня внимательно, спросила мама. «Мне объяснила Шура, я знаю всех военных». Тут только у неё связались воедино мои слова и реальность – сейчас не ночь и военный был моряком…
Этот её страх я запомнил и понял, что есть какие-то вещи, которых боятся и взрослые, – не совсем мне понятные, но, вероятно, очень важные. Меня же одолевал один единственный страх – не потеряться как-нибудь на улице, где мои няньки почти не следили за мной во время охоты на «марьяжных королей».
Я действительно терялся, и раз меня привели домой какие-то люди, даже и не москвичи, увидя меня стоящим одиноко на вокзальной площади и горько плачущим. Хотя я и знал, где мой дом, но меня так парализовал страх, что я был не в состоянии один идти домой. Темнело. Оба моих родителя были дома. Они уже волновались, куда я запропастился вместе с нянькой, собирались идти меня искать, и тут я появляюсь в сопровождении незнакомых людей! Можно себе представить, какие громы и молнии метались в адрес няньки… Она, кстати, вообще не пришла ни в тот вечер, ни на следующий. Догадались посмотреть – её вещей в комнате не оказалось! История эта послужила хорошим урокам моим родителям, осознавшим, что нанимать няньку для ребёнка можно только по рекомендации.
Я родился 5 мая 1935 года в родильном доме имени Крупской, пользовавшимся в Москве хорошей репутацией, недалеко от Белорусского вокзала. При высокой детской смертности выбор роддома был очень важным. Кстати, он был по соседству с только недавно полученной «квартирой» в вышеописанном доме. Хотя мои родители и неплохо зарабатывали по тогдашним московским меркам, но жилищный кризис был так силён, а строилось домов для жилья так немного, что все были счастливы тому, что имели хотя бы какую-то крышу над головой.
До этой «квартиры» мои родители снимали комнату на Ленинградском шоссе в Шайкином переулке (был такой!) у рабочего киностудии. По рассказам родителей, его звали Василий Степанович, а его жену – Мария Дмитриевна. Он просил называть его запросто по-пролетарски – Базиль, и только Базиль, так как совершенно помешался на Франции, куда был командирован с группой рабочих и инженеров чуть ли не на год. Он прилично говорил и даже читал по-французски. Правда, постоянно одну и ту же газету «Юманите». По утрам он говорил: «Бонжур, Мари!». Иногда, если накануне «поддал», бил свою «Мари» сразу же после «Бонжур». В общем, он был колоритной личностью. Его мечтой было создание Театра имени Андре Марти. Часто он говорил родителям: «Голованов и НеЖданова уже дали согласие. Теперь дело за вами!» Родители соглашались придти в «театр» сразу же после Голованова и Неждановой, как только те примутся за дело. «Мари», по рассказам родителей, тоже была странной женщиной. Она принимала гостей своего «Базиля» всегда одинаково – ставила на стол зачерствевшие конфеты «трюфели» и говорила: «Кушайте, пожалуйста! Дрянь ужасная! Шесть недель назад купила, и то были несвежие!» Впрочем, возможно гостям «Базиля» это было безразлично – они пили водку.
Мечта обзавестись приличным жильём была главной в жизни всех москвичей, кажется, она жива и по сегодняшний день. Пока же в доме на площади у Белорусского вокзала жили и люди довольно значительные – крупные специалисты и даже ответственные работники, – все ждали переселения в новые дома и не хотели соглашаться на незначительные улучшения, чтобы не упустить свой шанс на улучшения принципиальные.
Летом жилищный кризис уходил для нас на второй план – с первого года моей жизни родители снимали дачу, вернее, обычно комнату с террасой в доме с хозяевами. Первая дача была в Жаворонках, а вторая, в 1937 году на станции Пионерская. Вероятно это там, где теперь метро. Эта дача запомнилась первым в моей жизни серьёзным происшествием: кто-то из хозяйских дочек— девочка лет 13-ти – решила меня покатать на своих плечах, предложив мне держаться за её голову. Я с удовольствием «поехал», разглядывая цветные стёкла верхней части окон хозяйской террасы. Вдруг мир стал переворачиваться – девочка обо что-то споткнулась, и, потеряв равновесие, стала падать вперёд, согласно законам природы. К счастью, я раньше слетел с её головы, спланировав на мягкую траву, хотя и слегка ушибив об корень пня левую руку. Для порядка и от небольшого испуга, заплакал, но быстро успокоился. Мама поняла, что детей оставлять нельзя ни на секунду в таком возрасте без ежеминутного пригляда. Интересно, что и мама и папа оба были в это время в доме – мама на кухне, а папа за деревянным столом торжественно читал газету.
Поразительно, что страшный 1937-й, унесший неисчислимое количество человеческих жизней, в воспоминаниях детства был совершенно обычным годом, таким же, как, например, следующие 38-й или 40-й…
Возможно, это происходило потому, что жизнь взрослых, хотя и трудная, тяжёлая, всё равно была полна ожиданий и надежд на лучшее. Разумеется, тех людей, которым каким-то лотерейным чудом посчастливилось не попасть под страшный каток «великого террора». Хотя нельзя сказать, что он полностью обошёл нас. В 1938-м «пропал без вести» муж моей тёти – маминой старшей сестры. Он был довольно крупным военным, из молодых офицеров, перешедших на сторону советской власти во время Гражданской войны.
Когда он не дал о себе знать по прибытии на новое место службы (где-то в Сибири), моя тётя обратилась к его начальникам. Они вели себя очень странно – говорили, что, может, ещё напишет, потом стали говорить, что, быть может, он решил уйти от неё. Этому она поверить не могла, но до сих пор остаётся тайной, почему ни её, ни её семью не репрессировали, хотя его расстреляли почти сразу после прибытия на новое место службы…
Об этом стало известно моей кузине лишь в 1990-м году. Да и это была полуправда – выходило, что «суд» длился два года и почему-то з дня (по данным в документе датам), а на самом деле – три дня. Это была обычная практика.
В день своего отъезда на новое место службы он виделся с моим отцом – их связывали сердечные отношения. Отец, встретивший его на одном вокзале, повёз в такси на другой. За это время тот успел рассказать, какому страшному опустошению подверглась Красная Армия, говорил, не боясь, что Сталин – настоящий преступник, что всё, что он делает, есть преступление против государства и армии. Мой отец пытался его успокоить и предостеречь, но он был человеком темпераментным и прямым. Надо полагать, что не шофёр такси стал источником информации против него. У него были дружеские отношения с несколькими крупными военачальниками, к этому времени уже ликвидированными.
Моей тёте посоветовали уехать на новое место работы, которое она получила, на границу с Латвией – в Себеж. Она была немного ясновидящей – вскоре после исчезновения мужа увидела странный сон, где она попала в незнакомую местность – дорога шла с горы, а на ней стоял геодезический знак. Через три года, спасаясь с дочерью и старой матерью от наступающих немцев, она увидела наяву то место, которое ей приснилось за три года до того. Что это могло означать, она никогда не могла понять. Но через несколько дней после этого у неё на руках скончалась её мать – моя бабушка, бывшая учительница. Заканчивая рассказ о семье моей мамы, надо сказать, что до революции бабушка была учительницей начальной школы в Витебске, что позволяло ей одной содержать четверых детей – двух дочерей и двух сыновей. Все они до революций 1917 года учились в гимназии, и моя мама, младшая в семье, даже посещала балетную школу бывшей балерины Императорского балета в Санкт-Петербурге Марии Андерсон. Балет стал страстью моей мамы ещё с детского возраста. Позднее она стала профессиональной балериной, выступавшей в ряде театров, в 20-е годы – в частной оперетте Кошевского, где и познакомилась с моим отцом, бывшим тогда скрипачом-концертмейстером оркестра и вторым дирижёром. А в 30-е годы мама начала работать в гастрольной организации «Мосэстрада» (в будущем – «Москонцерт», а позднее – Гастрольбюро Росконцерта) с сольным номером вплоть почти до самого начала войны.
Муж моей бабушки – мой дед с материнской стороны – был по профессии землемер, а по призванию – революционер, точнее – социалист-революционер или «эсер». Он при четырёх детях не мог унять свои политические страсти и большую часть времени проводил в ссылках. Там он в какой-то момент находился в одном месте поселения с Молотовым.
Если бы Иван Игнатьевич Кузьминский не умер от тифа в 1918 году, можно себе представить, что могло бы произойти со всей семьёй. А так, при его статусе «революционера», бабушка написала где-то в начале 30-х годов письмо Молотову с просьбой установления ей пенсии как «жене революционера, бывшего одно время вместе с Вами в ссылке». Молотов благоразумно не стал допытываться до того, какого рода он был революционером (мало ли что могло произойти, если копать прошлое) и начертал благожелательную резолюцию… Так семья дважды чудом уцелела.
Семья моего отца происходила из Херсона – довольно большого по тем временам губернского города. Мой дед – Шломо бар Лейб (или по-русски Соломон Львович) Штильман родился в 1875 году и был до 1917 года арендатором постоялого двора в центре города. С натяжкой это можно было назвать гостиницей. Теперь такая благородная родословная – хозяин гостиницы – присочинена для деда поэта Пастернака. «Владелец гостиницы» всё же выглядит лучше, чем «арендатор постоялого двора». Но его дед, согласно ряду источников, был точно таким же арендатором постоялого двора, как и мой.
Херсонские помещики, привозившие в город на продажу своё зерно (теперь мне говорят некоторые друзья, что помещики сами зерно не возили, но в рассказах моего отца всё же фигурировали именно помещики), которое грузили на пароходы и отправляли заграницу, любили моего деда. Любили за его мягкость, вежливость, превосходный русский язык, а самое главное – любили играть с ним в карты. Помещики были виртуозами в этом деле. Игра была пагубной страстью моего деда. В горячее время он довольно хорошо зарабатывал, но часто семья оставалась без денег… Это отложило тяжёлый отпечаток на характер моей бабушки – Ханы бат Менахем-Мендель Мармелович (по-русски её звали Анна Марковна). Их брак был вторым для него и для неё. У обоих не было детей от первых браков. У них же родились четверо сыновей. Последний, четвёртый, умер при родах. Моя бабушка была до замужества швеёй и происходила из семьи потомственного портного. После развода с первым мужем она в 1903 году собралась уехать в Америку, где в Нью-Йорке уже устроилась на швейной фабрике её подруга. Губернаторский паспорт, билет и вся оплата проезда были сделаны. Назначен день отъезда и тут… она встречает моего деда, и они быстро вступают в брак. Вероятно, ей казалось, что и второй её брак не был слишком удачным – часто из-за страсти деда семья оказывалась на финансовой мели.
Понятна и любовь к нему помещиков – часто они уезжали, ничего не заплатив, так как их счёт за постой гасился карточным долгом деда, а иногда он им ещё оставался должен. Но всё же иногда и он выигрывал (вероятно, в случаях, когда помещики были менее квалифицированными игроками), и тогда семья жила вполне прилично.
Мой отец Давид, родившийся в 1905 году, учился в гимназии, средний его брат Иосиф (родился в 1907-м) – в Реальном училище, а младший Самуил (1910) до революции ещё не дорос до школы. Дед обожал театр и был довольно близким приятелем Всеволода Мейерхольда в годы, когда тот руководил местным Херсонским театром. Они даже были на «ты», как рассказывал мой отец со слов дедушки. Дед не был особенно религиозным, но в Хоральной синагоге имел своё место с табличкой с его именем. Это было, вероятно, вопросом престижа. Бабушка же была искренне верующей, и дома ели только кошерную еду. Впрочем, тогда практически все евреи ели кошерную пищу.
Я прожил с бабушкой под одной крышей ю лет – с 1939 по год её смерти – 1949-й. Она продолжала делать кошерную еду в соответствующей посуде. Могла тратить часы, чтобы сделать снова кошерно-чистым чугунный котелок для варки фаршированной рыбы. Так как котелок был один, то иногда приходилось варить в нём и всё остальное (мясо), то тогда его нужно было долго прокаливать на газовой плите. Она всегда на Пасху ела мацу, впрочем, ела мацу вся наша семья. Дед умер от кровоизлияния в лёгком в начале мая 1937 года в Москве. После 1917 года он потерял свой постоялый двор, который был реквизирован. Потерял он и средства к существованию. Гостиница стала общежитием, где он официально состоял швейцаром (что и было отражено в его новом советском паспорте – «профессия – швейцар»).
Гражданская война была страшным бедствием для херсонцев – голод, грабежи, убийства. Город был оккупирован немцами в конце Первой мировой войны. Один солдат влюбился в сестру дедушки и уговаривал её уехать с ним в Германию, на что она не согласилась. Другие тогда были немцы… Никто не мог себе представить в те годы немцев образца 1941 года!
Зато греческие войска перед отступлением сделали то, что творили немцы во Вторую мировую войну. Греки перед отступлением, согласно рассказу моего отца, погрузив свои войска на военный корабль, – морские суда легко входили в Херсонсую гавань – заперли в огромных портовых складах для зерна 2 000 человек мирного населения (там были все национальности – русские, украинцы, евреи, местные греки и турки), затем открыли огонь из орудий, подожгли склады с живыми людьми и заживо спалили их! Как-то никто не вспоминал об этом примечательном (страшном) факте истории Первой мировой войны. Это было настоящее военное преступление, оставшееся забытым людьми и историей.
Подытоживая краткий рассказ о моих предках, видится сегодня, что, несмотря на погромы (мой отец родился в день большого погрома 23 октября 1905 года, и бабушку прятали в подвале) и дискриминационные ограничения еврейского населения, в целом оно жило материально неизмеримо лучше до революции, чем после неё. Как, впрочем, и русское, украинское и белорусское население.
Остаток жизни дедушка прожил в основном на иждивении своих сыновей – вернее двух старших. Я помню его на даче в Жаворонках – мы спускались с ним к пруду по небольшой дачной улице. Помню его коричневый костюм и приятный, спокойный голос, когда он мне что-то рассказывал. Во время Гражданской войны, сидя в убежище, он сочинял стихи по-русски и на идиш. Он был мечтателем. В мае 1937-го он умер, не дожив до шестидесяти двух лет. Мама любила моего деда. С бабушкой отношения были сложнее – две хозяйки на одной кухне (в действительности – четыре хозяйки).
Моя жизнь маленького человека текла без особых изменений – гулял, спал, болел, слушал чтение мамой детских книжек. Это было любимое моё времяпрепровождение. Книги открывали новый мир, развивали фантазию. Мне кажется, мы были богаче современных детей – без телевидения жизнь детей развивалась и гармоничней и интересней для ребят. Конечно, иногда ходили и в кино. Первым фильмом, который я смотрел с мамой, был диснеевский «Три поросёнка». Он мне ужасно не понравился – в книжке эта история была куда занятнее, можно было не торопясь рассматривать любимые картинки, а тут грохот какой-то дурацкой музыки, навязчивой и ненужной! В общем, я не стал тогда любителем кино, а фильм этот смог оценить только в… 1980 году, посмотрев его уже в Нью-Йорке по телевидению. Фильм, конечно мастерский, как и всё, что делал Дисней, но мне кажется, что он скорее для взрослых.
После окончания Консерватории в 1937-м году мой отец купил патефон и свои любимые пластинки. Так началось моё начальное музыкальное образование. В семьях музыкантов в те годы всегда предполагалось, что дети обязательно пойдут по стопам своих родителей и непременно должны стать музыкантами. Музыка действительно оказывала на меня исключительно благотворное воздействие, правда, за одним исключением. Помню, что я полюбил слушать пластинки и особенно часто просил заводить увертюру к опере «Царская невеста» Римского-Корсакова. Запись эта была великолепной, хотя и нужно было переворачивать пластинку. Динамичное начало рождало в моей душе совсем ещё маленького человека какое-то радостное волнение. Вторая тема увертюры – тема «золотых венцов» – звучала так необыкновенно сладко, что мне хотелось слушать увертюру до бесконечности. Кажется, то была запись Н. С. Голованова с оркестром Большого театра. Мне нравились две песни – русская и украинская в исполнении И. С. Козловского, но я совершенно не мог выносить любимую пластинку моего отца – запись Н. А. Обуховой двух арий из оперы «Кармен». Я отлично помню, что когда Обухова пела в низком регистре, то это не только меня пугало, но и рождало ощущение погружения в холодную ванну… Я даже часто плакал от этой пластинки, моё настроение катастрофически ухудшалось, мне вообще не хотелось слушать патефон. С того времени, возможно, у меня возникла устойчивая неприязнь к музыке этой знаменитой и популярной оперы Бизе. Почему эти мелодии так успешно вгоняли детскую душу в глубокую тоску, никому неизвестно. Но помню, что никогда ни одно музыкальное произведение – вокальное или симфоническое, проигрывавшееся на патефоне или по радио, – не действовало на меня столь пагубно. Необъяснимый феномен!
Наши домработницы, они же мои няньки, покупали в складчину свои любимые произведения в исполнении солистов и Хора имени Пятницкого. Помню, как по многу раз они заводили на патефоне свои любимые: «Катюшу» Блантера, ставшую действительно народной песней, и другую, начинавшуюся словами: «Ох… Дайте в руки мне гармонь – золотые планки, мой милёнок дорогой, провожал с гулянки»; дальше шли «переборы», пассажи баянистов и подключался хор. Мы заходили в нашу комнату среди дня погреться – холода в те годы в Москве зимой стояли серьёзные. Климат был другим.
Местоположение нашего дома иногда было источником новых жизненных впечатлений. В 37–38 гг. площадь перед Белорусским вокзалом часто становилась местом встречи знаменитых людей. Как-то мы с отцом наблюдали в окно на лестнице встречу героев-летчиков – Чкалова и его коллег. Помню его в кортеже машин – он казался немолодым, выглядел усталым, зато совершенно неотразим был Ворошилов, в мундире с красными ромбами и золотыми звёздами на отложном воротнике, с орденами, он выглядел точно как на картинке.
Феноменом жизни остаётся тот факт, что чудовищные, апокалиптические события внутренней жизни в Стране Советов никак не влияли на каждодневную жизнь тех, кого, как уже говорилось, не затронул каток «великого террора». Вероятно, так же жили обычные люди и в гитлеровской Германии – любили, строили какие-то планы, учились в школах, ходили слушать оперу и на концерты… А совсем рядом происходили страшные, невероятные вещи – сотни тысяч людей исчезали из жизни навсегда, как будто они никогда не существовали. В сердце Европы, в Германии, в год моего рождения были приняты «Нюрнбергские законы об охране расы и государства», практически сразу исключившие германских евреев из обычной жизни: всё изменилось в один день – они лишались гражданства в стране своего рождения, права собственности, права учиться, и наконец, права жить…
В Москве, конечно, ничего подобного официально не происходило. Политические процессы были «понятны» всем, так как газеты и радио исключительно методично и искусно промывали мозги всем жителям страны; рядовым людям приходилось верить всему – других источников информации не было, а если бы и были, то всё равно это ничего не могло изменить. Страх, нестабильность жизни, нехватка всего (продуктовые карточки были отменены за несколько недель до моего рождения), чудовищные жилищные условия, аресты – всё это было каждодневной реальностью, и всё же жизнь продолжалась. В Москве в Большом Театре ставились новые спектакли, ещё существовал Театр им. Мейерхольда, выходили новые кинофильмы, на экранах шли «Огни большого города» и «Новые времена» Чарли Чаплина. Газеты сообщали о невероятных, доселе невиданных успехах промышленности, сельского хозяйства и культуры. Знали ли люди о голоде на Украине? Не могли не знать – многие родственники покидали Украину, хотя и жили в городах, а не в сельской местности. И всё же о полных масштабах голода и террора знали только те, кто имел к этому прямое отношение, – партийные чиновники высокого ранга.
Как ни странно, но первые с 20-х годов выборы 1937 года внесли некоторое успокоение в души людей, хотя это были выборы без выбора: один кандидат на одно место (но об этом даже и не говорили). Я помню эти первые выборы (что удивляет и сегодня меня самого – ведь мне было 2 года!). Меня, как и большинство детей, взяли «голосовать» – я опустил бюллетень моей мамы. Мне очень понравилось на избирательном участке на Большой Грузинской улице – везде было светло, на стенах портреты вождей, флаги, цветы! Кто-то угостил меня вкусной конфетой. Мама на обратном пути всё говорила: «Как хорошо, что выборы…»
Поразительным было ощущение начинающейся стабильности в самый разгар «великого террора»! Искусство Сталина властвовать над огромной страной даже сегодня выглядит невероятным…
В 1937 ГОДУ мой отец окончил Московскую консерваторию по классу скрипки у проф. Д. М. Цыганова и готовился к поступлению в аспирантуру как дирижёр (в те годы не было дирижёрского факультета – сначала нужно было окончить Консерваторию по какой-либо специальности), но несмотря на работу, правда внештатную (дирижёра Оркестра кинематографии), он получил извещение из Народного комиссариата по делам искусств о том, что ему надлежит ехать по назначению в город Фрунзе в Киргизию, на должность второго дирижёра вновь организуемой местной оперы. Главным дирижёром стал Василий Васильевич Целиковский – отец знаменитой советской кинозвезды. Он очень уговаривал отца уехать с ним работать (в это время он и сам получил назначение во Фрунзе). Уезжать отцу никак не хотелось – он очень любил Москву, это был действительно его город, в котором он прошёл путь от бездомного в 1921 году до дирижёра оркестра. Его уже вызвали в прокуратуру, на предмет выезда во Фрунзе в судебном порядке (таковы были правила распределения на работу в те годы). В это время неожиданно пришло предложение занять должность заведующего музыкальной частью и главного дирижёра московского Госцирка. Он немедленно согласился, и Цирк легко уладил все вопросы с прокуратурой.
Отец, понятно, больше не вернулся на работу в оркестр Большого театра, но, имея там многих друзей и получив возможность расширить состав оркестра в Цирке до 6о человек (что было уже близким к составу большого симфонического оркестра), приглашал лучших музыкантов Большого театра в свободное от работы в театре время играть в оркестре цирка. В эти годы в цирке хорошо платили, и музыканты с удовольствием принимали участие в работе в новом для них месте, заодно получая удовольствие и от выступлений действительно выдающихся мастеров цирка того времени. Инспектором оркестра был приятель отца Михаил Матвеевич Козолупов – родной брат Семёна Матвеевича Козолупова, основателя советской виолончельной школы, профессора Консерватории и концертмейстера группы виолончелей оркестра Большого театра. Семён Матвеевич иногда и сам приходил поиграть в оркестре цирка.
Делались новые постановки, в них участвовали известные художники-оформители, музыку специально заказывали композиторам, дополнительно использовали музыку Иоганна Штрауса, Дунаевского из классических оперетт. Всё это создавало атмосферу праздничности каждого спектакля. Я стал завсегдатаем цирка с трехлетнего возраста. Иногда мы с мамой сидели в центральной ложе (если не ожидалось важных гостей – как-то раз цирк посетил сам Сталин), откуда было удобно смотреть представление и где было не так жарко – в прихожей можно было снять пальто, а не париться с ним, держа весь спектакль на коленях. Но это было не так часто, на обычных местах мы сидели чаще, что никак не отражалось на удовольствии от каждого посещения цирка.
Больше всего я любил Карандаша, фокусника Кио, жонглёров Виолетту и Александра Кисс, дрессировщиков Эдера и Юрия Дурова, выступления под куполом сестёр Кох, – это был цвет советского цирка тех лет.
Отец привыкший работать в нескольких местах, не прекращал работу и в Оркестре кинематографии, или, как тогда говорили, на Кинофабрике. Записи производились либо на Потылихе (где теперь располагается Мосфильм), либо в Лиховом переулке, недалеко от Петровки и Садово-Каретной. Отец очень любил работу в кинематографии – рождение фильма с музыкой и изображением было для него исключительно волнующим. Он действительно был одним из пионеров звукового кино в Советском Союзе вместе с дирижёрами Граном и Блоком.
В 1938 году подошёл юбилей – пятнадцатилетие советского цирка. Как полагалось в те годы, почти все, кто хотя бы участвовал в юбилейных торжествах, получили ордена и почётные звания. Получил орден и мой отец – «Знак почёта». В те годы обладатель ордена имел право бесплатного проезда на общественном транспорте (Да ещё с правом входа в троллейбус или автобус с передней площадки! Немыслимая привилегия, особенно при давке в общественном транспорте в годы войны!), бесплатного проезда по железной дороге или морским путём – раз в год, и т. д. Вскоре после получения ордена отца пригласил к себе партийный секретарь Цирка и сказал ему: «Давид Семёнович! Нужно ответить на ваше награждение!» «А каким образом? Как?» – спросил он. «Вам нужно подать заявление в партию!» Не знаю, что чувствовал сам отец в тот момент, но безусловное чувство благодарности, как и все награждённые, он испытывал. Заявление в кандидаты он подал, а весной 1941 года кандидатский срок истёк, и он был принят в партию. Придя домой, он сказал моей бабушке: «Ну! Поздравь меня! Я вступил в партию!» «Да?» – как-то странно-язвительно сказала она и продолжила: «Через это дело ты будешь иметь большие неприятности». «Ну, конечно! Всё тебе не нравится. А какой строй, какое правление тебе нравится?» «Какое? Нормальное! Социал-демократическое!» Для меня тогда это был странный разговор. Спустя много лет я понял, что старшее поколение совсем по-другому относилось ко многим вещам по сравнению с поколением «детей Революции» или моего отца. К Сталину бабушка относилась с симпатией, он был почти её ровесник, да и к тому же, став вождём, происходил всё-таки из народных низов. Это было приятно сознавать многим людям её поколения.
Но главная предъюбилейная идея родилась в голове директора Цирка Юрия Румянцева – написать письмо в Моссовет с просьбой о предоставлении квартир (собственно, комнат в квартирах) в новостроящихся домах на Большой Калужской улице. Эти дома возводили по проекту архитектора Мордвинова (принимали участие в проектировании и другие архитекторы, но наш дом был «мордвиновским») – 8 корпусов от 2-й Градской Больницы до Калужской заставы и несколько корпусов по другую сторону улицы.
Напротив 1-й Градской больницы возводились два других дома – Дом академиков по проекту Щусева и ближе к Калужской площади – дом по проекту архитектора Жолтовского.
Большая Калужская стала выглядеть столичным проспектом – широким, с новыми красивыми и светлыми восьмиэтажными домами. До войны не успели закончить ни 8-й корпус, ни два больших дома, полукругом выходящих на Калужскую заставу – конечную остановку городского троллейбуса № 4. Один из домов достраивался сразу после войны, это была какая-то «спецстройка» – почему-то за высоким, крепким, непроницаемым деревянным забором и с проходной будкой. Въезжавшие на стройку грузовики останавливались сразу за открывавшимися воротами – перед такими же крепкими вторыми. Впрочем, все знали, что там работают заключённые немцы. Последнее было неправдой – немцы работали открыто на стройках Москвы, и их обычно не держали под замком во время работы. Там действительно работали заключённые, только не немцы, а наши… Через много лет мы стали называть этот дом Домом Солженицына. Дом вошёл в историю – он подробно описан в «Круге первом» и в первой части «Архипелага Гулаг».
Глава 2
Большая Калужская, дом № 16
Сразу по завершении строительства новых домов на Большой Калужской артисты Цирка, в их числе и мой отец, получили драгоценные «ордера» на вселение в новый дом № 16. Это был второй корпус, рядом с въездом в Президиум Академии наук – бывшее имение графа Орлова. Согласно легенде граф получил в подарок это имение от Екатерины II. (Современные путеводители говорят, что имение имело владельцев и до, и после Орлова.)
Въезд в Президиум Академии наук СССР. Слева виден небольшой сектор нашего двора дома № 16 по Большой Калужской улице (теперь Ленинском проспект). Послевоенное фото.
Господский дом очень хорош и сегодня. По сторонам располагались два флигеля для «людей» – крепостных слуг. В Нескучном саду было много разных беседок, чайных, охотничьих домиков и других уединённых строений в стиле и цвете господского дома – жёлтого с белым. Во дворе дома 16 – в пустом секторе между круглой оградой имения и Палеонтологическим музеем – остался от прежних времён маленький деревянный летний театр, где давались спектакли для увеселения гостей графа. В общем, место было очень романтическим и для Москвы совершенно необычным – парк, старинные строения. В Палеонтологическом музее раньше размещались конюшни и манеж.
Маленький деревянный театр погиб во время войны, когда во двор в 50 метрах от дома упала полутонная бомба. Она явно была предназначена для Крымского моста, но упала примерно в полутора километрах от него. Зенитные батареи в Парке имени Горького помешали немецкому лётчику попасть в цель.
О доме № 16 следовало бы написать роман какому-нибудь писателю. Состав жителей дома точно отражал всё советское общество – от «передовиков производства» – рабочей аристократии; военных (но не генералов); служащих различных учреждений до знаменитого кинорежиссёра Ивана Пырьева и его жены – кинозвезды Марины Ладыниной; врачей Кремлёвской больницы Зака и Кулинича; видного чиновника Наркомата по иностранным делам С. К. Царапкина – впоследствии советского представителя в ООН и посла в Западной Германии; будущего посла в Англии во время войны Ф. Т. Гусева; другого видного работника Наркоминдела – профессора Ерусалимского; артистов цирка М. Н. Румянцева (Карандаша), Эмиля Кио, нашего соседа по квартире А. Б. Буше (режиссёра-инспектора манежа и ведущего программы); начальника одной из московских тюрем Соломонова, начальника районного НКВД Орлова; редактора еврейской газеты «Дер Эмее», одного из секретарей Кагановича (по иронии судьбы по фамилии Кагановский) и многих других достаточно колоритных личностей.
Настал, наконец, исторический день вселения в причитающиеся нам две комнаты. В третью вселился Александр Борисович Буше с сыном, женой и престарелой матерью. Они были не совсем обычной семьёй. Его жена София Николаевна Дорн-Яблонская была его бывшей партнёршей по выступлениям в номере «Танго-апаш». Сын Вова, на год моложе меня, был родным его племянником, усыновлённым им, и носившим тогда несколько необычную фамилию – Цвентух. То была фамилия какого-то румынского офицера, женившегося на сестре Александра Борисовича в Тамбове, но вскоре бросившего её и вернувшегося, по слухам, к себе в Румынию. Впрочем, вскоре Вова стал носить фамилию родного дяди – приёмного отца.
Немного отвлечёмся от основного повествования.
А.Б. Буше
Александр Борисович Буше – настоящее имя Александр Ксенофонтович Гнусов действительно совершенно не соответствовало ему. Буше – фамилия его педагога французского языка в Кадетском корпусе в Санкт-Петербурге, и Александр Борисович взял его фамилию как вторую, но на сцене всегда выступал как Александр Буше.
Был он человеком необычной судьбы. Родился он в 1882 году в Петербурге, умер в Москве в 1970-м.
В 50-е годы он рассказал мне, что его отец был берейтором (объездчиком скаковых лошадей) Петербургского ипподрома, имевшим, понятно, большие связи в великосветском обществе, с помощью которых он устроил своего сына в Кадетский корпус. Однако А. Б. сбежал из дома в 17-летнем возрасте с цирком. Стал цирковым «униформистом», то есть подметальщиком манежа между номерами и помощником на всех подсобных работах на манеже и за сценой. В этой должности он объездил до Первой мировой войны всю Европу – Париж, Лондон, Берлин, Будапешт, Вена. Женился на дочери французского жонглёра – танцовщице на лошади. Вернулся в Россию перед самой Первой мировой войной, после начала которой был мобилизован в кавалерию. В Гражданскую войну под Ригой каким-то странным образом из Белой кавалерии попал сразу в Красную. Его юная жена со своим отцом покинула Россию сразу после Революции. (То, что он мне рассказал тогда, ничего не имеет общего со статьёй в Википедии. Вот выдержка оттуда: «В 1897–1900 гг. наездник на Петербургском ипподроме. В цирке с 1900 года. До 1914 года работал берейтором и дрессировщиком лошадей в частных цирках». Как видно, у Александра Борисовича существовали «запасные» варианты биографии для официальной цели – в этой выдержке начисто исчезли следы его заграничных путешествий и вместо отца берейтором в этом варианте стал он сам.)
Потом в бурные 20-е годы он танцевал «танго-апаш» с разными партнёршами в московских ночных варьете и модных ресторанах, и наконец снова пришёл в Цирк – уже Государственный Цирк – в конце 20-х. Теперь – как ведущий программы и инспектор манежа. Этот пост традиционно назывался по-немецки «шпрехшталмейстер» – то есть «говорящий и заведующий конюшней». Он был тонким знатоком всего, что происходило во время спектакля на манеже – будь то выступления на лошадях, аттракцион Кио, выступления акробатов, жонглёров, гимнастов, клоунов или даже дрессировщиков диких зверей. Он постоянно присутствовал на манеже перед занавесом за кулисой у края манежа между двумя рядами «униформистов», зорко следя за малейшими сбоями или неожиданностями, всегда в нужный момент приходил на помощь и находил единственно правильное решение для того, чтобы цирковое «шоу» не прерывалось ни на секунду. Это была незаметная для публики, но исключительно важная функция его работы инспектора манежа. Буше был обаятельным мужчиной, имевшим успех у женщин, – настоящий петербуржец с отличными манерами, напоминавший, как я это понимаю теперь, всемирно известного французского актёра и шансонье Мориса Шевалье.
Наш многолетний сосед по квартире – режиссёр-инспектор манежа А. Б. Буше перед началом представления в Цирке.
Послевоенное фото
Буше поставил знаменитый номер с ёлкой в Московском Цирке незадолго до войны. На манеж выкатывался огромный барабан, из которого вытягивалась складная ёлка до самого верха купола цирка. Восторгу детей не было предела! (В середине 50-х Александр Борисович мне рассказал, что позаимствовал этот номер из Лондонского цирка, который он видел в 1911-м году).
Казалось, что мы были в исключительном положении – втроём в двух комнатах! Но это только так казалось – на деле с нами жили моя бабушка и мой дядя – брат отца. Ему, виолончелисту Государственного симфонического оркестра, не полагалось никаких комнат.
30 декабря 1939 года мы с бабушкой, преодолев пешком последний километр от Калужской площади до Второй Градской больницы (трамваи, как и троллейбусы внезапно встали – не было электричества), вошли наконец в новую квартиру. Пожалуй, до этого момента мы все не переживали подобного восторга! Свои комнаты! Две! Окно одной комнаты выходило на улицу, другое во двор – с видом на Президиум Академии наук и на Нескучный сад – часть Парка имени Горького. Каждый вечер в хорошую погоду из этого окна можно было наблюдать величественный закат – окно выходило на запад. Впоследствии я полюбил во всех квартирах, где мне доводилось жить, окна, выходящие на запад. Теоретически эта комната в будущем считалась моей, а пока там спали мы втроём. Бабушка и дядя – в «столовой», служившей одновременно и гостиной. Трудно передать, как все мы были счастливы!
Я же к вечеру затосковал по нашей старой, такой обжитой комнате у Белорусского вокзала, о чём и сказал со слезами на глазах родителям. К ночи погас свет, и я стал ныть: «Хочу домой!» Мои родители ужасно расстроились, я кое-как уснул – в новом доме отопление не работало. Но всё это были мелочи. К вечеру следующего дня – 31 декабря 1939 года – отопление заработало, и мы сели за стол – встретить Новый Год, ожидаемый теперь с надеждами на счастливую жизнь на новом месте. Мне даже было позволено впервые не спать до полуночи, чтобы всем вместе встретить Новый Год.
Новый 1940 год принёс, наконец, долгожданную относительную стабильность, которую ждали долгие два десятилетия. Теперь в магазинах можно было купить обувь, пальто – словом, вещи первой необходимости, которые в 20-е и 30-е выдавались по специально распределяемым карточкам («талонам» или «ордерам»).
В доме № 16 все быстро «разобрались по местам». Через несколько недель покинули дом Пырьев и Ладынина. Они получили квартиру без соседей в доме для киноработников на Киевском шоссе. Эмиль Теодорович Кио, получивший комнату на одной с нами лестничной площадке и в одной квартире с Карандашом, переехал в соседний дом № 12 – с другой стороны въезда в Президиум Академии. Он быстро обменял свою одну комнату на две. Это была довольно простая комбинация. Кио зарабатывал по тем временам невероятные деньги – 500 рублей за выступление, которое, правда, занимало целое отделение программы цирка. Для сравнения – музыкант оркестра Большого театра зарабатывал тогда те же 500 рублей, но в месяц. Кио доплатил столько, сколько хотел владелец двух комнат в соседнем доме, и новым соседом Карандаша стал латыш Витцезол – ответственный работник какого-то таинственного хозяйственного управления. Витцезол вселился с женой и сыном, но, как показало будущее, у него уже были свои планы – с началом войны его семья уехала в эвакуацию, сам он пропадал где-то, редко появляясь дома, а с возвращением семьи ушёл к новой жене. Бывшая жена возмущалась тем, что все деньги (плата Кио за проданную комнату) оказались в руках исчезнувшего мужа. Но это было уже после войны.
В целом большинство вселившихся семей были счастливы на новом месте. Не один Эмиль Кио расширил свои квадратные метры. Семья будущего представителя в ООН Царапкина сначала получила две комнаты в трёхкомнатной квартире на 5 этаже, но вскоре его тёща обменяла свою комнату в другом районе Москвы (вероятно, тоже с доплатой – тёща была зубным врачом) на комнату в квартире своей дочери и её мужа. Я часто бывал в гостях у дочери Царапкина Тани – она была моей ровесницей.
Вернёмся ненадолго в квартиру Михаила Николаевича Румянцева-Карандаша – впоследствии международно-известного клоуна. Он казался странным человеком – всегда был углублён в себя, не обращал никакого внимания на окружающих, если только они сами на обращали на себя его внимания. Он жил цирком, своей нелёгкой профессией, которой он посвящал всё своё время, мысли и силы. Поэтому ни малейших конфликтов с соседями у него быть никогда не могло – он просто жил в другом мире. Его молодая жена была потомком николаевского кантониста – еврейского мальчика, взятого из семьи в возрасте 12–13 лет, прослужившего потом в солдатах 25 лет. Зато он, таким образом, обеспечил всем своим потомкам право жительства в императорской столице – Санкт-Петербурге.
В квартиру, где Румянцевы получили свои две комнаты, кроме Витцезола, в последнюю комнату вселилась молодая еврейская семья Шварцев с двумя детьми – Лёвой и Цилей. Они были почти моими ровесниками. Мы познакомились и стали приятелями с Лёвой – правда, только во дворе. К себе они никогда не приглашали. Только через много лет я понял почему – их бедность превосходила все возможные представления. С началом войны глава семейства – скромнейший рабочий где-то на заводе – был мобилизован в «ополчение» и вскоре погиб, как миллионы других, в самые первые дни войны. Его жена Оля осталась вдовой навсегда. Но сумела поднять детей – Циля стала провизором в аптеке, а Лёва, отслужив в танковых частях (говорил, что участвовал во вторжении в Венгрию в 1956 году), работал и мирно жил, пока не погиб под колёсами автомобиля напротив дома 16. Это произошло в начале 6о-х. Он переходил ночью улицу и нелепо погиб при почти нулевом движении автомобилей в ночную пору. Было его ужасно жаль, он был славным, общительным парнем, нас связывало детство в нашем таком необыкновенном дворе.
Одними из последних вселившихся в наш дом был полковник Волокитин с женой и тремя сыновьями. Вероятно, он занимал очень большой пост, поскольку был единственным во всём доме, получившим трёхкомнатную квартиру. Вскоре после начала войны он пропал без вести.
После войны, где-то в 1947-м, арестовали его жену – она была психически нездорова и иногда излагала публично во дворе свои версии происходящих событий. Кто-то донёс, благо двор был большой – пять секций (как говорили, пять «подъездов»), так что информаторов хватало. Старший сын Волокитиных воевал, потерял ногу в самом конце войны. Средний только был взят в армию, когда война окончилась, а младший – мой приятель Женька – был моим ровесником и в возрасте 13 лет остался без отца и матери. После ареста матери две комнаты из трёх, принадлежавших их семье, были реквизированы и отданы майору МГБ, вселившемуся с двумя сыновьями и женой. Старший сын Слава был, на удивление, очень милым и развитым парнем. Мы с ним часто разговаривали, и хотя он не играл в футбол, но нас объединяла любовь к велосипедам – большой редкости в послевоенной Москве. А через восемь лет, в 1955-м, Слава погиб – ехал на мотоцикле, едва получив права, и на дороге в районе Даниловской площади въехал в открытый люк без ограждения. Вылетев из седла, пролетел метров двадцать. Никакого шлема у него на голове не было. Его привезли во 2-ю Градскую больницу, сделали две трепанации черепа, и вроде он шёл на поправку, но как-то вечером почувствовал себя плохо и умер в течение часа… Семья его выехала вскоре из нашего дома. Мать Волокитиных вернулась из заключения и добилась с сыновьями возвращения одной комнаты. Но и это было неплохо – старший сын женился, да и как инвалид войны имел, вероятно, какие-то права. Увы, вскоре она умерла от рака желудка, и мой приятель снова остался лишь со старшим братом и его женой. Окончил ремесленное училище и пошёл работать. Но всё же не сошёл с круга, как некоторые в нашем доме и при живых родителях.
Вернёмся теперь снова в 1940 год.
Весной 1940-го стали появляться первые собственные автомобили. Это была «Эмка», советский Форд – М-1. Разумеется, что среди цирковых артистов первым владельцем «автомашины личного пользования», как это тогда называлось, стал тот же Кио. Водить машину он не умел, и у него посменно работали два шофёра. Одним из шофёров был, по совместительству, его ассистент и помощник – красавец Борис Корчакевич.
Помнится, как той же весной 40-го в магазинах стали появляться вещи, дотоле невиданные с самой революции, – дамские меховые пальто, мужские шубы на бобровом меху, забытая уже целым поколением обувь, а теперь ещё и частные автомобили! Узким местом для модников были костюмы – мужские и дамские, а также мужские рубашки. Тут частный сектор, ещё не до конца истреблённый, пришёл на помощь. Портные и портнихи стали не меньшими московскими знаменитостями, чем их именитые заказчики. В соседнем доме № 13 по Большой Калужской жил «рубашечник» Равич, польский еврей, каким-то образом переехавший в Советский Союз ещё в начале 30-х годов. Он работал на швейной фабрике, а дома, не покладая рук, трудился на всю советскую элиту – носить сшитые им рубашки считалось хорошим тоном. Но все эти жизненные радости были уделом артистической или академической элиты. Большинство людей в нашем новом доме жило исключительно бедно, хорошо ещё, если не впроголодь, как это было почти все тридцатые годы.
Как-то осенью 1940 года я побывал в квартире, где жили Кагановские, о которых говорилось выше. У них было два сына, и со старшим Феликсом мы подружились, хотя он был на четыре года старше и уже учился в школе. Мне же в тот год исполнилось лишь пять – свой первый юбилей я встретил в новом доме. Проснувшись утром и посмотрев в окно, я увидел флаги, развевавшиеся на Президиуме Академии Наук. Я был очень горд тем, что в мой день рождения и первый пяти летний юбилей улицы украшали флаги. Это был День советской печати.
Итак, квартира Кагановских почти не отличалась от комнаты Шварцев на нашем этаже. Кагановский-старший был маленьким и полным человечком с выпученными глазами – казалось, что он чего-то всё время боялся. Он, конечно, знал, чего именно он боялся, но занимаемое им положение служащего ЦК ВКПб никак не вязалось ни с его испуганным видом, ни с видом занимаемых его семьёй двух смежных комнат. Там стояли один диван и два стула у старенького стола, а во второй комнате находилась старая кровать и две «раскладушки». Зато в доме были противогаз и два фонаря с меняющимися цветными пластмассовыми фильтрами. Мы пользовались ими во дворе для игры «в войну». Интересно, что дети, как и взрослые, не могли себе представить того, что ждёт всех спустя лишь год, но игра «в войну» была чрезвычайно популярной среди детей и подростков.
«Какая мелочная меркантильность!» – скажет строгий читатель. «Столько разговоров о комнатах да о рубашках для “высшего света”!» И будет прав. Но только потому, что если и жил тогда, значит не изведал того страха, который всё время пронизывал жизнь москвичей. Страх, как зубная боль, только отпустит – и люди начинают оживать, строить планы, думать о чём-то приятном… Такова природа человека. Что же до распределения жилья в Москве, то, сколько помню, за все 44 года своей жизни в столице – не было все эти годы ничего более важного, чем возможность каким-либо образом раздобыть приличное жильё в перенаселённом городе. Сколько преступлений и человеческих жертв создавала такая ситуация! Самая скромная комната в полуподвале могла стать причиной ареста и исчезновения человека навсегда!
Так случилось перед войной с семьёй моей подруги юности Тани Ингема. Её дядя и мать после потери всего имущества во время революции (они происходили из довольно обеспеченной дворянской семьи) получили две смежные комнаты в полуподвале дома в Телеграфном переулке. Их сосед захотел расширить свою площадь и донёс на её дядю. Тот был арестован, исчез навсегда, а комнату получил доносчик! Это практиковалось очень часто, и не только с комнатами, но и с произведениями искусств, одеждой, мебелью – со всем, что имело материальную ценность. А величайшей ценностью обладало жильё. В борьбе за приличное жильё мораль, нравственность, элементарные нормы взаимоотношения людей испарялись сами собой…
Лето 1940 года запомнилось двумя событиями, свидетелем которых я впервые стал сам. Родители сняли дачу в довольно приятном посёлке Клязьма, стоявшем на реке того же названия. На улице, где мы жили, недалеко находился маленький дом какого-то пожилого русского немца, жившего в посёлке круглый год. Он жил в этом доме со своей дочерью – тихо и скромно, ухаживая за небольшими садом, окружавшим одноэтажное строение. Был он очень дружелюбным, вежливым, всегда здоровался с детьми и взрослыми, проходившими мимо его дома. Как-то утром мы узнали, что ночью его арестовали. Сразу же маленький белый дом стал нести какую-то печать скорби. Дочь его, лет двадцати с небольшим, сидела днём за деревянным садовым столом, закрыв лицо руками. Нам всем было её очень жаль. Интересно, что никому не приходило в голову, что этот человек мог быть в чём-то виноват. Хотя и никто этого вслух не произносил, но разговоры, которые были посвящены такому значительному местному событию, явно носили характер сочувственный к нему самому и его дочери. Вскоре исчезла и она.
Второе такое же событие произошло в самом конце лета на одной из дач, располагавшихся ближе к реке. Там жил один из каких-то важных работников – чуть ли не заместитель Наркома. Был он уже немолодым человеком. Зато его жена была чрезвычайно молодой, а их сын всегда гулял с няней и никогда не подходил к детям, игравшим на улице. Вообще они вели себя обособленно и даже несколько надменно. В одну ночь всё изменилось. Утром я увидел небольшую группу людей на улице, недалеко от их дачи. Все что-то оживлённо обсуждали. Стояло там и несколько взрослых – местных «зимников». Обсуждался, естественно, ночной арест. «Зимники» почему-то выражали злорадное удовлетворение. Из злополучного дома больше никто не выходил – дом был пуст…
Я так никогда не узнал их имён – ни немца, ни ответственного работника. Но помню хорошо, как они выглядели. Немец был сухощавый, с бритой головой, неприметный человек среднего роста. Другой – ответственный работник – был похож немного, как я это понимаю теперь, на Троцкого – темноволосый с сединой, пронзительными тёмными глазами, с бородкой и в пенсне. Были люди, и исчезли – как будто никогда не существовали…
Мои сверстники и я помаленьку росли, наш кругозор расширялся день ото дня, и последнее предвоенное лето было каким-то особенным. Вышла книжка для детей, которая называлась «Гибель “Орла”». Она была посвящена гибели военного корабля, если не ошибаюсь, в годы Первой мировой войны и расследованию водолазами её причин, а главными участниками драмы были боевые моряки. Повествование было настолько захватывающим, что мы разыгрывали сцены из книги почти на каждом дне рождения моих приятелей. Душой всех этих «представлений» для самих себя был мой друг детства Николка – сын маминой приятельницы, как и моя мама – витеблянки. Её муж погиб в 1933 году в железнодорожной катастрофе в Средней Азии. Он был бывшим подпоручиком царской армии и, как многие его коллеги, перешёл на сторону советской власти ещё в начальный период Гражданской войны. Многие из них, как мы знаем, погибли в годы «великого террора» 30-х годов. Так что, быть может, трагическая смерть в катастрофе на железной дороге была спасением для его семьи? Из его выпуска школы младших офицеров из 24 человек к концу 40-х годов уцелело… трое! Остальные погибли в основном до войны.
Николка был моим другом детства до самых наших студенческих лет. Его неистощимая фантазия создавала для всех окружавших его детей иллюзию реальности истории гибели корабля – он придумывал «декорации», создавая капитанский мостик из одного стула, и все мы начинали верить в происходившие события, описанные в книге. А вскоре вышел и фильм того же названия. В общем, мы в те годы никак не могли пожаловаться на скуку. В том же 40-м году друг моего детства чуть не погиб от дифтерита. Второй раз его жизнь была в опасности из-за воспаления аппендицита (
почему-то очень частого заболевания у детей в те годы). Его бабушка успела сесть с ним в последнюю электричку под Киевом, где они жили на даче, и привезла его в больницу до начала перитонита. Много раз его хранила судьба. И всё же он умер, не дожив до 38 лет, от цирроза печени в 1972 году. Но это была уже другая история.
Интересно, что начало Второй мировой войны 1 сентября 1939 года не оставило почти никаких воспоминаний. Все были гораздо лучше осведомлены об испанской гражданской войне. Возможно из-за того, что много испанских детей приехало в Советский Союз, и детские газеты и журналы, которые читали нам родители, уделяли этому событию гораздо больше внимания, чем вступлению Красной Армии на территорию Польши. Правда, Львов, отошедший Советскому Союзу по советско-германскому пакту, запомнился всем нам.
Собственно никто из нас там не был и не мог быть, но кое-кто из артистов цирка был послан туда для выступлений, как в цирке, так и на многочисленных сборных концертах для местного населения. Побывал там и Кио. Он рассказывал потом о сказочном изобилии товаров в магазинах Львова в первые месяцы после вступления туда Красной армии. Впервые мы увидели привезённые оттуда немецкие игрушки – автомобили с маленькими электромоторами, работавшими от батареек к карманному фонарю. Это были невероятные игрушечные модели реальных вещей – моторные лодки, грузовики, военные игрушки, не говоря уже о куклах, игрушечных домиках с полным оборудованием и даже одеялами и бельём на миниатюрных постелях! В общем, это было для детей открытием какого-то волшебного мира и первым соприкосновением нашего поколения с западным образом жизни в таком миниатюрном масштабе.
О присоединении, лучше сказать, полной аннексии Прибалтики мы слышали много больше. Почему-то оттуда приходили тревожные сообщения о похищениях и убийствах военных и гражданских советских людей. Не знаю, насколько это соответствовало истине, но знаю, что один из друзей отца и его руководитель в аспирантуре Московской консерватории – профессор Григорий Арнольдович Столяров – был назначен главным дирижёром Рижской Оперы вскоре после присоединения Латвии. В начале 50-х Столяров рассказывал у нас дома, как он с женой в июне 1941-го выбрался из Риги за три часа до вступления туда гитлеровских войск. Он чудом уцелел. Когда он зашёл к главному администратору Оперы на его квартиру, тот встретил его с ужасом и зашептал ему: «Что вы здесь делаете! Исчезайте немедленно!» Краем глаза Столяров увидел в комнате под абажуром на столе разостланные карты – местные фашисты уже открыто готовились. В растерянности он с женой вышел на улицу – и тут произошло чудо! Один из последних военных грузовиков взял их на борт, успел уехать и доехать до расположения советских войск, хотя был обстрелян ещё в Риге несколько раз.
В общем 1940-й принёс много событий, запомнившихся, вероятно, из-за убыстряющейся динамики развития ситуации в Европе и благодаря постепенному осознанию нашими родителями и вообще всеми окружающими нас друзьями и знакомыми факта абсолютной неизбежности войны с Германией. Через много лет, когда мы выросли и читали в 70-е годы мемуары Жукова и других генералов, писавших о том, что нападение Германии хоть и ожидалось, но было «внезапным», мне всегда вспоминался климат 1940 года, когда тема войны была, так сказать, застольной темой в любой семье, где слушали радио (московское, а не иностранное!) и читали газеты.
Тема «внезапности» была абсолютно несостоятельной даже для детей – военные учения и приготовления не оставались незамеченными нами (детьми 5–6 лет), всеми, у кого не было дефицита наблюдательности или просто элементарного умственного развития.
Несмотря на некоторую стабильность и улучшение жизни многих и многих людей, всё же конец лета 1940 года был тревожным – все очень ясно чувствовали, что, быть может, это последнее предвоенное лето. Приезд Молотова в Берлин в ноябре был снят для кинохроники, и мы много раз видели на экране почётный караул, который обходил Молотов на берлинском вокзале, а затем и некоторые фрагменты его встреч с нацистскими главарями. В кино нацисты выглядели для детского восприятия очень странно – они появлялись перед камерами какими-то взвинченными, неестественно и возбуждённо жестикулировавшими. Словом, несмотря на вполне нейтральный текст, они производили неприятное впечатление. Вероятно, это было потому, что дети слышали от родителей, что всё происходящее на экране – это дипломатия и этикет, а в действительности они злейшие враги нашей страны. Пока же, мирная жизнь продолжалась.
1940 год был отмечен в Москве небывалым количеством бесконечных «декад литературы и искусства братских республик». Все приезжавшие в Москву музыканты фольклорных ансамблей, танцовщики, чтецы, певцы, писатели получали награды – почётные звания, ордена, иногда даже автомобили, а раз в год избранные получали Сталинские премии.
Детский писатель Аркадий Гайдар написал свою знаменитую книгу «Тимур и его команда», которая была очень популярной среди детей даже дошкольного возраста. Она была проникнута ощущением надвигающейся войны.
Последняя предвоенная зима ничем не отличалась для нас, детей, от всех предшествующих зим. Праздновали наши дни рождения, бывали друг у друга в гостях на ёлке. И всё же, несмотря на тревогу, никто не представлял себе того, как лишь через несколько месяцев круто изменится вся предыдущая жизнь взрослых и детей. Реалистическое, пусть даже долгое, предчувствие несчастья никогда не делает момент его прихода менее неожиданным и трагичным.
Весна 1941-го была довольно холодной. В мае открылась выставка оружия Красной Армии в Центральном парке у Голицынских прудов – на аллее, ведущей к главному входу. Выставка была захватывающе интересной для ребят. До этого события мы видели стрелковое оружие только в детских журналах, на картинках в книгах, и, конечно, пистолеты в кожаных кобурах у милиционеров и военных. На выставке были представлены все виды пистолетов, автоматы, пулемёт Дегтярёва и старый модернизированный «Максим», а также гранаты, винтовки, миномёт и средства связи в виде военных телефонов и катушек с проводами. Тяжёлого и зенитного оружия я не помню, но зенитный пулемёт там был. На сиденье этого пулемёта разрешали детям посидеть, и офицер крутил карусель вокруг своей оси, как бы «охотясь» за самолётами противника. Но очередь «посидеть» была длинная, и мне так и не довелось поездить на такой необычной карусели. Помню, как один из офицеров давал пояснения к простому барабанному револьверу. Он был уже немолодым, и пояснения его были какими-то странными и обескураживающими. Говорил он негромким голосом о том, что немецкие пистолеты гораздо скорострельнее и надёжнее. Для нас это было непонятным и даже огорчительным, так как все дети знали, что «Красная Армия всех сильней», и оружие поэтому тоже должно было быть у нас самым лучшим. Я просил своего отца придти на выставку ещё раз, а потом и третий раз. Он мне не мог отказать. И вот на второй день того офицера я уже не увидел. На его месте стоял молодой, уверенный в себе военный, правда, никаких пояснений он не давал. В целом такая выставка, конечно, не была случайной, и выглядела вполне естественно в тревожном всеобщем ожидании. После четырёх-пяти дней выставка закрылась.
Дворовые мальчишки горланили, не стесняясь, «неприличные песни», одной из которых была известная «Если завтра война, если завтра в поход…», но переделанная ими на свой текст. Она звучала несколько необычно: «Если завтра война, пушки слепим из г…а, ж…у порохом набьём, всех фашистов перебьём!» Услышав такое, многие взрослые возмущались, но исполнителей «фольклора» это не останавливало. Социальное расслоение двора начиналось с детства. Распевавшие подобные песни были будущей дворовой шпаной, но пока ещё были детьми.
Мы обычно гуляли во дворе со своими мамами или домработницами, если они имелись в данный момент. Так что к таким мальчишкам мы не подходили сами, но они подходили к нам, заговаривали, спрашивали, как кого зовут, словом, знакомились. Мы держались всё время в поле зрения мам или бабушек. Мы – это кроме меня: моя ровесница Таня, дочь С. К. Царапкина, Юра Новиков, сын другого ответственного работника Наркоминдела, дочь Карандаша (М. Н. Румянцева) Наташа, которая была самой маленькой в нашей группе, и Вова, сын нашего соседа А. Б. Буше. С ним мы прожили в одной квартире 2о лет – до его женитьбы в 1959 году.
Текучесть персонала домработниц была необыкновенно быстрой. Уходя, они как правило, у всех хозяек брали «на память» шёлковые чулки, серебряные ложки (не все – обычно одну-две) и ещё какие-нибудь мелочи.
Но у меня с детства была любимая няня Мотя, родом из воронежской области. У неё в Воронеже были сын и дочь, моя ровесница. Муж её был в психиатрической больнице, или, как она говорила сама, «в сумасшедшем доме». Перед самой войной она поехала на лето в Воронеж к своим, да так и застряла там до самого освобождения города в январе 1943 года. (У неё был несколько необычный словарь. Она говорила: «сегодня тёпло» с ударением на ё, или «дён», но никогда не «день», «холодно», с ударением на последнем «о».)
А пока, несмотря на холодный май 1941 года, мы стали собираться на дачу.
Я очень любил дачу – там можно было безбоязненно кататься на велосипеде (это был подарок родителей к моему первому «юбилею» – пятилетию в 1940 году). Погода нас не пугала, и мы с энтузиазмом готовились к отъезду в подмосковное Кратово.
Глава 3
Незабываемое туманное утро 22 июня 1941 года
То утро помнят миллионы людей. Помнят и никогда не забудут на протяжении всей своей жизни. Как любая большая беда, постигшая человека, переворачивает всю его жизнь, меняет её в течении нескольких мгновений, так в то утро произошло громадное несчастье для всей нашей огромной страны, для всех населявших её людей – взрослых и детей, молодых и стариков, граждан всех профессий, религий, национальностей, общественного положения, сравнительного достатка или совсем бедных. Гигантская тяжесть навалилась на души всех окружающих – знакомых и незнакомых.
Владимиру Войновичу удалось очень тонко передать ощущение горя, охватившего всю страну, хотя и его герой встретил сообщение о войне в… деревенском сортире! Чонкин, как и его чешский «родственник» Швейк, встретил войну не совсем обычным образом, но сообщение, прозвучавшее по радио, действительно застало людей в самых разных, часто неподходящих местах и за самыми разнообразными занятиями.
В Кратово, примерно в двух километрах от станции, мои родители сняли дачу пополам с семьёй маминой подруги детства Марии Борисовны Пастрейтер. Витеблянка, как и мама, она происходила из семьи обрусевших немцев. Её муж Исай Захарович Берлин также родился в Витебске. Он был прекрасным кулинаром, большим жизнелюбом, оптимистом и всегда в хорошем настроении. Работал он начальником пожарной охраны какого-то госучреждения. Мария Борисовна была удивительно тёплой и мягкой женщиной, любившей свою семью, друзей. Они были замечательной парой.
Начало того воскресного утра, несмотря на пасмурное небо, было самым обычным и мирным, а улучшающаяся погода сулила приятный день. Мы с отцом гуляли по участку, стараясь не прикасаться к мокрым кустам после ночного дождя.
Туман понемногу рассеивался и даже сквозь облачное, белёсое небо стало изредка проглядывать солнце. Отец искал для меня подходящий прут, чтобы сделать из него с помощью бечёвки лук для стрельбы в цель наломанными палочками.
Вдруг, кажется, это было около полудня, мама вышла на крыльцо и позвала нас домой. Голос её был очень взволнованным, и мы, ничего не спрашивая, двинулись к дому. Смутное беспокойство уже закралось в душу. Что-то произошло…
Мы вошли на застеклённую террасу и услышали по радио заикающийся голос, который, волнуясь, пытался что-то объяснить. Что-то очень важное. Мне уже исполнилось шесть лет, и я не нуждался в «переводчиках», как многие дети («А что он сказал?»). Мне удалось понять, что немцы «вероломно напали на Советский Союз» и что ведутся тяжёлые бои. Я не понимал, почему «вероломно»? Ведь все последние месяцы только и говорили, что о грядущей войне.
Постепенно всё стало ясным – это война… Война… Чувство тяжёлого, непоправимого несчастья охватило всех сразу. Речь Молотова закончилась. Тётя Маруся заплакала, мама и отец молчали, предаваясь своим тяжёлым мыслям. Только Исай Захарович воскликнул: «Ну и что? Ничего страшного! Не первая война в нашей жизни. Устоим! В Гражданскую было хуже, ничего вообще не было, а выстояли! Не унывайте! Всё образуется!». Он покрутил ручку радиоприёмника (это был наш 6-Н-1) и вдруг, как будто из соседней комнаты, раздался голос – прекрасно звучащий баритон на великолепном русском языке вещал:
«Русские люди! Германская армия-освободительница несёт вам свободу от жидов и коммунистов! Помогайте успешному продвижению германской армии!» Далее давались толковые советы, как именно надо помогать – резать телефонные и телеграфные провода, валить столбы, но «охранять мосты, чтобы армия-освободительница беспрепятственно продвигалась вглубь территории страны».
Такого я не ожидал – и прежде всего не мог понять, как этот немец так здорово говорит по-русски? О том, что диктор был русским, не могло быть даже мысли – как же русский может оказаться в Германии? Счастливая наивность детей.
Голос этот звучал высокомерно и самоуверенно и вселял большую тревогу в души всех слушавших. Исай Захарович почувствовал это, щёлкнул выключателем и сказал:
«Да, война будет тяжёлой, может быть, самой тяжёлой, но всё равно мы победим!» Сегодня это звучит немного по-швейковски, но тогда, в те первые минуты, только один человек среди всех слушавших радио (подошли и соседи), ни на минуту не терял своего здорового, естественного оптимизма. Только он оставался жизнерадостным, твёрдым и каким-то надёжным среди всех, впавших в тяжёлую мрачную задумчивость.
Говорил только он один, и сегодня мне кажется, что он правильно сделал, выключив радио в тот момент. Он дал всем передышку, на короткое время предоставил возможность собраться с мыслями, чтобы приступить к теперь уже другой жизни, которая началась в то утро и длилась без перерыва 1418 дней – как один нескончаемый, кошмарный день.
Исай Захарович так и остался в памяти твёрдым оптимистом, верящим в будущее всех нас, всей огромной страны. Окинув взглядом членов наших семей, он предложил… пораньше пообедать! Конечно, никто не мог и думать о еде, но он проявил твёрдость и тут, заставив тетю Марусю собрать на стол. К ней присоединилась моя мама. Потом налил себе и моему отцу нашедшейся где-то водки, и выпил «За победу!». После обеда он быстро собрался, поцеловал тётю Марусю, попрощался с детьми и поехал в Москву, где приступил к исполнению своих обязанностей начальника пожарной охраны. Новая реальность требовала быстрого освоения техники тушения зажигательных бомб. Отец уехал в Москву следом за ним, а мы стали собирать вещи для возвращения в Москву. Лето кончилось, едва успев начаться. Кончилась и предвоенная жизнь, казавшаяся теперь такой счастливой.
Когда мы вернулись в город, вдруг оказалось, что в нашем доме живет огромное количество людей. Дверь нашего подъезда не прекращала хлопать весь день. Мы жили на втором этаже, и каждый приход или уход жильцов был прекрасно слышен, а из окна и виден. Все были очень заняты, и не было видно во дворе даже двух человек, стоявших и разговаривающих – все куда-то страшно спешили.
Начались воздушные тревоги. Пока довольно короткие, как говорили «учебные». Во время тревоги все жильцы должны были покинуть свои квартиры и спуститься в «газоубежище». Никаких действительных бомбоубежищ вообще не существовало. В нашем доме 16 просто не было подвала. То есть он был на довольной большой глубине, но в нём помещалась лишь котельная, и он был совсем невелик. В доме 12, то есть в первом корпусе, как назывались эти дома, также не было никакого подвала. Только третий корпус – дом № 18, где жил «рубашечник» Равич, имел подвал, но это никак нельзя было назвать бомбоубежищем. Назывался подвал «газоубежищем». Подальше от домов, в секторе между территорией Президиума Академии наук и Палеонтологического музея на скорую руку рыли «щели» – нечто вроде окопа глубиной примерно метра в два с небольшой лестницей-лазом, вырытой в земле с кое-как положенными дощатыми ступенями и так же кое-как покрытой деревянной «крышей», засыпанной землёй. То есть было совершенно ясно, что всё городское хозяйство к войне и воздушным налётам никак не подготовлено.
Пришёл по почте очередной детский журнал «Мурзилка». Он был ещё «довоенным», с совершенно мирной тематикой – «Клоун Руж и клоун Беж». Только в следующем номере на обложке был помещён рисунок школы со всем необходимым набором инструментов для тушения зажигательных бомб.
Немецкие самолёты ещё не могли достигнуть Москвы без дозаправки. Скоро все поняли, что когда в сводке Информбюро говорилось о «минском» или «харьковском направлении», это означало, что город уже в руках немцев и нашими войсками оставлен.
В начале июля была объявлена уже настоящая воздушная тревога. Мама меня отправила вместе с бабушкой в «газоубежище» – тот самый подвал дома № 18. Во-первых, до него надо было дойти, во-вторых, подвал никак не мог вместить даже только стариков и детей из трёх домов. Вентиляция была сначала сносной, но потом казалось, что временами воздуха не хватает. Я с детства плохо переносил духоту. Кроме того, подвал освещался только почему-то синими лампочками. Интересно, что нужно было «маскировать» в подвале, итак закрытом тяжёлой наклонной дверью? В общем, сидеть там в бездействии часами было неприятно. Старики вздыхали, дети плакали, становилось всё более душно. К счастью, часа через полтора был объявлен «отбой» и мы смогли покинуть «газоубежище». После этого «дебюта» я твёрдо сказал маме, что больше в подвал никогда не пойду, и если уж бомба попадёт в наш дом, то лучше быть в своей квартире, чем оказаться засыпанным заживо в подвале, куда, по слухам, вполне могла хлынуть вода из повреждённых водопроводных и канализационных труб…
Даже когда мы вернулись в Москву в 1942 году после 17-месячной эвакуации, я твёрдо придерживался своего слова никогда не покидать квартиры во время налёта.
Глава 4
Свердловск, гостиница «Большой Урал»
В начале июля 1941-го стало известно, что будут эвакуировать из Москвы максимальное количество детей. Мы с мамой должны были покинуть Москву в вагоне, выделенном для Союза композиторов. Отец оставался в Москве, работая, как всегда, в Цирке и на киностудии в Лиховом переулке. Мы должны были выехать из Москвы 11 июля. За неделю начались сборы – надо было взять всё необходимое, но всё же минимальное количество вещей. Разрешалось взять только два чемодана – по одному на человека – и постели.
На вокзале царила нормальная атмосфера – не было никакой паники или какой-то неразберихи. Единственно, что было – это неприятности с багажом: каждое купе осматривалось перед отправлением, и лишние вещи заставляли оставить родственникам, несмотря ни на какие просьбы, уговоры или даже небольшие скандалы. Проводники с общественным представителем действовали мягко, но твёрдо.
Вообще, возвращаясь назад к тем дням, надо отметить, что все как-то быстро свыклись с мыслью о том, что предстоят большие трудности и лишения. Но пока что не были даже введены продуктовые карточки. Магазины Москвы не испытывали дефицита продуктов. Конечно, Москва была ещё в глубоком тылу, и никакой паники мне видеть не довелось – действительно кризисная ситуация возникла лишь в октябре 1941 года.
Итак, мы сели в поезд. В нашем купе («жесткий, купированный», – так назывался вагон на железнодорожном языке) ехал со своей мамой сын режиссёра цирка Юрия Сергеевича Юрского Серёжа, впоследствии ставший известным актёром. С ним мы быстро установили дружеский контакт – по дороге играли в солдатиков, рассказывали друг другу прочитанные нам книги. Одним словом, путешествие в таком удобном вагоне нас никак не смущало, можно сказать, даже радовало – предстояло увидеть много нового, а так как пунктом нашего назначения был Свердловск, то всё было очень интересным и волнующим.
Свердловск. Гостиница «Большой Урал»
Современное фото
Нам всем, жившим в Москве, очень повезло. Мы не узнали паники эвакуации под бомбёжками, нехватки воды и еды и всех других ужасов беженства. Наше путешествие было именно путешествием, ничем не отличавшимся от мирного времени. Поезд шёл до Свердловска дней шесть. Приехали ранним утром. Нас встречали представители Союза композиторов, они посадили нас в трамвай, шедший до города, насколько помнится, довольно долго. Зато трамвай приехал почти прямо до места нашего временного жилья – гостиницы «Большой Урал», где уже были наши чемоданы. Это было строение советского времени – серое, большое, напоминавшее своей тяжеловесностью какую-то фабрику или завод. Нам выделили маленькую комнату. Едва разместившись, я, по приглашению Серёжи и ещё одного мальчика, под наблюдением Серёжиной мамы вышел погулять в небольшой парк, примыкавший к скверу перед гостиницей. Город нам понравился, и мы вполне беззаботно гуляли.
Дирижёр, профессор Александр Иванович Орлов (1873–1948)
Вскоре и гостиница и весь город стали быстро заполняться эвакуированными из Москвы. Появился Эмиль Кио со своей семьёй. Была эвакуирована группа учеников московского балетного училища. Среди них была 15-16-летняя Майя Плисецкая – рыжая девица, довольно длинная и нескладная, как мне показалось. Мама от кого-то уже знала о ней, но мне это было совершенно неинтересно. Меня уже тогда интересовали музыканты, скрипачи, хотя я сам ещё на скрипке не играл.
Как-то в трамвае я услышал громкий шёпот: «Смотрите! Лиза Гилельс!». Это была скромная молодая девушка со скрипичным футляром, одетая в серую юбку и полупальто. Мне она показалась очень красивой.
Лиза Гилельс была знаменитостью. Её везде узнавали. Все артисты, приехавшие в Свердловск, давали концерты. Помню, как с трудом передвигался с палкой (из-за полиомиелита) по коридору нашей гостиницы известный скрипач Борис Фишман.
В местном цирке начал выступать со своим аттракционом Кио. Хотя его сын Эмиль был ещё совсем маленьким, помню, что мы, несмотря на примерно двухлетнюю разницу в возрасте, общались с ним ещё в Москве. Вероятно, мы просто бывали вместе на представлениях с участием Кио, да и жили на Калужской по-соседству. «Эмильчик», как его называли, чтобы не путать с отцом, был с детства исключительно приятным и милым в общении мальчиком, и остался таким же приятным парнем на всю жизнь.
Было по-летнему тепло. Вечером всё население гостиницы «Большой Урал» выходило на сквер, и начиналось обсуждение новостей дня. Прежде всего – положение на фронтах. Пока, несмотря на отступление, никто не знал истинных размеров катастрофы, постигшей Красную Армию. Все верили в то, что со дня на день начнётся контрнаступление и быстрое изгнание немцев. Но с течением времени вечера становились всё более мрачными – наступление немцев не останавливалось, они неумолимо приближались к Москве – уже начали упоминаться в сводках Совинформбюро «направления» городов, бывших не так уж далеко от столицы.
Примерно через месяц в Свердловск приехал и Госоркестр. С моим дядей— виолончелистом приехала бабушка. Они разместились где-то далеко от центра на частной квартире.
Лето 1941 года в Свердловске было совсем нежарким. А в первых числах сентября сразу в один из вечеров стало холодно. По-осеннему холодно. Внезапно приехал отец. Московский цирк послал его в Свердловск для работы, но, приехав на место, он никакой работы не получил – другой дирижёр уже работал в этом цирке с самого начала появления московской группы. Не знаю, почему произошла такая неразбериха, но отношение к нему сразу переменилось.
Эмиль Кио, обедавший в Москве очень часто у моей бабушки (он обожал еврейскую кухню, да ещё приводил приятеля – администратора театра «Эрмитаж» Игоря Нежного, предварительно позвонив моей бабушке: «Мама! Что у нас сегодня на обед?»), теперь «узнавал» моего отца с большим трудом, встречая его в коридорах «Большого Урала». А ведь совсем недавно называл его «академиком», имея в виду, вероятно, высшее образование отца и его умение в музыкальном оформлении спектаклей цирка (и фильмов). И вдруг – такая перемена!
Зато помню, с какой теплотой к отцу, да и ко мне отнёсся замечательный музыкант и человек – известный дирижёр, профессор Александр Иванович Орлов. Мы с отцом часто бывали у него в номере. Он с женой занимал в «Большом Урале» двухкомнатный, но тоже совсем небольшой номер. Был он очень хлебосольным – угощал нас московским чаем с печеньями, а его жена потчевала меня только что полученным в посылке вкусным московским сыром с белым хлебом. Всё это уже было практически недоступно и почти забыто – в Свердловске, кажется, в конце июля или в начале августа ввели карточки на продукты. Александр Иванович успокаивал отца, говорил, что как-нибудь всё наладится, а потом как-то подал идею – вернуться ему одному в Москву, забыть про цирк и снова заняться работой в кино. Надо сказать, что Орлов обладал замечательным человеческим качеством – положительно воздействовать на людей. Он вообще был добрым от природы человеком и действительно отлично относился к моему отцу. И вот отец, решив, что надо последовать его совету, начал действовать. В Свердловске не было ни работы, ни места для жилья. Отец связался с Главным управлением цирков, и они выписали ему командировку во Фрунзе, где можно было временно занять должность директора местного цирка.
Пока мы ещё жили в гостинице «Большой Урал», к нам часто заходил Юрий Сергеевич Юрский, одетый по-революционному: в крагах, гимнастёрке и галифе. Он тоже был не у дел. Приехав в Свердловск, как и мой отец, Юрский не имел никакой режиссёрской работы в цирке.
Он вставал в позу оратора у дверей нашей маленькой комнаты и произносил длинные, зажигательные речи по любому поводу – о бездарности московского управления цирков, по поводу текущих событий, или, понижая голос, предавался воспоминаниям о… Троцком! Он и мой отец называли его гениальным оратором, а я, про себя, называл самого Юрия Сергеевича «Троцким», честно говоря, зная о Троцком только то, что он был одним из вождей Революции, а потом сбежал заграницу. Следовательно, предал Революцию? Но тогда почему и отец, и Юрий Сергеевич вспоминали о нём с симпатией? Вопросов о политике я не задавал, меня интересовали военные сводки, и главное – что сейчас делает и как работает товарищ Сталин? Всё это было вполне логичным – ведь с самого раннего детства не было в нашей жизни человека более важного, после родителей, конечно, и более «главного» над всеми нами, чем Иосиф Виссарионович Сталин.
Юрские тоже стали собираться в дорогу. Юрий Сергеевич решил перевезти свою семью в Андижан. Кажется, он тоже получил какую-то командировку туда.
Мы выехали из Свердловска одним поездом и в одном и том же вагоне. Это опять был вагон… Союза композиторов, шедший в Ташкент! Там нам предстояло пересесть на поезд, следовавший прямо во Фрунзе. Юрские сошли где-то раньше, а мы, прибыв в Ташкент, должны были ехать на трамвае через весь город на другой вокзал. Приехали мы рано, и города я совсем не помню, так как видел его только из переднего окна трамвая.
Ещё до нашего отъезда во Фрунзе туда уехала бабушка с моим дядей – Госоркестр временно перебазировался в столицу Киргизии. Жили они там в общежитии, в мечети на рыночной площади. Дядя написал, что вместе с членами семей там набралось более двухсот человек!
Часть Госоркестра ещё была в Свердловске, когда призвали в армию коллегу моего дяди, тоже виолончелиста – Диаманта. Госоркестр должен был в это время по своему выбору принять решение о мобилизации четырёх человек, так как весь оркестр имел «бронь» – освобождение от мобилизации, ввиду представляемой коллективом оркестра «художественной ценности союзного значения». Мой дядя, прошедший допризывную подготовку ещё перед войной в оркестре ЦДКА (Центрального Дома Красной Армии), казалось бы, должен быть главным кандидатом для мобилизации, да он и не старался предпринимать никаких усилий для освобождения от призыва, но по воле месткома и партийной организации был категорически исключён из списка мобилизованных четырёх человек. У Диаманта был маленький сын, а дядя был даже не женат. И всё же Диамант был мобилизован и погиб буквально в первом же бою. Ходили слухи, что его убили сзади свои… Его жена получила уведомление о смерти, когда мы ещё не уехали из Свердловска. А двое других вернулись ещё до окончания войны. Ещё один, кажется, тоже не вернулся.
Путешествие по железной дороге из Свердловска во Фрунзе было для нас, детей, также исключительно интересным. Первые полтора дня поезд шёл через прорези в невысоких отрогах уральских гор. Были видны геологические слои различных пород. Это было необычным зрелищем – посреди довольно плоской равнины вдруг поднималась поперек хода поезда невысокая насыпь – метров 10–15 высотой. Прорезь в ней шла как открытый сверху туннель. На время становилось довольно темно, потом снова открывалась равнина, и так продолжалось много часов подряд, пока поезд не вышел из пределов уральских гор. Ничего подобного я не видел нигде во время моих будущих путешествий по Европе и Америке.
Композитор Шапорин «прославился» в этой поездке несколько необычным образом. Он вёз с собой свой личный самовар – проводник растапливал самовар в своём купе, а потом композитор пил из него чай у себя в купе. Путь был долгим, с очень длинными остановками на узловых станциях— пропускались составы для фронта. На запад шли бесконечные эшелоны с людьми, танками и даже полуразобранными самолётами. В основном самолёты были в чехлах, а танки, как я уже знал – Т-34, – стояли, ничем не прикрытые, на платформах.
Дня через три сошли на какой-то станции Юрские, чтобы пересесть в поезд на Андижан. Как-то мы услышали, что у одной женщины, ехавшей в нашем вагоне, заболел ребёнок. Она попросила у Шапорина немного горячей воды для ребёнка. Шапорин ей отказал… Об этом скоро узнал другой композитор – Вано Ильич Мурадели. Бавший цирковой борец пришёл в неописуемую ярость – он клялся избить Шапорина до потери сознания! Скандал был в зените, когда я выглянул в коридор, – Вано Ильич с нетерпением ждал в коридоре обладателя самовара, который никак не мог выйти из купе и сидел там запершись целый день. Ночью я увидел его голову, несмело выглядывавшую из проёма двери, – Шапорину нужно было давно сходить в туалет, но выйти из купе он, по понятной причине не мог. Он поделился в конце концов горячей водой с женщиной, но увы, ей пришлось сойти с поезда – состояние ребёнка ухудшалось, и его надо было поместить в больницу. Нужно заметить, что из этого, безусловно, некрасивого эпизода не следует делать окончательных выводов о Шапорине-человеке. В трудные послевоенные годы он иногда проявлял себя, по ряду свидетельств, достаточно мужественно в защите своих коллег.
Мы не знали, чем был болен этот ребёнок, но вскоре на нескольких станциях никому не разрешили покидать вагон – вокруг была эпидемия тифа! После Ташкента, где мы начали свой путь во Фрунзе, в первый раз мой отец вышел на платформу на станции Арысь, чтобы наполнить чайник кипятком, и увидел, что перрон и даже площадки товарных поездов усеяны трупами людей! Я ничего не видел, потому что ещё спал, но отец вошёл обратно в вагон и предупредил всех, что лучше на этой станции никому не выходить. Было удивительно, что никто не заболел тифом и поезд благополучно доехал до Фрунзе.
Глава 5
Фрунзе. Ещё восемь месяцев вне Москвы
Поезд пришёл около 3-х часов ночи. На этот раз нас никто не встречал, и мы нашли грузовик (стремление к частной инициативе неистребимо!), который и довёз багаж приехавших до рыночной площади, где в местной мечети находилось общежитие Госоркестра. Сами же мы тащились налегке, но довольно долго – вокзал был по крайней мере километрах в двух-трёх от центра города.
Нам среди глубокой ночи приготовили «топчаны» – некие подобия кроватей: фанерный щит на деревянной раме, лежащий на двух «козлах».
Все завалились спать, практически не раздеваясь. В шесть утра заработало радио на всю возможную громкость – Москва передавала новости Совинформбюро. Левитан прочитал очень торжественным голосом сообщение о взятии после тяжёлых боёв города Тихвина. Я услышал голос отца оркестранта Ляховецкого (старик Ляховецкий никогда не снимал кепку, вероятно был верующим, а ермолку носить в то время, понятно, было нельзя): «Тихвин? А где этот Тихвин?» Ему тут же ответил чей-то раздражённый старческий голос: «Какая разница где? Важно, что взяли!» Я рассмеялся от этого разговора и от такой хорошей новости проснулся.
Мечеть была очень красивая внутри – все стены и своды колоннады, окружавшей по периметру большой зал, были облицованы керамической плиткой, и производило всё это какое-то таинственное впечатление. В огромном помещении было полутемно. Постепенно население общежития стало просыпаться. Странно, что почти не плакали дети. Было много удивительного – несмотря на такую скученность, практически никто не болел, не было и эпидемий.
Немного позавтракав привезёнными с дороги остатками хлеба и холодного «лапшевника», мы с моим новым приятелем маленьким Витей Данченко (сегодня он профессор скрипичных классов в Институте Кёртиса в Филадельфии и Консерватории Пибоди в Балтиморе) вышли во двор. На дворе была настоящая зима, и лежал даже неглубокий снег. Мы начали делать из снега «торт», вероятно, давно соскучившись по нему, стараясь представить его себе во всех деталях. А потом моя бабушка взяла нас обоих, и мы вышли на рыночную площадь.
Такого чуда, да ещё во время войны, никто из нас не ожидал! Рынок являл собой такое изобилие, которого я не видел впоследствии ни на знаменитом одесском «Привозе», ни на каком другом рынке мира. Горы громадных, невиданных доселе яблок поднимались вверх на полтора-два метра, такие же горы гигантских головок лука – золотистого и сиреневого, дыни, арбузы, горы картофеля, капусты, каких-то неизвестных нам овощей. В общем, это был настоящий восточный базар, и он был чудом, если вспомнить, что это было в январе 1942 года.
Конечно, всё это не могло вывозиться в другие районы страны из-за напряжённой работы транспорта для фронта. Но видеть такое изобилие в реальной жизни казалось просто волшебным сном!
Нас заинтересовали также польские солдаты и офицеры, бродившие по рынку. Они были одеты в странные для нас недлинные шинели почти табачного цвета и в свои четырёхугольные фуражки – «конфедератки», как их называли. Оружия на солдатах я не помню, но у офицеров были кобуры для пистолетов. Имели ли они оружие, неизвестно. Скорее всего, не имели. Это были части армии генерала Андерса.
Мы пробыли в общежитии три ночи, после чего переселились в проходную комнату казённой квартиры, которую отец снял (!) у майора пограничных войск. Звали его Иван Григорьевич Кузьминых (он навещал нас несколько раз после войны в Москве и даже позднее, когда служил в Германии в 1947 и 1949 годах). С Иваном Григорьевичем, следователем погранвойск, его женой Клавой и сыном Юрой мы быстро сдружились. Они стали нашими гостеприимными хозяевами примерно на месяц. (Как-то Клава, уже после войны, когда они навестили нас в Москве, сказала моей маме: «Я терпеть не могу евреев, но твой Додик – вот мужчина! Я его обожаю!»)
Пока что пришлось временно прописаться у Кузьминых в качестве их мнимых родственников, так как «квартальные» – полуофициальные представители НКВД, хотя и штатские лица – слишком часто наведывались для проверки во все без исключения квартиры – дом за домом, квартира за квартирой подвергались самой тщательной проверке. И хотя хозяин наш был следователем пограничных войск, всё равно закон о прописке должен был быть свято соблюдён. Следующую «постоянно-временную» прописку мы получили уже в артистических комнатах летнего цирка «Шапито», когда отец приступил к работе. «Прописка» – святая святых уклада жизни в России.
После месяца житья у Кузьминых мы переехали в помещение «гримуборных» цирка, где можно было уже жить без отопления – тепло становилось очень быстро, и уже в конце марта моя мама обязательно одевала мне на голову тюбетейку, иначе можно было, по её мнению, получить «солнечный удар».
У нас ничего не было, кроме одеял, подушек и старой электроплитки, на которой мама готовила еду ещё в гостинице «Большой Урал». Кто-то из циркачей посоветовал отцу пойти на хозяйственную базу Среднеазиатского отделения Союзгосцирка. Зав. складом базы был князь Мышецкий (не знаю, был ли он сослан или просто уехал во Фрунзе во избежание худшего) – человек очень высокого роста, в кепке и с небольшими тонкими усиками. Прямо герой Даниила Хармса! Он был чрезвычайно любезен и «отпустил» по госцене маленькую керосиновую лампу со стеклом. Это был бесценный дар! В гримёрных комнатах цирка «Шапито» электричество бывало очень редко, поэтому лампа была первой необходимостью.
После примерно двух месяцев работы директором местного цирка (справедливости ради надо сказать, что весь «Цирк» состоял из группы эвакуированных артистов Харьковского цирка, выступавших на рыночной площади в большом сарае, который официально именовался «театром», а неофициально – «балаганом») отец сумел получить пропуск в Москву, чтобы вернуться на работу на студию документальных фильмов (совет Александра Ивановича Орлова начинал обретать конкретные очертания). Сама студия не могла прислать ему вызова (отец не состоял в штате студии, так как до войны служил в Цирке), но они были готовы его немедленно зачислить в штат сразу же по прибытии в Москву. Пропуск в Москву был получен благодаря счастливой случайности, и отец, уволившись с поста директора Фрунзенского цирка, имея на руках только телеграмму о желании Киностудии зачислить его в штат по прибытии в Москву, получил разрешение местного НКВД, и, снявшись с воинского учёта, купил билет и уехал, сопровождаемый нашими напутствиями. Все мы мечтали о скорейшем воссоединении уже в Москве.
Мама освоила профессию бухгалтера и стала помощницей главного бухгалтера, тоже харьковчанки Агриппины Моисеевны. Её муж Яша был завхозом цирка. Он страдал психическим расстройством и как-то раз сделался буйным на моих глазах. Его с трудом утихомирили несколько мужчин. На следующий день он вёл себя так, как будто накануне ничего не произошло. Работа мамы дала нам возможность существовать, пока отец устраивался в Москве.
Из его первого письма мы узнали, что поезд в Москву шёл девять дней – довольно быстро по тем временам. Билет был только в международный вагон, и один единственный в кассе. Отец попал в одно купе с очень симпатичным пожилым полковником, который оказался инспектором пограничных войск. Полковник был, как видно, выходцем ещё из старой дореволюционной школы младших офицеров и оказался любителем музыки, так что соседство с отцом его очень обрадовало. Соседство это оказалось бесценным. На протяжении всего пути до самой Москвы на всех крупных станциях в поезд входил комендантский патруль для проверки документов. Несколько раз патруль пытался снять отца с поезда и отправить для немедленного переосвидетельства в ближайший военкомат (у него из-за плохого зрения ещё с 20-х годов был «белый билет», то есть освобождение от воинской повинности). Кое-как дело обходилось. Но как-то на одной из станций капитан патруля приказал отцу следовать за ним. Вмешался сосед-полковник и приказал капитану выйти из купе и покинуть вагон! Такова была огромная власть даже такого отдела НКВД, как пограничные войска. Быть снятым с поезда! Это означало крушение всех планов и прежде всего потерю места в поезде. Можно было сидеть на вокзале неделями и не получить места хотя бы в общем вагоне. Не говоря о том, что никто за потерянный билет денег бы не возвратил – не до того было при тысячных очередях!
По прибытии в Москву отец немедленно пришёл на киностудию в Лиховом переулке. Его с энтузиазмом встретил старый коллега – режиссёр Илья Петрович Копал ин: «Ну, наконец-то! Мы прямо сейчас начинаем работать! Виктор Сергеевич Смирнов сегодня занят на радио, и мы просто не знали, что делать! Надо срочно озвучивать “Новости дня”! Ночью надо сдавать!» Так снова началась работа моего отца в кино, продолжавшаяся до 1981 года – с трехлетним перерывом с 1950 по 1953 годы – в связи с борьбой с «космополитизмом».
Все дни нашей эвакуации, то есть жизни вне Москвы, мы, как и всё население Советского Союза, ежедневно, по нескольку раз в день жадно слушали по радио сводки с фронтов. В какой-то момент ноября 1941 года, когда мы были ещё в Свердловске, стало казаться, что сдача Москвы неминуема. Надо сказать, что искусство пропаганды сыграло в этом случае исключительно важную роль. По радио стали передаваться пьесы, связанные с Отечественной войной 1812 года, читали отрывки из «Войны и мира», и постепенно все как-то осознали, что даже если Москва падёт, война на этом не закончена – и Наполеон был в Москве, а окончил поход бесславно. Рождалась уверенность, впервые с начала войны, что путь к победе будет очень долог, невероятно кровав и тяжёл для всей страны, но что гибель Гитлера всё равно неотвратима. Статьи Эренбурга читали по радио по нескольку раз в день – иногда сразу после новостей. В общем, в какой-то момент, ещё до окончания битвы под Москвой, стала возникать уверенность в том, что немцы войну всё равно проиграют, что это вопрос времени и нечеловеческих усилий, но что СССР победит. Фильм «Два бойца» вышел позднее, в 1943 году, но песня «Тёмная ночь», гениально исполненная Бернесом, стала, если можно так выразиться, «лирическим гимном войны» и внесла свой эмоциональный вклад в перелом настроения огромных масс людей. Сегодня эти воспоминания и рассуждения кажутся банальными и примитивными, но тогда, чтобы заставить поверить в победу миллионы людей, понадобилась мобилизация всех компонентов искусства пропаганды и надо признать, что результаты воздействия пропаганды в тылу дали впечатляющие результаты. Не знаю, кто конкретно руководил всей этой огромной работой (едва ли можно считать, что всю эту работу делал партийный чиновник Щербаков), но страна должна была благодарить людей, внесших свой исключительный вклад в моральное оздоровление, подкрепившее усилия людей в промышленности, хозяйстве и транспорте. Без титанических усилий пропаганды конечная победа в войне была бы невозможной. Вспомнили и про Церковь, бывшую практически все годы советской власти вне закона, неважно, что пропаганда апеллировала главным образом к великорусскому патриотизму (в то время все чувствовали себя русскими, хотя антисемитизм очень вырос, как мы тогда думали – под влиянием гитлеровской пропаганды), вспоминая «псов-рыцарей» и все проигранные Германией войны в истории, делая всех немцев тупыми исполнителями гитлеровских приказов. Всё это вместе взятое принесло победу в пропагандистской войне – важную моральную победу, подкрепившую первый успех битвы под Москвой.
Где-то в начале января 1942 года, когда мы ещё жили у Кузьминых, на первой странице «Правды» я увидел фотографию изуродованного трупа Зои Космодемьянской. Мне было только шесть с половиной лет, но, взглянув на эту фотографию, я понял: немцы войну проиграли… Такого человечество терпеть не может. «Пусть ярость благородная вскипает, как волна» – так пелось в песне, и было ясно, что эту ярость не остановить ничем – немцы, если хоть что-то понимали вообще, никогда не смогут обрести союзников в мире, если они способны на такое…
Песня «Священная война» в исполнении хора и оркестра ансамбля А. В. Александрова передавалась по московскому радио несколько раз в день и транслировалась на весь Советский Союз. Она стала гимном войны, гимном сопротивления и героизма. Эта знаменитая песня стала фактом большой эмоциональной и воодушевляющей силы! В те месяцы нам казалось, что никто, даже самые большие враги советской власти, не могли чувствовать к немцам ничего, кроме ненависти (мои родители и все окружающие, конечно, заблуждались, но в это так хотелось верить!). Мы ещё не знали о Бабьем Яре, не знали о масштабе начавшегося Холокоста. О том, что немцы евреев убивают, знали с первых дней войны, и знали, что Гитлер слов на ветер не бросал, но масштабов катастрофы знать тогда ещё никто не мог.
Пока Госоркестр находился во Фрунзе, он занимался своей прямой деятельностью – еженедельно давал несколько концертов. Иногда это были специальные образовательные концерты для детей. Помню один из таких концертов, где первым номером исполнялась увертюра Глинки к опере «Руслан и Людмила». Я уже знал эту музыку, часто слушая её по радио, но живое исполнение превосходило все слуховые радиовпечатления. Музыка была яркой, радостной, праздничной. Она сразу поднимала настроение людей, даже и взрослых.
В апреле 1942 года я вдруг стал плохо спать – из моего носа выходило что-то непонятное… Короче говоря, у меня началась редкая носовая форма дифтерита. Болезнь почти подошла к середине, когда мама наконец обратилась к врачу. Нас сразу отправили в инфекционную больницу за городом, куда мы добрались пешком уже затемно. Меня посмотрел в отделении скорой помощи врач, как оказалось, профессор из Харькова (опять из Харькова!), и тут же отдал распоряжение оставить нас с мамой на ночь в «боксе» – изолированной комнате. Из-за стенки соседнего бокса слышались чьи-то тяжёлые стоны. Ночью во сне мне сделали укол вакцины, а наутро, взяв у мамы анализы, её отпустили домой. Она не заразилась от меня дифтеритом, а меня поместили в детскую инфекционную больницу на целых две недели! Это была первая разлука с мамой.
Она могла приходить навещать меня не чаще трёх раз в неделю, так как больница находилась на расстоянии километров десяти от центра города, а транспорта до больницы никакого не существовало.
Я чувствовал себя неплохо, но анализы в первую неделю ещё показывали наличие «дифтеритной палочки» в носу. Вторая же неделя полагалась как время карантина. Как-то в один из дней, около четырёх часов после полудня все услышали дикий женский крик. Оказалось, что умер восьмимесячный ребёнок. Впервые я и другие ребята, находившиеся на излечении, увидели, что означает смерть. Оказалось, что смерть – это неподвижность, но неподвижность навсегда. Маленькое желтоватое тельце ребёнка не двигалось. Нельзя сказать, что это произвело на всех особое впечатление, каждый из нас чувствовал себя хорошо, и скоро все должны были покинуть больницу. Так что смерть осталась абстрактным понятием – её никто из нас на себя не «примерял». Детство, молодость и юность всерьёз не воспринимают смерть – этот непременный и вечный атрибут жизни.
Я вернулся «домой», то есть в цирк шапито, который, как и раньше, не работал, но артисты в нём по-прежнему жили и выступали в «Балагане» на рыночной площади. На крыльце «Балагана» – «на раусе» – клоун Баев по-прежнему зазывал зрителей в цирк, обрушивая сокрушительные удары своей толстой, расщеплённой на конце бамбуковой палки на головы любопытных мальчишек. Такие удары производили громкий треск, но никакого вреда головам мальчишек не приносили, а только веселили окружающих.
Мы продолжали жить в одной комнате с матерью и дочерью Кагановскими. Как и весь наш цирк, они были харьковчанами. Мария Исааковна Кагановская и её шестнадцатилетняя дочь Майя прожили там, как мы потом узнали, до самого освобождения Харькова. Муж Марии Исааковны был сапёром и провёл войну на передовой. Он был, кажется, уникальным счастливцем – за всю войну от первого до последнего дня уже в самой Германии – не получил ни одного ранения! Такое случалось только в рассказах членов Союза советских писателей. Но тут истинная правда, хотя, если не изменяет память, всё-таки он ненамного пережил войну. Говорят, что сапёры ошибаются раз в жизни. И он не ошибся – просто вскоре после войны умер от инфаркта.
Вечерами, чаще всего при «коптилке» (стекло лампы, полученной у князя Мышецкого, давно разбилось), мама учила меня писать на разлинованной газетной бумаге «палочки», нолики, цифры, буквы, которые я уже отлично знал, но складывать буквы в слова у меня не получалось никак. Только самые простые элементарные слова из двух слогов я был в состоянии прочитать, да и то скорее всего потому, что просто узнавал их. Но начать читать по-настоящему я никак не мог. У меня был какой-то барьер, и казалось, что я никогда не сумею его преодолеть.
Всё лето 1942 года мы с мамой ожидали приезда отца, который должен был взять нас в Москву. Дело это было непростое – детей всё ещё вывозили из Москвы, а въехать туда с ребёнком было задачей исключительной трудности. То есть требовался специальный пропуск как для мамы, так и для меня – для въезда в Москву, которая всё ещё находилась «на военном положении».
Мы продолжали жить в артистических гримёрных цирка шапито, и я наблюдал жизнь цирковых артистов, репетировавших на пустом манеже каждый день, несмотря на нечеловеческую жару на солнце, когда температура достигала пятидесяти и более градусов (в тени же было не более 270).
Вечерами, когда становилось прохладно, собиралась вся цирковая «семья». Это было довольно пёстрое общество. Главным администратором официально считался Семён Ильич Добрыкин, исполнявший эти обязанности в харьковском цирке. Он был душой таких вечерних посиделок. Его цирковые истории были всегда смешными, а помнил он их бесчисленное множество. Одна из них особенно запомнилась. Когда-то в 20-е годы одну молодую лошадь списали из цирка в городской коммунхоз за исключительную недисциплинированность и нежелание учиться и подчиняться дисциплине на манеже. Как-то, шагая по улице уже «на новой работе», лошадь услышала звуки духового военного оркестра и неожиданно начала делать то, чего от неё не могли добиться в цирке – остановилась и начала танцевать! Танцевала она, конечно, насколько ей позволяли оглобли и сбруя, но вся улица зачарованно следила за её танцевальными па. Добрыкин говорил, что когда эту историю рассказали директору цирка, то он кратко выругался по адресу лошади.
Сына Добрыкина Илюшу я встретил неожиданно спустя 22 года во время своих первых гастролей в Херсоне, где он был в ту пору директором местной Филармонии. Перед самым нашим отъездом в Москву в 1942 году его мобилизовали в армию вместе со «стариком» с большой окладистой бородой – плотником Орловым и клоуном Баевым, выступавшим на «раусе» перед «театром». Орлову оказалось 27 лет! Он прикидывался стариком, но паспорт точно указывал его возраст. Баев не был женат, и только артисты цирка жалели, что его нет – как-никак он выполнял важную работу по зазыванию публики в наш «театр».
Родители Илюши Добрыкина сходили с ума – как-никак единственный сын! Вскоре они получили от него письмо. А приехавший во Фрунзе отпускник рассказал Добрыкиным, что он попал в зенитную батарею на советско-афганской границе. Там Илюша и прослужил всю войну в полной безопасности. Пути Господни неисповедимы!
Созревали в цирковой семье и свои драмы. Помощником Добрыкина был Эренгросс— польский еврей, примерно пятидесяти лет, перебравшийся на советскую сторону после раздела Польши и, главное, сумевший заниматься получастной антрепризой – он постоянно организовывал какие-то концерты – то в Городском парке, то на окраинах, то в воинских частях. Его молодая, 27-летняя красавица жена Муся была беременна и вскоре уже не могла выступать на сцене. Она и её ещё более молодая 18-летняя заместительница Виолетта были «ассистентками» в номере фокусника, или, как теперь говорят, «иллюзиониста» Яши Руденко, тоже, конечно харьковчанина. Я часто болтался днём за кулисами «театра» и видел все секреты его фокусов. Главным номером его выступления было «поднимание в воздух женщины с помощью гипноза». Проделав несложные пассы для «усыпления» ассистентки, выходившей на сцену в шикарном чёрном вечернем платье, Руденко помогал ей лечь на кушетку, укрывал её полупрозрачной накидкой, после чего стоял за ней сзади в то время, когда женщина действительно отделялась от кушетки и медленно поднималась в воздух. После этого Яша (как и все фокусники мира, показывавшие этот несложный номер) описывал специальным эллипсовидным обручем вокруг всего тела парящей в вечернем платье спящей красавицы круги, обводил им со всех сторон, ясно доказав публике, что она ничем не привязана и действительно находится в воздухе с помощью непонятной силы. Номер всегда производил громадное впечатление.
У Руденко была жена и маленький сын Сеня, мальчик лет четырёх. Как-то раз, когда Руденко окончил свой номер, а за ним последовал номер жонглёров Захаровых, я увидел Яшу и Мусю, жену Эренгросса, страстно целующимися, и оттого потерявшими бдительность. Оторвавшись от Муси, Руденко меня заметил и многозначительно на меня посмотрел. Как ни странно, но я умел хранить такие секреты и не рассказал об этом никому, даже своей маме. Я бы так и не знал, чем кончилась эта история, если бы мой отец в ноябре 1944 года не поехал в гастрольную поездку на целый месяц с группой артистов московского Театра оперетты в только освобождённые города Северного Кавказа – Кисловодск, Ессентуки, Пятигорск и другие. Переезжая из города в город, на каком-то полустанке он увидел радостно приветствовавших его наших фрунзенских циркачей – тут были Яша Руденко с Мусей и ещё несколько человек, также посланные для концертов в освобождённые от оккупации районы. Они ему рассказали, что Эренгросс, проворовавшись, удрал в неизвестном направлении, остальные уже вернулись в Харьков или на пути к нему. О своей семье Руденко не сказал ничего – всё и так было ясно…
Я познакомился с дрессировщиками медведей Филатовыми – старый Филатов занимался с медведями почти ежедневно, а молодой – его сын Валя – работал под наблюдением отца, то есть проводил репетиции так, как это должно было происходить на настоящем цирковом представлении. Валя, (пусть меня простят за такую фамильярность, но тогда никто его иначе не называл) несмотря на очень молодой возраст – ему было не более 22 лет, – уже был женат, но казался совсем ещё юношей.
Когда я увидел Валентина Филатова на манеже Московского цирка в середине 50-х годов, я его не узнал – это был солидный шатен, а не юный блондин! Время изменило его внешность и манеру сценического поведения – теперь он сам был «боссом», хозяином своего аттракциона и стал всемирной знаменитостью.
Как-то раз, летом того же 1942 года во время репетиции медведица убежала с манежа, и я, сидя рядом с женой Вали, стал страшно волноваться. С нами сидела ещё одна девочка, дочь цирковых артистов. Моя мама пошла звать меня на ужин и в проходе на манеж встретила бегущую к ней навстречу огромную медведицу! Можно было понять её состояние. Она замерла от страха и за себя и за меня, но медведица не обратила на неё никакого внимания, и, описав за кулисами круг, вернулась на манеж. Её никто и не собирался искать! Кстати эта же медведица ещё в марте, сидя в клетке, стащила с моей ноги валенок с калошей, воспользовавшись тем, что я подошёл слишком близко и думая, вероятно, что это что-то съедобное. Со мной рядом была тринадцатилетняя девочка, она оказалась достаточно сильной и стала тащить меня назад от клетки, хотя потом призналась, что при этом тряслась от страха! Словом – это была та самая медведица. А скоро у неё родились два прелестных медвежонка. Их так хотелось погладить, но меня все предостерегли, в том числе и сам Филатов-папа: ни в коем случае близко к ним подходить нельзя, их когти вполне могут снять с человека скальп! Так ежедневно я видел трудную и часто опасную жизнь артистов цирка, их тяжёлый, многочасовой ежедневный труд, результатом которого было выступление на манеже, длящееся порой всего несколько минут. Циркачи были так же преданы своему ремеслу, как и музыканты-виртуозы, артисты балета или певцы. Вся их жизнь была подчинена дисциплине ежедневного труда.
Несмотря на то, что Фрунзе был довольно живописным городом (почти из любой его точки были видны вдалеке потрясающей высоты, покрытые снежной шапкой горы), но осень 1942 года была довольно тоскливой. Становилось холодно, а никакого отопления в цирковых комнатах, как уже говорилось, не было. Пошли дожди. Сводки с фронтов становились всё более тревожными. После некоторой эйфории подмосковной победы снова нависла опасность нового немецкого наступления – оно началось теперь уже на юге – Кавказ, Волга, Сталинград… Впрочем, Сталинград в сводках ещё не упоминался, но все понимали цель нового немецкого прорыва – отрезать центр России от каспийской нефти с выходом к Сталинграду и потенциально осуществить новое, более глубокое, и ещё более опасное окружение всего центра России с юга.
В такой ситуации наше с мамой возвращение в Москву становилось ещё более проблематичным, а возможность получения пропусков всё менее вероятной. Что было делать, мой отец представлял себе плохо.
Как-то в сентябре 1942 года отец в перерыве между двумя звукозаписями, после обеда, выдаваемого в ресторане «Арагви» по специальным талонам для работавших в Москве гражданских специалистов, шёл по улице Горького, размышляя о том, с какого конца начинать почти бесполезные хлопоты о разрешении на реэвакуацию мамы и меня. Он встретил своего старого приятеля Израиля Марковича Ямпольского (племянника знаменитого профессора А. И. Ямпольского), который шёл в компании какого-то молодого симпатичного человека. Ямпольский представил своего знакомого, который оказался директором фабрики, производившей важные детали для парашютов. Разумеется, это была «военная тайна» и никто об этом не должен был знать. Новый знакомый отца оказался человеком необычайно жизнерадостным, он был готов дать совет и помочь в самых, казалось бы, безвыходных ситуациях.
Михаил Павлович Яблонский оказался добрым ангелом для нас с мамой. Он нашёл блестящий выход из положения. Благодаря тому, что он знал всех, от кого зависело решение подобных вопросов на уровне района (что было вполне достаточным в этой ситуации), Яблонский сумел добыть для мамы и меня два пропуска в Москву с подписями и печатями. Пропуска были выписаны как вызов на работу в систему «Трудовых резервов» для моей мамы, а для меня также отдельный пропуск, как для «сопровождающего её сына». Помню эти драгоценные длинные и узкие белые пропуска, которые мы увидели в руках отца, когда он приехал за нами во Фрунзе. Для меня не было лучшего подарка, чем возвращение в любимую квартиру в Москве на Большой Калужской. После прошедших 16 месяцев со времени нашей эвакуации в Свердловск в июле 1941, то есть немногим меньше полутора лет, казалось, что мы не были в Москве целую вечность!
Глава 6
Домой, в Москву!
Сборы в дорогу были скорыми, так как собирать было почти что нечего, и мы погрузились в поезд 8 ноября 1942 года. Прибыли мы в Москву довольно быстро – 20 ноября. У нас была лишь одна пересадка на станции Аму-Дарья. Поезд пришёл туда под вечер часов в 6, а наш поезд (теперь уже прямо на Москву!) должен был отойти в 2 часа 30 минут ночи. Мы много раз выходили на перрон из зала ожидания – погулять, проветриться и подышать свежим воздухом. Когда почти стемнело, на путях появилась странная группа людей с детьми и лёгкими пожитками. Они шли по шпалам в направлении, обратном нашему пути. Кто-то у них спросил, куда они идут. Ответ их сегодня звучит в характере пьес Эжена Ионеско или Беккета: «На край света!» Они не выглядели ни бродягами, ни цыганами, но что это были за люди и куда они шли с детьми, так и осталось загадкой.
В ожидании поезда я заснул часов в 9 вечера на вокзальной скамейке. С большим трудом меня растолкала мама перед самой посадкой. Это оказалось единственным неудобством за всю нашу дорогу. Нам везло, правда, при помощи добрых людей, но везло! Какие толпы мы видели на крупных узловых станциях! Люди стояли за билетами неделями и жили в условиях вокзала с маленькими детьми и стариками. Тем более что большинство из них было без молодых мужчин, что бросалось в глаза – война была заметна особенно на вокзалах.
Нашими попутчиками в «прямом вагоне» (действительно, несколько вагонов постоянно отцеплялись, и формировался новый состав, следующий на Москву, оттого такие вагоны и назывались «прямыми») оказались: строгая дама-переводчица, как она представилась, и мужчина вполне интеллигентного вида, по его словам, служащий какого-то наркомата в Москве. Он ездил в Среднюю Азию в служебную командировку, её же вызвали в Москву на работу.
Я уже был опытным путешественником на поезде и с интересом наблюдал за происходящим через окно: на узловых станциях мы стояли иногда по часу или по два – шли военные эшелоны с людьми, танками и часто с самолётами со снятыми крыльями. Почти все эшелоны шли с открытыми платформами. Только ближе к Москве я заметил, что вооружение уже находилось под чехлами и брезентом; вероятно, армейское начальство не случайно принимало эти меры – фронт проходил в те дни на самом ближнем участке лишь в сорока с небольшим километрах от Москвы в районе Наро-Фоминска, и, наверное, были серьёзные опасения немецкого шпионажа.
Наконец, где-то в 4 часа утра, примерно в часе езды от Москвы, в вагон вошёл комендантский патруль для проверки документов. Я был очень взволнован и встал пораньше. За время последних двух дней пути я подружился с офицерами-отпускниками из соседнего купе, возвращавшимся в свои части.
Наверное, несмотря на отпуск (а возможно и переформирование – об этом спрашивать было не принято) они соскучились по детям и проявляли ко мне дружеское внимание, угощали конфетами (я из вежливости отказывался, но после недолгих уговоров брал подарок), расспрашивали о том, когда я пойду в школу, кто родители и чем я сам собираюсь заниматься. Чем я их развлекал, не помню, но помню, что они потешались от моих рассказов о танцующей лошади в Харькове и других цирковых историй, услышанных от Семёна Ильича Добрыкина.
Я сидел в купе у офицеров, когда в вагон вошёл комендантский патруль, и я сказал, что мне надо идти в своё купе, чтобы самому предъявить документы для въезда в Москву. Они стали меня в шутку уговаривать остаться с ними и вообще ехать с ними и дальше на фронт, где уже многие полки имеют своих «сыновей». Я вежливо объяснил, что никак не могу оставить родителей, хотя, конечно, быть в армии сейчас так интересно. В общем, я с ними распрощался и пожелал им всего самого лучшего в таких выражениях, что двое из них очень расчувствовались – не иначе они оба были уже отцами… Вообще в течении всей войны у детей не было более уважаемых людей, чем военные – солдаты, офицеры, лётчики – все, кто воевал в Красной Армии.
Предъявив документы, мы сидели в купе в сильнейшем волнении. Вскоре свет в вагонах был погашен, светомаскировка соблюдалась очень строго, остались лишь совсем тусклые аварийные лампочки. Наконец поезд стал идти совсем медленно и вскоре причалил к перрону Казанского вокзала. Было совершенно темно. Мы выгрузились из вагона, и перед входом в вокзал была вторая проверка документов на въезд в Москву. Войсковые офицеры и чины НКВД при помощи карманных фонарей придирчиво изучали документы и задавали вопросы. Очередь на проверку была немалая, тем более, что военные, конечно, должны были идти вне всякой очереди. Наконец дошла очередь до нас и, благополучно миновав проверочный пост, мы вошли в абсолютно тёмный вокзал. Было 5 часов утра.
Комендантский час заканчивался только в 6 часов. Но всё это не имело никакого значения. Мы в Москве!
Глава 7
Москва, 20-е ноября 1942 года
Частная инициатива упорно не умирала даже во время войны. Едва закончился комендантский час, мой отец вышел на площадь трёх вокзалов, и тут же к нему подошёл моряк, который предложил подвезти куда угодно. Плата – две пол-литровых бутылки водки. Никаких денег. Мы погрузились в ЗИС-101, который, как выяснилось по дороге, обслуживал штабного адмирала. Все знали, что Сталин ложился спать около шести, и учреждения – гражданские и военные, наркоматы – с шести утра тоже имели некоторый перерыв. Конечно, были служащие, которые начинали работу рано утром. Как помнится, Наркоминдел, многие служащие которого жили в нашем доме, начинал собирать своих сотрудников рано – в 8.15 утра их всех забирал автобус.











