Читать онлайн Всё так и было…
- Автор: Александр Дудин
- Жанр: Современная русская литература
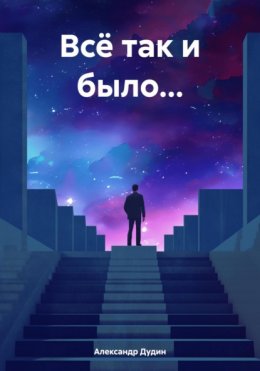
СТАРИКИ-ТИМУРОВЦЫ
– Привет, Егорыч, – окликнул соседа, сидевшего за обеденным столом возле окна, проходивший мимо, невысокого роста, заметно сутулящийся старичок. В его глазах мелькнула хитринка, и губы растянулись в лукавой улыбке, – вот ты и дожил до немощности. Огурцы и те чистишь.
– Да, Митрич, старость не радость, опять же молодость – не жисть. Да и неудачный сорт попался, шкура толстенная, вот и приходится чистить. На казённых зубах, знаешь ли, сильно не пожуёшь! Огурцов-то ныне – «кот наплакал». Собрал с дюжину, замалосолил. Да ты заходь, покалякаем, я тут картошки сварил, и пообедаем заодно.
– Пообедать не откажусь, вот только до дому сбегаю, ельчишек солёных принесу, вчерась по утряни посолил. Рыбёшка-то нынче идёт. Всего две корчажки ставлю, а почитай утром чашка рыбы да вечером чашка. Сам съедать не успеваю: уж и жарил, и ушицу варил, да и навялил… только кому есть-то её, вяленую. Глашке Судаковой давал, а теперь, вот, и её нет, умотала в город к дочке, третий день как. Полведра рыбы увезла с собой.
Махнув рукой, старик резко повернулся и, мелко семеня ногами, побежал под горку, к своему дому.
Через пятнадцать минут оба старика уже сидели за столом и с аппетитом уплетали солёных ельцов и картофель, обильно сдобренный топлёным сливочным маслом и посыпанный мелко резаным укропом.
– Глашка-то Судакова к дочке умотала, говорю. Третий день как. Ведро рыбы с собой увезла.
Юрий Егорович ехидно улыбнулся и, еле заметно кивнув головой, продолжил чистить очередную рыбину. Он знал своего соседа со школьной парты и помнил о его привычке привирать.
Иван Дмитриевич, не заметив ироничной ухмылки собеседника, продолжал свое повествование:
– Кабыздоха на меня оставила да курей семь штук. «Ты яйца-то ешь, – говорит, – только собаку корми да несушкам зерна вовремя подсыпай». Сама-то, видно, нескоро вернётся. Дочка её к врачам записала, обследоваться. Вот я и фермерствую.
– Хм! Тоже мне фермер новоявленный нашёлся! Колхоз под названием «Сорок лет без урожая», – отмахнулся от назойливого старика Юрий Егорович. – Ты, Иван Дмитриевич, тимуровец, а не фермер. Всем помогаешь, нет, что бы и мне, по-соседски, так сказать, подсобить. Крыша у дровяника протекла, латать надо. Одному-то несподручно. Залез вчера на крышу, кусок рубероида прибил рейками, а слезть не могу, нога не гнётся. Хоть рёвом реви. Покричал тебя, покричал, да где там. Еле-еле спустился.
– Так я вчера после обеда на заимке был. Копёшки подправил, «зелёнки» на макушку подкосил, чтобы дождём не промочило. Трава нынче жиденькая. Бывало, скирду на берёзовые сани стоговали, трактор по зимнику еле тащил. А нынче чего? Часть поляны, что к лесу ближе, кустарником позаросла, середина на солнце выгорела. Не трава, а так, сплошное недоразумение. Три небольших копны насобирал со всей поляны. Эх-хе-хе!
Последний год сенокошу. Своей животины нетути, кормить некого. В те годы Глафира сено покупала для козочки, а теперь и козочки той нет. Для кого сено косить?
Иван Дмитриевич отодвинул пустую тарелку и, скрестив на груди руки, откинулся на спинку стула:
– Хорошо-то как, – растягивая слова, продолжил он, потом потянулся, вздохнул глубоко и, почесав затылок, встал, – однако пора и честь знать. Пойду, вздремну маненько, покуда жара стоит. Картошку надо начинать копать. Дровишки поколоть. Дрова-то, брат ты мой, нынче кусаются. Андрюха Буздыган самосвал берёзовых чураков припёр – кубов шесть. Половины пенсии, как не бывало. Глафире ещё месяц назад самосвал дров вывалил во дворе. Я немного отбросил в сторону, чтобы проход к дому освободить. Так и лежат… колоть-то некому…
На следующее утро, покормив судаковских кур и собаку, Иван Дмитриевич направился к соседу. Постучав в окно, он сел на завалинку и стал тихо насвистывать какую-то непонятную, одному ему известную мелодию. Окно отворилось, и между занавесок высунулась голова хозяина:
– А-а-а, это ты, Митрич! И чего тебя принесло в такую рань?
– Ничего себе – рань! Кто рано встаёт, тому… сам знаешь… Ты, ведь, давеча, говаривал, что крышу надо подлатать, вот и пойдём по прохладце. Я наверх залезу, а ты мне снизу подавать будешь.
– Так заходи, хоть чаю попьём.
Иван Дмитриевич махнул рукой:
– На кой мне твой чай! Я своего чая с утра наглыкался!
Ближе к обеду работа была закончена. Вместе пообедав, старики вышли во двор и уселись под навесом, закрывающим проход между банькой и старой, скособочившейся стаюшкой.
– А, что, Егорыч, может, завтра и за картошку возьмёмся? У тебя, смотрю, всего-то сотки две, да у меня полторы, к вечеру и управимся. Вдвоём-то сподручней, да и веселее. Не то, дожди нагрянут, будем в грязи ковыряться. В прошлом годе Судачиха «прозавтракала», всё «завтра» да «завтра», вот и рылась в грязи, когда снежок начало пробрасывать. Потом сушила картошку в баньке, печку подтапливала и сушила.
– Ну, завтра, так завтра, – передразнивая соседа, ответил Юрий Егорович, – только рано не приходи, часов, так думаю, к одиннадцати, в самый раз будет, к тому времени и роса спадёт.
Три дня работали старики, не разгибая спины. Выкопали картофель, перекололи и сложили в поленницу дрова. На четвёртый, закончив к обеду все дела, уселись на кухне пить чай.
– А помнишь, Ваня, как мы курить бросали на спор? Твоя Марья ещё жива была. Руки нам разбила, типа свидетель, а сама тебе папиросы в сельпо покупала, втихаря. Хорошо моя Нюрка увидела, да и проболталась.
– Нюрка его увидела! Проболталась, – съязвил Иван Дмитриевич, – сам, небось, дымил, как паровоз. Видел я, как ты каждый час в сортир бегал. Из моего окошка, вона, глянь, – весь твой огород и нужник, как на ладони. Дымил, ажно в сортире крыша подпрыгивала.
– Да… были времена, а, всё ж, с куревом-то мы завязали, почитай, лет десять, как бросили, – ответил Юрий Егорович. – Он перевернул пустую кружку и, аккуратно поставив её в блюдце, отодвинул к центру стола. – Я вот что кумекаю: может, Глашке Судаковой завтра картошку выкопаем. У неё огородишко хоть и поболе моего, да, думаю, управимся вдвоём за день.
– Вот ты даёшь стране угля, Егорыч, мелкого, но много… Не далее, как три дня назад меня тимуровцем обзывал, а теперь и сам туда же. А помочь-то бабе всё же надо! Когда ещё приедет, да и со здоровьицем – непонятки, совсем сдала последнее время. А ещё и дровишки бы переколоть, сопреют, пока наймёт кого, а не-то зимой будет, как в поговорке: «Как в печь, так и сечь!»
На следующий день принялись за работу: день картошку копали и в сарай перетаскивали, да день дрова кололи и складывали в поленницу. Закончив с колкой, начисто вымели двор и сели отдыхать на скамейку, пристроенную к Глафириному палисаднику.
Из открытого окошка соседского дома, что расположен напротив, высунулась маленькая головка, повязанная пёстрым платочком и, пришепётывая беззубым ртом, громко проголосила:
– Здорово, робяты!
– Здравствуйте, баба Мотя, – дружно ответили старики, – как живёте-можете?
– Дык, в мои-то годы… живём, как можем, – ответила старушка и закрыла окно, задвинув занавески.
Иван Дмитриевич, придвинувшись ближе к другу и прикрываясь ладошкой, прошептал на ухо:
– Вот и мы живём, как можем или, лучше сказать: живём хорошо, а вот можем плохо!
Старики переглянулись и захохотали.
Через пару минут вышла баба Мотя и, не успев перейти дорогу, завела разговор, смешно размахивая руками:
– Гляжу я на вас, хлопцы, и дивлюсь, ведь не молоды уже, но до чего же до работы охочи! Вот Глаша обрадуется! Вы бы, робяты, и мне подсобили маненько! Я-то совсем никудышна. Там и делов, что крылечко поправить, да дверь подтесать. Не закрывается, окаянная.
– Сегодня поздно уже, баба Мотя, завтра придём с утра. Инструмент соберём и придём.
Работы в домашнем хозяйстве Бабы Моти оказалось «непочатый край». Два дня, с утра до позднего вечера, работали старики-тимуровцы на старушечьем подворье: двери подтесали, залатали прогнивший пол в сенях, вскопали грядку под озимый чеснок, вставили в оконные проёмы вторые рамы, утеплили их на зиму, покрасили ставни и прочее… прочее… прочее… Через пару дней слава о стариках пронеслась по всей деревне. Хоть и мало народу в ней осталось, в основном старики да старухи, а, всё же, достаточно, чтобы загрузить работой целую бригаду столяров, плотников и кровельщиков. Каждый день ходили старики от одного подворья к другому, выполняя всякую работу, востребованную местными жителями.
За трудами и заботами незаметно пролетела половина сентября, закончилось бабье лето, заморосили нудные осенние дожди. В один из таких дней и вернулась, пройдя медицинское обследование, Глафира Судакова. Нагруженная двумя тяжеленными сумками, она шла, еле передвигая ноги. Открыв калитку, женщина остановилась в нерешительности. Двор был чисто выметен, колотые дрова сложены в ровную поленницу.
– Здравствуй, Глашенька! Чай, дома своего не признала? – услышала она за спиной знакомый голос бабы Моти. – Это робяты наши постарались, Ваньша с Юркой. Оне и картоху твою выкопали, высушили и в погреб опустили. А мене, глянь-ка, каку красоту навели: ставенки покрасили, палисад поправили, ворота вон, теперича, ровнёхонько стоят!
– Ой, баба Мотя, дорого, наверное, возьмут. У меня денег-то мало, поиздержалась в городе. Хоть и была на больничном обеспечении, а, всё ж, по мелочи, по мелочи…
– Что ты, милая, задарма всё делают. Оне ведь целую артель сколотили. Поначалу всю работу сами исполняли, потом Игнашка Рудаков к ним прибился, Сенька – брательник твой двоюродный, тожа с ними теперича. Вот и ходят по деревне. «Мы – тимуровцы», – говорят. Разве ж бывают такие тимуровцы. В те-то годы всё пионеры ходили, а нынче и школы нету. Вот Ваньша и говорит: раньше, мол, были тимуровцы пионеры, а теперича – пенсионеры…
– А, всё-таки, баба Мотя, отблагодарить мужиков надо, – перебила старушку Глафира, – пойду тесто заводить. К вечеру пирогов напечём да и пригласим мужиков на чай. Егорыч с Митричем ведь не один год вдовствуют, кто ещё их пирогами побалует, как не мы!
– Правда твоя, Глашенька, – засуетилась баба Мотя, – побегу и я домой, у меня там для такого случая наливочка малиновая припрятана. Вот и посидим вечерком, попотчуем мужичков, стариков-тимуровцев наших. Поблагодарим. В давние-то времена взаправду деды наши говаривали, что за добро добром и платят! Кто добро творит, того народ и отблагодарит! Эх, кабы больше было таких мужиков, рукастых да сноровистых, то и наша бы, Глашенька, жизнь порадостней была!
ДЯДЯ ВАНЯ
Белила, сурик, охра, газовая сажа – казалось, краски заполонили всё пространство небольшой веранды, расположенной на северной стороне первого этажа деревянной двухэтажки. Банки, бутылки, тюбики покоились на полу, на подоконнике, как бы создавая некий «живописный фон», основой которого являлся хаос, служивший художнику эквивалентом порядка. Запах скипидара не покидал это жалкое подобие художественной студии, и не выветривался даже зимой, когда мастер оставлял на пять-шесть месяцев свой тёплый живописательный приют. Сам дядя Ваня, работал пилоста́вом на местном лесозаводе. Что касается рисования, так это было для него не просто хобби, а, скорее, смыслом жизни. Живописью он увлёкся в раннем детстве и, хоть уроки брать было не у кого, самостоятельно, по какому-то врождённому наитию, с помощью проб и ошибок, обрёл некоторое мастерство. После выхода на пенсию живопись стала для него основным делом. Каких-то классических жанров самодеятельный творец не освоил, и всё, что он создавал: натюрморты, пейзажи, – называлось коротким прозаическим именем «Примитивизм». Об увлечении дяди Вани знали многие. Его картины висели повсюду: в комнате отдыха цеха шпалопиления, в кабинете мастера и даже в пилото́чке, где работал сам маэстро.
Воскресный день начался, как обычно. Встав и заварив крепкого чая, дядя Ваня, выкурив «беломорину», принялся за создание очередного шедевра. К обеду задуманный пейзаж был уже в стадии завершения. На пленэры Иван не ходил, считая это занятие бесцельной тратой времени. Все темы художник брал исключительно из головы, порой придумывая неправдоподобные, почти фантастические сюжеты.
В окно постучали и, через мгновение, в нём появилось улыбающееся лицо. Это был Санька – племянник дяди Вани. Он частенько заглядывал к родственнику пропустить стаканчик-другой вина и поболтать об искусстве, музыке, поэзии. Вот и сегодня, просунув в открывшуюся форточку бутылку портвейна, Санька обошёл дом и постучался. Дверь отворила дядина супруга и, изобразив некоторое подобие радушной улыбки, принялась обнимать племянника, похлопывая его по спине и бокам. Не обнаружив в Санькиных карманах «топлива для души», она с удовлетворением потрепала его волосы, как бы говоря: «Пустой приперся? Ой, ли?!»
– Явился, таки, племянничек! – вслух, с присущей ей ехидцей выдавила она из себя. – Проходи на веранду. Дядька твой с утра малюет. Провонял всю квартиру.
– Ты-то как поживаешь, тётя Люся? – спросил Санька, наивно пытаясь влезть в доверие к своенравной тётушке.
Хозяйка дома, с безразличием махнув рукой, молча повернулась и скрылась за дверью своей комнатушки. Она ещё некоторое время бродила по своему «жизненному пространству», что-то бурча под нос, шаркая ногами и переставляя какие-то предметы.
Перешагнув порог веранды, Санька поздоровался:
– Здорово, дядька! – и, оглядев мастерскую, продолжил: – Да-а уж! Рембрандт отдыхает! Искренне, по-доброму завидую твоей плодовитости.
– Проходи, хвастать буду! Вот намалювал за неделю!
Дядя Ваня перешёл в комнату и стал расставлять вдоль стены холсты. Краски на некоторых картинах ещё не высохли и приторно пахли, издавая неповторимое, выворачивающее внутренности, амбре. На переднем плане красовалось ещё сырое, только вышедшее из-под кисти мастера, произведение.
Посреди полотна белело большое пятно заснеженного междулесья, обрамлённое с двух сторон густым ельником. В центре поляны паслось стадо. На всё это благолепие сверху давило серое, со стальными проплешинами, небо.
– А почему у тебя коровы зимой пасутся, да ещё и посреди тайги, – спросил Санька, потягивая портвейн из гранёного стакана, – сарайчики бы нарисовал для правдоподобности, домики, из труб дымок в небо поднимается…
– Сам ты корова, – с нарочитым возмущением ответил художник, – это сохатые.
– Вот те на! Насколько я знаю, лоси стадами не ходят. Большей частью семьями, по три-четыре штуки вместе, обыкновенно самка или две и двое молодых – двухгодовалый и годовалый. А у тебя в стаде животных – два десятка с гаком.
Дядя Ваня с деланным безразличием вылил остатки портвейна в свой стакан, закурил папиросу и, подбоченясь, изрёк:
– Хвилософии в твоих рассуждениях нема! – он всегда произносил слово «философия» с каким-то непонятным прононсом, может, потому, что был уроженцем малороссийской деревни, и бессознательно смешивал в разговоре украинские и сибирские диалекты.
Задрав подбородок и, как бы глядя свысока, продолжил свои нотации:
– Живопись, чтоб ты знал, это передача зрительных образов с помощью красок, нанесённых на поверхность. Ещё раз повторяю: «зрительных образов». Вот у меня с утра возник образ стада сохатых, а после обеда, может быть, возникнет другой – стая голодных орлов.
– Ну, ты и загнул! Как писал один поэт: «В стаи собираются вороны, а орлы живут по одному». Вот, кстати, я когда-то тоже написал в одном стихе – «в чистом полюшке, под рябинушкой». Хорошо, что нигде не опубликовал. Дедушка подсказал, что рябина в чистом поле расти не будет.
Дядя Ваня почесал затылок и с видом застенчивого незнайки чуть слышно проговорил, тщательно обдумывая каждое слово:
– По правде говоря, я… не очень хорошо рисую животных и людей, точнее сказать – совсем не рисую. Не умею. Дали мне недавно книгу «Анатомия для художников», но она на немецком языке. Моя Люська – родом из семьи поволжских немцев. Переведи, говорю. Полистала она, полистала – ни бельмеса не поняла.
– Так я тебе давно толкую: пиши то, что умеешь. У тебя пейзажи очень даже хороши. Тебе самому многие об этом говорили и не раз.
Дядя Ваня стал прохаживаться по комнате, всякий раз останавливаясь и разглядывая сегодняшнее творение, потом остановился и развернул холст изображением к стене:
– Чтоб глаза не мозолила, – произнёс он и, сев в кресло, продолжил, – однако, я центр поменяю. Лыжню нарисую, вроде как охотники прошли. А вдали крыши деревенские и дымок из трубы. Это ты здорово подсказал, на счёт домиков.
После того дня Дядя Ваня и Саня не виделись более двух месяцев. Встретились они на выставке, устроенной руководством местного художественного объединения. Поздравив дядю, племянник пошёл знакомиться с экспозицией. Почти в самом конце зала он увидел картины Ивана. Санька сразу узнал их. Эти творения нельзя было сравнить с другими. Они имели свою, мало кому понятную изюминку. Казалось, неказистость изображения, присущая художнику, наивная, детская непосредственность, привлекали к его полотнам своих почитателей.
Сгорбленная, худая старушка, укутанная в видавшую виды пуховую шаль, стояла возле зимнего пейзажа, вглядываясь в него затуманенными, полуслепыми глазами. Подойдя ближе, Саня сразу узнал в нём ту неоднозначную картину, но уже без лосей-коров.
– Вам нравится? – спросил Санька у старушки.
Та, молча закивала головой, потом, постояв некоторое время, словно обдумывая ответ, повернулась и тихо прошептала:
– Я прошла всю выставку, но вот эта картина мне понравилась более других. Она как-то по особенному греет душу. Она, как фотография, запечатлевшая всего один кадр из моего довоенного, деревенского детства.
Саня, тихо-тихо, почти на цыпочках, отошёл к следующим экспонатам. А старушка долго ещё стояла возле дядиного пейзажа, словно вспоминая всё, что так дорого было её сердцу, всё, что осталось там, в прошлом, далеко за прожитыми годами.
ВАЛЬКИНА СУДЬБА
– Валька! Валь!.. Беги скорей, там Женька приехал!
Соседский мальчишка, в безразмерных башмаках на босу ногу и латанном овчинном полушубке, взгромоздившись на забор, истошно кричал, махая ручонками. Окно распахнулось настежь и в него высунулось недовольное Валькино лицо. Лениво потянувшись, она заспанным голосом прохрипела:
– Ну, чего тебе? Чего разорался? Видишь, люди ещё спят …
– Там Женька приехал! У Михеихи дома сидит, смурной такой, молчит всё,– нарочито обиженным голосом прогундосил малец и лукаво заулыбался.
У Вальки сон как рукой сняло. Наспех набросив засаленную телогрейку, она выбежала на пустую улицу и, смешно, по-птичьи всплеснув руками-крыльями, вприпрыжку помчалась к Женькиному дому. Село ещё спало. Где-то далеко, в конце улицы, прокричал петух. Редкими стали петушиные заутренние песнопения. Война всех подобрала: не только мужиков, но и живность всякую, и только в колхозе осталось ещё несколько чахлых коров, да пара-тройка отощалых лошадёнок. Пришла ранняя весна. Деревенскую улицу разъездили так, что пройти по ней можно было, только прижавшись к соседским заборам, где пучками торчала прелая прошлогодняя трава. Но Вальку не смущало это временное неудобство. Она бежала по середине улицы, перепрыгивая через лужи, временами поскальзываясь и проваливаясь в разъезженную полуторками дорожную колею.
Евгений стоял, прислонившись к заплоту, пытаясь трясущимися руками скрутить цигарку. Шинель, небрежно наброшенная на плечи, придавала ему вид бывалого фронтовика, хоть и был он призван и отправлен на фронт чуть более года назад.
Валька, на ходу распахнув калитку, прыгнула, крепко обхватив Женькину шею и, осыпая поцелуями его раскрасневшиеся щёки, по-бабьи запричитала:
– Дождалась! Вернулся, миленький мой! Соколик мой ненаглядный!
Евгений, не ожидавший такого напора, крепко ухватился пальцами за изгородь и начал медленно сползать на землю. Валентина подхватила его под руки, все крепче прижимая к себе, но, увидев прислонённые к заплоту костыли, отпрянула назад. Женька резко выпрямился и, неуклюже опираясь на единственную ногу, отвёл глаза в сторону.
– Что, не ждала такого-то? Вот, сама вишь… Отвоевался…
Брякнув засовом, заскрипела дверь, и на улицу вывалилась Михеиха – Женькина тётка.
– Ну что, милаи, налюбовались ли, как? В избу пожалуйте, замёрзли, чай, не лето ведь во дворе…
Михеиха была родной сестрой Жениной матери. Детей своих она не имела хоть и сходилась не раз с одинокими мужиками. Но, видать, по причине женской несостоятельности, мужики бросали её, не пожив и пары лет. Так и маялась бы она одна всю оставшуюся жизнь, да трагический случай неожиданно одарил её сыночком.
В один из зимних морозных дней Женькины родители решили съездить к родственникам в соседнюю деревню. Путь не дальний, всего-то вёрст пятнадцать. Иван Данилович, Женин отец, запряг поутру выписанную в колхозе лошадь. Оделись потеплее, сынишку в доху собачью завернули и, как бы не увещевала, не противилась Михеиха, тронулись. Час спустя запуржило, завьюжило. Такая метель поднялась, что света божьего не видно. Лошадь, сбившись с дороги, тяжело брела, разгребая ногами твёрдый, подёрнутый ледяной колючей корочкой, снег. Сани вязли в сугробе и Иван Данилович, подхватив каурую под уздцы, пытался помочь запыхавшейся животине продолжать движение. Завечерело. Лошадь, совершенно выдохшись, встала. Родители, видя, что дальше ехать нет возможности, легли в сани, прижавшись с двух сторон к мальчонке…
Нашли их через сутки. Так и застыли все в чистом поле, и только Женька, завёрнутый в собачью доху и родительские полушубки, мирно посапывал чуть подмороженным носиком. С тех пор и обрела Михеиха сыночка, да и Евгений, хоть и знал, что она материна сестра, стал называть её «мамкой». Так и жили они вместе, пока война-разлучница не выдала юноше своё ратное предписание.
Шёл третий год войны. Едва успев отпраздновать совершеннолетие, получил и Женя свою повестку. Провожали его всем селом, хоть и остались в нём бабы-солдатки да старики с малыми детками. Все Женькины сверстники уже топтали фронтовые дороги. Их незамысловатые письма изредка радовали родных, собирая для обсуждения всё село. Люди, прознав о свежей весточке с фронта, собирались у дома получателя, долго обсуждали написанное, делясь догадками о состоянии дел на театре боевых действий.
Валентина, не наплакавшись вдосталь на проводинах, ещё несколько вечеров, оставшись одна, ревела, уткнувшись в подушку. Вот и сейчас, встретив своего суженого, уголком платка украдкой вытирала невольно катившиеся слёзы.
Новоиспечённого ратника определило командование на должность ездового. Полгода тянул он вместе со своей лошадкой артиллерийские орудия по фронтовому бездорожью. Но, однажды, во время авианалёта, взорвался неподалёку фугас, сразив лошадь наповал. Только и запомнил Женька, как дёргалось в конвульсиях животное, брызгая сгустками крови из многочисленных рваных ран.
Очнулся солдат в передвижном военном госпитале. Долго лежал он, глядя в окно на зарождающийся день. Солнце медленно поднималось из-за пригорка, наполняя вагон необыкновенно прозрачным, загадочным светом. И, только взглянув на прилипшую к потному телу простыню, понял, что и его, как когда-то родного деда, не обошла стороной судьба. Дед его тоже, потеряв ногу ещё на полях Первой мировой, всю оставшуюся жизнь ковылял на самодельной деревяшке, пристёгнутой к култышке сыромятными ремнями. Почти полгода провалялся Евгений по тыловым госпиталям. В первые же дни он написал Михеихе, слёзно прося, чтобы не говорила она односельчанам, а в особенности Валентине, о его бедственном положении. Поначалу, после выписки, и возвращаться-то не хотел, да боевые друзья отговорили, убедив в необходимости вернуться в родные края. Вот и Михеиха отписала, что жить де не может, скучает и ждёт.
В доме было тепло и уютно. В печке потрескивали поленья, наполняя комнату еле уловимым берёзовым духом. Не прошло и часа, как стала собираться вся немногочисленная родня, оповещённая всё тем же соседским мальчишкой.
Тут же организовали небогатое застолье с квашеной капустой и отварным картофелем. Кто-то принёс чуть неполную четверть самогона, кто-то уже пожелтевший, но всё ещё аппетитно пахнущий чесноком, кусок сала. Поначалу ели молча. Евгений, разгорячённый выпивкой и едой, первый завёл разговор:
– А что, родственнички, не ударить ли нам по клавишам? Год в руках гармошки не держал!
Михеиха бросилась в свою спаленку, ловко вынула из старого сундука, бережно завернутую в вышитое полотенце, гармошку.
– Ну, давай, милай, нашу колхозную!
И не успел Женька растянуть меха, а мамка уже запела, притопывая в такт ногами:
Разбейся,горох,
На четыре части!
Эх, чего же не плясать
При советской власти.
И тут же поднялось всё застолье, и покатилась веселуха:
Эх, бей дробней!
Сапог не жалей!
Стало жить хорошо!
Стало жить веселей!
Валентина сидела, молча прижавшись к Женькиному плечу. Ей одной было невесело. Мысли пчёлками роились в девичьей головке: «Как быть? Что делать? Ведь плясуном был, да и на работе в передовиках, а теперь-то как?»
Жалость липкой волной то подкатывалась к сердцу, то отпускала, но, увидев Женькину весёлость, решила: «Ну и пусть, всё равно милее его никого нет!»
Она ещё крепче прижалась к его плечу и тихонько прошептала:
– Ты – мой!
– Чего мыть-то? – с усмешкой ответил Женька и, отставив гармошку, обнял, крепко прижав её голову к своей груди.
Да – это был всё тот же Женька, её Женька – балагур и весельчак, душа компании. Валька прижалась к нему ещё сильнее, слёзы счастья блеснули в её глазах. Она нежно погладила ладошкой его небритую шершавую щеку и тихо, напевно растягивая слова, прошептала:
– Ты – мой!
ТАНЯ
В первые месяцы войны эвакуировали Таню вместе с заводом в этот неуютный сибирский город. Лето прокатилось бесконечными трудовыми буднями, двенадцатичасовые смены изматывали донельзя, и, казалось, никакие перемены не смогут изменить этого течения времени. А как грянули первые морозы, стало вообще невмоготу. Летние ботиночки, надетые на тоненькие носки – не грели. А мороз всё крепчал с каждым днём, прихватывая ступни, ползя вверх, вызывая онемение всех частей тела от пят до макушки.
Токарный цех, в котором работала Таня, расположился, как говорится, «под открытым небом». Отопление в цехе отсутствовало, а кирпичные стены и шиферная крыша не могли спасти работающих от всё усиливающегося холода. Вездесущие сквозняки гуляли в пустых оконных проёмах, усиливая действие мороза, как казалось, стократ. Стоя у токарного станка, шестнадцатилетняя девчонка мечтала только об одном: скорее бы наступил обеденный перерыв, чтобы, хотя бы часок, погреться возле печки-буржуйки, установленной в пристроенной к цеху теплушке.
В тот день мороз приблизился к отметке минус сорок. Через пару часов работы Танюшка, отойдя несколько шагов от станка, упала. Стоящий неподалёку старик Варфоломеев подбежал и, подхватив девушку, понёс её в тепло. Наскоро развязав затянутые на узел шнурки, он принялся растирать Танины ноги шерстяной рукавичкой.
– Что ж ты такая непутёвая, – приговаривал дед, – разве ж можно на такой мороз, да в таких ботиночках. И куда только мастер смотрел. Тебе что же валенки не выдали?
– Не выдали, – чуть слышно выдавила из себя Таня, еле двигая посиневшими от холода губами.
– Да как так? Почему к мастеру не подошла, не потребовала, – продолжил старик своё нравоучение, – а тот тоже хорош, мимо девчонки с десяток раз за день проходит, а под станок невдомёк заглянуть. Попадись он мне на глаза…
Через час Татьяну увезли в военный эвакогоспиталь, расположенный в квартале от заводских цехов. Пришедший военврач диагностировал глубокое обморожение ступней ног. Через неделю началась гангрена.
Егор Кузьмич Варфоломеев каждый день навещал больную, принося нехитрые гостинцы: кулёк кедровых орехов, баночку клюквенного варенья или мёда:
– Ешь, дочка, поправляйся, – говаривал он по-отцовски ласково, – моя-то донюшка немногим тебя постарше будет, всего-то годка на два. Ускоренные курсы медсестёр окончила, да и на фронт. Одна она у меня родная душа. Жена при родах померла, тяжелые роды были, вот она и не выдюжила… С того времени бобылём век и коротаю. Фельдшер говаривал, что ампутацию тебе готовят, так ты не соглашайся. Помогу я тебе, вы́хожу. Есть у меня снадобье такое, от староверов местных перенял. Оне-то люди таёжные, знают всякие травы целебные, отвары да зелья готовят. Сёдни же схожу, раздобуду кой-какое увощье да мазь тебе и приготовлю. Сам буду приходить мазать.
На следующее утро Егор Кузьмич пришёл рано, часа за полтора до начала смены. Почти час уговаривал он врачей повременить с ампутацией, приводя примеры из своей собственной жизни и опыта охотников-промысловиков, живущих староверческой общиной неподалёку от домика лесника, в должности которого и пребывал старик Варфоломеев до выхода на пенсию. Его увещевания были настолько убедительны, что даже сам военврач первого ранга, начмед госпиталя, решился на дедов эксперимент, но под наблюдением лечащего врача.
Спустя несколько дней больная не только пошла на поправку, но и стала самостоятельно прохаживаться по палате, держась руками за спинки соседних кроватей. Медики недоумевали столь быстрому выздоровлению пациентки, и хирург Валентина Ивановна Симченко, осматривая ноги девушки, с удивлением заметила:
– Вот что молодость вкупе с вековым народным опытом делает. Надо перенимать, – и, повернувшись к старшему военфельдшеру, добавила, – непременно перепишите рецепт у этого старика, непременно перепишите. Это нам в будущем очень даже пригодится!
К началу января Татьяна выздоровела окончательно. Однако, памятуя о наставлениях старика Варфоломеева, держать ноги в тепле, и по настоянию Валентины Ивановны, она была направлена в госпиталь санитаркой. Тут и потянулись нелёгкие трудовые будни, перемежаясь с долгими бессонными ночами. Всё свилось в единый клубок: уборка палат и операционных, обработка и дезинфекция инструментов, стирка бинтов и солдатского белья… Три-четыре часа беспокойного сна и снова за работу, в палаты к раненым. К лету Таня уже считалась первоклассным специалистом и была отмечена руководством почётной грамотой. Она уже дважды подавала рапорт об отправке на фронт в должности санинструктора, но оба раза ей было отказано.
– Вот так, девочка моя, – говорила Тане Валентина Ивановна, – фронт сейчас не только там, где стреляют, он здесь, в этих палатах. Наипервейшая наша задача – вернуть в строй бойцов, это они должны ковать победу там, на фронте, а ты обязана изо всех сил способствовать их быстрейшему выздоровлению. Вот твоё главное боевое задание.
Вскоре привезли новую партию раненых – более ста человек и потянулись бессонные ночи. Несколько дней кряду Таня не прилегла, не присела. Многие солдатики звали её:
– Сестрёнка, миленькая, помоги! Мочи нет, как больно, – и она бегала от одного раненого к другому, не останавливаясь ни на минуту. Только к концу третьих суток Таня присела на мгновение на одну из пустующих кроватей и тут же уснула. Сон накатился упругой волной, отключая сознание, расслабляя натруженные непосильным трудом мышцы. Откуда-то издалека, доносились сквозь сон приглушённые стенания «пить… больно… не могу больше…».
Проснулась она от громкого крика. Молодой лейтенант, лежащий на соседней кровати, привстал, превозмогая боль, и кричал:
– Молчать! Всем молчать! Я приказываю!
Он понял, что девушка без сил, а все зовут, им больно: "Сестра! Сестричка!" Таня вскочила и побежала – не зная, куда и зачем. Она в беспамятстве выскочила на улицу и, очнувшись, заплакала.
Спустя несколько минут, успокоившись, девушка вернулась в палату и подошла к лейтенанту:
– Спасибо вам! Как ваше самочувствие? – она взяла его здоровую руку и нежно погладила.
На лице раненого появилась еле заметная улыбка. Он смущённо отвёл глаза и тихонько пробормотал:
– Я то чего? Сейчас уже не страшно… Теперь всё позади… Страшно было тогда, когда пошли в атаку, в рукопашную. Всё пронеслось, как одно мгновение. Помню только хруст хрящей – кости человеческие трещат, кровь фонтаном брызжет! Бойцы криком звериным кричат, штыками колют в лицо, в живот, в сердце… Головы дробят прикладами, доламывают, добивают… Теперь всё позади… В первые дни после ранения спать не мог, нет, не от боли – от увиденного.
– Ничего, всё пройдёт, выздоравливайте скорее, – промолвила Таня, ласково поглаживая руку лейтенанта.
– Я ведь учителем хотел стать, поступил в училище, год только и проучился, а тут война, будь она неладна, – тихо продолжил раненый.
– Не отчаивайтесь! У вас всё ещё впереди, ещё окончите своё училище. Главное в учительской работе – голова, всё остальное второстепенно.
Таня понимала, скорее, была уверена, что с таким ранением обратно на фронт лейтенанта не отправят. Правая рука его была перебита и висела плетью, а подвижность пальцев полностью отсутствовала.
Через месяц лейтенанта Прокопьева комиссовали. Вскоре он подал документы и был зачислен на второй курс педагогического училища. Время за делами и заботами пролетало быстро. В свободное от учёбы время Сергей Прокопьев прибегал в госпиталь и, чем мог, помогал Татьяне. Рука его понемногу восстановилась. Пальцы обрели прежнюю хватку, вот только в локте она так и не гнулась, но это обстоятельство, как казалось, не очень беспокоило молодого человека.
В тот памятный день Таня уснула под утро. Разбудили её крики раненых. Ходячие больные сгрудились у окон, за которыми раздавались крики: «Ура-а-а! Побе-е-да!». Толпы людей плыли по улице, как река. Всё, что накопилось за четыре военных года: боль, муки, надежды и разочарования, – всё слилось в единое целое, задышало, запело в одноразье, сошлось в многоголосье, которое и веселилось и плакало одновременно.
В этот же день бывший лейтенант, а теперь учитель начальных классов, Сергей Прокопьев сделал Татьяне предложение. Этот день стал для обоих двойным праздником: Днём победы над врагом и Днём объединения двух любящих сердец.
Много воды утекло с той поры, но память о войне, принесшей не только муки и страдания, но и всепобеждающую любовь, надолго останется в сердцах и душах детей и внуков Прокопьевых, потомков того раненого лейтенанта и молоденькой девчушки, санитарки тылового эвакогоспиталя.
ВЕРКИНА КРЕПОСТЬ
В дверь застучали так, что стены затряслись.
– Открывай, стерва, а не то всю хату раскатаю по брёвнышку, – раздалось из-за двери.
– Сейчас, сейчас! Не тарабань, ты, так… Сейчас отворю, – протараторила Верка, второпях натягивая стёганый халат. Растерявшись спросонья, она попыталась впихнуть руку в рукав, но в полутьме это ей не удалось. Бросив халат на пол, Верка, наспех набросив одеяло на плечи, подбежала к двери и загремела засовами, причитая:
– Сейчас, сейчас, миленькай, сейчас, погодь малость.
Дверь распахнулась, и в неё ввалился муж. Сбросив у порога грязные кирзачи, он прошёл мимо моей лежанки, и так сильно пнул меня в бок, что я чуть не взвыл от боли.
– Сволочь! Чтоб ты сдох, изувер проклятущий, – подумал я, но, не смея ответить на его хамство, молча отвернулся к стенке. Слёзы накатились на глаза, и я тихонько, чтобы не услышала Верка, заплакал.
Появился я в этом семействе полтора месяца назад. Верка, тётка доброхотная, подобрала меня на Успенской улице, выдернув из толпы разъярённых беспризорников, избивавших меня за украденный кусок копчёной колбасы. Привела домой, отогрела, отмыла, причесала. Впервые за последние два года встретился человек, приласкавший меня, накормивший настоящей, горячей картофельной похлёбкой. И всё бы хорошо, да вот муж её, Прокопий, невзлюбил меня с первого же дня. Вообще-то, будучи трезвым, он добрел. Брал меня на колени и, гладя по голове, приговаривал:
– Ну, как тебе у нас живётся, братишка. Я, ведь, очень тебя понимаю, сам в сиротстве рос. Бывали дни, когда не токмо крохи хлебушка, а и маковой росинки во рту не бывало. Подобрала меня, так же, как и тебя, бабка Авдотья, приголубила, хотя своих ртов было трое. Баба она была вдовая. Мужик на заработки поехал, да там и сгинул. Придавило его бревном на строительстве каких-то фортификаций. Хоть и по военному ведомству в рабочих числился, а пенсию по утере кормильца Авдотья не выхлопотола. Так и тянулась. То бельишко кому постирает, то избу побелит. Да и огородик садила небольшенький. Мы, пацанятами, на том огородике и пробавлялись репкой да морковкой. Так нас и выходила. В рабочие определились, зажили прибыльно, как-никак парни в полном здравии. Потом война началась. Брательники мои названные все в той войне и полегли, а за ними и мамка Авдотья опочила. Так вот я и осиротел сызнова.
Такой был мужик Прокопий. Как в народе говорится «добрый, пока спит зубами к стенке». Сильно-то меня не избивал, так – пинка, порой, наладит или «леща» отвесит по затылку. Я всё терпел. Годы уличных скитаний научили молча переживать все страдания и жизненные невзгоды.
Однако в этот раз хозяин разошёлся не на шутку. Бу́хнувшись со всего маха на скамейку, он, грохнув по столу кулаком, прорычал:
– Верка, жрать тащи! Я те щас устрою экзекуцию!
Верка испуганно залопотала, бросившись к печке:
– Сейчас, родненький! Супец-то я ещё в полдник сварила, да и в шесток поставила, чтоб не остыл. А ты вона как, прибыл затемно, – она прихватила тряпкой чугунок и вскликнула, – ой, да он совсем ещё горячий.
Взяв в руки половник, Верка сноровисто, по-хозяйски, налила полную миску супа и поставила перед мужем. Прижав к груди буханку черного хлеба, ловким движением отрезала краюху.
– Ешь, миленькай, приятного аппетита.
– Жри сама, сука, – прорычал Прокопий и, схватив жену за руку, резким движением усадил на пол перед собой. Левой рукой он смёл со стола приготовленную еду. Миска со звоном полетела в угол, разбрызгивая по сторонам Веркино варево.
– Где сёдни была, где шаталась, с кем встречалась? – продолжил Прокоп, язвительно. Верка, вжав голову в плечи, заойкала, прикрываясь свободной рукой.
– Да что ты, миленькай, дома была. Сходила, правда, с утра к бабке Пожили́хе, захворала она, почитай месяц лежит, помыть попросила. Ну, я помыла её, да и домой. Вот она и свининки чуток пожаловала, я суп из неё сварила.
– А Колька, зачем приходил? – продолжил муж допрос, всё сильнее и сильнее сжимая руку жены.
– Так он за мной и приходил. Пожилиха велела меня позвать.
– Врёшь! Врёшь, потаскуха! – закричал Прокопий и наотмашь ударил Верку по лицу. Кровь брызнула из носа. Она вырвала руку, освободившись от мертвой мужниной хватки, и упала на пол, прикрывая голову обеими руками.
Соскочив с места, Прокопий яростно стал пинать босыми ногами её скорченное тело.
Нервы мои не выдержали. Я всё терпел от Веркиного мужа: пинки, шлепки и всякого рода унижения, – но снести такое изуверство в отношении беззащитной женщины не мог. С разбегу я решительно набросился на него, схватил зубами за ногу и стал её трепать в разные стороны. Кровь забрызгала из прокушенной и́кры. Прокопий заревел благим матом, выдернул ногу и, попрыгав кузнечиком, по-мальчишечьи проворно вскарабкался на печь, по пути перевернув скамью, со стоящими на ней вёдрами с водой. Вода разлилась по всей избе. Верка обхватила меня обеими руками и, прижав к груди, запричитала:
– Родненький мой, спаситель мой, – она грозно посмотрела в сторону мужа и, крепко сжав кулак, погрозила, – вот так тебе, ирод окаянный. Тапереча не будет тебе свободы надо мной изгаляться! Тапереча и у меня есть своя крепость, свой защитник.
– Да, ладно тебе, – промямлил Прокопий с болью в голосе и, постанывая, продолжил перевязывать израненную ногу белой стираной портянкой, разорванной на полоски.
Верка встала и, обмыв из рукомойника лицо, ласково меня позвала:
– Пойдём, Трезорка, я тебя покормлю. Сегодня у тебя суп с мясом, а этот супостат пусть голодом сидит. Такая ему наука будет.
С этого дня Прокопий присмирел. Он не позволял больше себе злобствовать, обходил меня стороной и Верку не трогал. Я начинал угрожающе рычать, как только он повышал голос. Почувствовав опасность, Прокопий переходил на полушёпот, продолжая разговор тихо-тихо, с благоговейным трепетом.
ДВА КОРОТКИХ, ОДИН ПРОТЯЖНЫЙ…
1. Пролог.
Утро началось с очередного «вселенского» скандала. Арина Бутько, на чём свет стоит, костерила расхожими словами свою соседку, Азу Самуиловну Фридман:
– Ну, шо ты будешь дилать, опять оця куря мне всю грядку зруйнувала, – кричала она, размахивая соседской несушкой, схватив её мёртвой хваткой за основание крыльев. – Аза, чтоб тоби, пойди до мэ́не. Глянь, шо твои куры сотворили с моим огородом. Яка птыця скаженная!
Из окна соседнего дома выглянула Аза Самуиловна – дама забальзаковского возраста. Её голову венчала копна волос, накрученных на самодельные бумажные папильотки и подвязанных снизу красным шёлковым платочком. Издалека – это экзотическое сооружение напоминало пшент – корону древнеегипетских фараонов. Женщина, равнодушно позёвывая, как бы не обращая внимания на бранящуюся соседку, втирала пухлыми пальцами тональный крем в румяные, как наливные яблочки, щеки:
– Таки шо?.. Шо ты хочешь от моей жизни? Сто́ит, нет ли, того, чтобы порядочных людей будоражить из-за какой-то грядки. Чего такого на той грядке растёт? Цимес? Таки нет – «густо сеяно, да редко всхоже»? Морковка, небось? Таки у тебя, хм… я сильно помолчу, какая морковка растёт! Будь ласкова, возьми с под моей грядки ведёрко-полтора и по-за глаза тебе хватит. Вот в прошлом годе твой кабанчик мне всю капусту покоцал – и шо? Мне хватило нервов не строить тебе безрадостную композицию?
Арина Бутько перебросила курицу через забор, подбоченилась и, выпятив вперёд свои необъятные груди, со злостью в голосе продолжила:
– Тю-у-у! Вот те на… Гляньте-ка на неё! Воистину людыны гово́рють: «Коли еврей народывся – то хохол заплакав». Совсим совесть потеряла! А чи не я тоби в минулому жовтни три мишкив качанов видала? Да на твоих-то грядках сроду такой капусты не бывало. Так вот, за порушенную грядку я з тебе запитаю, будь покийна, а зараз у мэне немае бажання з тобою розмовляти.
Арина приехала из маленького южного городка, население которого состояло из украинцев и русских. В её семье говорили на обоих языках и женщина, в порыве волнения или гнева, часто переходила с русского языка на украинскую мову и обратно, превращая свою речь во «взрывоопасную» смесь. Вот и сейчас выпалив эту словесную мешанину, она резко повернулась и уверенной походкой направилась к дому. Поднявшись на крыльцо, Арина обернулась и плюнула в сторону соседки, как бы показывая своё презрительное отношение к ней.
Аза Самуиловна равнодушно хмыкнула, бросив высокомерный взгляд вслед уходящей собеседнице, и закрыла окно.
2. Яков и Аза.
Яша Фридман окончил школу с отличием, после, без видимых усилий, поступил в строительный институт. Получив высшее образование, он был направлен прорабом на строительство Лесогорского завода железобетонных изделий, где и познакомился со своей будущей женой. Юная Аза занимала должность кассира в бухгалтерии строительного управления. Девушка она была видная. Многие молодые люди крутились подле неё, выражая знаки внимания, получая в ответ только равнодушные, надменные взгляды.
Несмотря на молодой возраст, рабочие величали прораба уважительно – Яковом Ефремовичем. Человеком он был общительным и мудрым не по годам. Его феноменальная память поражала собеседников. Протрудившись на стройке чуть более полугода, Яков Ефремович не просто познакомился со всеми людьми, работающими на строительстве завода, он запомнил каждого по имени-отчеству, удивляя тем самым не только подчинённых, но и вышестоящее начальство.
В один из морозных январских вечеров в дверь квартиры, в которой Яков снимал небольшую комнатку, постучали. Дверь отворилась, и в неё ввалился бригадир каменщиков – Богдан Бутько. Он постоял молча несколько секунд, как бы обдумывая тему для разговора и, прокашлявшись в выбившийся из-за пазухи шарф, произнёс охрипшим от мороза голосом:
– Мимо проходил, гляжу – свет горит. Дай, думаю, зайду.
– Вот и хорошо, что зашёл, я свежий чаёк заварил. Раздевайся. Присаживайся, пошвыркаем, – ответил Яков, пододвигая к столу табурет.
– Нет, нет! Извините, я на минутку, – ответил Богдан, стоя у порога и переминаясь в нерешительности с ноги на ногу. – Мы с женой намедни поговорили и решили пригласить тебя, э-э-э… то есть – вас в гости. Новый год встретить вместе. Мы особо никого не зовём, только я с женой да подружка её из бухгалтерии…
Яков встал и протянул Богдану руку:
– Спасибо! Я обязательно приду! Однако давай договоримся – обращаться на «вы» только на работе, при подчинённых. Мы, ведь, с тобой почти одногодки?
– Ну, да! Ну, да, – соглашаясь, закивал головой Богдан, – так мы тебя будем ждать послезавтра в восемь вечера. – Он крепко пожал руку Якову и вышел, осторожно притворив за собой дверь.
В назначенное время молодой человек постучал в дом семейства Бутько. Дверь открыла Аза. Не ожидая увидеть на пороге дома одного из начальников строительства, девушка смущённо опустила глаза и, чуть слышно поздоровавшись, жестом пригласила гостя войти.
Аза, действительно, не предполагала встретиться с Фридманом. Этот сюрприз для подружки организовали супруги Бутько. В одном из разговоров с Ариной, девушка поделилась своей мечтой – познакомится с новым прорабом. Ей нравилось в этом парне всё: доброжелательность, интеллигентность, скромность, рассудительность… Вот Арина и намекнула мужу, что, не пора ли, дескать, завязать более дружеские отношения с начальником, а ещё и познакомить его со своей подружкой.
В этот вечер всё пространство дома заполнила лёгкая прозрачная дымка, вкусно пахнущая жареными котлетами и еле уловимыми запахами ванили, корицы и дамских духов.
Хозяйка с супругом суетились на кухне, Аза накрывала стол в большой комнате. Она, не дожидаясь, когда её представят вошедшему гостю, с наигранной застенчивостью протянула руку и тихим голосом произнесла:
– Меня зовут Азой, а вас я знаю, таки вы Яков Ефремович Фридман, прорабом работаете на нашей стройке. Ну, проходите, Яков Ефремович! Будете мне помогать?
В дверном проёме, ведущем на кухню, показался хозяин дома. Он крепко пожал руку молодому человеку и, широко улыбаясь, со смешливыми нотками в голосе проговорил:
– А… уже познакомились? Молодец, Аза! Начальство надо знать в лицо! Ну, раз пришёл помощник, то мы быстрее управимся!
– Хорошо! Я, конечно, помогу, но при одном условии, что обращаться мы будем друг к другу по имени, – ответил гость девушке, и протянул ей большой пакет, через прозрачные бока которого виднелись две бутылки игристого вина и объёмный свёрток с продуктами.
Новогодняя ночь летела незаметно. Дождавшись боя курантов, молодые люди выбежали во двор, чтобы запустить в небо фейерверки, потом долго танцевали и пели песни под гитару, которой хозяин дома владел с достаточной уверенностью. Инициатором и вдохновителем застольных игр и конкурсов, была хозяйка дома, ведь недаром, ещё учась в институте, все подруги признали её непревзойдённым массовиком-затейником, организатором студенческих капустников и девичьих посиделок. Закончив очередную игру, Арина села к столу, подняла пустой бокал и запела:
Ой, хто пье, тому наливайте,
Хто не пье, тому не давайте,
Хто покаже в чарци дно,
Тому щастя и добро…
Приближалось утро. Аза молча вышла в коридор и через пару минут вернулась уже в пальто. Она улыбнулась лукаво и, как бы в шутку произнесла:
– Яков! Если ты думаешь, что я буду просить меня проводить, таки да. И не надо меня уговаривать, я уже давно собралась.
Яков улыбнулся. Он встал из-за стола, поклонился, прижав ладонь правой руки к груди и, с некоторым сожалением в голосе, произнёс:
– Простите, великодушно, если что не так! Спасибо вам, друзья, за такую замечательную компанию, за гостеприимство, но, как говорится «в гостях хорошо, а дома лучше», пора и честь знать.
На улице стоял лёгкий морозец. Из темноты поднебесья падали, кружась, невесомые, пушистые снежинки и мгновенно таяли на разгорячённых щеках молодых людей. Они шли по улице, взявшись за руки и, молчали, по-юношески смущённо поглядывая друг на друга.
После совместно проведённой новогодней ночи Яков и Аза уже не расставались надолго. В начале лета Яков Ефремович завёз строительные материалы на пустырь возле дома семейства Бутько, который приметил ещё зимой и всё свободное время посвятил строительству собственного жилья. Минул ещё один год. Яков и Аза сыграли свадьбу и поселились в новом доме.
3. Богдан и Арина.
Арина приехала на работу в Лесогорск после обучения на кафедре бухгалтерского учёта финансового института. Здесь и познакомилась с будущим мужем, работавшим каменщиком в строительной организации. Поженившись, они поначалу жили с родителями Богдана, потом несколько лет ютились в небольшой комнатушке семейного общежития, но после рождения первенца взяли кредит и купили добротный кирпичный дом, стоящий в конце тупикового переулка, на самом краю городка.
Богдан Будько был парнем работящим. Именно про таких говорят: «Кто любит трудиться, тому без дела не сидится».
Дом, в котором поселились супруги, ранее принадлежал дальнему родственнику Богдана, ответственному работнику горсовета, переведённому на работу в «верха». Пару-тройку лет строение стояло без пригляда: огород зарос бурьяном, изгородь покосилась, тротуар, мощённый клинкерной плиткой, зарос ряской и ползучим пыреем.
Всё свободное время чета Бутько трудилась над благоустройством своего жилища. За лето «облагородили» дом, пристроив к нему открытую террасу, разбили огород, привели в порядок небольшой яблоневый сад.
Прошло несколько лет. Арину повысили в должности. Заняв пост главного бухгалтера стройуправления, она всё чаще стала задерживаться на работе, переложив всю ответственность за ведение домашнего хозяйства и воспитание сына Вити на супруга.
– Хорошая у тебя работа, но уж больно ответственная и хлопотная, – выговаривал он жене, вернувшейся в очередной раз поздним вечером. – Макароны по-флотски сегодня приготовил. Прости, разносолов нет, да и, вообще, не мужское это дело – возиться у плиты.
– Ну?.. Шо тут такое случилось, милый?.. Я же не спрашиваю у тебя меню, ты ведь знаешь, что у меня диета, – отвечала Арина. – Я просто обязана работать, гро́ши просто так не делаются, а расходы увеличиваются. Вот машину купили, в том году на море ездили всей семьёй… Виктор растёт не по дням, а по часам. В прошлом сентябре к школе костюм купили, а в этом году он уже стал малым, новый надо покупать, цены то, сам знаешь, какие, да и нет ничего в магазинах, всё на рынке… Вот не даром моя бабуся говорила: «Пока вырастут детки с пшеничный сноп, свалят батьку с мамкой с ног».
Арина, став главбухом, продвинула и свою подругу на более высокую должность. Однако обязанности бухгалтера значительно отличались от работы кассира и вскоре медлительность, и неумение сосредоточится на одной выполняемой задаче, сыграли свою роль. Аза Фридман, поначалу, активно взялась за дело, однако, не успевая сводить счета в бухгалтерском учёте, она была вынуждена брать работу домой. Вскоре Арина поняла, что подруга не справляется с должностными обязанностями, и перевела её на прежнее место работы – кассиром.
– Шалава эта Аринка, а ещё подругой числилась! Как тебе это нравится, – жаловалась мужу Аза Самуиловна. – И не говори мне за неё в хорошем смысле. Я таки давно за ней следила и чего? На работе она хозяйка, а дома хто? Вот, скажи, ты домой идешь – дома убрано и помыто, ужин на столе. Ой-вей, и не дай Бог, что-то будет не так. А у ней Богдан – он и баба, и мужик!
Яков подошел к жене и, обняв за плечи, ответил:
– Ты настоящая хозяйка, но на работе всякое бывает, иной раз и поругаешься с кем, поспоришь. Надо учиться находить с людьми общий язык, где-то поблагодарить, где-то пожурить…
– Яша, не делай мне этих нервных намёков! Таки, зачем о ней говорить? Я давно знаю, что она так себя любит, шо может радовать без всякого повода! Я уже сама разберусь в своих отношениях с подружками!
И Аза разобралась… На следующий день она подала заявление об увольнении по собственному желанию.
С той поры и был вбит клин в отношения двух, некогда близких подруг.
Так год за годом и протекала жизнь в их семействах, так жили бы и жили, но настали другие времена. Страна медленно катилась по наклонной плоскости, потом, чуть ли не в одночасье, всё рухнуло. Строительное управление, в котором работали Фридманы и Бутько, обанкротилось, «пустив по́ миру» десятки работников. Не найдя достойного занятия в своём городе, Богдан с Яковом устроились монтажниками на работу вахтовым методом в небольшую строительную компанию, обслуживающую нефтегазовые месторождения. Арина и Аза остались дома. Бывшие подруги прекратили всякое общение. Копаясь в своих огородах, они иногда молча переглядывались через невысокий забор, разделяющий владения двух, некогда дружных семейств. Изредка их взгляды встречались и тогда обе отворачивались с гордым, независимым видом, будто пытаясь доказать друг другу своё превосходство.
Изредка Арине приносили на обработку бухгалтерские документы местные предприниматели, и она допоздна засиживалась за работой, коротая одиночество. Сын, после окончания школы поступил в техникум, но со второго курса был призван в армию и, после завершения срочной службы, подал документы в школу прапорщиков. Так и остался тянуть тяжёлую лямку армейской службы вдали от родных и близких, редко напоминая о себе короткими письмами и телефонными «у меня всё хорошо».
Яков с Азой детьми не обзавелись. Так и жили по соседству две одинокие женщины, бывшие, когда-то, близкими подругами.
4. Эпилог.
В дверь постучали. Арина встала и подошла к окну. Сквозь замёрзшее стекло она увидела еле заметные, расплывчатые силуэты. Арина накинула на плечи халат и вышла в сени:
– Кто там, – тихо спросила она.
За дверью раздался голос сына:
– Это мы, мама!
– Ой, Боженька мий! Як же так, – запричитала Арина, пытаясь открыть неподатливый замок дрожащими руками.
Переступив порог, сын обхватил своими сильными руками плечи матери, целуя и прижимаясь к её лицу, раскрасневшимися от мороза, щеками. Потом повернулся и громко проговорил:
– А это моя жена – Машенька!
– Як же так, сынку? Хоть бы телеграмму прислал или позвонил.
– Я звонил папе, он ведь с вахты послезавтра приезжает, так мы и подгадали к его приезду.
– Ну, проходьте в хату, – проговорила Арина, от волнения снова перейдя на смесь русских и украинских слов.
Пополудни этого же дня, чуть раньше намеченного срока, вернулись с вахты Богдан и Яков.
Арина с невесткой, по причине воссоединения семейства Бутько, принялись накрывать праздничный стол.
Богдан подошёл к сыну и тихо, чтобы не услышала жена, прошептал на ухо:
– Сынок, сбегай к Фридманам, пусть через часок приходят, посидим вместе, как раньше.
Через час сели к столу. Увидав в окне идущих соседей, Виктор бросился открывать дверь. Он помог Азе Самуиловне снять шубку и пригласил пришедших к столу:
– Ну, вот теперь мы и в сборе, как в лучшие старые времена, – торжественно произнёс он, наполняя бокалы, – давайте выпьем за встречу. «Бокал я поднимаю снова за нашу крепкую семью. Семья – опора для любого в любом краю».
– Эх, хорошо сказал, сынок, – поддержал тостующего Яков Ефремович, – столько лет минуло с первой нашей встречи. А вы помните, друзья, ту новогоднюю ночь, когда мы подружились. Столько времени прошло, а я, как и прежде, чувствую себя таким же молодым специалистом, заброшенным судьбой «к чёрту на кулички» и встретившим здесь своё счастье.
Все присутствующие заулыбались и весело захлопали в ладоши.
– А сейчас всех вас ждёт сюрприз, – сказала хозяйка дома и, наклонившись к Азе Самуиловне, сидящей рядом, продолжила полушёпотом, – пойдём, поможешь мне.
Женщины пришли на кухню. Арина молча обняла Азу за плечи, крепко прижав к себе и тихо, нежным голосом проговорила:
– Прости меня, подруга! Мне так тебя не хватает! Давай забудемо уси наши колишни сварки, и будемо жити дружно, як раньше.
Аза молча прижалась к подруге. В её глазах блеснули слезинки и медленно, скатились по раскрасневшимся от волнения щекам.
– А вот и мы, – одновременно воскликнули женщины, выйдя из кухни.
Они держали в руках поднос, на котором возвышался огромный рыбный пирог. Всё пространство комнаты мгновенно наполнилось запахом этого любимого семейного блюда.
Виктор соскочил со стула и по военному скомандовал:
– Все вместе – два коротких, один протяжный, – «Ура!»
– Ура! Ура! Ура-а-а! – пронеслось громкое многоголосье, залетая во все углы этого хлебосольного дома, дома, тепло которого многие годы согревало людей, живущих в нём, этого светлого жилища, наполненного любовью и нерушимой дружбой, неподвластной временам.
Женщины сели за стол. Арина обняла подругу, подняла бокал и запела:
Ой, хто пье, тому наливайте,
Хто не пье, тому не давайте,
Хто покаже в чарци дно,
Тому щастя и добро.
Ну, давай, давай, давай,
Помаленько наливай.
ЖИЛ-БЫЛ ЯМЩИК
Лошади стояли вдоль дороги, понурив головы. У большинства из них по заиндевевшим на морозе щекам стекали слёзы и падали в рыхлый декабрьский снег замерзающими на лету ледяными дробинками. Лошади плакали. Глядя на них, и работники лесозаводского конного двора всхлипывали, переминаясь с ноги на ногу. В этот день хоронили человека, вся жизнь которого прошла среди лошадей. Мимо них, мимо старого конного двора и стоящих молчаливой толпой работников конюшен медленно тянулась похоронная процессия. Вслед за старушками, нёсшими немногочисленные венки, двигалась тройка, запряжённая выездными санями. Коренник, привыкший к ходкому, быстрому бегу, рвался вперёд, еле сдерживаемый твёрдой рукой здоровенного мужика, державшего его под уздцы крепкой хваткой. Три бубенца, забытые под дугой коня, весело позванивали, как бы придавая некую несуразность этому траурному шествию. Пристяжные, прижавшись боками к кореннику, еле перебирали ногами, с безразличием поглядывая по сторонам. Они вряд ли осознавали, что везут в последний путь своего хозяина, отдавшего конному делу всю свою жизнь. Ещё недавно эта тройка, украшенная лентами, со звонкими бубенцами выезжала посоревноваться в фигурной езде и, управляемая умелым наездником, выполняла замысловатые фигуры – «восьмёрки» и «вольты». А теперь ей выпала доля везти своего хозяина к последнему пристанищу. Хоронили Тихона Ивановича без особых почестей. Был он человеком простым и не выносил чинопочитаний и угодничества.
Родился Тихон первенцем в семье зажиточного крестьянина, державшего постоялый двор на сибирском тракте. С детских лет родители приучали сына к деревенской работе: косить траву, сеять и убирать зерновые, чистить конюшню. Уже в семилетнем возрасте он выполнял небольшие родительские поручения, а как минуло шестнадцать годков, стал гонять ямщину, развозя почтовые грузы и купеческие товары. С наступлением январских холодов Тихон отправлялся вместе с отцом в Приангарье скупать пушнину у тунгусских охотников, ведь именно в это время у пушных зверьков был самый густой подшёрсток. С собой везли порох, свинцовые пули с дробью, посуду, украшения, мануфактуру и, конечно же, спирт. Без «огненной воды», в большинстве случаев, с хозяином стойбища договориться было невозможно. Собираясь в дальнюю дорогу, обязательно брали шубы на медвежьем или волчьем меху, поверх которых в сильные морозы надевали доху, представляющую собой громоздкое сооружение, сшитое из телячьих шкур, мехом внутрь и наружу. Купленную пушнину везли на ярмарку в Ирбит или дальше – в Тобольск.
Январские морозы в ту пору зачастую переваливали за отметку минус пятьдесят градусов, а доехать на лошадях нужно было до первого стойбища, где брали внаём оленьи упряжки, без которых дальнейший путь по таёжному бездорожью был невозможен.
Однажды, в один из таких морозных дней, Тихон ехал во главе обоза, возвращающегося из Туруханской тайги. Не доезжая каких-нибудь три-четыре версты до ближайшей деревни, его лошадь встала и, качнувшись из стороны в сторону, свалилась на бок. Мужики, остановив своих лошадок, подбежали узнать причину задержки. Передняя лошадь лежала, подёргиваясь всем телом. Храп её обмёрз толстой коркой льда, забив ноздри и не давая возможности дышать. Тихон, сбросив рукавицы, принялся обламывать на́морозь. Лошадь жадно хватила морозный воздух, потом, дёрнувшись всем телом, тяжело и часто задышала, выпуская из освобождённых ноздрей густые клубы пара. Мужики, поднатужившись, помогли ей подняться. Тихон набросил на спину животины доху, достал фляжку со спиртом и, отхлебнув пару глотков, взял её под уздцы. Он потянул лошадь за собой и, пройдя несколько шагов, побежал. Через пару-тройку сотен метров от лошади и самого возничего повалил густой пар. Вскоре за чёрным еловым пролеском показались дымки – это была деревня.
Особенно тяжело приходилось ямщикам, возившим почту. Зимой – забористые морозы, а летом – жара и нещадные сонмища кровопиющего гнуса. Однако труднее всего приходилось возничим-одиночкам и обозам продвигаться по осеннему и весеннему бездорожью, так как расстояние между станциями, вёрст в тридцать, приходилось преодолевать семь-восемь часов.
Любили конюхи Тихона Ивановича. Ох, и знатный рассказчик был Тихон Иванович. Порой, остановившись на ночлег в каком-нибудь постоялом дворе, при большом сборище ямщиков и другого проезжего люда «заваривал» он свои байки:
– Давненько это было, годков десять тому, – начинал он свой рассказ, – зашёл я в трактир отобедать. Сел, значится, супца́ горяченького заказал – сижу, пошвыркиваю, греюсь. За соседним столом – купчишки средней руки, мясцом потчуются. Мазнул один из них горчицей кусок говяды, кусил да весь так слезами и изошёлся: «Ох, и ядрёная у тебя горчичка!» – говорит, трактирщику, – а я, знай, сижу да посмеиваюсь. «Какая ж это горчица, – говорю, – масло чухонское, а не горчица. Вот полную ложку сейчас съем и не поперхнусь». Сидят купчишки, посмеиваются: «А ну-ка… давай-ка…» – встал один из них, левой рукой ложку свою большую мне суёт, а правой – «красненькой» помахивает. Ну, взял я ложку, черпанул полную, с верхом, – и в рот. Сижу, смакую… Купчики с места соскочили, стоят и рты раззявили, да делать неча, сказал слово – делай. Кладёт купчишка десятку передо мной, руки трясутся, жалко, знать не чаял, видно, что так обойдётся. Тут-то и понеслось: скучились постояльцы вокруг меня, и давай на стол деньги бросать, кто полтину, а кто и целковый. Накидали рублей двадцать, давай, дескать, ещё. Ну, думаю: где наша не пропадала. Зачерпнул я ложку и в рот. Опосля губы рукавом вытер, сунул деньги за пазуху, суп доел и поехал. С тех пор как в тот трактир заезжаю, так хозяин завсегда с почётом ко мне: «Здравствуй, Тихон Иванович! Проходи… чего желаешь, гость разлюбезный?»
Были, конечно, и такие, которые не всем байкам верили: «Съешь, Тихон, ложку горчицы прямо сейчас, тогда и поверим!» Но Тихон Иванович хитёр был: «Клади червонец на стол – враз съем, хоть две ложки». На этом разговор и заканчивался. Хоть и любопытно было мужикам увидеть воочию такое представление, да десятирублёвки жалко, всё же сумма значительная.
Так и ямщичил Тихон, объездив все самые далёкие закутки приенисейской тайги, от гор Саянских до Таймыра, а в четырнадцатом году, в самый раз перед Первой мировой, до самого Питера с обозом пушнины добрался. Там и царя-батюшку, самодержца российского, видел.
С приходом советской власти покатилось всё «под бугор». Отец умер, двор постоялый реквизировали под сельсоветовскую контору. Самого Тихона Ивановича вместе с двумя младшими братьями сослали на север, в небольшой городок на Енисее. Здесь-то вскоре и увидело тутошнее начальство его страсть к лошадям, и назначило заведовать конным двором при местном лесозаводе. Так и прожил, так и проработал Тихон Иванович на одном месте всю оставшуюся жизнь. Не бедно жилось, но и богатством не похвастать. Коровёнку держали, пару свинюшек да десяток кур. Жена в мир иной отошла, дочери замуж выскочили да на Урал с мужьями подались. Сыновья своими семьями обзавелись. Все далёко, только работа да конный двор, да подошедшая старость вот и всё, что осталось от прежней лихой ямщицкой жизни.
Лошади стояли вдоль дороги, склонив головы, и плакали, провожая в последний путь человека. Того, который всю свою жизнь посвятил им. Может, и скажет кто-то, мол, не могут животные плакать, нет в них души человеческой. Не правда! Нет души у того, кто думает так. Много слёз я видел на своём веку, и человечьих, и звериных, и скотины домашней; слёз телят и коров, которых на убой ведут, собак, избитых нерадивым хозяином… Я и сам, хоть и крепкий мужик, а плакал, и не стыжусь того. Ведь всякий, кто не потерял этого свойства – не утратил душевности, способности сопереживать ближнему. Прислушайтесь и вы к своим чувствам. Вспомните своих ближних, ушедших в мир иной и… поплачьте.
МАГАРЫЧ И ЧЕБУРАШКА
История эта случилась годков этак пятнадцать-двадцать тому назад. Жил в нашем дворе дед. Жил с давних времён, ещё с эвакуации в начале войны. Приехал он неизвестно откуда, то ли с Кубани, то ли с Донбасса. Да местные жители и не дознавались особо. Живёт человек и пусть себе живёт. Говорливый такой дедок, с хитринкой. И дня не проходило, чтобы он чего-нибудь не учудил. Имени старика никто не знал, а соседские бабуси прозвали его Магарычом. Как потребуется кому помощь по хозяйству: дровишек наколоть или там сенца подкосить – все к нему «помоги дедуля». Он руку в кулак сожмёт, большой палец кверху выпятит, мизинец оттопырит и с беззубой усмешкой прошамкает: «Магарыч!» – плата, значит, такая. Мы-то по причине юношеской неосведомлённости поначалу не понимали, что за «зверь» такой, этот «магарыч», а потом смекнули – выпить, мол, ему и закусить подавай за работу. Так он и пробавлялся – пенсию на сберкнижку положит, а за работу и выпьет, и поест.
Жил в соседнем дворе мужичок. Лет ему было под тридцать, а выглядел, как подросток. Личико маленькое, сморщенное, веснушчатое, а уши огромные, что твои лопухи. Вот за эти уши и прозвали его местные ребятишки «Чебурашкой». Родился он немощным, болезным. Мать, девка непутёвая, бросила его на попечение престарелой бабушки, да и укатила с хахалем на юга́, с той поры её и не видели. Мишка, так звали мужичка, по немощности и скудоумию своему в школе не учился. Поначалу было определили его в первый класс коррекционной школы, да потом и отчислили за полную неспособность к осмыслению учебных предметов. Так и жил он «без царя в голове», влачил свое незавидное существование. Подойдёт, бывало, к старушкам и смотрит на них с улыбкой. Те же, сердобольные, сунут ему, кто – конфетку, кто – пряник маковый. Отбежит Мишка в сторонку, сядет на корточки и запоёт. Слов не разобрать, а вот мотив ясно прослеживается: вроде как песенка из мультфильма про бременских музыкантов.
В один из летних вечеров встретились Магарыч и Мишка на скамейке подле дома. Посидели молча, но потом разговорились. О чём только не спрашивал дед паренька, тот лопочет по-своему – ни слова, ни полслова не разобрать. Ну и решил дед научить своего нового дружка правильной речи. Стихи разные читал, анекдоты рассказывал, байки всякие – повторяй, мол. А тот, знай себе, лепечет всякую околесицу. Поднадоело Магарычу, ну, думает, с политической точки зрения тебя возьму:
– Вот стишок тебе немудрёный скажу. Я-то его ещё с детских лет помню, когда в пионерах числился.
Он почесал затылок, пошевелил губами, будто вспоминая чего, и с явным удовольствием, махнув рукой, проговорил по слогам:
– Камень на камень, кирпич на кирпич, умер наш Ленин Владимир Ильич.
Удовлетворённый своей находчивостью, Магарыч достал из кармана видавший виды носовой платок, смачно высморкался и произнёс, покровительствующим тоном:
– Ну как? Ещё повторить, али как? – Мишка молчал.
Старого заело. Он начал ещё и ещё повторять с детства заученную фразу, кулаком постукивая по коленке в такт ударным слогам и неумышленно картавя на французский манер.
Мишка смотрел на него, не отводя глаз, потом резко встал, покрутил пальцем у виска и одним выдохом громко прокричал:
– Амини амини писи и пись уми на ленин ладимил исись!
С последней Мишкиной фразой над скамейкой распахнулось окно, в него выглянуло заспанноё лицо бабки Варвары. Помахав кулаком, она со злостью в голосе прокричала:
–А ну геть отседова! Я покажу вам… Устроили тута ликбез… Днём молодёжь галдит да на гитаре тренькает, вечером пришибленные стихи читают… Ни сна, ни покоя ни днём ни ночью!
Выдав нравоучительную тираду, старуха скрылась за дымчатой, с голубыми рюшечками, занавеской. Она долго ещё ходила по комнате, нудно ворча, но за плотно закрытым окном уже было не разобрать её заунывных причитаний.
Долго этот случай обсуждался во дворе. Каждый пересказывал его по своему разумению, неумело подражая Мишкиному говору. С той поры и повелось: нет-нет, да и ввернёт кто-нибудь в разговоре нечто этакое, чтобы непонятней было.
Да! Быстротечно наше время! Как будто вчера это было, а годков прошло – и не счесть.
Приехав после службы в свой городок, я уже не застал ни Магарыча, ни Чебурашки. Деда лет пять, как схоронили, следом и Мишкина бабка преставилась. Самого же Мишку отправили в пансионат для психически больных. С той поры о нём никто и не слышал. Вот только бабка Варвара ещё жива и так же, как и раньше, ворчит спросонья на голосящую под окнами юность. И двор, в котором прошли мои детские годы, остался таким же, как и много лет назад. Тот же сарай с поросшей мхом крышей. Тот же покосившийся забор, в дырявые прорехи которого проныривают в огород кудахтающие куры-хохлатки. Всё так же стоят поленицы берёзовых дров, только колют их уже другие мужики за ту же, не меняющуюся с годами валюту со смешным и непонятным для современной молодёжи названием – «Магарыч».
ЛОСЬКА
В посёлок Знаменский Фёдор Петрович Шевелёв приехал по производственным делам ненадолго. Завершив намеченную на день работу к четырём часам пополудни, он вышел из леспромхозовской конторы. Тёплый весенний день клонился к закату. С крыш ленивыми звеньками капала первая мартовская капель. Шустрые воробьи с весёлым чириканьем прыгали с ветки на ветку, радуясь началу весеннего потепления. Остановился Шевелёв в «заежке», пристроенной к сельсоветовской конторе. Наскоро перекусив, он налил чаю и принялся читать газеты, уложенные в портфель вместе с бутербродами заботливой женой.
На крыльце затопали, видимо, сбивая с валенок налипший снег. Через мгновение в комнату ввалился невысокого роста человек и громким басовитым голосом прокричал:
– А ну подымайся, человече! Приехал в родной леспромхоз, и носа не кажет. Давай, собирайся, у меня поживёшь, нечего по казённым углам ютиться.
Это был Мин Миныч Заледеев, старинный приятель Фёдора Петровича. Прикомандированный, не ожидая такого напора, натужно кряхтел, пытаясь вырваться из медвежьей хватки друга.
– Да отпусти же, чёрт кудлатый! Рёбра поломаешь!
Заледеев ослабил хватку и, не снимая шубы, прошёл в комнату. Он со всего маху опустился на заправленную кровать и, чуть отдышавшись, с покровительственным тоном продолжил:
– У меня будешь жить. Я баньку ещё в обед затопил. К нашему приходу готова будет. Ох и баня у меня, один раз истопишь, а жару-у-у, хоть всем посёлком мойся. Трифон Иванович, сосед мой, больно поддавать горазд, порой до ста двадцати градусов нагоняет. Я даже термометр возле полка́ повесил. У меня уши в трубочку, а он, знай себе, хлещется веником, да приговаривает: «Эх, хорошо! Ах, хорошо!» Веников – завались, хоть до лета из парилки не вылазь.
Фёдор Петрович неторопливо оделся, и стал небрежно запихивать вещи во всё сильнее разбухающий портфель. Через полчаса друзья уже были у Заледеева. В бане мылись недолго. Привыкший к городской помывке в домашней ванне и душе, Шёвелёв еле выдержал один заход в парилку. С лихорадочной поспешностью, похлестав веником по раскрасневшемуся телу, он шустро выскочил в мыльную комнатку и, окатившись холодной водой, развалился на скамейке, тяжело дыша. Через некоторое время вышел и Мин Миныч. Поглядев на обессилевшего друга, он, хитро улыбнувшись, заметил:
– Вот такие дела, Петрович! Плохо, когда от хорошего отвыкаешь. Я вот в прошлом годе к дочке ездил, так, представляешь, не могу мыться в их городских лоханях. Чешусь, и всё тут! Вроде и мылся, и не мылся! Как вертаюсь домой, в первую очередь – в баню. Тут-то и душу отведу и тело потешу. Парюсь до поры, покуда нутро не закипит.
– Когда в баньку шли, я под навесом у тебя животинку приметил, – перебил хозяина Фёдор Петрович и, тщательно вытирая тело махровым полотенцем, продолжил, – да в темноте не рассмотрел, никак корову или бычка завёл?
– Что ты! Два года назад, как раз в апреле, мужики с лесосеки приехали и лосёнка привезли. Матку, видно, браконьеры застрелили, а детёныша только народившегося в лесу бросили. Вот они его и подобрали, и в посёлок привезли. Я его и выходил. Он, пока маленький был, бегал за мной, как собачка. По весне в доме жил, а летом я ему место под навесом обустроил. Позже местные пацанята верхом на нём ездить стали, правда, без седла. Седло он не терпит. В первый же день соседская девчушка его «Лоськой» прозвала, так и приклеилась к нему эта кличка. Как подрос, в лес я его хотел отвести. Пошёл по грибы и его за собой увёл. Ну поплутал я, поплутал, смотрю, вроде потерялся Лоська. Я домой полным ходом. Во двор захожу, а он на крыльце стоит, меня дожидается. Калитка-то заперта была, так он через заплот в огороде перепрыгнул и – вот те на. А, нехай себе живёт, раз такое дело. Да и я уже с ним сроднился, всё какая-никакая, а живая душа рядом.
Через два дня Шевелёв, закончив запланированную работу в леспромхозе, отбыл в родной город, а ещё через неделю в районной газете вышла статья о лосенке, приручённом знаменским пенсионером.
Время пролетело быстро. В начале сентября, когда у сохатых начинается гон, Лоська исчез. Поначалу он отсутствовал два дня, а после возвращения снова исчез, теперь уже надолго. Минул месяц. Небо потяжелело, выпал первый октябрьский снежок. На неширокой, узкой речушке, протекающей за огородом, появились хрупкие ледяные забереги. Листья с рябины, стоящей в палисаднике, облетели, обнажив горящие под первыми утренними лучами восхода оранжево-красные грозди.
В это утро Мин Миныч встал рано. Только солнце осветило верхушки деревьев, он был уже на ногах. Привычка, сформированная годами трудовой деятельности в леспромхозе, когда мастеру цеха лесопиления приходилось появляться на производстве первым, чтобы проверить готовность к работе узлов и агрегатов, давала о себе знать. Заварив крепкого чая, он раздвинул занавески и обомлел. Неподалёку, в конце картофельного поля, за изгородью стоял Лоська. Подросшие ветвистые рога на его голове придавали молодому сохатому грациозный, царственный вид. Увидев в оконном проёме Мин Миныча, зверь закопытил передними ногами, выбивая из-под снега чёрные комья подмёрзшей земли и, подняв голову, громко затрубил, как бы приветствуя своего хозяина и друга. Старик впопыхах надел валенки на босу ногу, набросил на плечи овчинный тулупчик и, схватив со стола зачерствевший за ночь ломоть хлеба, выскочил из дома.
– Вернулся-таки, родненький, вернулся, не забыл старика, – торопливо выпалил Заледеев, подбегая к сохатому.
Завидев в руках Мин Миныча горбушку, Лоська зафыркал, подёргивая верхней губой, и вытянул шею. Белый пшеничный хлеб был его излюбленным лакомством, которым с раннего детства потчевал зверя хозяин. Сунув краюху животному, старик обнял его, крепко прижавшись к мускулистой шее своей щекой. И тут старик Заледеев застыл от удивления, увидев стоящую поодаль, на другой стороне речушки, молодую статную лосиху.
– О-о-о, да ты не один! Нашёл-таки себе невесту. Сам нашёл. Такая, видно, брат, у нас с тобой судьба – кто-то находит, кто-то теряет.
Мин Миныч ласково похлопал Лоську по щеке и, легонько оттолкнув от себя, произнёс:
– Ну, ступай, ступай, родимый, чай, заждалась тебя твоя избранница!
Сохатый помахал головой, как бы прощаясь с другом, и пошёл, не оглядываясь назад. Он перебрёл через речку и, соединившись с лосихой, пошёл прочь, всё дальше удаляясь от дома.
Мин Миныч долго ещё стоял, провожая взглядом всё уменьшающиеся фигуры животных, пока они не превратились в две черные точки, медленно двигающиеся по белоснежной простыне долины в направлении тонкой синеющей линии тайги. В глазах старика искорками блеснули две слезинки. И никто, наверное, на всём белом свете не смог бы сказать, что это были за слёзы – слёзы сожаления о невосполнимой потере или – слёзы радости за друга, приобретшего своё семейное счастье.
БОРЬКИНА БОЛЕЗНЬ
Бабка Агафья открыла дверь и, наскоро скинув с ног калоши, прошла на кухню. Поставив на стол подойник, она, тяжело дыша, села на табурет и со слезами на глазах произнесла, потешно растягивая слова:
– Ми-и-трий! Кажись, Борис Николаевич помира-а-ат. Да хватит в газету пялиться! Слышишь, нет ли? Сдохнет ведь, может, прирезать, чтоб не мучился. Всё хоть мясо какое-никакое. Говорила ведь, выложить его надо, так нет, пущай поживёт, пока Сенькину свинью не покроет. Свинью-то ту зарезали давно и съели, а хряк наш так и ходит вонючий. Кооператоры недоделанные!
Дед Митяй отложил газету, встал с дивана и, нехотя потянувшись, вышел на кухню:
– Ну чего там опять? Всё тебе неймётся, как управляться, так со скандалом: то не так, это не этак. Утром в стайке прибирался – всё путём, всё на своих местах. Борис Николаевич твой песни пел, я его даже коровьим скребком почесал. Эх, как была ты тёмной, так тёмной и осталась. Ну не кастрировали, так и что? Всё зависит от концентрации скатола в мышечной ткани. Ведь половой гормон андростерон проявляется только при термической обработке, сырое мясо хряка даже специалист не определит. Я вот давеча в журнале прочитал, что в промышленную переработку свинины…
– А-а-а, – перебил его истошный крик бабки Агафьи, – ирод ты окаянный! Долго ещё будешь нервы мне трепать? Беги в стайку, сдохнет ведь порося!
Митяй махнул рукой, сунул босые ноги в резиновые сапоги и, ворча, ушёл, нарочито шаркая подошвами по дощатому настилу двора.
В стайке было темно. Маленькое окошко, расположенное на северной стороне постройки, было настолько засижено мухами и покрыто сенной пылью, что почти не пропускало дневного света. Старик ввернул в патрон электрическую лампочку и, приглядываясь, почти на ощупь, открыл дверку кутуха. Кабан лежал в углу, задрав ноги кверху, и жалобно стонал. Почти всё тело его покрылось красными пятнами, с каждым выдохом изо рта выступали сгустки бесцветной пены.
Народился поросёнок, как говориться, «не ко времени», в преддверии нового года. За пять минут до боя курантов супоросная свинья Манька выдала первый плод, как раз в тот момент, когда началась поздравительная речь нового правителя. В честь такой «исторической» минуты и прозвали младенца его небезызвестным именем. Полтора года кормили, обхаживали и вот тебе на…
Дед Митяй похлопал борова по щекам, потрепал за уши. Борис Николаевич продолжал лежать в той же позе, совершенно не реагируя на реанимационные действия хозяина.
– Однако сдохнет! – подумал старик и вышел из стайки.
Во дворе, рядом с поливочной бочкой, стояла бабка Агафья и разводила в литровой банке марганцовку.
– Вот дезинфекцию готовлю – отравили порося. А, может, заразился чем? Эпидемиев-то развелось страсть сколько! Телевизор посмотришь, так оторопь берёт! Сейчас отпаивать буду! Может, полегчает сердешному. Тут Оксанка Федькина в магазин побежала, да я наказала к Ивану Петровичу заскочить, пришёл чтобы.
– Ваня-то Коротков тебе на кой сдался! Он всю жизнь в анатомичке проработал, какой из него ветеринар?! Да и не видит ни хрена. Очки толщиной в два пальца, а он ещё и лупу с собой таскает, – с иронией ответил дед Митяй.
Оксанка сбегала в магазин, и через полчаса бо́льшая часть улицы уже знала, что у Митьки Савватеева отравили кабанчика.
Немного погодя пришёл Иван Петрович Коротков и, на ходу, от самой калитки, скоренько поздоровавшись, затараторил:
– Я вот «Большую ветеринарную энциклопедию» прихватил, сейчас посмотрим, что за хвороба на вашего порося напала. Я даже закладку вложил, где свинячьи болезни описаны, чтоб долго не искать.
В срочном порядке проведя осмотр больного и разложив фолиант на завалинке, присутствующие принялись постигать скотоврачебную науку. Через пару минут к ним присоединилось еще несколько соседских «знахарей». Низкорослая, веснушчатая молодуха, кумова дочка, тыкая пальцем в рисунок, твердила, перебивая пожилых оппонентов:
– Вота, гляньте-ка, пятна точно, как у Борьки. Пятна-то, как у него, – и. тыкая в книгу, прочла, запинаясь, – ве-зи-ку-ляр-ная эк-зан-тема.
– Сама ты зантема окулярная, – перебила её бабка Агафья и, отталкивая родственницу локтем, ткнула пальцем в картинку, – здеся пятна мелкие и бурые, а у нашего – розовые и большие, вот, как тут…
Споры продолжались минут двадцать. Кто-то находил сходство Борькиной болезни с трихофитией, кто-то с рожей, а кто-то вообще находил признаки стригущего лишая.
– Ёлы-палы, – неожиданно вскрикнул Иван Петрович, постучав указательным пальцем по виску, – к Зырянихе надо идти, она же до пенсии в ветеринарке работала. Эта-то точно определит, что почём.
Кумова дочка сбегала домой и, вернувшись, провозгласила:
– Позвонила, скоро прибудет!
И, действительно, не прошло и двадцати минут, как во двор вошла высокая, стройная, но уже немолодая женщина. Она, не вдаваясь в подробности, командным тоном приказала присутствующим мужикам вытащить умирающего хряка на чистый воздух. Надев резиновые перчатки, ветеринарша принялась осматривать кабана. Не прошло и двух минут, как она выдала «на гора́» свой вердикт:
– И стоило меня беспокоить. В чём проблема? В чём проблема, я вас спрашиваю? Рассолу капустного ему, да побольше, вот и всё лечение. И какой леший догадался кабана напоить до поросячьего визга? Вот и страдает животина с перепою!
Стоявшие вокруг больного хряка хозяева и соседи недоумённо пожимали плечами, не понимая, в чём тут закавыка. Поросёнка отпоили капустным рассолом с простоквашей, и к вечеру он уже бегал по двору, как ни в чём не бывало.
Прошло два дня. С утра, управившись и выгнав на поскотину корову, хозяева уселись чаёвничать.
– А знаешь, Митя, Бориса Николаевича-то, я… того… напоила. Самогонку на сушёной вишне настаивала, а как процедила, то ягод полную чашку в поросячье ведро и вывалила. Утром пошла управляться, а он ходит по кутуху и, знай себе, песни напевает. А к обеду и слёг.
– Я тогда ещё догадался, – ласково ответил дед Митяй, поглаживая жену по руке, – да говорить не стал. Соседи-то у нас – сама знаешь, разнесут по всему околотку, будет потом народ потешаться. А тапереча пусть ходят и думают, какая такая нечистая сила у Савватеевых хряка спаивает. Я им ещё загадку подброшу – скажу, что по ночам ходит кто-то по двору и свет в стайке зажигает. Поутру у коровы молоко пропадает, а для достоверности стайку на ночь буду на амбарный замок закрывать, чтоб все видели.
У бабки Агафьи нервно передёрнулись плечи. Махнув на мужа рукой, она почти шёпотом проговорила:
– Да будет тебе, старый, совсем жути на меня нагнал. А мужикам скажи, пусть думают, что на нашей улице нечисть по ночам правит. Я вот в магазине слышала от одной, что у кого-то кур с петухом напоили.
Дед Митяй почесал затылок и с философским видом произнёс:
– На зерне, знать, бражку настаивали! Ох, и знатный же самогон из пшенички!
БЕДОНОСЦЫ
Солнце медленно двигалось к обеду. В маленьком скверике, прилегающем к старой, барачного типа деревянной двухэтажке, у небольшого столика с рассохшейся поверхностью, сидели мужики. Спрятавшись от полуденного зноя в тени высоких, в два-три обхвата тополей, они тихо посапывали, затягиваясь папиросой и время от времени, с придыхом крякая, вколачивали в пошарканную столешницу доминошные костяшки.
– А я вот так, – прохрипел небритый детина, ударив по столу широкой и тяжёлой, как чугунная сковородка, ладонью.
– Полегче, ты, Андрей, свет Иванович! Не замай моё самолюбие! А я – вот этак! Рыба! Считайте очки, граждане-миряне, – спокойно, с деревенской непосредственностью прошамкал дед Никита, самодовольно приглаживая взъерошенную козлиную бородку. – Отобедать пора, – продолжил он, вставая, – не то моя благоверная опять изворчится, вот ведь дал Господь дотерпеть жену до старости лет. Вздорная баба. Э-хе-хе! Я вот…
– Да сиди ты! Она час назад с Тимохиной змеюкой на рынок умотала, – перебил его сосед. – Вчерась смородины набрали по корзине, а сёдни рванули на продажу. Ягоды-то нынче на дачах так и прёт, так и прёт! Ерофеич-то с утра не выходил – захворал, сердешный.
– Тем паче! Побегу, пока её нет. Отобедаю быстренько и назад.
Сунув подмышку посошок, Никита Сергеевич вприпрыжку побежал к себе. Дома его ждали горячие щи с квашеной капустой и шкварками. По старой привычке жена завернула кастрюлю с супом в ватное одеяло, чтобы варево не остыло к приходу мужа. На столе стояла коротконогая ваза с белым, нарезанным толстыми ломтями хлебом, накрытым чистым вафельным полотенчиком. Достав из старого валенка ополовиненную чекушку «Хлебной», дед Никита сел обедать. Вылив в стакан остатки водки, он с отвращением фыркнул и поднёс его к губам. В эту минуту в дверь громко постучали. Нервно моргая глазами и давясь, дед мгновенно проглотил содержимое стакана, на скорую руку ополоснул его под рукомойником и, запихнув пустую чекушку в валенок, открыл дверь. На пороге стоял дед Тимофей, старинный приятель Никиты Сергеевича. Непокрытая лысина его сверкала мелкими капельками испарины, мешки под глазами висели недоспелыми сливами, и дух от него исходил смердящий, наводивший на подозрительные мысли.
– А, это ты, Ерофеич! Я-то думал, моя возвернулась, – выпалил хозяин дома, прикрывая нос ладошкой. – Захворал, говорят? Вид-то у тебя неважный, в гроб краше кладут. Обедать будешь, нет ли?
– Дык… Ты… Эта-а-а… Добавь на фуфырик, – промямлил Тимофей и вынул из кармана замызганную, мятую сторублёвку.
– О, брат! Да я вижу болезнь-то твоя – не того. Где ж ты так наклюкался, али гостил у кого?
Дед Никита приставил к столу табурет и кивнул головой, приглашая друга садиться. Тимофей Ерофеич, обессилевши, опустился на стул и принялся описывать свои похождения.
– Вчерась на даче был. Моя картошки молодой захотела. Пошёл я, значит, подкопать да нагнулся неловко. Прострел в спину так саданул, что на карачках до крыльца еле дополз. Благо сосед в город собирался, вот он меня и привёз. А дома-а-а – шаром покати: ни тебе мазей каких, ни одеколону. Говорю своей: «Водки купи! Намажешь, может, полегчает?» Взяла она пол-литру, натёрла мне поясницу, а бутылку, не подумавши, под кровать поставила. Сама в сарай пошла, ягоду перебирать. Лежу я, не повернуться, так болит, так болит, ажно мочи нет! Ну, думаю, ещё натру. Еле дотянулся до бутылки, открыл, спробовал так и этак, не могу изловчиться, не дотянусь – рука не гнётся. Вот я и хлобыстнул со злости пару глотков. Полежал малость, чую легчает… Я ещё пару глотков, потом ещё и ещё – так и допил всю, без остатка. Повертелся в кровати, сел. Сижу, значит, хорошо-о-о мне. Глядь, а тут моя тащится. Я рубаху заголил, да и тру поясницу пустой бутылкой. Она-то недопёрла, что бутылка пустая: «Вижу, полегчало тебе», – говорит, а я молчу да тру. Ну, она поболталась на кухне, да и снова ушла в сарай. А меня-то зауси́ло! Тут я вспомнил, что у неё за диваном в лагушке рябиновка настаивается. Выкрутил я пробку, налил кружку… другую… Тут и пошло-поехало. Хоть и слабенькая ещё, а всё ж то́ркнуло. Потом – себя не помню. Час тому, как очухался в сарае на раскладушке. И какого лешего я туда попёрся?
– Да-а-а, братишка, недаром нас с тобой жёны бедоносцами кличут. Как чего учудим – хоть стой, хоть падай! Однако, Тимоха, денег я тебе не дам… нетути, – продолжил беседу дед Никита, – сам с утра наскрёб по карманам мелочишки, еле-еле на фуфырик хватило, да допил вот как раз перед твоим приходом. Пенсию-то свою я, почитай, годков пять, как не вижу. Моя всю подчистую выгребает. Заныкает так, что сроду не сыскать. Раньше не так заковыристо прятала. Хоть и хитрила, да я находил. Бывало затырит в вазочку и сахаром или чаем развесным сверху засыпит – находил. И в мешочке с гречкой находил. Однажды в целлофановые пакеты завернула и в банке с простоквашей утопила – я и там нашёл. А теперь никак. Недавно пенсию получили, так я всё перерыл, так и не нашёл. Никакой логики, никакой фантазии не хватает. С собой что ли она их носит?
– Вот так на тебе, – пожимая плечами, продолжил Ерофеич, – моя-то тоже, наверное, в банках да мешочках с крупой прячет, а я и не дотумкал. Хоть бы ты мне подсказал. Марья-то моя тоже хитра, в сапоги зимние прятала… под стельку. Зимняя обувка в коробку прибрана на лето, кто ж допрёт, что она там деньгу прячет. Случайно наткнулся. Я ведь…
– Так, стоп! Вот и моя, наверняка, у твоей насобачилась. Давай-ка и нашу обувь проверим. Чем чёрт не шутит…
Никита Сергеевич с другом начали вместе вытаскивать обувь из коробок. Прошло минут двадцать, но все попытки обнаружить искомое не удались. Ни в своих ботинках, ни в сапогах и туфлях жены денег не было.











