Читать онлайн Нечистая, неведомая и крестная сила. Крылатые слова
- Автор: Сергей Васильевич Максимов
- Жанр: Фольклор
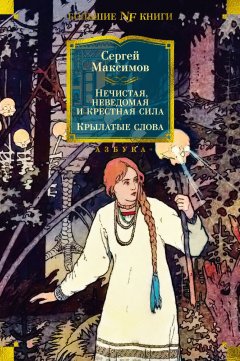
© Оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2023
Издательство Азбука®
Нечистая, неведомая и крестная сила
Нечистая сила
I. Черти-дьяволы
(Бесы)
В народном сознании глубоко укоренилось верование, что сонмы злых духов неисчислимы. Очень мало на божьем свете таких заповедных святых мест, в которые они не дерзали бы проникать; даже православные храмы не освобождены от их дерзких нашествий. Эти бесплотные существа, олицетворяющие собой самое зло, – исконные враги человеческого рода; они не только наполняют безвоздушное пространство, окружающее вселенную, не только проникают в жилища, делая многие из них необитаемыми[1], но даже вселяются в людей, преследуя их беспрестанными искушениями.
Насколько многочисленны эти незримые людские ненавистники, можно судить по богатству самых разнообразных прозвищ этой нежити, лукавой и нечистой силы. Более чем к сорока именам черта, насчитанным В. И. Далем (в его Толковом словаре великорусского языка), еще следует присоединить тот десяток духов, которым присвоены особенные имена и предназначены определенные места для пребывания, и, сверх того, перечислить те прозвища, которые вращаются в живом народном языке, но еще не подслушаны и не уловлены[2]. Повсеместное пребывание чертей и их свободное проникновение повсюду доказывается, между прочим, существованием общих верований и обычаев, усвоенных на всем пространстве великой православной Руси. Так, например, в деревенских избах почти невозможно найти таких сосудов для питьевой воды, которые не были бы покрыты если не дощатой крышкой или тряпицей, то, в крайнем случае, хоть двумя лучинками, положенными «крест на крест, чтобы черт не влез». Равным образом среди русского простонародья нелегко натолкнуться на такого рассеянного или забывчивого человека, который, зевнув, не перекрестил бы своего рта, чтобы святым знамением заградить туда вход нечистому духу. То же самое, с произнесением слов «свят, свят, свят», исполняется и во время грозы при каждом раскате грома, так как черт боится молнии и прячется за спину людей, чтобы Господь не поразил его. Эти обычаи и приемы, может быть столь же древние, как само христианство на Руси, поддерживались потом более позднейшими, но столь же почтенной старины, народными легендами[3].
Обратимся к описанию многоразличных коварств и разнообразнейших похождений этих духов дьявольской породы, не ограниченных в своей деятельности указаниями явно определенного места (как дома, леса, воды и пр.) и точно обозначенного времени.
1. Дома
Хотя чертям для их похождений и отведена, по народному представлению, вся поднебесная, тем не менее и у них имеются излюбленные места для постоянного или особенно частого пребывания. Охотнее всего они населяют те трущобы, где дремучие леса разрежаются сплошными полосами недоступных болот, на которые никогда не ступала человеческая нога, и лишь осторожно шагают длинноногие болотные птицы. Здесь, на трясинах или заглохших и заросших озерах, где еще сохраняются пласты земли, сцепленные корнями водорослей, человеческая нога быстро тонет, а неосторожного охотника и дерзкого путника засасывает вглубь подземная сила и прикрывает сырым и холодным пластом, как гробовой доской. Тут ли не водиться злой дьявольской силе и как не считать чертям такие мочаги, топи, ходуны-трясины и крепи-заросли благоприятными и роскошными местами для надежного и удобного жительства?
– Отчего ты, черт, сидишь всегда в болоте? – спрашивает обездоленный болотистой и мокрой родиной белорус своего рогатого и хвостатого черта.
– Привык! – коротко и ясно отвечает тот, и отвечает как за себя лично, так и за других, столь же неохотно переменяющих старое и насиженное место жительства на неизвестное, хотя бы и лучшее, новое.
– В тихом болоте черти водятся, – неизменно верят великороссы.
– Было бы болото, – подкрепляют они, с другой стороны, – а черти будут.
– Не ходи при болоте: черт уши обколотит, – доброжелательно советует третья из множества и столь же распространенная пословица[4].
– И вылез бы черт из болота, и пошел бы в деревню к мужику на свадьбу, да попа боится, – выдают за истинно проверенное наблюдение.
Болотные черти живут семьями: имеют жен, плодятся и множатся, сохраняя свой род на бесконечные времена. С их детьми, бойкими и шустрыми чертенятами (хохликами), такими же черными (в отличие от немецких красненьких)[5], мохнатыми и в шерсти, с двумя острыми рогами на макушке головы и длинным хвостом, не только встречались деревенские русские люди, но и входили с ними в разнообразные сношения. Образчики и доказательства тому в достаточном количестве разбросаны в народных сказках и, между прочим, в известной всем пушкинской сказке о работнике Балде. Один солдат, строгих николаевских времен, проносил чертенка в тавлинке целый год со днем. Некоторые уверяют, что черти – востроголовые, как птицы сычи, а многие, сверх того, уверены, что эти духи непременно хромые. Они сломали себе ноги еще до сотворения человека, во время сокрушительного падения всего сонма бесов с неба[6]. Так как на землю было свержено нечистой силы очень много, то она, во избежание вражды и ссор, очертила свои владения кругом. Этот круг возымел особое действие и силу: всякий попавший в него и переступивший след нечистого обязательно блуждает и без помощи особых средств из него не выйдет и не избавится от дьявольского наваждения.
Когда народная фантазия наделила чертей многими человеческими свойствами, последовательность воображения потребовала изобретения дальнейших сходств и уподоблений. Бесспорно решено, что эти духи подвержены многим людским привычкам и даже слабостям: любят ходить в гости друг к другу, не прочь попировать с развалом. На своих любимых местах (перекрестках и росстанях дорог) черти шумно справляют свадьбы (обыкновенно с ведьмами) и в пляске подымают пыль столбом, производя то, что мы называем вихрями. При этом люди, бросавшие в такие пыльные столбы ножи или топоры, удачно разгоняли свадьбу, но на том месте находили всегда следы крови, и после того какая-нибудь слывущая ведьмой колдунья долго ходила либо с обвязанным лицом, либо с подвязанной рукой. На пирах, устраиваемых по случаю особенных побед над людьми, равно как и на собственных свадьбах, старые и молодые черти охотно пьют вино и напиваются; а сверх того любят курить табак, получаемый в дар от догадливых и трусливых людей[7]. Самое же любимое занятие, превратившееся у чертей в неутолимую страсть, – это игра в карты и кости. В игре для чертей нет удержу и не установлено законов: проигрывают всё, что есть за душой (а душа им полагается настоящая, почти такая же, как у людей). Впрочем, если пойдет дело на полную откровенность, то окажется, что дьявольская сила виновна в изобретении и самого вина, и табачного зелья, да и нечистая игра в карты с передержкой и подтасовкой отнесена прямо к бесовским же вымыслам и науке. Конечно, все эти наветы требуют тщательной проверки ввиду того, что уже слишком во многом обвиняют чертей – например, даже в изобретении таких злаков, как чай и картофель, не далее начала прошлого столетия вошедших во всеобщее употребление. В последнем случае оказывается явный поклеп; первое же обвинение – в изобретении вина и табачного зелья – затемняется противоречивыми показаниями. Очевидно, свидетели, недостаточно уверенные в самом факте, стремятся лишь настойчиво навязать то, в чем сами не вполне убеждены и еще колеблются. Так, например, вологжане думают, что предков их выучил варить веселое пойло какой-то странник в благодарность за то, что один добрый мужик приютил его: посадил за стол, порезал несколько ломтей хлеба, поставил солонку с солью, жбан с квасом. Вдвоем они открыли несколько кабаков, и потянулся туда народ бесчисленными толпами. Во Владимирской губернии черт (также в виде странника, в лаптях, в кафтане и с котомкой за плечами) поведал тайну варить пиво встречному бедняге, который выплакал ему свое житейское горе и разжалобил его. Счастливый мужичок впоследствии похвастался своим умением царю, а неизвестный царь велел варить во всем государстве это самое пиво, которое теперь прозывают вином. У смоляков черт со своим винокуренным мастерством нанялся в работники и научил доброго хозяина гнать водку, как раз накануне свадьбы дочери, и т. д.
В рассказах о происхождении табака еще больше разногласий: то он вырос из могилы кровосмесителей (сестры и брата), то из головы евангельской блудницы (Вятская губерния), то из тела свихнувшейся чернички, убитой громом (Пензенская губерния), то, наконец, из могилы какого-то неведомого человека (Симбирская губерния). У вологжан есть поверие, что разводить табак выучил встреченного в лесу помещика неизвестный черный охотник, и т. д.
В подобных догадках и розысках дошли досужие люди до забавного и веселого. Раз у черта (рассказывают мещовские калужане) померла теща, и захотел он ее помянуть получше. Собрал он всех грешников по этой части, т. е. курильщиков и нюхальщиков. Вот куритель курит-курит да сплюнет. Черт увидал это и велел всех курильщиков прогнать: они теще его все глаза заплевали. А нюхальщиков всех оставил: они понюхают, и их прошибет слеза – значит и хорошо для поминок-то чертовой тещи. У тех же калужан, придерживающихся старой веры (в Мещовском уезде), сложилась насмешливая поговорка: «Наша троица в табаке роется» (намек на то, что нюхальщики роются в табакерках тремя пальцами, и как раз теми, которые слагаются для крестного знамения).
2. В людях
Все прямые отношения нечистой силы к человеческому роду сводятся к тому, что черти либо проказят, прибегая к различным шуткам, которые у них, сообразно их природе, бывают всегда злы, либо наносят прямое зло в различных его формах и, между прочим, в виде болезней. Словом, черти устраивают против людей всякие козни и исполняют главное свое назначение, состоящее в многообразных искушениях. Для облегчения своей деятельности, во всех ее направлениях, дьявольская сила одарена способностью превращений, т. е. черти могут совершенно произвольно сменять свою подозрительную и страшную бесовскую шкурку, принимая личину, сходную с людскою, и вообще принимая формы, более знакомые и привычные для человеческого глаза.
Превращения. Переверты всякого рода и разновидные перекидыши производятся чертями с такой быстротою и внезапной стремительностью, какой не в силах представить себе людское воображение: последовательно проследить быстроту этих превращений не может самый зоркий глаз.
Всего чаще черти принимают образ черной кошки, почему во время грозы догадливые деревенские хозяева всегда выбрасывают животных этой масти за дверь и на улицу, считая, что в них присутствует нечистый дух (отсюда выражение, что при ссоре пробегает между людьми черная кошка). Не менее того черти облюбовали образ черной собаки, живых людей (при случае – даже малого ребенка) и великанов огромного роста, вровень с высочайшими соснами и дубами. Если задумает черт выйти из своего болота в человеческом образе и явиться, например, бабе в виде вернувшегося из отлучки мужа, то он представляется всегда скучающим и ласковым. Если же встречается он на дороге, обернувшись кумом или сватом, то является непременно пьяным и готовым снова выпить, да сделает так, чтобы сват очутился потом либо на краю глубокого оврага, либо в колодце, в помойной яме, либо у дальнего соседа и даже на сучке высокого дерева с еловой шишкой в руке вместо рюмки вина.
Остальные превращения идут в последовательном порядке. Черти оборачиваются в свинью, лошадь, змею, волка, зайца, белку, мышь, лягушку, рыбу (предпочтительно щуку), в сороку (из птичьего рода это любимый образ) и разных других птиц и животных. Из последних, между прочим, в неизвестных, неопределенного и страшного вида[8]. Перевертываются даже в клубки ниток, в вороха сена, в камни и пр. Вообще черти принимают самые разнообразные формы, какие только способно допустить пылкое людское воображение, однако же не без некоторого ограничительного законного предела. Такой предел существует и упорно оберегается: не всегда, например, решаются черти представляться коровой, самым дорогим и полезным домашним животным, да подобному перевертышу и самая глупая баба не поверит. Не дерзают злые духи прикидываться петухами – вестниками приближения светлого дня, который столь ненавистен всякой злой силе, и голубями – самой чистой и невинной птицей в целом мире, памятуя, кто удостаивал принимать на себя образ этих милых и ласковых воркунов из царства пернатых. Точно так же никто не видал злой нежити в ослиной шкуре, так как всей их нечистой породе, со времен явления Христа на землю, стало известным, что сам Господь благоволил избрать осла для своего победоносного шествия во святой град, к прославлению своего Божественного имени и учения.
Какой бы образ ни принял на себя дьявол, его всегда выдает сиплый, очень громкий голос с примесью устрашающих и зловещих звуков («дух со страху захватывает»). Иногда он каркает черным вороном или стрекочет проклятой сорокой. По черному цвету шерсти животных и птичьих перьев тоже распознается присутствие хитрых бесов, и притом именно бесов, потому что, например, колдуны и ведьмы, в отличие от чертей, бывают перевертышами исключительно белых и серых цветов. Зато при всяком превращении черти-дьяволы так искусно прячут свои острые рожки и подгибают и свертывают длинный хвост, что нет никаких сил уличить их в обмане и остеречься их.
Искушения. Смущать человеческий род соблазном и завлекать лукавством – прямая цель дьявольского пребывания на земле. Причем люди искушаются по прямому предписанию из преисподней и по особому выбору самого князя тьмы или сатаны. Стараются совращать с пути блага и истины те наиболее искусные черти, у которых наука искушений доведена до высокой степени совершенства в течение бесчисленного ряда лет неустанной и неослабной работы. Искуситель всегда налицо: зазвенело в левом ухе – это он летел сдавать сатане грехи того человека, сделанные за день, и вот теперь прилетел назад, чтобы снова стать на страже и выжидать случая и повода к соблазнам. Искуситель, по народному представлению, неизбежно находится у человека с левого бока и шепчет ему в левое ухо о таких злых деяниях, какие самому человеку и в ум не пришли бы без коварных наветов черта. «Черт попутал», – уверенно и обычно говорят все, испытавшие неудачу в начинаниях, а еще чаще те, которые нежданно впали в прегрешение. Могут попутать свои грехи, могут попутать недобрые люди, но, по народным понятиям, и в том и в другом случае действуют колдуны, ведьмы и злые духи кромешного ада. Для последних личный прямой расчет заключается не в том, чтобы связываться, например, с ворами и разбойниками – людьми уже испорченными, а главным образом в том, чтобы увиваться около хороших людей, испытанной твердости правил и добрых нравов. Во всех таких случаях бесы работают с полной уверенностью в победе и с верой в свою великую силу. «Черт горами качает», – говорится испокон века. Вот несколько народных рассказов, характеризующих власть чертей над человеком.
Жил в деревне парень, хороший, одинокий и в полном достатке: лошадей имел всегда штуки по четыре; богомольный был – и жить бы ему да радоваться. Но вдруг ни с того ни с сего начал он пьянствовать, а потом, через неделю после того, свою деревню поджег. Мужики поймали его на месте: и спички из руки еще не успел выбросить. Связали его крепко, наладились вести в волость. На задах поджигатель остановился, стал с народом прощаться, поклонился в землю и заголосил:
– Простите меня, православные! И сам не ведаю, как такой грех прилучился, – и один ли я поджигал, или кто помогал и подговаривал – сказать не могу. Помню одно: что кто-то мне сунул в руки зажженную спичку. Я думал, что дает прикурить цигарку, а он взял мою руку и подвел с огнем под чужую крышу. И то был незнакомый человек, весь черный. Я отдернул руку, а крыша уже загорелась. Я хотел было спокаяться, а он шепнул: «Побежим от них!» Кто-то догнал меня, ткнул в шею, свалил с ног – вот и связали. Оглянулся – половина деревни горит. Простите, православные!
Стоит на коленях бледный, тоскливо на всех глядит и голосом жалобно молит; слезами своими иных в слезы вогнал. Кто-то вымолвил:
– Глядите на него: такие ли бывают лиходеи?
– Видимое дело: черт попутал.
– Черт попутал парня! – так все и заголосили.
Судили-рядили, и порешили всем миром его простить. Да старшина настращал: всей-де деревней за него отвечать придется. Сослали его на поселенье. Где же теперь разыскать того, кто толкал его под руку и шептал ему в ухо? Разве сам по себе вéдомый парень-смирена на такое недоброе дело решился бы?
Один молодец с малых лет приобык к водке, да так, что, когда стал хозяином и некого было бояться, пропил все на смех людям, на пущее горе жены и детей. Насмешки и ругань не давали ему прохода.
«Дай-ка я удавлюсь, опростаю руки. Некому будет и голосить, а еще все будут рады!» – подумал молодец про себя, а вскоре и всем стал об этом рассказывать.
Один старичок к его речам прислушался и посоветовал:
– Ты вот что, друг, когда пойдешь давиться или заливаться (топиться), то скажи: «Душу свою отдаю Богу, а тело черту». Пущай тогда нечистая сила владеет твоим телом!
Распростился мужик со своими, захватил вожжи и пошел в лес. А там все так и случилось, как быть надо. Явились два черта, подхватили под руки и повели к громадной осине. А около осины собралось великое сборище всякой нечисти: были и колдуны, и ведьмы, и утопленники, и удавленники. Кругом стоят трясучие осины, и на каждой сидит по человеку, и все манят:
– Идите поскорее: мы вас давно ожидаем!
Одна осина и макушку свою наклонила – приглашает. Увидали черти нового товарища, заплясали и запели на радостях, кинулись навстречу, приняли из рук вожжи, захлестнули за крепкий сук – наладили петлю. Двое растопырили ее и держат наготове, третий ухватил за ноги и подсадил головою прямо к узлу. Тут мужик и вспомнил старика, и выговорил, что тот ему велел.
– Ишь, велико дело твое мясо! – закричали все черти. – Что мы с ним будем делать? Нам душа нужна, а не тело вонючее.
С этими словами выхватили его из петли и швырнули в сторону.
В деревне потом объяснял ему тот же старик:
– Пошла бы твоя кожа им на бумагу. Пишут они на той бумаге договоры тех, что продают чертям свои души, и подписывают своей кровью, выпущенной из надреза на правом мизинце.
Так как во всякого человека, которого бьет хмелевик (страдает запоем), непременно вселяется черт, то и владеет он запойным в полную силу: являясь в человеческом виде, манит его то в лес, то в омут. А так как бес выбирает себе место прямо в сердце, то и не бывает тому несчастному нигде покоя и места от страшной тоски. Пока догадаются исцелить такого человека единственным надежным средством – «отчитыванием», т. е. пока не прочитают над ним всей псалтыри три раза, – коварный враг человеческого рода не перестанет смущать его и производить свои козни.
Овдовела, например, одна баба, да и затужила по мужу: начала уходить из избы и по задворкам скрываться. Если она, склонив голову на руки, сидит на людях, то кажется, что она совсем одеревенела – хоть топором ее секи. Стали домашние присматривать за ней из опасения, как бы она руки на себя не наложила, но не углядели: бросилась баба вниз головой в глубокий колодец. Там и нашли окоченелый и посинелый труп ее. Добрые люди ее не обвинили, а пожалели:
– Черт смутил, скоро поспел, в сруб пихнул: где слабой бабе бороться с ним?
Благочестивые же, строгие люди, положив за грешную душеньку крестное знаменье, не преминули открыто выговорить, в суд и в осуждение самоубийцы, заветную мысль:
– Коли сам человек наложил на себя руки – значит он «черту баран»[9].
«Черту баран» в равной мере и тот, кто прибегает к насильственной смерти, и тот, кто совершает поджог, убийство по злой воле (по внушению дьявола), и те, которые попадают в несчастие от неравновесия душевных сил переходного возраста. Все душевнобольные и ненормальные суть люди порченые, волею которых управляет нечистая сила, кем-либо напущенная и зачастую наталкивающая на злодеяние – себе на потеху. Тешат эти люди черта – делают из себя для него «барана» – в тех случаях, когда вздумает бес прокатиться, погулять, потешить себя, а то и просто возить на них воду, как на существах совершенно безответных, беззащитных, подобно овцам, и вполне подчиненных. Для того-то, собственно, и выбрано это самое кроткое безответное животное. Оно же у бесов любимое, в противоположность козлу, которого черти боятся от самого Сотворения мира (вот почему держат до сих пор козлов на конюшнях). Кроме того, на самоубийцах на том свете сам сатана разъезжает таким образом, что запрягает одних вместо лошадей, других сажает за кучера править, а сам садится на главном месте вразвалку, понукает и подхлестывает. По временам заезжает он на них в кузницы и там подковывает бараньи копыта, подобно лошадиным. Когда же сатана сидит на своем троне в преисподней, то всегда держит на коленях Иуду, христопродавца и самоубийцу, с кошельком в руках, из которого всем бесам отпускаются деньги на разные расходы по делу соблазнов и взысканий за содеянное грешными людьми. В таком виде сатану и на иконах пишут, и на тех картинах Страшного суда, которые обычно малюются на западных стенах православных храмов. А чтобы вернее и удобнее попали во власть нечистой силы все утопленники и удавленники – их стараются похоронить там, где они совершали над собою тяжкий грех самоубийства, причем погребают этих несчастных под голой насыпью, совсем без креста и вне кладбищенской ограды.
Проказы чертей. Первыми жертвами при забавах нечистой силы являются обыкновенно пьяные люди: то черти собьют с дороги подвыпивших крестьян, возвращающихся домой с храмового праздника из соседних деревень, то, под видом кума или свата, вызовутся на такой раз в провожатые. Ведут видимо по знакомым местам, а на самом деле, смотришь, человек очутился либо на краю обрыва горы, либо над прорубью, либо над водою, на свае мельничной запруды и т. п. Одного пьяного мужика посадил дьявол в колодец, но как и когда – несчастный человек не мог сообразить и припомнить: был на игрище, вышел на крыльцо прохладиться, да и пропал. Стали искать и услыхали крик в колодце. Вынули и узнали следующее:
– Позвал сват пить чай да пиво. Выпил чашку пива и увидал, что не у свата я в гостях, а в колодце, да и не пиво пью, а холодную воду. И не стаканчиком ее пью, а прямо взахлебку.
Однако, наряду с этими злыми шутками, черти, по воззрениям народа, сплошь и рядом принимают пьяных под свое покровительство и оказывают им разнообразные услуги. На первый взгляд, в таком поведении чертей можно усмотреть как будто некоторое противоречие. В самом деле: черт, злая сила, представитель злого начала – и вдруг оказывает людям добрые услуги. Но на самом деле противоречия здесь нет: каждый пьяный есть прежде всего слуга черта – своей греховной страстью к вину он «тешит беса», и потому черту просто нет расчета причинять своим верным слугам какое-нибудь непоправимое зло, – напротив, есть расчет оказывать им помощь. Сверх того, не кто другой, как именно черт, наталкивает на пьянство, наводит на людей ту болезнь, которая зовется хмелевиком или запоем: он, следовательно, в вине, он и в ответе. Не наказанием же считать его заботы о пьяных и его хлопоты около тех, которые прямо лезут в огонь или воду, и не карает же он, в самом деле, если забавляется с охмелевшим человеком и шутит шутки, хотя бы даже и злые (что ему и к лицу, и по праву). Привел пьяного к куму в гости – велел раздеваться; захотелось пьяному пить – указал на целый ушат с пивом: пей да зубы не разбей – долго оно на дворе стояло, замерзло. Раздевшись, испытуемый стал разуваться, озяб. Осмотрелся и видит, что сидит на сломанном пне и босая нога стоит в снегу, а вдали огонек светит. Увидал его, схватился бежать и бежал как угорелый. На горе по обрыву последний сапог потерял; у окна свата стучал и кричал: «Замерзаю, пустите!» – и предстал разутым, раздетым, без шапки. Сват с досады спрашивает: «Где тебя черт носил?» Отвечает с уверенностью и твердым голосом: «Он-то меня и носил!» И в самом деле: на откосе валеный сапог нашли, шапку и полушубок сняли с сучка в лесу, а рукавицы валялись подле проруби на реке, из которой угощал давешний кум холодным пивом.
Черт любит, говорят, пьяных по той причине, что таких людей ему легче наталкивать на всякий грех, внушать дурные мысли, подсказывать черные и срамные слова (очень часто хлесткие и остроумные), наталкивать на драку и на всякие такие поступки, для которых у всех, за неимением верного, есть одно дешевое и вечное оправдание: «черт попутал».
– По пьяному делу мало ль чего не бывает, – толкуют опытные люди, – напустит «он» жуть (страх) либо тоску, так и незнамо что представится. Со страху да тоски руки на себя наложишь, а он и рад: начнет под бока подталкивать, на ухо нашептывать. Ты только петлю накинь, а он под руку подтолкнет – и затянет. Затем они и на землю являются, чтобы ввести человека в грех или нанести какой-либо вред.
Трезвые и степенные люди возводят на бесовскую силу немало и других поклепов и обвиняют ее в самых разнообразных злодеяниях и даже в посягательствах на человеческую жизнь. Так, например, во время грозы бес, преследуемый стрелами молний, прячется за человека, подвергая его опасности. Поражая беса, Илья-пророк или Михаил Архангел могут убить и невинного. Вот почему во время грозы надо креститься. Надо поступать подобным же образом перед едою и питьем, помня, что нечистая сила любит проказить, оскверняя неосвященные сосуды чем ни попало. Это (по свидетельству житий), между прочим, любимые шалости чертей, к каковым они также прибегают для соблазнов.
Похищают детей. Вращается часто в деревенском быту ругательное слово «оммен» (т. е. обмен, обменыш), основанное на твердом веровании в то, что дьявол подменяет своими чертенятами некрещеных человеческих младенцев. Без разбору черти уносят и тех, которых в сердцах проклинают матери, и таких, которым в недобрый час скажут неладное (черное) слово вроде: «Хоть бы леший тебя унес». Уносят и младенцев, оставленных до крещения без надлежащего присмотра, т. е. когда младенцам дают заснуть, не перекрестив их, дают чихнуть и не поздравствуют ангельскую душу, не пожелают роста и здоровья. Особенно не советуют зевать в банях, где обыкновенно роженицы проводят первые дни после родов. Нечистая сила зорко сторожит и пользуется каждым случаем, когда роженица вздремнет или останется одна. Вот почему опытные повитухи стараются не покидать матерей ни на одну минуту, а в крайнем случае при выходе из бани крестят все углы. Если же эти меры предосторожности не будут приняты, то мать и не заметит, как за крышей зашумит сильный ветер, спустится нечистая сила и обменит ребенка, положив под бок роженицы своего «лешачонка» или «обменыша».
Эти обменыши бывают очень тощи телом и крайне уродливы: ноги у них всегда тоненькие, руки висят плетью, брюхо огромное, а голова непременно большая и свисшая на сторону. Сверх того, они отличаются природной тупостью и злостью и охотно покидают своих приемных родителей, уходя в лес. Впрочем, живут они недолго и часто пропадают без вести или обращаются в головешку.
Что касается судьбы похищенных детей, то черти обыкновенно носят их с собой, заставляя раздувать начавшиеся на земле пожары. Но бывает и иначе. Похищенные дети отдаются на воспитание русалкам или проклятым девкам, у которых они остаются, превращаясь впоследствии: девочки – в русалок, мальчики – в леших. Сюда же, к неизвестным «тайным людям» или к самим дьяволам, поступают «присланные дети», т. е. случайно задушенные матерями во время сна. И в том и в другом случае душа ребенка считается погибшей, если ее не спасет сама мать постоянными молитвами в течение сорока дней, при строжайшем посте. Ребенок, унесенный «тайными людьми», делается сам тайным человеком: невидимо бродит по белому свету, отыскивая себе пропитание. Пьет молоко, оставленное в горшках неблагословленным, снимает с крынок сметану. Если же ребенок похищен дьяволом, то последний помещает его в темной и тесной темнице. Хотя в темнице нет ни огня, ни кипящей смолы, как в кромешном аду, зато ребенок навсегда лишается света и будет вечно проклинать свою мать за то, что она не уберегла его. Впрочем, для матери, осыпаемой упреками посторонних и страдающей от личного раскаяния, имеется из этого мучительного положения выход. Необходимо три ночи простоять в церкви на молитве; но беда в том, что не всякий священник разрешает это. Тем не менее несчастные матери слепо веруют, что если ребенка похитили тайные люди, то он, по молитве, явится на своем месте целым и, по окроплении святою водою, останется невредимым. Но зато матерям с чертями предстоит много хлопот, так как приходится подвергать себя тяжелым испытаниям, которые не по силам женской природе.
Лишь только наступит ночь и женщина, оставшись одна в церкви, встанет на молитву, как тотчас же начинает она подвергаться всяким ужасам: позади поднимается хохот и свист, слышатся топанье, пляски, временами детский плач и угрозы. Раздаются бесовские голоса на соблазн и погибель:
– Оглянись – отдадим!..
Кричит и ребенок:
– Не мать ты мне, а змея подколодная!
Оглянуться на тот раз – значит навеки погубить себя и ребенка (разорвут черти на части). Выдержать искушение – значит увидеть своего ребенка черным как уголь, которого на одну минуту покажут, перед тем как запеть вторым петухам.
На вторую ночь происходит то же самое, но с тем лишь различием, что на этот раз ребенок не клянет свою мать, а твердит ей одно слово: «Молись!» После первого петуха появляется дитя на половину тела белым.
Третья ночь – самая опасная: бесы начинают кричать детским голосом, пищат и плачут, захлебываясь и с отчаянными взвизгами умоляя взять их на руки. Среди деланых воплей до чуткого уха любящей матери, храбро выдерживающей искус, доносятся и нежные звуки мягкого голоса, советующего молиться:
– Матушка, родная ты моя! Молись, молись – скоро замолишь.
Пропоет третий раз петух – и дьявол бросает перед матерью совершенно белого ребенка, т. е. таким, каким она его родила.
– Теперь ты мне родная мать – спасибо: замолила! – прокричит дитя и мертвым, но спасенным, остается лежать на церковном полу.
За отказом священников беспокойства сокрушающихся матерей доходят до крайних пределов, и только благодаря богомольным настроениям они находят успокоение в хождениях по монастырям и в увещеваниях благочестивых старцев, признаваемых за святых. От старцев тоскующие матери и приносят домой уверенность в том, что и душа заспанного младенца пойдет туда же, куда все души прочих умерших детей, т. е. прямо в святой рай, к самому Господу Богу.
Соблазняют женщин. Из некоторых житий святых – особенно по афонскому патерику – и из народных сказок довольно известны сладострастные наклонности всей бесовской породы. Эти наклонности проявляются как в личных поступках отдельных бесов, так и в характере людских искушений, потому что бесы всего охотнее искушают людей именно в этом направлении. В истории борьбы христианства с язычеством в Византии есть немало указаний на ту же блудную наклонность дьяволов и на связь их с гречанками того времени. Стоит и в наши дни, у нас на Руси, поскучать молодой бабе по ушедшем на заработки муже, в особенности же вдове по умершем, как бесы и готовы уже на утеху и на услуги. Пользуясь способностью перекидываться (принимать на себя всякие личины) и ловкостью в соблазнах и волокитствах, бесы добиваются полных успехов. Начинают, например, замечать соседи, что баба-вдова иногда то сделается как бы на положении беременной, а то и опять ничего не заметно, нет никаких перемен. В то же время она со всякой работой справляется отлично, летом выходит в поле одна, а делает за троих. Все это, вместе взятое, приводит к предположению, что баба находится в преступной связи с дьяволом. Убеждаются в том, когда начнет баба худеть и до того исхудает, что останутся только кожа да кости. Прозорливые соседки видят даже, как влетает в избу нечистый в виде огненного змея, и с клятвою уверяют, что на глазах у всех бес влетел в трубу и рассыпался огненными искрами над крышей.
Поверья об огненных змеях настолько распространены, а способы избавляться от их посещений до того разнообразны, что перечисление главных и описание существенных может послужить предметом особого исследования. Рассказы о таких приключениях поражают своей многочисленностью, но в то же время и докучным однообразием. Входит бес во временную сделку с несчастной, поддавшейся обману и соблазну, и всего чаще с женщиной, допустившей себя до полного распутства. Оба стараются, по условию и под страхом тяжелого наказания, держать эту связь в величайшей тайне, но греховное дело с нечистым утаиться не может. Находится достойный человек, которому доверяется тайна, и отыскивается средство благополучно прекратить это сношение. Помогает в таких случаях накинутый на беса (обычно являющегося в виде дородного мужчины) лошадиный недоуздок. Отваживают от посещений еще тем, что нащупывают у соблазнителя спинной хребет, какового обычно у этих оборотней не бывает. Иных баб, сверх того, спасают отчитыванием (от блудного беса – по требнику Петра Могилы); другим помогает чертополох (cisium и carduus) – колючая сорная трава, равно ненавистная всей нечистой силе. Приглашают также в дом священника служить молебен; пишут во всех углах мелом и дегтем кресты, курят из ручной жаровенки ладаном и прочее[10].
Рассказывают, что иногда и сами черти налетают на беду и остаются в дураках: убегают от сварливых бедовых баб опрометью, добровольно и навсегда. Болтают также, что от подобной связи рождаются черные, глупые и злые дети, которые могут жить очень недолго, так что их даже никто не видит.
Дьявольское наваждение. В сознании простых людей еще окончательно не решено, в чем заключается причина болезней, постигающих человеческий род: в Божеском ли попущении или в дьявольском наваждении. По сличении сведений, полученных более чем из пятидесяти местностей, относительно происхождения различных недугов оказывается, что значительный перевес на стороне последнего мнения. При этом известно, что некоторые болезни, как, например, лихорадки, в народном представлении рисуются в форме живых существ, имеющих определенный старческий вид и каждая свое особое имя, как дщери Иродовы. Общее количество лихорадок доходит до двенадцати (а по некоторым сведениям – даже до семидесяти), причем все они представляются в виде косматых, распоясанных старух. Против лихорадок издавна вращается в народе целый молитвенный список, присутствие которого в доме считается, подобно такому же апокрифическому сказанию о Сне Богородицы, за действительное и сильное целебное средство. Как заболевшие, так равно и желающие предохранить себя от будущих напастей должны носить тот и другой список на шейном кресте, зашитыми в тряпичку. Лишь в некоторых местностях удалось различить причины болезней, распределив их по двум основным разрядам. Выходит так, что все болезни (особенно эпидемические, вроде холеры и тифа) посылает сам Бог, в наказание или для вразумления, и лишь немногие зависят от насыла злым человеком или от порчи колдунами и ведьмами. Зато все душевные болезни, и даже проказу, всегда и бесспорно насылает черт. На него и показывают сами больные, выкликая имя того человека, который принес, по указанию и наущению дьявола, порчу и корчу и нашептал всякие тяжелые страдания.
В некоторых местностях существует полная уверенность в том, что на всякую болезнь полагается особый дух и что каждый из этих духов имеет свой вид: например, для лихорадки – вид бабочки, для оспы – лягушки, для кори – ежа и т. п. Сверх прочих существует еще особенный бес, насылающий неожиданные и беспричинные острые боли, пробегающие схватками в спине, руках и ногах. Такой бес называется «притком» (отсюда и обычное выражение «попритчилось»). Для пьяниц черти приготовляют в водке особого червя (белого, величиной с волосок): проглотившие его делаются горькими пьяницами, и т. п.
Все болезни, которыми чаще всего страдают женщины, как, например, кликушество, и вообще порчи всякого рода (истерии) приписываются бесспорно бесам. Причем сами женщины твердо и непоколебимо убеждены, что это бесы вселились внутрь испорченных, что они вошли через неперекрещенный рот во время зевоты, или в питье или в еде. Подобные болезни ученые доктора лечить не умеют; тут помогают только опытные знахари да те батюшки, у которых водятся особые, древние молитвенники, какие имеются не у всякого из духовных.
Хотя и придумана давно деревенская пословица «Богу молись, а черта не гневи», – но существует и такая истина, которая выше всякой греховной болтовни и легкомысленных правил: «Без Божьей воли и волос на голове человека не пропадает». Если черт – лиходей для человека только по Божию попущению, то во всяком случае бесовскому влиянию положен известный предел и самое пребывание нечистой силы на земле ограничено определенными сроками. Так, еще повсюду сохранилось убеждение, что при благовесте в церквях, после третьего удара, вся бесовская сила проваливается в преисподнюю. В то же время сознательно твердо держится вера, что ко всякому человеку при его рождении приставляется черт и ангел. Оба они не оставляют человека ни на одну минуту, причем ангел стоит по правую сторону, а дьявол по левую[11]. Между ангелом-хранителем и дьяволом-соблазнителем стоит постоянная вражда. Каждый из них зорко следит друг за другом, уступая первенство сопернику лишь в зависимости от поведения человека: радуется, умиляясь, ангел при виде добрых дел; осклабляется, хохочет и хлопает в ладоши довольный дьявол при виде послушания его злым наветам. Ангел записывает все добрые дела, дьявол учитывает злые, а когда человек умрет, ангел спорит с дьяволом о грешной душе его. Кто из двух победит – известно единому Богу.
Впрочем, до того времени на всякий час готово для утешения молитвенное слово:
«Ангел мой, сохранитель мой! Сохрани мою душу, укрепи мое сердце на всяк день, на всяк час, на всякую минуту. Поутру встаю, росой умываюсь, пеленой утираюсь Спасова Пречистова образа. Враг-сатана, отшатнись от меня на сто верст – на тысячу, на мне есть крест Господень! На том кресте написаны Лука и Марк, и Никита-мученик: за Христа мучаются, за нас Богу молятся. Пречистые замки ключами заперты, замками запечатаны, ныне и присно, и во веки веков, аминь».
II. Домовой-доможил
Выделился из осиротелой семьи старший брат и задумал себе избу строить. Выбрал он под стройку обжитое место. Лес рубил «избяной помочью»: сто бревен – сто помочан, чтобы вырубить и вывезти каждому по бревну. Десятком топоров успели повалить лес поздней осенью, когда дерево не в соку, и вывезли бревна по первопутку: и работа была легче, и лошади меньше наломались. Плотники взялись «срубить и поставить избу», а если сладится хозяин с деньгами в этот же раз, то и «нарядить» ее, т. е. сделать все внутреннее убранство, доступное топору и скобелю. Плотники подобрались ребята надежные, из ближнего соседства, где испокон веку занимаются этим ремеслом, и успели прославиться на дальние окольности. Помолились на восход солнца, выпили «заручную» и начали тяпать с ранней зари до самой поздней.
Когда положили два нижних бревна – два первых венца так, что где лежало бревно комлем, там навалили другое вершиной, приходил хозяин, приносил водку: пили «закладочные». Под передним, святым углом, по желанию хозяев, закладывали монету на богатство, и плотники сами от себя – кусочек ладана для святости. Пусть-де не думают про них, с бабьих бредней, худого и не болтают, что они знаются с нечистой силой и могут устроить так, что дом для жилья сделается неудобным.
Переход в новую избу, или «влазины», новоселье, – в особенности жуткая пора и опасное дело. На новом месте словно бы надо переродиться, чтобы начать новую, тяжелую жизнь в потемках и ощупью. Жгучая боль лежит на сердце, которое не чует (а знать хочет), чего ждать впереди: хотелось бы хорошего, когда вокруг больше худое. Прежде всего напрашивается неотразимое желание погадать на счастье. Для этого впредь себя в новую избу пускают петуха и кошку. Если суждено случиться беде, то пусть она над ними и стрясется. За ними уже можно смело входить с иконой и хлебом-солью, всего лучше в полнолуние и обязательно ночью[12].
Искушенные житейским опытом хозяйки-бабы, поставив икону в красный угол, отрезают один сукрой от каравая хлеба и кладут его под печку. Это – тому незримому хозяину, который вообще зовется «домовым-доможилом». В таких же местах, где домовому совершенно верят и лишь иногда, грешным делом, позволяют себе сомневаться, соблюдается очень древний обычай, о котором в других местах давно уже и забыли. Кое-где (например, по Новгородской губернии, около Боровичей) хозяйка дома до рассвета (чтобы никто не видал) старается три раза обежать новую избу нагишом, с приговором: «Поставлю я около двора железный тын, чтобы через этот тын ни лютый зверь не перескочил, ни гад не переполз, ни лихой человек ногой не переступил и дедушка-лесной через него не заглядывал». А чтобы был этот «замок» крепок, баба в воротах перекидывается кубарем – также до трех раз и тоже с заученным приговорным пожеланием, главный смысл которого выражает одну заветную мысль: чтобы «род и плод в новом доме увеличивались».
О происхождении домовых рассказывают следующую легенду. Когда Господь при Сотворении мира сбросил на землю всю непокорную и злую небесную силу, которая возгордилась и подняла мятеж против своего Создателя, на людские жилья тоже попадали нечистые духи. При этом неизвестно, отобрались ли сюда те, которые были подобрее прочих, или уж так случилось, что, приселившись поближе к людям, они обжились и обмякли, но только эти духи не сделались злыми врагами, как водяные, лешие и прочие черти, а как бы переродились: превратились в доброхотов и при этом даже оказались с привычками людей веселого и шутливого нрава. Бóльшая часть крестьян так к ним привыкла, так примирилась с ними, что не согласна признавать домовых за чертей и считает их за особую, отдельную добрую породу.
Никто не позволяет себе выругаться их именем. Всегда и все отзываются о них с явным добродушием и даже с нежностью. Это вполне определенно выражается во всех рассказах и согласно подтверждается всеми сведениями, полученными от сотрудников в ответ на программные вопросы по «Демонологии» из разных концов Великороссии.
Каждая жилая деревенская изба имеет одного такого невидимого жильца, который и является сторожем не только самого строения, но, главным образом, всех живущих: и людей, и скотины, и птицы.
Живет-слывет он обычно не под своим прирожденным именем «домового», которое не всякий решится произносить вслух (отчасти из уважения к нему, отчасти из скрытой боязни оскорбить его таким прозвищем). А величают его за очевидные и доказанные услуги именем «хозяина» и за древность лет его жизни на Руси – «дедушкой»[13].
Поскольку все это разнообразие имен и прозвищ свидетельствует о живучести домашнего духа и близости его к людским интересам, постольку он и сам неуловим и неуязвим. Редкий может похвалиться тем, что воочию видал домового. Кто скажет так, тот либо обманулся с перепугу и добродушно вводит других в заблуждение, либо намеренно лжет, чтобы похвастаться. Видеть домового нельзя: это не в силах человека (в чем совершенно согласно большинство людей сведущих, искусившихся долгим опытом жизни). И если кто говорит, что видал его в виде вороха сена, в образе какого-либо из домашних животных, тот явно увлекается и строит свои догадки только на том предположении, что домовой, как всякий невидимый дух с нечеловеческими свойствами, наделен способностью превращаться, принимая на себя разновидные личины, и даже будто бы всего охотнее образ самого хозяина дома. Тем, кто пожелал бы его видеть, предлагают нелегкие задачи: надо надеть на себя, непременно в пасхальную ночь, лошадиный хомут, покрыться бороной зубьями на себя и сидеть между лошадьми, которых он особенно любит, целую ночь. Говорят даже, что если домовой увидит человека, который за ним таким образом подсматривает, то устраивает так, что лошади начинают бить задом по бороне и могут до смерти забить любознательного. Верно и вполне доказано только одно: что можно слышать голос домового (и в этом согласны все поголовно), слышать его тихий плач и глухие сдержанные стоны, его мягкий и ласковый, а иногда и отрывисто краткий и глухой голос в виде мимоходных ответов, когда умелые и догадливые хозяева успевают окликнуть и сумеют спросить его при подходящих случаях. Впрочем, все, кто поумнее и поопасливее, не пытаются ни видеть этих духов, ни говорить с ними, потому что, если это и удастся, добра не будет: можно даже опасно захворать. Впрочем, домовой по доброму своему расположению (к большакам семьи – преимущественно и к прочим членам – в исключение) имеет заветную привычку наваливаться во сне на грудь и давить. Кто, проснувшись, поспешит спросить его: «К худу или добру?» – он ответит человеческим голосом, словно ветер листьями прошелестит. Только таким избранным и особенно излюбленным удалось узнать, что он мохнатый, оброс мягкой шерстью, что ею покрыты даже ладони рук его, совершенно таких же, как у человека, что у него, наконец, имеются, сверх положения, рога и хвост. Часто также он гладит сонных своею мягкою лапой, и тогда не требуется никаких вопросов – довольно ясно, что это к добру. Зла людям он не делает, а, напротив, старается даже предостеречь от грядущих несчастий и временной опасности.
Если он временами стучит по ночам в подызбице, или возится за печью, или громыхает в поставцах посудой, то это делает он просто от скуки и, по свойству своего веселого нрава, забавляется. Давно и всем известно, что домовой – вообще большой проказник, своеобразный шутник и где обживется, там беззаботно и беспричинно резвится. Он и сонных щекочет, и косматой грудью на молодых наваливается также от безделья, ради шутки. Подурит и пропадет с такой быстротой, что нет никакой возможности заметить, каков он видом (что, однако, удалось узнать про лешего, водяного и прочих духов – подлинных чертей). В Смоленской губернии (в Дорогобужском уезде) видали домового в образе седого старика, одетого в белую длинную рубаху и с непокрытой головой. Во Владимирской губернии он одет в свитку желтого сукна и всегда носит большую лохматую шапку; волосы на голове и в бороде у него длинные, свалявшиеся. Из-под Пензы пишут, что это старичок маленький, «словно обрубок или кряж», но с большой седой бородой и неповоротливый: всякий может увидеть его темной ночью до вторых петухов. В тех же местах, под Пензой, он иногда принимает вид черной кошки или мешка с хлебом.
Поселяясь на постоянное житье в жилой и теплой избе, домовой так в ней приживается на правах хозяина, что вполне заслуживает присвоенное ему в некоторых местностях название доможила. Если он замечает покушение на излюбленное им жилище со стороны соседнего домового, если, например, он уличит его в краже у лошадей овса или сена, то всегда вступает в драку и ведет ее с таким ожесточением, какое свойственно только могучей нежити, а не слабой людской силе. Но одни лишь чуткие люди могут слышать этот шум в хлевах и конюшнях и отличать возню домовых от лошадиного топота и шараханья шальных овец. Каждый домовой привыкает к своей избе в такой сильной степени, что его трудно, почти невозможно выселить или выжить. Недостаточно для того всем известных молитв и обычных приемов. Надо владеть особыми притягательными добрыми свойствами души, чтобы он внял мольбам и не признал бы ласкательные причеты за лицемерный подвох, а предлагаемые подарки, указанные обычаем и советом знахаря, за шутливую выходку. Если при переходе из старой рассыпавшейся избы во вновь отстроенную не сумеют переманить старого домового, то он не задумается остаться жить на старом пепелище среди трухи развалин в холодной избе, несмотря на ведомую любовь его к теплому жилью. Он будет жить в тоске и на холоде и в полном одиночестве, даже без соседства мышей и тараканов, которые вместе со всеми другими жильцами успевают перебраться незваными. Оставшийся из упрямства, по личным соображениям, или оставленный по забывчивости недогадливых хозяев, доможил предпочитает страдать, томясь и скучая, как делал это, между прочим, тот домовой, которого забыли пригласить с собой переселенцы в Сибирь. Он долго плакал и стонал в пустой избе – и не мог утешиться. Такой же случай был и в Орловской губернии. Здесь, после пожара целой деревни, домовые так затосковали, что целые ночи были слышны их плач и стоны. Чтобы как-нибудь утешить их, крестьяне вынуждены были сколотить на скорую руку временные шалашики, разбросать подле них ломти посоленного хлеба и затем пригласить домовых на временное жительство: «Хозяин-дворовой, иди покель на спокой, не отбивайся от двора своего».
В Чембарском уезде Пензенской губернии домовых зазывают в мешок и в нем переносят на новое пепелище, а в Любимском уезде Ярославской губернии заманивают горшком каши, которую ставят на загнетке.
При выборе в избе определенного места для житья домовой неразборчив: живет и за печкой, и под шестком, поселяется под порогом входных дверей, и в подызбице, и на подволоке, хотя замечают в нем наибольшую охоту проводить время в голбцах (дощатых помещениях около печи со спуском в подполье) и в чуланах. Жена домового, «доманя» (в некоторых местах, например во Владимирской губернии, домовых наделяют семействами), любит жить в подполье, причем крестьяне при переходе в новую избу зовут на новоселье и ее, приговаривая: «Дом-домовой, пойдем со мной, веди и домовиху-госпожу – как умею награжу».
Когда «соседко» поселяется на вольном воздухе, например на дворе, то и зовется уже «дворовым», хотя едва ли представляет собою отдельного духа: это тот же «хозяин», взявший в свои руки наблюдение за всем семейным добром. Его также не смешивают с живущими в банях баенными и банными (если он бывает женского пола, то называется волосаткой), с поселившимися на гумнах овинными и т. п. (см. о них дальше). Это все больше недоброхоты, злые духи: на беду людей завелись они, и было бы большим счастьем, когда бы они все исчезли с лица земли. Но как обойтись без домового? Кто предупредит о грядущей напасти, кто скажет, какой масти надо покупать лошадей, какой шерсти покупать коров, чтобы водились они подолгу? Если говорят, что скотина «не ко двору», то это значит, что ее невзлюбил своеобразный капризник «дворовый хозяин». Кто умеет слушать и чутко слышит, тому домовой сам своим голосом скажет, какую надо покупать скотину. Разъезжая на нелюбимой лошадке, домовой может превратить ее из сытого круглыша в такую клячу, что шкура будет висеть, как на палке. В Меленках (Владимирская губерния) один домохозяин спрятался в яслях и увидел, как домовой соскочил с сушила, подошел к лошади и давай плевать ей в морду, а левой лапой у нее корм выгребать. Хозяин испугался, а домовой ворчит про себя, но так, что очень слышно:
– Купил бы кобылку пегоньку, задок беленький!
Послушались его и купили. И опять из-под яслей хозяин видел, как с сушила соскочил домовой в лохматой шапке, в желтой свитке, обошел кругом лошадь, осмотрел ее да и заговорил:
– Вот это лошадь! Эту стоит кормить, а то купил какую-то клячу.
И домовой стал ее гладить, заплел на гриве косу и начал под самую морду подгребать ей овес.
В одной деревне Череповецкого уезда (Новгородской губернии) домовой, навалившись ночью на мужика и надавливая ему грудь и живот, прямо спросил (и таково сердито!):
– Где Серко? Приведи его назад домой.
Надо было на другое же утро ехать в ту деревню, куда продал хозяин лошадь, и размениваться. А там тому рады: и у них, когда вводили лошадь, на дворе она фыркала и артачилась, а на другое утро нашли ее всю в мыле. Один хозяин в упор спросил домового, какой шерсти покупать лошадь, и домовой ему повелительно ответил: «Хоть старую, да чалую», и т. п.
Бывают лошади «двужильные» (переход от шеи к холке раздвоенный), в работу негодные: они служат только на домового. Кто об этом дознается, тот спешит продать такую лошадь за бесценок, потому что если она околеет на дворе, то сколько лошадей ни покупай потом – все они передохнут (счетом до двенадцати) и нельзя будет больше держать эту скотину. Вот только в этом единственном случае всякий домовой, как он ни добр нравом, бывает неуступчив, и, чтобы предотвратить его гнев, пробуют поколелую лошадь вытаскивать не в ворота, а в отверстие, нарочно проломанное в стене хлева, хотя это и не всегда помогает.
Зная про подобные напасти и не забывая проказ и капризов домового, люди выработали по всей великой Руси общие для всех обычаи при покупке и продаже лошадей и скота, а также и при уходе за ними.
Когда купят корову или лошадь, то повод от узды или конец веревочки передают из полы в полу и говорят пожелания «легкой руки». Покупатель снимает с головы шапку и проводит ею от головы и шеи вдоль спины и брюха «новокупки». А когда «новокупку» ведут домой, то из-под ног по дороге поднимают щепочку или палочку и ею погоняют. Когда же приведут корову во двор, погонялку эту забрасывают:
– Как щепочке не бывать на старом месте, как палочке о том же не тужить и не тосковать, так бы и купленная животина не вспоминала старых хозяев и не сохла по ним.
Затем «новокупку» прикармливают кусочком хлеба, а к домовому прямо обращаются и открыто, при свидетелях, кланяются в хлевах во все четыре угла и просят: поить, кормить, ласкать и холить и эту новую, как бывалых прежних.
С домашнего скота добрый домовой переносит свои заботы и на людей. Охотнее всего он старается предупреждать о несчастиях, чтобы умелые хозяева успевали приготовиться к встрече и отвратить от себя напасть заблаговременно. Люди догадливые в таких случаях без слов разумеют те знаки, какие он подает, когда ему вздумается. Так, например, если слышится плач домового, иногда в самой избе, то быть в доме покойнику. Если у трубы на крыше заиграет в заслонку – будет суд из-за какого-нибудь дела и обиды; обмочит домовой ночью – заболеет тот человек; подергает за волосы – остерегайся жена: не ввязывайся в спор с мужем, не грызись с ним – отмалчивайся, а то верно прибьет, и очень больно. Загремит домовой в поставце посудой – осторожнее обращайся с огнем и зорко поглядывай, не зарони искры, не вспыхнула бы непотушенная головешка, не сделался бы большой пожар и т. д. Плачет и охает домовой – к горю, а к радостям скачет, песни играет, смеется; иногда, подыгрывая на гребешке, предупреждает о свадьбе в семье и т. п.
Все хорошо знают, что домовой любит те семьи, которые живут в полном согласии, и тех хозяев, которые рачительно относятся к своему добру, в порядке и чистоте держат свой двор. Если из таких кто-нибудь забудет, например, замесить коровам корм, задать лошадям сена, то домовой сам за него позаботится. Зато ленивым и нерадивым он охотно помогает запускать хозяйство и старается во всем вредить: заезживает лошадей, мучает и бьет скотину; забивает ее в угол яслей, кладет ее вверх ногами в колоду, засоряет навозом двор, давит каждую ночь и сбрасывает с печи и полатей на пол хозяина, хозяйку и детей их, и т. д. Впрочем, помириться с рассерженным домовым нетрудно – для этого стоит только положить ему под ясли нюхательного табаку, до которого он большой охотник, или вообще сделать какой-нибудь подарок вроде разноцветных лоскутьев, старинной коптилки с изображением Егория на коне или просто горбушки хлеба, отрезанной от непочатого каравая. Однако иногда бывает и так, что, любя хороших хозяев, он между тем мучает скотину, а кого любит – на того наваливается во сне и наяву, не разбирая ни дня, ни ночи, но предпочитая, однако, сумерки. Захочет ли домовой объявиться с печальным или радостным известием или просто пошутить и попроказить – он предпочитает во всех таких случаях принимать на себя вид самих хозяев. Только (как успевали замечать некоторые) не умеет он при этом прятать своих лошадиных ушей. В таком образе домовой не прочь и пособить рабочим, и угостить иного даже курительным табаком, и помешать конокрадам, вырядившись для этого в хозяйское платье и расхаживая по двору целую ночь с вилами в руках, и т. п. Под городом Орлом рассказывают, что однажды домовые так раздобрились для своих любимых хозяев, что помогали им в полевых работах, а одного неудачливого хозяина спасли тем, что наладили его на торговлю и дали возможность расторговаться с таким успехом, что все дивились и завидовали. Заботы и любовь свою к семьям иной доможил простирает до такой степени, что мешает тайным грехам супругов и, куда не поспеет вовремя, наказывает виноватого тем, что наваливается на него и каждую ночь душит. При этом так как всей нечистой силе воспрещено самим Богом прикасаться к душе человеческой, то, имея власть над одним телом, домовые не упускают случая пускать в ход и шлепки до боли и щипки до синяков. Не успеет виновная, улегшись спать, хорошенько забыться, как почувствует в ногах тяжесть, и пойдет эта тяжесть подниматься к горлу, а там и начнет мять так сильно, что затрещат кости и станет захватывать дыхание. В таких случаях есть только одно спасение – молитва, да и то надо изловчиться, суметь собраться с духом и успеть проговорить вслух ту самую, которую не любят все нечистые: «Да воскреснет Бог…»[14]
Пока наступит та блаженная пора, когда эта великая молитва громко раздастся на всю святую Русь и оцепенеет намертво вся нечистая сила, наивные деревенские хозяева долго еще будут темной ночью, без шапки, в одной рубахе, ходить в старый дом и с поклонами упрашивать домового духа пожаловать в новые хоромы, где в подызбице самой хозяйкой приготовлено ему угощение: присоленный небольшой хлебец и водка в чашке. Суеверия, основанные на воззрении на природу, тем дороги и милы простому, нетронутому сомнениями уму, что успокоительно прикрывают черствую и холодную действительность и дают возможность объяснять сложные явления самыми простыми и подручными способами. Проказами домового объясняют как ненормальные уклонения и болезненные отправления организма, так и всевозможные случаи повседневной жизни. Вот несколько примеров. Усиленно катается по полу лошадь и мучительно чешется об стенку и ясли не потому, что недобрый человек посадил ей в гриву и хвост ветку шиповника, а потому, что ее не взлюбил домовой. На утренней заре холеный иноходец оказался весь в мыле не оттого, что сейчас вернулся на нем молодой парень, всю ночь гулявший тайком от отца и ездивший по соседним поседкам с песнями и товарищами, а потому, что на нем ездил домовой. Поднялось у молодой бабы в крови бушевание и почудилось ей, будто подходит к ней милый, жмет и давит, – опять виноват домовой, потому что как только баба изловчилась прочитать «Отче» – все и пропало.
III. Домовой-дворовой
Как ни просто деревенское хозяйство, как ни мелка, по-видимому, вся обстановка домашнего быта, да одному домовому-доможилу со всем не управиться. Не только у богатого, но у всякого мужика для домового издревле полагаются помощники. Их работа в одних местах не считается за самостоятельную и вся целиком приписывается одному «хозяину». В других же местах умеют догадливо различать труды каждого домашнего духа в отдельности. Домовому-доможилу приданы в помощь: дворовой, банник, овинник (он же гуменник) и шишимора-кикимора; лешему помогает «полевой», водяному – «ичетики и шишиги» вместе с русалками.
Дворовой-домовой получил свое имя по месту обычного жительства, а по характеру отношений к домовладельцам он причислен к злым духам, и все рассказы о нем сводятся к мучениям тех домашних животных, которых он невзлюбит (всегда и неизменно дружит только с собакой и козлом). Это он устраивает так, что скотина спадает с тела, отбиваясь от корму; он же путает ей гриву, обрезает и общипывает хвост и проч. Это против него всякий хозяин на потолок хлева или конюшни подвешивает убитую сороку, так как дворовой-домовой ненавидит эту сплетницу-птицу. Это его, наконец, стараются ублажать всякими мерами, предупреждать его желания, угождать его вкусам: не держать белых кошек, белых собак и сивых лошадей (соловых и буланых он тоже обижает, а холит и гладит вороных и серых). Если же случится так, что нельзя отказаться от покупки лошадей нелюбимой масти, то их вводят во двор, пригоняя с базара, не иначе как через овчинную шубу, разостланную в воротах, шерстью вверх. С особенным вниманием точно так же хозяйки ухаживают около новорожденных животных, зная, что дворовой не любит ни телят, ни овец: либо изломает, либо и вовсе задушит. Поэтому-то таких новорожденных и стараются всегда унести из хлева и поселяют в избе вместе с ребятами, окружая их таким же попечением: принесенного сейчас же суют головой в устье печи, или, как говорят, «водомляют» (сродняют с домом). На дворе этому домовому не подчинены одни только куры: у них имеется свой бог.
Прибегая к точно таким же мерам умилостивления домового-дворового, как и домового-доможила, люди не всегда, однако, достигают цели: и дворовой точно так же то мирволит, то, без всяких видимых поводов, начинает проказить, дурить, причиняя постоянные беспокойства, явные убытки в хозяйстве и проч. В таких случаях применяют решительные меры и, вместо ласки и угождений, вступают с ним в открытую борьбу и нередко в рукопашную драку.
По вологодским местам крестьяне, обезумевшие от злых проказ дворовых, тычут навозными вилами в нижние бревна двора с приговором: «Вот тебе, вот тебе, за то-то и вот это». По некоторым местам (например, в Новгородской губернии) догадливый и знающий хозяин запасается ниткой из савана мертвеца, вплетает ее в треххвостную ременную плеть и залепляет воском. В самую полночь, засветив эту нитку и держа ее в левой руке, он идет во двор и бьет плетью по всем углам хлева и под яслями – авось как-нибудь попадет в виноватого.
Нередко домохозяева терпят от ссор, какие заводят между собой соседние дворовые, – несчастье, которое нельзя ни отвратить, ни предусмотреть. В Вологодской губернии (в Кадниковском уезде, Васьяновской волости) злой «дворовушко» позавидовал своему соседу, доброму дворовушке, в том, что у того и коровы сыты, и у лошадей шерсть гладка и даже лоснится. Злой провертел дыру в чане, в котором добряк-дворовой возил в полночь с реки воду. Лил потом добряк, лил воду в чан и все ждал, пока она сравняется с краями, да так и не дождался: и с горя на месте повис под нижней губой лошадки ледяной сосулькой в виде «маленького человека в шерсти».
Оттуда же (из-под Кадникова) получена и такая повесть (записанная в деревне Куровской, как событие 80-х годов прошлого столетия):
«Жила у нас старая девка, незамужняя; звали ее Ольгой. Ну, все и ходил к ней дворовушко спать по ночам, и всякий раз заплетал ей косу и наказывал: „Если ты будешь ее расплетать да чесать, то я тебя задавлю“. Так она и жила нечесой до тридцати пяти годов – и не мыла головы, и гребня у себя не держала. Только выдумала она выйти замуж, и, когда настал девичник, пошли девки в баню и ее повели с собой, незамужнюю ту, старую девку, невесту ту. В бане стали ее мыть. Начали расплетать косу и долго не могли ее расчесать: так-то круто закрепил ее дворовушко. На другое утро надо было венчаться – пришли к невесте, а она в постели лежит мертвая и вся черная: дворовушко ее и задавил».
Не только в трудах и делах своих дворовой похож на доможила, но и внешним видом от него ни в чем не отличается (также похож на каждого живого человека, только весь мохнатый). Затем все, что приписывается первому, служит лишь повторением того, что говорят про второго. И замечательно, что во всех подобных рассказах нет противоречий между полученными из северных лесных губерний и теми, которые присланы из черноземной полосы Великороссии (из губерний Орловской, Пензенской и Тамбовской). В сообщениях из этих губерний замечается лишь разница в приемах умилостивления: здесь напластывается наибольшее количество приемов символического характера, с явными признаками древнейшего происхождения. Вот, например, как дарят дворового в Орловской губернии: берут разноцветных лоскутков, овечьей шерсти, мишуры из блесток, хотя бы бумажных, старинную копейку с изображением коня, горбушку хлеба, отрезанную от целого каравая, и несут все это в хлев и читают молитву:
– Царь дворовой, хозяин домовой, соседушко-доброхотушко! Я тебя дарю-благодарю: скотину прими – попой и накорми.
Этот дар, положенный в ясли, далек по своему характеру от того, который подносят этому же духу на Севере, в лесах, – на навозных вилах или на кончике жесткой плети.
Домовые-дворовые обязательно полагаются для каждого деревенского двора, как домовой-доможил для каждой избы и баенники для всякой бани, овинники или гуменники для всех без исключения риг и гумен (гумен, открытых со всех сторон, и риг, прикрытых бревенчатыми срубами с непротекающими крышами). Вся эта нечисть – те же домовые, отличные лишь по более злобным свойствам, по месту жительства и по затейным проказам.
IV. Баенник
Закоптелыми и обветшалыми стоят врассыпную по оврагам и косогорам утлые баньки, нарочно выставленные из порядка прочих деревенских строений, готовые вспыхнуть как порох, непрочные и недолговечные. По всем внешним признакам видно, что об них никто не заботился, и, изживая недолгий век в полном забросе, бани всегда имеют вид зданий, обреченных на слом. А между тем их задымленные стены слышат первые крики новорожденного русской крестьянской семьи и первые вздохи будущего кормильца-пахаря. Здесь, в жарком пару, расправляет он, когда придет в возраст, натруженные тяжелой работой члены тела и смывает трудовой пот, чтобы освеженным и подбодренным идти на новые бесконечные труды. Сюда несет свою тоску молоденькая девушка, обреченная посвятить свои силы чужой семье и отдать свою волю в иные руки; здесь в последний раз тоскует она о родительском доме накануне того дня, когда примет «закон» и благословение церкви. Под такими тягостными впечатлениями в одном из причетов, засчитывающих баню-парушу в число живых недоброхотов, выговорилось про нее такое укоризненное слово:
- На чужой-то на сторонушке,
- На злодейке незнакомой,
- На болоте баня рублена,
- По сырому бору катана,
- На лютых зверях вожена,
- На проклятом месте ставлена.
Укоры справедливы. Несмотря на то что «баня парит, баня правит, баня все исправит» – она издревле признается нечистым местом, а после полуночи считается даже опасным и страшным: не всякий решается туда заглянуть, и каждый готов ожидать какой-нибудь неприятности, какой-нибудь случайной и неожиданной встречи. Такая встреча может произойти с тем нечистым духом из нежити, который под именем баенника поселяется во всякой бане за каменкой, всего же чаще под полком, на котором обычно парятся. Всему русскому люду известен он за злого недоброхота. «Нет злее банника, да нет его добрее», – говорят в коренной Новгородчине под Белозерском; но здесь же твердо верят в его всегдашнюю готовность вредить и строго соблюдают правила угодничества и заискивания.
Верят, что баенник всегда моется после всех, обыкновенно разделяющихся на три очереди, а потому четвертой перемены или четвертого пара все боятся: «он» накинется – станет бросаться горячими камнями из каменки, плескаться кипятком; если не убежишь умеючи, т. е. задом наперед, он может совсем зашпарить. Этот час дух считает своим и позволяет мыться только чертям: для людей же банная пора в деревнях обыкновенно полагается около 5–7 часов пополудни.
После трех перемен посетителей в бане моются черти, лешие, овинники и сами банники. Если кто-нибудь в это время пойдет париться в баню, то живым оттуда не выйдет: черти его задушат, а людям покажется, что тот человек угорел или запарился. Это поверье о четвертой роковой банной «смене» распространено на Руси повсеместно.
Заискивают расположения банника тем, что приносят ему угощение из куска ржаного хлеба, круто посыпанного крупной солью. А чтобы навсегда отнять у него силу и охоту вредить, ему приносят в дар черную курицу. Когда выстроят, после пожара, новую баню, то такую курицу, не ощипывая перьев, душат (а не режут) и в таком виде закапывают в землю под порогом бани, стараясь подгадать время под Чистый четверг. Закопавши курицу, уходят из бани задом и все время отвешивают поклоны на баню бессменному и сердитому жильцу ее. Банник стремится владеть баней нераздельно и недоволен всяким, покусившимся на его права, хотя бы и временно. Зная про то, редкий путник, застигнутый ночью, решится искать здесь приюта, кроме разве сибирских бродяг и беглых, которым, как известно, все на свете нипочем. Идущий же на заработки и не имеющий чем заплатить за ночлег предпочитает выспаться где-нибудь в стогу, под сараем, под ракитовым или можжевеловым кустом. Насколько баенник высоко ценит прямую цель назначения своего жилища, видно из того, что он мстит тем хозяевам, которые это назначение изменяют. Так, во многих северных лесных местностях (например, в Вологодской губернии) в баню вовсе не ходят, предпочитая париться в печках, которые занимают целую треть избы. Бани же здесь хотя и существуют, но благодаря хорошим урожаям льна и по причине усиленных заграничных требований этого продукта, сбываемого через архангельский порт, они превращены в маленькие фабрички-трепальни и чесальни.
Тех, кто залезает в печь, баенник, помимо власти и разрешения домового, иногда так плотно заставляет заслонкой, что либо вытащат их в обмороке, либо они совсем задохнутся[15]. Не любит баенник также и тех смельчаков, которые хвастаются посещением его жилища не в указанное время. Так как на нем лежит прямая обязанность удалять из бани угар, то в его же праве наводить угар на тех, кем он недоволен. На такие случаи существует много рассказов.
Нарушающих установленные им правила и требования баенник немедленно наказывает своим судом, хотя бы вроде следующего, который испытал на себе рассказчик из пензенских мужичков. Как-то, запоздавши в дороге, забрался он, перед праздником, в свою баню после полуночного часа. Но, раздеваясь, второпях вместе с рубахой прихватил с шеи крест, а когда полез на полок париться, то никак не мог оттуда слезть подобру-поздорову. Веники так сами собой и бьют по бокам. Кое-как, однако, слез, сунулся в дверь, а она так притворена, что и не отдерешь. А веники все свое делают – хлещут. Спохватилась баба, что долго нет мужа, стала в оконце звать – не откликается, начала ломиться в дверь – не поддается. Вызвонила она ревом соседей. Эти пришли помогать: рубили дверь топорами – только искры летят, а щепок нет. Пришла на выручку баба-знахарка, окропила дверь святой водой, прочла свою молитву и отворила. Мужик лежал без памяти; насилу оттерли его снегом.
Опытные люди отвращают злые наветы своих баенников тем вниманием, какое оказывают им всякий раз при выходе из бани. Всегда в кадушках оставляют немного воды и хоть маленький кусочек мыла, если только не мылись щелоком; веники же никогда не уносят в избу. Вот почему зачастую рассказывают, как, проходя ночью мимо бани, слышали, с каким озорством и усердием хлещутся там черти и при этом жужжат, словно бы разговаривают, но без слов. Один прохожий осмелился и закричал: «Поприбавьте пару!» – и вдруг все затихло, а у него у самого мороз побежал по телу и волосы встали дыбом.
Вообще, шутить с собой баенник не позволяет, но разрешает на Святках приходить к нему завораживаться, причем самое гаданье происходит следующим образом: гадающий просовывает в двери бани голую спину, а баенник либо бьет его когтистой лапой (к беде), либо нежно гладит мохнатой и мягкой, как шелковая, большой ладонью (к счастью). Собрались о Святках (около Кадникова, в Вологодской губернии) девушки на беседу, а ребята на что-то рассердились на них – и не пришли. Сделалось скучно, одна девка и говорит подругам:
– Пойдемте, девки, слушать к бане, что нам баенник скажет.
Две девки согласились и пошли. Одна и говорит:
– Сунь-ка, девка, руку в окно: банник-от насадит тебе золотых колец на пальцы.
– А ну-ка, девка, давай ты сначала сунь, а потом и я.
Та и сунула, а банник-от и говорит:
– Вот ты и попалась мне.
За руку схватил и колец насадил, да железных: все пальцы сковал в одно место, так что и разжать их нельзя было. Кое-как выдернула она из окна руку, прибежала домой впопыхах и в слезах, и лица на ней нет от боли. Едва собралась она с такими словами:
– Вот, девушки, смотрите, каких банник-от колец насажал. Как же я теперь буду жить с такой рукой? И какой банник-от страшный: весь мохнатый и рука-то у него такая большая и тоже мохнатая. Как насаживал он мне кольца, я все ревела. Теперь уж больше не пойду к баням слушать[16].
В сущности, банник старается быть невидимым, хотя некоторые и уверяют, что видали его и что он старик, как и все духи, ему сродные: недаром же они прожили на белом свете и в русском мире такое неисчислимое количество лет.
Впрочем, хотя этот дух и невидим, но движения его всегда можно слышать в ночной тишине – и под полком, и за каменкой, и в куче свежих неопаренных веников. Особенно чутки к подобным звукам роженицы, которых по этой причине никогда не оставляют в банях в одиночестве: всегда при них неотлучно находится какая-нибудь женщина, если не сама бабка-повитуха. Все твердо убеждены, что баенник очень любит, когда приходят к нему жить родильницы до третьего дня после родов, а тем паче на неделю, как это водится у богатых и добрых мужиков. Точно так же все бесспорно верят, что банища – места поганые и очень опасные и если пожару придется освободить их и очистить, то ни один добрый хозяин не решится поставить тут избу и поселиться: либо одолеют клопы, либо обездолит мышь и испортит весь носильный скарб. В северных же лесных местах твердо убеждены, что баенник не даст покоя и передушит весь домашний скот: не поможет тогда ни закладка денег в углах избяного сруба, ни разводка муравейника среди двора и тому подобное.
V. Овинник
(Гуменник)
На деревенских задворках торчат безобразные бревенчатые строения – овины. Словно чудовища с разинутой черной пастью, готовой проглотить человека целиком, обступают они со всех сторон ряды приземистых жилых изб. В сумерки, а особенно ночью, при легком просвете на утренних зорях, овины своим неуклюжим видом настраивают воображение простого человека на фантастический лад и будят в душе его суеверный страх. Задымленные и почернелые как уголь, овины являют из себя (как подсказывает загадка) «лютого волчищу, у него выхвачен бочище, не дышет, а пышет».
Так как без огня овин не высушишь, а сухие снопы – что порох, то и суждено овинам гореть. И горят овины сплошь и рядом везде и каждую осень. Кому же приписать эти несчастья, сопровождающиеся зачастую тем, что огонь испепелит все гумно со всем хлебным старым запасом и новым сбором? Кого же завинить в трудно поправимом горе, как не злого духа, и притом совершенно особенного?
Вот он и сидит в нижней части строений, где разводят теплины и днем пекут деревенские ребята картошку, – сидит в самом углу подлаза, днем и ночью. Увидеть его можно лишь во время светлой заутрени Христова дня: глаза у него горят калеными угольями, как у кошки, а сам он похож на огромного кота, величиной с дворовую собаку, – весь черный и лохматый. Овинник умеет лаять по-собачьи и, когда удается ему напакостить мужикам, хлопает в ладоши и хохочет не хуже лешего. Сидеть под садилом в ямине (отчего чаще зовут его «половинником») указано ему для того, чтобы смотреть за порядками кладки снопов, наблюдать за временем и сроками, когда и как затоплять овин, не позволять делать это под большие праздники, особенно на Воздвиженьев день и Покров, когда, как известно, все овины бывают «именинниками» и, по старинным деревенским законам, должны отдыхать (с первого Спаса их готовят). Топить овины в заветные дни гуменник не позволяет: и на добрый случай – пихнет у костра в бок так, что едва соберешь дыхание; на худой же конец – разгневается так, что закинет уголь между колосниками и даст всему овину заняться и сгореть. Не позволяет также сушить хлеба во время сильных ветров и безжалостно больно за это наказывает.
Гуменник хотя и считается домовым духом, но самым злым из всех: его трудно ублажить-смирить, если он рассердится и в сердцах залютует. Тогда на овин рукой махни: ни кресты по всем углам, ни молитвы, ни икона Богоматери Неопалимой Купины не помогут, и хоть шубу выворачивай мехом наружу и стереги гумна с кочергой в руках на Агафона-огуменника (22 августа). Ходят слухи, что в иных местах (например, в Костромской губернии) овинника удается задабривать в его именинные дни. С этой целью приносят пироги и петуха: петуху на пороге отрубают голову и кровью кропят по всем углам, а пирог оставляют в подлазе. Однако сведущие люди этим приемам не доверяют и рассказы принимают за сказки.
В Брянских лесных местах (в Орловской губернии) рассказывают такой случай, который произошел с бабой, захотевшей в Чистый понедельник в риге лен трепать для пряжи. Только что успела она войти, как кто-то затопал, что лошадь, и захохотал так, что волосы на голове встали дыбом. Товарка этой бабы со страху кинулась бежать, а смелая баба продолжала трепать лен столь долго, что домашние начали беспокоиться. Пошли искать и не нашли: как в воду канула. Настала пора мять пеньку, пришла вся семья и видят на гребне какую-то висячую кожу. Начали вглядываться и перепугались: вся кожа цела, и можно было различить на ней и лицо, и волосы, и следы пальцев на руках и ногах. В Смоленщине (около Юхнова) вздумал мужик сушить овин на Михайлов день. Гуменник за такое кощунство вынес его из подлаза, на его глазах подложил под каждый угол овина головешки с огнем и столь застращал виновного, что он за один год поседел как лунь. В Вологодских краях гуменника настолько боятся, что не осмеливаются топить и чистить овин в одиночку: всегда ходят вдвоем или втроем.
Из Калужской губернии (Мещовский уезд) получились такие вести. Лет сорок-пятьдесят тому назад одного силача, по имени Валуя, овинник согнул в дугу на всю жизнь за то, что он топил овин не в указанный день и сам сидел около ямы[17]. Пришел этот невидимка-сторож в виде человека и начал совать Валуя в овинную печку, да не мог изжарить силача, а только помял его и согнул. Самого овинника схватил мужик в охапку и закинул в огонь. Однако это не прошло ему даром: выместила злобная нечисть на сыне Валуя – тоже ражем детине и силаче и тоже затопившем овин под великий праздник: гуменник поджег овин и спалил малого. Нашли его забитым под стену и все руки в ссадинах – знать, отбивался кулаками.
На кулаках же ведут свои расчеты все эти духи и тогда, когда случается, что они между собой не поладят. Вот что пишут на этот счет из Белозерского уезда Новгородской губернии.
К одному крестьянину приходит вечером захожий человек и просит:
– Укрой меня к ночи – пусти ночевать.
– Вишь, у самого какая теснота. Ступай в баню: сегодня топили.
– Ну, вот и спасибо, я там и переночую.
На другое утро вернулся чужак из бани и рассказывает:
– Лег я на полок и заснул. Вдруг входит в баню такой мужик, ровно бы подовинник, и говорит:
«Эй, хозяин. На беседу к себе меня звал, а сам пущаешь ночлежников: я вот его задушу».
Поднялась той порой половица, и вышел сам банник.
«Я его пустил, так я его и защищаю. Не тронь».
И начали они бороться. Боролись долго, а все не могут одолеть друг друга. Вдруг банник крикнул мужику:
«Сыми крест, да хлещи его!»
Поднялся я кое-как, стал хлестать – оба они и пропали.
Угождения и почет гуменник так же любит, как все его нечистые родичи. Догадливые и опытные люди не иначе начинают топить овин, как попросив у «хозяина» позволения. А вологжане (Кадниковский уезд) сохраняют еще такой обычай: после того как мужик сбросит с овина последний сноп, он, перед тем как ему уходить домой, обращается к овину лицом, снимает шапку и с низким поклоном говорит: «Спасибо, батюшка-овинник: послужил ты нынешней осенью верой и правдой».
Не отказывает овинник в своей помощи (по части предсказания судьбы) и тем девицам, которые настолько смелы, что дерзают мимо бань ходить гадать к нему на гумно. Та, которой досталась очередь гадать первой, поднимает на голову платье (как и в банях) и становится задом к окну сушила:
– Овинник-родимчик, суждено, что ли, мне в нынешнем году замуж идти?
А гадают об этом всегда на Васильев вечер (в канун Нового года), в полночь между вторыми и третьими петухами (излюбленное время у овинника и самое удобное для заговоров).
Погладит овинник голой рукой – девушка будет жить замужем бедно, погладит мохнатой – богато жить. Иные в садило суют руку и делают подобные же выводы смотря по тому, как ее погладит. А если никто не тронет – значит в девках сидеть.
VI. Кикимора
Не столь многочисленные и не особенно опасные духи из нечисти, под именем кикиморы, принадлежат исключительно Великороссии, хотя корень этого слова указывает на его древнее и общеславянское происхождение. На то же указывают и остатки народных верований, сохранившиеся среди славянских племен. Так, в Белоруссии, сохранившей под шумок борьбы двух вероучений – православного и католического – основы языческого культа, существует так называемая мара. Здесь указывают и те места, где она заведомо живет (таких мест пишущему эти строки на Могилевском Днепре и его притоках указали счетом до пяти), и повествуют об ее явлениях вживе. В северной лесной России о маре сохранилось самое смутное представление, и то в очень немногих местах[18]. Зато в Малороссии явно таскают по улицам при встрече весны (1 марта[19]) с пением «веснянок» чучело, называемое марой или мареной, а великорусский морок – та же мрачность или темнота – вызвал особенную молитву на те случаи, когда эта морока желательна или вредна для урожая.
Так, например, в конце июля, называемом «калиниками» (от мученика Калинина, 29 июля), на всем Русском Севере молят Бога пронести калиники мороком, т. е. туманом, из опасения несчастья от проливных дождей, особенно же от градобоя. Если же на этот день поднимается туман, то рассчитывают на урожай яровых хлебов («припасай закрому на овес с ячменем»). Солнце садится в морок – всегда к дождю, и проч.
Если к самостоятельному слову «мор» приставить слово «кика», в значении птичьего крика или киканья, то получится тот самый дворовый дух, который считается злым и вредным для домашней птицы. Эта кикимора однозначна с шишиморой: под именем ее она зачастую и слывет во многих великорусских местностях. А в этом случае имеется уже прямое указание на шишей или шишигу – явную нечистую силу, живущую обычно в овинах, играющую свадьбы свои в то время, когда на проезжих дорогах вихри поднимают пыль столбом. Это те самые шиши, которые смущают православных. К шишам посылают в гневе докучных и неприятных людей. Наконец, «хмельные шиши» бывают у людей, допившихся до белой горячки (до чертиков).
Из обманчивого, летучего и легкого как пух призрака южной России дух мара у северных практических великороссов превратился в грубого духа, в мрачное привидение, которое днем сидит «невидимкой» за печью, а по ночам выходит проказить. В иных избах мара живет еще охотнее в темных и сырых местах, как, например, в голбцах или подызбицах. Отсюда и выходит она, чтобы проказить с веретенами, прялкой и начатой пряжей[20]. Она берет то и другое, садится прясть в любимом своем месте: в правом от входа углу, подле самой печи. Сюда обычно сметают сор, чтобы потом сжигать его в печи, а не выносить его из избы на ветер и не накликать беды, изурочья и всякой порчи. Впрочем, хотя кикимора и прядет, но от нее не дождешься рубахи, говорит известная пословица, а отсюда и насмешка над ленивыми: «Спи, девушка: кикимора за тебя спрядет, а мать выткет».
Одни говорят (в Новгородской губернии), что кикиморы шалят во все Святки; другие дают им для проказ одну только ночь под Рождество Христово. Тогда они треплют и сжигают куделю, оставленную у прялок без крестного благословления. Бывает также, что они хищнически стригут овец. Во всех других великорусских губерниях проказам шишиморы-кикиморы отводится безразлично все годичное время. Везде и все уверены также, что кикимора старается скрываться от людей, потому что если человеку удастся накинуть на нее крест, то она так и останется на месте.
Твердо убежденные в существовании злых сил, обитательницы северных лесов (вроде вологжанок) уверяют, что видели кикимору живою, и даже рассказывают на этот счет подробности:
– Оделась она по-бабьему в сарафан, только на голове кики не было, а волосы были распущены. Вышла она из голбца, села на пороге подле двери и начала оглядываться. Как завидела, что все в избе полегли спать и храпят, она подошла к любимому месту – к воронцу (широкой и толстой доске в виде полки, на которой лежат полати), сняла с него прялку и села на лавку прясть. И слышно, как свистит у нее в руках веретено на всю избу, и как крутятся нитки, и свертывается с прялки куделя. Сидит ли, прядет ли, она беспрестанно подпрыгивает на одном месте (такая уж у нее особая привычка). Когда привидится она с прялкой на передней лавке, быть в той избе покойнику. Перед бедой же у девиц-кружевниц (вологодских) она начинает перебирать и стучать коклюшками, подвешенными на кутузе-подушке. Кого невзлюбит – из той избы всех выгонит.
В тех же вологодских лесах (в Никольском уезде) в одной избе ходила кикимора по полу целые ночи и сильно стучала ногами. Но и того ей мало: стала греметь посудой, звонить чашками, бить горшки и плошки. Избу из-за нее бросили, и стояло то жилье впусте, пока не пришли сергачи с плясуном-медведем. Они поселились в этой пустой избе, и кикимора сдуру, не зная, с кем связывается, набросилась на медведя. Медведь помял ее так, что она заревела и покинула избу. Тогда перебрались в нее и хозяева, потому что там совсем перестало «манить» (пугать). Через месяц подошла к дому какая-то женщина и спрашивает у ребят:
– Ушла ли от вас кошка?
– Кошка жива да и котят принесла, – отвечали ребята.
Кикимора повернулась, пошла обратно и сказала на ходу:
– Теперь совсем беда: зла была кошка, когда она одна жила, а с котятами до нее и не доступишься.
В тех же местах повадилась кикимора у мужика ездить по ночам на кобыле и, бывало, загоняет ее до того, что оставит в яслях всю в мыле. Изловчился хозяин устеречь ее рано утром на лошади:
– Сидит небольшая бабенка, в шамшуре (головном уборе – волоснике), и ездит вокруг яслей. Я ее по голове-то плетью – соскочила и кричит во все горло: «Не ушиб, не ушиб, только шамшурку сшиб».
Изо всех этих рассказов видно лишь одно: что образ кикиморы как жильца в избах начал обезличиваться. Народ считает кикимору то за самого домового, то за его жену (за каковую, между прочим, признают ее в ярославском Пошехонье и в Вятской стороне), а в Сибири водится еще и лесная кикимора – лешачиха[21]. Мало того, до сих пор не установилось понятия, к какому полу принадлежит этот дух.
Определеннее думают там, где этого проказника поселяют в курятниках, в тех углах хлевов, где садятся на насест куры. Здесь занятие кикимор прямое и сама работа виднее. Если куры от худого корма сами у себя выщипывают все перья, то обвиняют кикимору. Чтобы не вредила она, вешают под куриной нашестью лоскутья кумача или горлышко от разбитого глиняного умывальника или отыскивают самого «куричьего бога». Это камень, нередко попадающийся в полях, с природной сквозной дырой. Его и прикрепляют на лыке к жерди, на которой садятся куры. Только при таких условиях не нападает на кур «вертун» (когда они кружатся как угорелые и падают околевшими).
В вологодских лесах (например, в отдаленной части Никольского уезда) за кикиморой числятся и добрые свойства. Умелым и старательным хозяйкам она даже покровительствует: убаюкивает по ночам маленьких ребят, невидимо перемывает кринки и оказывает разные другие услуги по хозяйству, так что при ее содействии и тесто хорошо взойдет, и пироги будут хорошо выпечены и пр. Наоборот, ленивых баб кикимора ненавидит: она щекочет малых ребят так, что те целые ночи ревут благим матом, пугает подростков, высовывая свою голову с блестящими, навыкате глазами и с козьими рожками, и вообще всячески вредит. Так что нерадивой бабе, у которой не спорится дело, остается одно средство: бежать в лес, отыскать папоротник, выкопать его горький корень, настоять на воде и перемыть все горшки и кринки – кикимора очень любит папоротник и за такое угождение может оставить в покое.
Но единственно верным и вполне могущественным средством против этой нечисти служит святой крест. Не возьмет чужой прялки кикимора, не расклокочет на ней кудели, не спутает ниток у пряхи и не оборвет начатого плетения у кружевниц, если они с молитвой положили на место и прялки с веретенами, и кутузы с коклюхами.
На Сяможенских полях (Вологодская губерния, Кадниковский уезд) в летнее время особая кикимора сторожит гороховища. Она ходит по ним, держа в руках каленую добела железную сковороду огромных размеров. Кого поймает на чужом поле, того и изжарит.
Мифы о кикиморе принадлежат к числу наименее характерных, и народная фантазия, отличающаяся таким богатством красок, в данном случае не отлилась в определенную форму и не создала законченного образа[22]. Это можно видеть уже из того, что имя кикиморы, сделавшееся бранным словом, употребляется в самых разнообразных случаях и по самым разнообразным поводам. Кикиморой охотно зовут и нелюдимого домоседа, и женщину, которая очень прилежно занимается пряжей. Имя шишиморы свободно пристегивается ко всякому плуту и обманщику (курянами), ко всякому невзрачному по виду человеку (смолянами и калужанами), к скряге и голышу (тверичами), прилежному, но кропотливому рабочему (костромичами), переносчику вестей и наушнику в старинном смысле слова, когда «шиши» были лазутчиками и соглядатаями и когда «для шишиморства» (как писали в актах) давались (как, например, при Шуйских), сверх окладов, поместья за услуги, оказанные шпионством.
VII. Леший
«Стоят леса темные от земли и до неба», – поют слепые старцы по ярмаркам, восхваляя подвиги могучих русских богатырей и борьбу их с силами природы. И в самом деле: неодолимой плотной стеной кажутся синеющие вдали, роскошные хвойные леса, нет через них ни прохода, ни проезда. Только птицам под стать и под силу трущобы еловых и сосновых боров, эти темные «сюземы», или «раменья», как их зовут на Севере. А человеку если и удастся сюда войти, то не удастся выйти. В этой части останавливаются и глохнут даже огненные моря лесных пожаров. Сюземы тем уже страшны, что здесь на каждом шагу, рядом с молодой жизнью свежих порослей, стоят тут же деревья, приговоренные к смерти, и валяются уже окончательно сгнившие и покрытые, как гробовой доской, моховым покровом. Но еще страшнее сюземы тем, что в них господствует вечный мрак и постоянная влажная прохлада среди жаркого лета. Всякое движение здесь, кажется, замерло; всякий крик пугает до дрожи и мурашек в теле. Колеблемые ветром древесные стволы трутся один о другой и скрипят с такой силой, что вызывают у наблюдателя острую, ноющую боль под сердцем. Здесь чувство тягостного одиночества и непобедимого ужаса постигает всякого, какие бы усилия он над собой ни делал. Здесь всякий ужасается своего ничтожества и бессилия. Здесь родилась мрачная безнадежная вера дикарей и сложилась в форму шаманства со злыми, немилостивыми богами. В этих трущобах поселяется и издревле живет тот черт, с которым до сих пор еще не может разлучиться напуганное воображение русского православного люда. Среди деревьев с нависшими лишаями, украшающими их наподобие бород, в народных сказках и в религиозном культе первобытных племен издревле помещены жилища богов и лесных духов. В еловых лесах, предпочтительно перед сосновыми, селится и леший, или, как называют его также, лесовик, лешак[23]. В этих лесах наиболее чувствуется живой трепет, и леший является его олицетворенным представителем.
В ярославском Пошехонье лешего называют даже просто «мужичок», а в вологодском полесовье лешему даны даже приметы: красный кушак, левая пола кафтана обыкновенно запахнута за правую, а не наоборот, как все носят. Обувь перепутана: правый лапоть надет на левую ногу, левый – на правую. Глаза у лешего зеленые и горят, как угли. Как бы он тщательно ни скрывал своего нечистого происхождения, ему не удается это сделать, если посмотреть на него через правое ухо лошади.
Леший отличается от прочих духов особыми свойствами, присущими ему одному: если он идет лесом, то ростом равняется с самыми высокими деревьями. Но в то же время он обладает способностью и умаляться. Так, выходя для прогулок, забав и шуток на лесные опушки, он ходит там (когда ему предстоит в том нужда) малой былинкой, ниже травы, свободно укрываясь под любым ягодным листочком. Но на луга, собственно, он выходит редко, строго соблюдая права соседа, называемого полевиком или «полевым». Не заходит леший и в деревни, чтобы не ссориться с домовыми и банниками, – особенно в те, где поют совсем черные петухи, живут при избах «двуглазые» собаки (с пятнами над глазами в виде вторых глаз) и трехшерстные кошки. Зато в лесу леший является полноправным и неограниченным хозяином: все звери и птицы находятся в его ведении и повинуются ему безответно. Особенно подчинены ему зайцы. Они у него на полном крепостном праве, – по крайней мере, он даже имеет власть проигрывать их в карты соседнему лешему. Не освобождены от такой зависимости и беличьи стада, и если они, переселяясь несметными полчищами и забывая всякий страх перед человеком, забегают в большие сибирские города, причем скачут по крышам, обрываются в печные трубы и прыгают даже в окна, – то дело ясное: значит, лешие целой артелью вели азартную игру и побежденная сторона гнала проигрыш во владения счастливого соперника. По рассказам старожилов, одна из таких грандиозных игр велась в 1859 г. между русскими и сибирскими лешими, причем победили русские, а продувшиеся сибиряки гнали затем из тайги свой проигрыш через Тобольск на Уральские горы, в печорскую и мезенскую тайболы. Кроме большой игры артелями, лешие охотно ведут и малую, между собой, с ближайшими соседями, и перегоняют зайцев и белок из колка в колок почти ежедневно. А то случается и так, что нагонят в эти колки зайцев и угонят мышей и т. д. У леших же в подчинении находятся и птицы и в полной зависимости от них все охотники: любимцам своим они сгоняют пернатых чуть не под самое дуло. Кого же задумают наказать за непочтение к себе – у тех всегда осечка.
Кому удавалось видеть лешего, хотя бы и через лошадиное ухо, те рассказывают, что у него человеческий образ. Так, например, в Новгородчине видали лешего в образе распоясанного старика в белой одежде и белой большой шляпе. Олончане же настолько искусились в опознавании всей лесной нечисти, что умеют отличать настоящих леших в целых толпах их от тех «заклятых» людей, которые обречены нечистой силе в недобрый час лихим проклятьем. Леший отливает синеватым цветом, так как кровь у него синяя, а у заклятых на лицах румянец, так как живая кровь не перестает играть на их щеках. Орловский леший – пучеглазый, с густыми бровями, длинной зеленой бородой; волосы у него ниже плеч и длиннее, чем у попов. Но впрочем, в черноземной Орловской губернии лешие стали редки за истреблением их жилищ (т. е. лесов), а потому за наиболее достоверными сведениями об этой нечисти следует обращаться к жителям Севера. Здесь эта нечисть сохраняется местами в неизменном старозаветном виде (например, в Вятской и Вологодской губерниях).
Настоящий леший нем, но голосист; умеет петь без слов и подбодряет себя хлопаньем в ладоши. Поет он иногда во все горло (с такой же силой, как шумит лес в бурю) почти с вечера до полуночи, но не любит пения петуха и с первым выкриком его немедленно замолкает. Носится леший по своим лесам как угорелый, с чрезвычайной быстротой и всегда без шапки[24]. Бровей и ресниц у него не видно, но можно ясно разглядеть, что он карноухий (правого уха нет), что волосы на голове у него зачесаны налево. Это удается заметить, когда он иногда подходит к теплинам дроворубов погреться, хотя в этих случаях он имеет обыкновение прятать свою рожу. Владея, как и прочая нечисть, способностью перевертываться, леший часто прикидывается прохожим человеком с котомкой за плечами. При этом некоторым удавалось различать, что он востроголовый, как все черти. С последним показанием, однако, сведущие люди не соглашаются, признавая в лешем, как и в домовом, нечисть, приближающуюся к человеческой природе, а многие прямо-таки видят в нем «оборотня», т. е. человека, обращенного в лешего.
Лешие умеют хохотать, аукаться, свистать и плакать по-людски, и если они делаются бессловесными, то только при встрече с настоящими живыми людьми. Во Владимирской губернии[25], где леших крестьяне называют «гаркунами», прямо уверены в том, что эта нежить произошла от связи женщин с нечистой силой и отличается от человека только тем, что не имеет тени.
Лешие не столько вредят людям, сколько проказят и шутят и в этом случае вполне уподобляются своим родичам-домовым. Проказят они грубо, как это и прилично неуклюжим лесным жителям, и шутят зло, потому что все-таки они не свой брат, крещеный человек. Самые обычные приемы проказ и шуток леших заключаются в том, что они обходят человека, т. е. всякого, углубившегося в чащу, с целью собирать грибы или ягоды, они либо «заведут» в такое место, из которого никак не выбраться, либо напустят в глаза такого тумана, что совсем собьют с толку и заблудившийся человек долго будет кружить по лесу на одном и том же месте. Но зато, выбравшись кое-как из чащи, натерпевшийся страху искатель грибов непременно потом будет рассказывать (и, может быть, вполне чистосердечно), что он видел лешего живым, слышал его свист, его ауканья и хлопанье в ладоши.
Однако во всех таких приключениях, нередких в деревенской жизни (особенно после гулянок со сватами и пиров с кумовьями), шаловливый и сам гулливый, леший все-таки не ведет людей на прямую погибель, как делает это настоящий дьявол. Притом же от проказ лесного можно легко отчураться – конечно, прежде всего молитвой и крестным знамением, а затем при помощи известных приемов, которым учат с малолетства, по заповедям отцов и прадедов. Так, заблудившемуся рекомендуется присесть на первой колоде, снять с себя и выворотить наизнанку носильное платье и затем в таком виде надеть на себя. Обязательно при этом также левый лапоть надеть на правую ногу или правую рукавицу на левую руку. Если же в беду попало двое или трое, то им следует всем перемениться одеждой, предварительно выворотив ее наизнанку (в этом случае рекомендуется подражать обычаю того же лешего, у которого все навыворот и наизнанку). Можно точно так же вызволиться из беды, проговоривши любимую поговорку лешего, которую удачливые люди успели подслушать у него издали: «Шел, нашел, потерял». А кто спохватится закричать: «Овечья морда, овечья шерсть!» – перед тем леший исчезает с криком: «А, догадался!»
Бывают, впрочем, случаи, когда все способы борьбы с лешими оказываются бессильными. Это случается раз в год, в тот заповедный день, когда лешие бесятся (4 октября). В этот день знающие крестьяне в лес не ходят.
На Ерофея-мученика указано лешим пропадать или замирать. Перед этим они учиняют неистовые драки, ломают с треском деревья, зря гоняют зверей и, наконец, проваливаются сквозь землю, чтобы явиться на ней вновь, когда она отойдет или оттает весной, и начать снова свои проказы все в одном и том же роде.
Вообще, побаиваясь злых и неожиданных затей лешего, лесной народ не прочь над ним посмеяться, а пользоваться его именем как ругательным словом вся крещеная Русь считает первым удовольствием («иди к лешему», «леший бы тебя задавил» и т. п.).
Существование «лесовых» внесло в жизнь и быт лесных обитателей своеобразные верования, не лишенные некоторых нравственных правил, так что миф о леших недаром просуществовал на земле тысячелетия. По народным воззрениям, леший служит как бы бессознательным орудием наказания за вольные или невольные грехи человека. Так, помимо того, что он заставляет бесконечно блуждать по лесу рассеянных людей, забывших осенить себя крестным знамением при входе в глухие трущобы, – он же является мстителем и во многих других случаях. В Никольском уезде (Вологодской губернии), например, леший на виду у всех унес в лес мужика за то, что тот, идя на колокольню, ругался непотребным словом. Еще сильнее карает леший за произнесение проклятий, и если случится, например, что роженица, потерявши в муках родов всякое терпение, проклянет себя и ребенка, то ребенок считается собственностью лешего с того момента, как только замер последний звук произнесенного проклятия. Обещанного ему ребенка леший уносит в лес тотчас по рождении, подкладывая вместо него «лесное детище» – больное и беспокойное. В случае же если каким-нибудь чудом заклятого ребенка успеют окрестить ранее, так что взять его сразу нельзя, то леший ждет до семи лет отрочества и тогда сманивает его в лес. (Лешему дана одна минута в сутки, когда он может сманить человека.) В лесу проклятые живут обыкновенно недолго и скоро умирают. А если и случится, что кто-нибудь, по усиленным молитвам матери, выживет, то находят его в самом жалком виде: ходит он одичалым, не помнит, что с ним было, и сохраняет полнейшее равнодушие ко всему, что его может ожидать при совместной жизни с людьми[26].
Деревенские слухи очень настойчиво приписывают, между прочим, лешим страсть к женщинам и обвиняют их в нередких похищениях девушек. Кое-где рассказывают об этих связях с мелкими подробностями и уверяют, что похищенные девушки никогда не рожают детей. В Тульской губернии (Одоевский уезд) указывают на окрестности села Анастасова и уверяют, что в старину, когда около села были большие леса, девушки сами убегали к лешим, жили с ними года два-три и затем возвращались домой с кучей денег и т. п. Едва ли, впрочем, во всех подобных рассказах лешие не смешиваются с заведомо сладострастными чертями дьявольской породы. Лешим также навязывают жен одинаковой с ними породы (лешачиха, лешуха) и детенышей («лешеня»), но в этих духах отчасти подозревают живущих в камышах русалок из некрещеных младенцев, отчасти проклятых людей, которые, в ожидании светопреставления, от безделья также проказят (отчего и зовутся, между прочим, «шутихами»).
VIII. Полевой
Одна белозерская вдова рассказывает у колодца соседке:
– Жила я у Алены на Горке. Пропали коровы – я и пошла их искать. Вдруг такой ветер хватил с поля, что господи боже мой! Оглянулась я – вижу: стоит кто-то в белом, да так и дует, да так и дует, да еще и присвистнет. Я и про коров забыла, и скорее домой, а Алена мне и обсказывает:
– Коли в белом видела, значит «полевой» это.
У орловских и новгородских знающих людей, наоборот, этот дух, приставленный охранять хлебные поля, имеет тело черное, как земля; глаза у него разноцветные; вместо волос голова покрыта длинной зеленой травой; шапки и одежды нет никакой.
– На свете их много, – толкуют там, – на каждую деревню дадено по четыре полевика.
Это и понятно, потому что в черноземных местах полей много и мудрено одному полевику поспевать повсюду. Зато лесные жители, менее прозорливые, но не менее трусливые, видали «полевых» очень редко, хотя часто слыхали их голос. Те же, кто видел, уверяли, что полевик являлся им в виде уродливого маленького человечка, обладающего способностью говорить. Вот что рассказывала на этот счет одна новгородская баба.
– Шла я мимо стога. Вдруг «он» и выскочил, что пупырь, и кричит: «Дорожиха, скажи кутихе, что сторожихонька померла». Прибежала я домой – ни жива ни мертва, залезла к мужу на полати да и говорю: «Ондрей, что я такое слышала?» Только я проговорила ему, как в подызбице что-то застонало: «Ой, сторожихонька, ой, сторожихонька». Потом вышло что-то черное, опять словно маленький человечек, бросило новину полотна и вон пошло: двери из избы ему сами отворились. А оно все воет: «Ой, сторожихонька». Мы изомлели: сидим с хозяином словно к смерти приговоренными. Так и ушло.
Относительно доброго, но проказливого нрава полевик имеет много общего с домовым, но по характеру самих проказ он напоминает лешего: так же сбивает с дороги, заводит в болото и в особенности потешается над пьяными пахарями.
С полевиком особенно часто можно встретиться у межевых ям. Спать, например, на таких местах совсем нельзя, потому что детки полевиков («межевчики» и «луговики») бегают по межам и ловят птиц родителям в пищу. Если же они найдут здесь лежащего человека, то наваливаются на него и душат.
Как все нечистые духи, полевики – взяточники, гордецы и капризники. И с этими свойствами их крестьяне вынуждены считаться. Так, например, орловские землепашцы раз в году, под Духов день, идут глухой ночью куда-нибудь подальше от проезжей дороги и от деревни, к какому-нибудь рву, и несут пару яиц и краденого у добрых соседей старого и безголосого петуха – несут в дар полевику, и притом так, чтобы никто не видел, иначе полевик рассердится и истребит в поле весь хлеб.
У полевиков, в отличие от прочей нечисти, любимое время – полдень[27], когда избранным счастливцам удается его видеть наяву. Впрочем, очевидцы эти больше хвастают, чем объясняют, больше путают, чем говорят правду. Так что, в конце концов, внешний облик полевика, как равно и его характер, выясняется очень мало, и во всей народной мифологии это едва ли не самый смутный образ. Известно только, что полевик зол и что подчас он любит сыграть с человеком недобрую шутку.
В Зарайском уезде, например, со слов крестьян записана такая бывальщина:
«Сговорили мы замуж сестру свою Анну за ловецкого крестьянина Родиона Курова. Вот на свадьбе-то, как водится, подвыпили порядком, а потом сваты в ночное время поехали в свое село Ловцы, что находится от нас недалеко. Вот сваты-то ехали-ехали, да вдруг и вздумал над ними подшутить полевик – попали в речку обе подводы с лошадьми. Кое-как лошадей и одну телегу выручили и уехали домой, а иные и пешком пошли. Когда же домой явились, то сватьи, матери-то жениховой, и не нашли. Кинулись к речке, где оставили телегу, подняли ее, а под телегой-то и нашли сватью совсем окоченелою».
IX. Водяной
- Мечется и плачет, как дитя больное
- В неспокойной люльке, озеро лесное.
В этом двустишье говорится о небольшом озере, берега которого все на виду и настолько отлоги, что разбушевавшийся ветер гонит две волны, нагонную и отбивную, разводя опасное волнение, так называемую толчею. В бурю оно неприступно для рыбачьих челнов, хотя именно в эту пору обещает более богатую добычу. Но и во всякое другое время, как вообще все озера круглой формы, оно пользуется недоброй славой бурного и беспокойного: самые малые ветры заставляют его колыхаться, как бы от тревожных движений какой-то невидимой чудовищной силы, покоящейся на дне его. И достаточно одного случая неудачного выезда в заподозренное озеро, окончившегося гибелью человека, чтоб в окольности, где всякий на счету и каждого жалко, прослыло оно «проклятым». Пройдут года, забудется имя несчастного, но случай останется в памяти с наслойкою придатков небывалого: простой случай превращается в легенду на устрашение или поучение грядущим векам. Одна из таких легенд связывается с именем суздальского князя Андрея Боголюбского, устроителя Залесской страны, памятного также по своим благочестивым деяниям. В темную ночь на 29 июня 1174 г. коварные царедворцы, в заговоре с шурьями и женою князя, изменнически убили его. Брат князя, Михаил, свалил казненных убийц в короба и бросил в озеро, которое с того времени до сих пор в роковую ночь волнуется. Короба с негниющими, проклятыми телами убитых в виде мшистых зеленых кочек колыхаются между берегами, и слышится унылый стон: это мучаются злобные Кучковичи. Коварная и малодушная сестра их брошена с тяжелым жерновым камнем на шее в темную глубь другого, более глубокого озера Поганого.
На всем пространстве Великой России попали в сильное подозрение и приобрели добрую и худую славу в особенности небольшие, но глубокие озера, нередко в уровень наполненные темной водой, окрашенной железною закисью. Они обилуют подземными ключами и теми углублениями дна в форме воронки, которые образуют пучины, где выбиваются воды из бездны или поглощаются ею. Темными ночами в одиночестве к таким водоемам никто не решается подходить. Многим чудится тут и громкое хлопанье, точно в ладоши, и задавленный хохот, подобно совиному, и вообще признаки пребывания неведомых живых существ, рисующихся напуганному воображению в виде туманных призраков. А так как этому воображению не указано предельных рамок, то и те светлые озера, которые очаровывают своими красивыми отлогими или обсыпчатыми, крутыми берегами, привлекательные веселым и ласкающим видом, не избавлены также от поклепов и не освобождены в народном представлении от подозрений.
Во многих из них всё, начиная от чрезвычайных глубин, от разнообразной игры в переливах света и причудливых отражений на ясной зеркальной поверхности, настраивает послушное воображение на представление картин в виде следов исчезнувших селений и целых городов, церквей и монастырей. С образца и примера четырех библейских городов, погребенных за содомские грехи в соленых водах Мертвого моря, народная фантазия создала несколько подобных легенд о наших русских озерах. И у нас, как и у других народов, оказались такие же подземные церкви и подводные города. Так что в этом отношении французская Бретань ничем не отличается от русской Литвы. Во французской Бретани в незапамятные времена поглощен морем город Ис, и рыбаки во время бури видят в волнах шпицы церквей, а в тихую погоду слышится им как бы исходящий из глубины звон городских колоколов, возвещающих утреннюю молитву. «Мне часто кажется, что в глубине моего сердца, – пишет Эрнест Ренан, – находится город Ис, настойчиво звонящий колоколами, приглашающими к священной службе верующих, которые уже не слышат. Иногда я останавливаюсь, прислушиваясь к этим дрожащим звукам, и мне представляются они исходящими из бесконечной глубины, словно голоса из другого мира. В особенности с приближением старости мне приятно во время летнего отдыха представлять себе эти далекие отголоски исчезнувшей Атлантиды».
В тридцати верстах от гродненского Новогрудка разлилось небольшое озеро (версты на две в диаметре), по имени Свитязь, – круглое, с крутыми береговыми скалами, поглотившее город того же имени за грехи жителей, нарушивших общеславянскую заповедь и добродетель гостеприимства (они не принимали путников, и ни один из таковых в их городе не ночевал). Поэт Литвы Мицкевич вызвал из недр этого озера поэтический образ женщины («Свитезянки»), превратившейся, подобно жене Лота, в камень за такое же нарушение обещания не оглядываться назад после выхода из города, обреченного на гибель. Еще в 50-х годах прошлого столетия виден был в этом озере камень, издали похожий на женщину с ребенком, но теперь он затоплен водой и рвет у неосторожных рыбаков сети[28].
В Керженских заволжских лесах, некогда знаменитых в истории нашего раскола, в сорока верстах от города Семенова, близ села Люнды (оно же и Владимирское), расположилось озеро Светлоярое, на берега которого в заветные дни (на праздники Вознесения, Троицы, Сретения и чествования имени Владимирской Божьей Матери, с 22 на 23 июня) стекается великое множество богомольного люда (особенно на последнюю из указанных ночь). Напившись святой водицы из озера, которое неустанно колышется, и отдохнув от пешего хождения, верующие идут с домашними образами, со старопечатными требниками и новыми псалтирями молиться к тому холму (угору), который возвышается на юго-западном берегу озера. Разделившись в молитве на отдельные кучки, молятся тут до тех пор, пока не одолеет дремота и не склонит ко сну. На зыбких болотистых берегах вкушают все сладкий сон – с верою, что здешняя трясина убаюкивает, как малых детей в люльке, и с надеждою, что если приложить к земле на угоре ухо, то послышится торжественный благовест и ликующий звон подземных колоколов. Достойные могут даже видеть огни зажженных свеч, а на лучах восходящего солнца – отражение тени церковных крестов. Холм и вода скрывают исчезнувший православный город Большой Китеж, построенный несчастным героем Верхнего Поволжья, русским князем Георгием Всеволодовичем, убитым (в 1238 г.) татарами в роковой битве на реке Сити, закрепостившей Русь татарам. Когда, по народному преданию, безбожный царь Батый с татарскими полчищами разбил князя, скрывавшегося в Большом Китеже, и убил его (4 февраля), Божья сила не попустила лихого татарина овладеть городом: как был и стоял этот город со всем православным народом, так и скрылся под землею и стал невидимым, и так и будет он стоять до скончания века.
Еще более странными верованиями, ввиду редких и любопытных явлений природы, поражает громадная страна, занявшая весь северо-запад России и известная под именем Озерной области.
Здесь непокоренная, дикая и своевольная природа представляет такие поражающие и устрашающие явления, объяснение которых не только не под силу младенчествующему уму, но которые заставляют довольствоваться догадками и предположениями даже развитой и просвещенный ум. Среди олонецких озер существуют, например, такие, которые временно исчезают, иногда на долгие сроки, но всегда с возвратом всей вылившейся воды в старую обсохлую котловину[29]. В одном озере (Шимозере, в десять квадратных верст величины и до четырех саженей глубины) вся вода исчезает так, что по пустынному полю, бывшему дном, извивается только небольшой ручей, продолжающий течь и подо льдом. Пучина другого озера (Долгого) никогда не усыхает окончательно, как в первом, но вода и здесь убывает значительно; к Рождеству лед садится прямо на дно, образуя холмы, ямы и трещины; весной вода наполняет озеро, переполняет его и затем начинает показывать новое чудо – течение обратное. Вода третьего озера (Куштозера), высыхая, уводила с собой куда-то и рыбу, доходящую в озере до баснословных размеров. Рыба снова возвращалась сюда, когда с проливными осенними дождями озеро снова наполнялось водой в уровень с высокими берегами, а иногда и выше, до горной гряды, окаймляющей озерную котловину. Четвертое озеро (Каинское) высыхало так, что дно его казалось дикой степью: люди ходили здесь как по суше. Однажды, два года кряду, крестьяне косили здесь сено и довольно удачно сеяли овес.
Эти в высшей степени любопытные явления, несомненно, ждут еще научного объяснения, хотя и теперь известно, что они зависят от строения известковых горных пород, господствующих в этом краю, и от существования подземных рек, следы которых ясно уловлены и скрытое подземное течение ясно доказано. Видимые следы их обнаружены через те провалы, которые зачастую здесь появляются и известны под именем «глазников» или «окон». Сверх того, скрытое под землей пребывание этих рек доказывается тем, что на тех местах, где, выщелащиваясь, оседает земля и образует пустоты, выступают на поверхность маленькие озера. В других случаях та же река выходит в виде огромных размеров родника (до десяти саженей в диаметре), никогда не замерзающего, а вода бьет струей, напоминающей клубы дыма из большой пароходной трубы.
Как же объяснить подобные загадочные явления темному уму, воспитанному на суевериях, если не призвать на помощь нечистую силу? И народ наш так и делает.
В Олонецком краю, богатом до чрезмерного избытка бесконечной цепью озер, имеются такие, где, заведомо всем окрестным жителям, поселился водяной. И слышно его хлопанье в ладоши, и следы свои на мокрой траве он оставляет въяве, а кое-кто видал его воочию и рассказывал о том шепотком и не к ночи. Тихими лунными ночами водяной забавляется тем, что хлопает ладонями по воде гораздо звончее всякого человека, а когда рассердится, то и пойдет разрывать плотины и ломать мельницы: обмотается тиной (он всегда голый), подпояшется тиной же, наденет на вострую голову шапку из куги (есть такое безлистное, болотное растение, которое идет на плетушки разного рода и сиденья в стульях), сядет на корягу и поплывет проказить. Вздумается ему оседлать быка, или корову, или добрую лошадь, считай их за ним: они либо в озерных берегах завязнут, либо в озерной воде потонут. Водяному всякая из них годится в пищу[30]. Один олонецкий водяной так разыгрался и разбушевался, что осмелился и над людьми вышучивать свои злые проказы: вздумает кто в его озере искупаться – он схватит за ногу и тащит к себе в глубь омута на самое дно. Здесь сам он привычно сидит целыми днями (наверх выходит лишь по ночам) и придумывает разные пакости и шалости.
Жил он, как и все его голые и мокрые родичи, целой семьей, которая у этого олонецкого водяного была очень большая, а потому он, как полагают, больше всех товарищей своих и нуждался в свежих мертвых телах. Стал окрестный народ очень побаиваться, перестал из того озера воду брать, а наконец и подходить близко к нему, даже днем. Думали-гадали, как избавиться, и ничего не изобрели. Однако нашелся один мудрый человек из стариков-отшельников, живших в лесной келейке неподалеку. Он и подал добрый совет: «Надо, – говорит, – иконы поднять, на том берегу Миколе-угоднику помолиться, водосвятной молебен заказать и той святой водой побрызгать в озерную воду с кропила». Послушались мужички: зазвонили и запели. Впереди понесли церковный фонарь и побежали мальчишки, а сзади потянулся длинный хвост из баб, и рядом с ними поплелись старики с клюками. Поднялся бурный ветер, всколыхнулось тихое озеро, помутилась вода – и всем стало понятно, что собрался водяной хозяин вон выходить. А куда ему бежать? Если на восход солнца, в реку Шокшу (и путь недальний – всего версты две), то как ему быть с водой, которая непременно потечет за ним следом, как ее поднять: на пути стоит гора крутая и высокая. Кинуться ему на север в Оренженское озеро – так опять надо промывать насквозь или совсем взрывать гору: водяной черт, как домосед и малобывалый, перескакивать через горы не умеет, не выучился. Думал было он пуститься (всего сподручнее) в Гончинское озеро по соседству, так оттуда именно теперь и народ валит, и иконы несут, и ладаном чадят, и крест на солнышке играет, сверкая лучами: страшно ему и взглянуть в ту сторону. «Если, – думает он, – пуститься смаху и во всю силу на реку Оять (к югу) – до нее всего девять верст, – так опять же и туда дорога идет по значительному возвышению: сидя на речной колоде, тут не перегребешь». Думал-думал водяной, хлопал голыми руками по голым бедрам (все это слышали) и порешил на том, что пустился в реку Шокшу[31]. И что этот черт понаделал! Он плывет, а за ним из озера целый поток уцепился, и вода помчалась, как птица полетела, по стоячим лесам и по зыбучим болотам, с шумом и треском (сделался исток из озера в реку Шокшу). Плывет себе водяной тихо и молча, и вдруг услыхали все молельщики окрик: «Зыбку забыл, зыбку забыл!» И в самом деле – увидали в одном куту (углу) озера небольшой продолговатый островок (его до сих пор зовут «зыбкой водяного»). Пробираясь вдаль по реке Шокше, водяной зацепился за остров, сорвал его с места, тащил за собой около пяти верст и успел сбросить с ноги лишь посередине реки. Сам ринулся дальше, но куда – неизвестно. Полагают, что этот водяной ушел в Ладожское озеро, где всем водяным чертям жить просторно повсюду и неповадно только в двух местах, около святых островов Коневецкого и Валаамского. Тот же остров, что стащил водяной со старого места, и сейчас не смыт, и всякий его покажет в шести верстах от Виницкого погоста, а в память о реке Шокше его зовут Шокшостровом. С уходом того водяного стал его прежний притон всем доступен. Несмотря на большую глубину озера, до сих пор в нем никто еще не утонул, и назвали это озеро Крестным (Крестозером) и ручей тот, проведенный водяной силой, Крестным.
Водяной находится в непримиримо враждебных отношениях с дедушкой домовым, с которым при случайных встречах неукоснительно вступает в драку. С добряками-домовыми водяные не схожи характером, оставаясь злобными духами, а потому всеми и повсюду причисляются к настоящим чертям. Людям приносят они один лишь вред и радостно встречают в своих владениях всех оплошавших, случайных и намеренных утопленников (самоубийц). На утопленницах они женятся, а еще охотнее на тех девицах, которые прокляты родителями.
В выборе мест для жительства водяные неразборчивы и вместо чистых и прозрачных озерных пучин охотно селятся в реках, причем из рек предпочитают те, которые прорезаются сквозь непроницаемые чащи еловых боров и тихо, медленно пробираются в низменностях и впадинах. Сюда, сквозь сеть сплетшихся корней, никогда не проникают солнечные лучи; здесь опрокинутые в воду деревья бурелома никем не прибираются и никому не нужны. Они образуют или естественные мосты, или самородные плотины, а между ними получаются те глубокие, обрывистые омуты, какие намеренно устраиваются около мельниц. Тут любят водиться крупные щуки, и нередко приселяются речные богатыри, придорожные разбойники, усачи-сомы. Не брезгуя ни лесными, ни мельничными омутами, водяные духи предпочитают, однако, «пади» под мельницами, где быстрина мутит воду и вымывает ямины. Под мельничными колесами они будто бы обыкновенно любят собираться на ночлег. В это-то время ловкие и зоркие мельники видали духов в человеческом образе с длинными пальцами на ногах, с лапами вместо рук, с двумя, изрядной длины, рогами на голове, с хвостом назади и с глазами, горящими подобно раскаленным угольям (это в Смоленской губернии). Во Владимирской губернии водяного знают седым стариком; в Новгородской (Череповецкий уезд) видали его в виде голой бабы, которая, сидя на коряге, расчесывала гребнем волосы, из которых бежала неудержимой струей вода. У вологжан (например, Никольского уезда) водяные духи, имея человеческий вид, обросли травой и мохом и росту бывают очень высокого, а в Грязовецком уезде – они черные, глаза у них красные, большие, в человеческую ладонь, нос величиной с рыбацкий сапог; в Кадниковском видали духа в виде толстого бревна, с небольшими крыльями у переднего конца, летящим над самою водою. У орловского водяного борода зеленого цвета и только на исходе луны – белая, седая; волосы точно так же длинные и зеленые. Из воды в этих местах он показывается только по пояс и очень редко выставляется и выходит весь. Ярославский водяной (в Пошехонье) любит гулять по берегу, наряжаться в красную рубаху; уломский водяной (Новгородская губерния) несколько раз уличен был самовидцами в том, что прикидывался иногда свиньей. В вологодских реках водяной принимает иногда вид и образ громадной рыбы (пудовой щуки), одетой моховым покровом, которая, в отличие от всех рыбных пород, при плавании держит морду обычно не против течения, а по воде. Раз видели такую рыбу крылатой (в Двинской волости), видели все до единого, и ни один человек не дерзал к этой реке подходить. Нашелся, однако, смельчак, который и разобрал, в чем дело: оказалось, что ястреб вонзился когтями в огромную щуку, и столь глубоко и крепко, что не мог их вытащить из рыбьей спины в то время, когда погружался в воду. Там он захлебнулся и погиб, а затем, мертвым телом, с распростертыми в предсмертных судорогах крыльями, закоченел и стал появляться таким образом на щуке под водою и над водою. В Тульской губернии (Одоевский уезд) в зарослях реки Упы (около села Анастасова) поселилась птица, водяной бык, или выпь[32], невиданная здесь до тех пор и неслыханная. Не было сил разуверить крестьян в том, что этот ночной рев, похожий на рев коровы, не производит водяной черт, а издает птица во время сидки на яйцах…
Недоброжелательство водяного к людям и злобный характер этого беса выражается в том, что он неустанно сторожит за каждым человеком, являющимся по разным надобностям в его сырых и мокрых владениях. Он уносит в свои подземные комнаты, на безвозвратное житье, всех, кто вздумает летней порой купаться в реках и озерах после солнечного заката, или в самый полдень, или в самую полночь. (Эти «дневные уповоды» считает он преимущественно любимыми и удобными для проявления своей недоброй и мощной силы.) Кроме того, на всем пространстве громадной Великороссии он хватает цепкими лапами и с быстротой молнии увлекает вглубь всех забывших при погружении в воду осенить себя крестным знамением. С особенным торжеством и удовольствием он топит таких, которые вовсе не носят тельных крестов, забывают их дома или снимают с шеи перед купанием. Под водой он обращает эту добычу в кабальных рабочих, заставляет их переливать воду, таскать и перемывать песок и т. д. Сверх того, водяной замучивает и производит свои злые шутки с проходящими, забывшими перекреститься во время прохода нечистых мест, где он имеет обычай селиться и из водных глубин зорко следить за оплошавшими. Таких «поганых» мест много в лесистых местностях Северной России, и почти все они известны там наперечет.
Кровоподтеки в виде синяков на теле, раны и царапины, замечаемые на трупах вынутых из воды утопленников, служат наглядным свидетельством, что эти несчастные побывали в лапах водяного. Трупы людей он возвращает не всегда, руководясь личными капризами и соображениями, но трупы животных почти всегда оставляет для семейного продовольствия.
Хорошо осведомленные люди привычно не едят раков и голых рыб (вроде налимов и угрей), как любимых блюд на столе водяного, а также и сомовину за то, что на сомах вместо лошади ездят под водой эти черти.
Как и вся бесовская сила, водяные любят задавать пиры, и на них угощать родичей из ближних и дальних омутов, и вести сильные азартные игры. Так, известен рассказ о том, как куштозерский водяной князь связался на азартной игре в кости с могучим царем таких больших владений, как озеро Онего. Для этого богача и риск был нипочем, и в игре он был искуснее, и потому захолустный царек-князек проигрывался всякий раз, как только снимался играть с могучим царем на крупных ставках. Все такие ставки обыкновенно кончались тем, что проигрывал он и воду, и рыбу, а затем и себя самого кабалил. Проигравшись в пух, он и уходит к царю Онегу зарабатывать проигрыш и живет у него в батраках, пока не очистится. Когда же исполнится договорный срок, он возвращается в свое логовище с водой и обзаводится новой рыбой.
По известиям из черноземных мест Великороссии (губерний Калужской, Рязанской, Тульской и др.), водяные для своих пиров имеют хрустальные палаты. Орловцы прибавляют еще к прочим украшениям хрустального дворца золото и серебро из потонувших судов и камень-«самоцвет», ярче солнца освещающий морское дно.
Никогда не умирая, водяные цари тем не менее на переменах луны изменяются: на молодике они и сами молоды, на ущербе превращаются в стариков. Около Орла поговаривают о библейских фараонах, потопленных в Черном море; им тоже указано жить в воде, но, в отличие от бесов, они должны умирать, а при жизни неизменно оставаться в одном и том же образе: в человеческом туловище, но с рыбьим хвостом вместо ног. Наоборот, водяные северных холодных лесов, чумазые и рогатые, вместо всяких хрустальных палат с серебряными полами и золотыми потолками, довольствуются песчаным полом обширных водоемов.
Подобно тому как плотникам не мешает дружба с домовым, а для охотников обязательна связь с лешими – с водяным также приходится людям входить в ближайшие сношения, находиться в подчинении у них и заискивать.
От водяных чертей доводится терпеть и всего больше страдать, конечно, мельникам, хотя шутки шутят они и над рыбаками, и над пчеловодами. Привычные всю свою жизнь иметь дело с водой, мельники достигают таких удобств, что не только не боятся этих злых духов, но вступают с ними в дружеские отношения. Они живут между собой согласно, на обоюдных угождениях, руководясь установленными приемами и условленными правилами.
Пословица говорит, что «водой мельница стоит, да от воды и погибает», а потому-то все помыслы и хлопоты мельника сосредоточены на плотине, которую размывает и прорывает не иначе как по воле и силами водяного черта. Оттого всякий день мельник, хоть дела нет, а из рук топора не выпускает и, сверх того, старается всякими способами ублажить водяного по заветам прадедов. Так, например, упорно держится повсюду слух, что водяной требует жертв живыми существами, особенно от тех, которые строят новые мельницы. С этой целью в недалекую старину сталкивали в омут какого-нибудь запоздалого путника, а в настоящее время бросают дохлых животных (непременно в шкуре). Вообще, в нынешние времена умиротворение сердитых духов стало дешевле: водяные, например, довольствуются и мукой с водой в хлебной чашке, и крошками хлеба, скопившимися на столе во время обеда, и т. п. Только по праздникам они любят, чтобы их побаловали водочкой. Сверх этих обычных приемов задабривания водяных, многие мельники носят при себе шерсть черного козла, как животного, особенно любезного водяному черту. Осторожные и запасливые хозяева при постройке мельницы под бревно, где будет дверь, зарывали живым черного петуха и три «супорыжки», т. е. стебля ржи, случайно выросших с двумя колосьями; теперь с таким же успехом обходятся лошадиным черепом, брошенным в воду с приговором. В тех же целях на мельницах все еще бережно воспитываются все животные черной шерсти (в особенности петухи и кошки). Это на тот случай, когда водяной начнет озлобленно срывать свой гнев на хозяев, прорывая запруды и приводя в негодность жернова: пойдет жернов, застучит, зашепчет да и остановится, словно за что-нибудь задевает.
Удачи рыболовов также находятся во власти водяных. Старики до сих пор держатся двух главных правил: навязывают себе на шейный крест траву петров крест[33], чтобы не «изурочилось», т. е. не появился бы злой дух и не испортил всего дела, и из первого улова часть его или первую рыбу кидают обратно в воду, как дань и жертву. Идя на ловлю, бывалый рыбак никогда не ответит на вопрос встречного, что он идет ловить рыбу, так как водяной любит секреты и уважает тех людей, которые умеют хранить тайны. Некоторые старики-рыболовы доводят свои угождения водному хозяину до того, что бросают ему щепотки табака («На тебе, водяной, табаку: давай мне рыбку») и, с тою же целью подкупа, подкуривают снасть богородской травкой и т. д.
А затем и у рыбаков, как и у охотников, сохраняется множество рассказов о неудачных встречах с водяными, о шутках, проказах этих духов и т. п.
Пчеловоды поставили свое чистое дело – уход за прославленной «Божьей угодницей» пчелкой – также в зависимость от водяного и исстари придерживаются обычая кормить его свежим медом и дарить воском, понемногу из каждого улья, накануне Спасова дня (Преображения Господня), ночью, до петухов. Точно так же об ту же пору пчеловод несет первый рой, или «первак», в пруд или болото и там его топит. При этом он судит так, что когда водяному станет в воде душно – он ломает лед, вода прибывает, делается разлив. Такой разлив, хотя, быть может, и не затопит пчельника, да худо уже то, что накопляется в воздухе излишняя сырость, а она-то и составляет для пчелок сущую погибель, неустранимое несчастье: ко всему выносливо Божье созданьице, но нескольких капель косого дождя достаточно, для того чтобы погиб целый улей. Опасливые суеверы из пчеловодов не задумываются бросать водяному сот с медом первой нарезки фунтов по пять-десять зараз. В награду за такие подарки водяной дает кукушку и приказывает хозяину пчел посадить эту птицу в отдельный улей и поставить его где-нибудь в сторонке, чтобы никто не видал и не открывал. Если кто этот улей откроет, то птица улетит, а за нею улетят и все пчелы. При этом знающие люди толкуют, что мед от таких пчел, которых напускает водяной, будет плохой на вкус и не столь сладкий, и соты не такие, как у настоящих пчел: у этих луночки в сотах выходят крестиками, а пчелы водяного строют соты кружочками.
Кроме услуг профессионального характера, водяные бывают полезны и в некоторых других случаях. Так, например, для того, чтобы отыскать местонахождение тела утопленника и исхитить его из объятий водяного, достаточно пустить на воду деревянную чашку с тремя восковыми свечами, прикрепленными по краям: погрузившись, она останавливается – и всякий раз над тем местом, где лежит утопленник. Это поверье лишний раз доказывает, насколько еще существенна и жива в народе вера в водяного и могуществен беспричинный страх, порождаемый этой верой. Водяной, подобно всем духам из нечисти, не только «дедушко», как привычно зовут его, но и подлинный «пращур», каковым имеет он бесспорное право считаться.
Впрочем, подобно тому, как с истреблением лесов ослабевает вера в леших и за справками о них приходится обращаться уже на далекие окраины, в темные вологодские сюземы и непролазные костромские раменья, – так и с высыханием рек и осушением болот постепенно тускнеет образ водяного: начавшиеся среди водяных предсмертные беспокойства выражаются пока в переселениях, или переплывах, из святых озер в поганые. Но для них все же еще много остается приволья и простора в громадной озерной олонецкой стране и в тех неодолимых болотах, которые разлеглись во множестве мест громадными площадями, составляющими целые страны, подобно белорусскому Полесью, вятскому Зюздинскому краю и т. д. Здесь, в удобных местах, живут не по одному, а даже по нескольку водяных вместе. Кругом же и около, вблизи и вдали, остаются все те же мыслящие живые люди, неспособные в своих верованиях отрешиться от тех вещественных и материальных образов, которые рисует им воображение, ограниченное лишь пятью чувствами.
X. Русалки
Поэтический образ фантастических жилиц надземных вод, вдохновлявший поэтов всех стран и соблазнявший художников всех родов изящных искусств, еще живет в народном представлении, несмотря на истекшие многие сотни лет. В качестве наследства от языческих предков славян, принесенного с берегов тихого Дуная на многоводные реки славянского востока и на его глубокие и светлые озера, этот миф значительно изменился в Великороссии. Из веселых, шаловливых и увлекательных созданий западных славян и наших малороссов русалки в стране угрюмых хвойных лесов превратились в злых и мстительных существ, наравне с дедушкой водяным и его сожительницами, вроде «шутовок» и «берегинь». Таким образом, между малороссийскими «мавками», или «майками», и «лешачихами» лесной России образовалась большая пропасть, отделяющая древние первобытные верования от извращенных позднейших. Русалок, поющих веселые песни восхитительными и заманчивыми голосами, заменили на лесных реках растрепы и нечесы: бледнолицые, с зелеными глазами и такими же волосами, всегда голые и всегда готовые завлекать к себе только для того, чтобы без всякой особой вины защекотать до смерти и потопить. При этом следует заметить, что в Великороссии даже не всегда про них знают. В редких местностях вообще о них вспоминают и рассказывают как о существах живых и действующих, подобно прочей злой и уродливой нечисти. Но зато повсеместно сохранилась так называемая «русальная неделя» и «русалкино заговенье» (на Петровки, или Апостольский пост). И эти празднества ясно показывают, насколько северная лесная русалка не похожа на ту, которая пленяла и вдохновляла, между прочим, и наших великих поэтов.
Уже одно то, что русалка изображается (например, в приволжских местах) в виде соломенного чучела, а кое-где даже в виде взнузданного лошадиного черепа, укрепленного на шесте, показывает, как потускнел и вылинял в Великороссии поэтический миф о грациозной красавице-русалке. Только в слабых и постепенно смолкающих песенных отголосках еще мелькает образ этих красивых существ и сберегаются о них слабеющие воспоминания. Но зато тут успели уже войти в обычай иные чествования, именно чествования кукушки – весенней вестницы. Девушки крестят ее в лесу, кумятся между собой и завивают венки на березе (завивают на семик в четверг, а развивают на следующее воскресенье, приходящееся в Троицын день). Тем не менее на десятой неделе по Святой Пасхе, сохранившей древнее народное название «русальной», или «русальской», ни одна деревенская девушка не решится пойти в лес без товарок, именно из боязни «злых русалок», которые, по народному представлению, на это время переселяются из речных и озерных омутов в леса. В ту же самую пору мужики принимаются «русальничать», т. е. гулять на все лады и пить целую Всесвятскую неделю до самого заговенья.
Вот почему за точными справками о русалках необходимо обращаться на юг – к малороссам. В Великороссии же более подробные сведения о русалках получаются главным образом из губерний Тульской, Орловской, Калужской и Пензенской[34]. Но и здесь веселый образ русалки омрачается недобрыми, злыми свойствами.
Оставляя с Троицына дня воды и рассыпаясь вплоть до осени по полям, перелескам и рощам, русалки выбирают себе развесистую, склонившуюся над водой иву или плакучую березу, где и живут. Ночью, при луне, которая для них ярче обычного светит, они качаются на ветвях, аукаются между собой и водят веселые хороводы с песнями, играми и плясками. Где они бегали и резвились, там трава растет гуще и зеленее, там и хлеб родится обильнее. Тем не менее от русалок не столько пользы, сколько вреда: когда они плещутся в воде и играют с бегущими волнами или прыгают на мельничные колеса и вертятся вместе с ними, то все-таки не забывают спутывать у рыбаков сети, а у мельников портить жернова и плотины. Они могут насылать на поля сокрушительные бури, проливные дожди, разрушительный град; похищают у заснувших без молитвы женщин нитки, холсты и полотна, разостланные на траве для беленья; украденную пряжу, качаясь на древесных ветвях, разматывают и подпевают себе под нос хвастливые песни. В таких случаях находятся разнообразные средства и способы для борьбы с затеями лихих русалок, чтобы делать их безвредными для деревенского домашнего хозяйства.
Кроме церковного ладана (незаменимого средства против всякой нечистой силы), против чар и козней русалок отыскалось еще снадобье, равносильное священной вербе и свечам Страстной недели, – это «полынь, трава окаянная, бесколенная». Надо только пользоваться ее силой и применять ее на деле умеючи. Уходя после Троицына дня в лес, надо брать эту траву с собою. Русалка непременно подбежит и спросит:
– Что у тебя в руках: полынь или петрушка?
– Полынь.
– Прячься под тын, – громко выкрикнет она и быстро пробежит мимо.
Вот в это-то время и надо успеть бросить эту траву прямо русалке в глаза. Если же сказать «петрушка», то русалка ответит:
– Ах, ты моя душка, – и примется щекотать до тех пор, пока не пойдет у человека изо рта пена и не повалится он, как мертвый, ничком.
Хотя во Владимирской губернии и помнят еще древних русалок и признают даже два их вида (водяных и домашних), но ни те ни другие не отмечаются такими нежными, привлекательными чертами, как южные их сестры. Поверья северян и южан связаны между собой лишь в том общем убеждении, что русалки – людские дети, умершие некрещеными, либо потонувшие или утопившиеся девушки. Во многих местах думают, что это дети, обмененные в то время, когда роженицу оставляют одну в бане и она лежит без креста, а ребенок подле нее спит некрещеным.
Всем русалкам разрешается выходить из воды еще на Светлое Воскресенье, когда обносят кругом церкви плащаницу. И потому в это время надо запирать двери в храм как можно крепче, из опасения, как бы не набежали русалки.
В этом поверии, на первый взгляд несколько странном, можно различить следы древнеславянского почитания душ умерших: весною, когда вся природа оживает, по верованию древних славян, оживали и души умерших и бродили по земле.
Эта связь между природой и душами умерших привлекала к себе внимание многих ученых, которые делают в этом направлении настолько остроумные сближения, что на них необходимо остановиться хоть на короткое время.
Души умерших, т. е. русалки, суть представители царства смерти, тьмы и холода, поэтому-то с наступлением весны хотя они и оживают, но обитают все-таки в темных недрах земных вод, еще холодных весною. С Троицына дня русалки оставляют воды и живут в лесах на деревьях.
Но вот наступает время купальских дней. Солнце, купаясь в водах, освещает эти воды и оживотворяет. Уместно ли русалкам, представительницам смерти, обитать в водах, освященных купанием живоносного солнечного божества? И вот, по тому же народному поверью, они оставляют воды и лезут на зеленые деревья, служившие, по верованию древних славян, жилищем мертвецов.
Так, между прочим, объясняет русальские праздники А. В. Балов, доставивший самые интересные данные по великорусской демонологии из Пошехонского уезда Ярославской губернии.
XI. Оборотни
От русалок прямой переход к «оборотням» – таким же мнимым существам, почти однородного происхождения. Чтобы стать настоящей русалкой, т. е. потерять навсегда право и возможность возвратиться в первобытное состояние, по народным толкам, необходимо четыре года. Только девушкам-самоубийцам возврата назад нет. Точно так же не закрыт путь для обратного превращения в людей всякого сорта оборотням, не исключая даже волколаков, крепче других зачурованных.
Эти «волкодлаки» (по-старинному), или «волколаки»[35] (по современному произношению малороссов и белоруссов), суть всего чаще люди, обращенные в волка, который затем может оборачиваться в собаку, кошку, в куст, пень и проч. (Ведьмы также обращаются в волколаков и обращают других.) Несмотря на то что это поверье свойственно всем европейским народам (фр. Loup-garou, нем. Wehrwolf и проч.), но наибольшей распространенностью и устойчивостью оно пользуется на юге и на западе. Так, например, в то время, как в Великороссии вера в волколаков привилась чрезвычайно слабо, в среде белоруссов и малороссов она является самой законченной, полной живых образов и совершенно искренней. У них стоит лишь найти в лесу гладко срубленный пень, воткнуть в него с приговорами нож и перекувырнуться через него – станешь вовкудлаком. Порыскав волком, надо забежать с противной стороны пня и перекувырнуться обратно; если же нож кем-нибудь похищен, то придется остаться перевертышу на век волком. Так объясняет это поверье Даль в Толковом словаре великорусского языка.
Что касается великорусских воззрений на волколаков и оборотней, то, не навязывая доказательств, почерпнутых из личных наблюдений, мы имеем в настоящем случае возможность представить подкрепление в сообщениях, полученных нами от многочисленных корреспондентов из лесных и подмосковных (южных черноземных) губерний. Так, например, из Дорогобужского уезда Смоленской губернии господин Гринев пишет: «Вера в оборотней среди народа существует и теперь, хотя далеко и не в такой степени, как это было сравнительно немного времени тому назад».
Из Череповецкого уезда Новгородской губернии сообщают: «В настоящее время в оборотней редко кто верит: есть несколько стариков, которые говорят, что оборотни есть».
Из Тотемского уезда Вологодской губернии: «Людей оборачивали в волка или медведя когда-то очень давно, когда были сильные колдуны; впрочем, есть вера, что и ныне „в зырянах“ еще есть такие колдуны, что могут человека пустить волком».
Из Сарапульского уезда Вятской губернии: «Раньше, в старые годы, были такие колдуны, что целые свадьбы могли оборачивать в волков. Едет свадьба под венец или из-под венца – и всю свадьбу сделают волками; навсегда так и бегают. Теперь этого нет, не слыхал вовсе».
Таковы на выдержку известия с Севера, а вот из подмосковных местностей – из Рязанской губернии (Скопинский уезд): «В оборотней крестьяне верят и боятся встречи с ними». Из Саратовской губернии (Хвалынский уезд): «В оборотней народ верит и представляет их в виде свиньи, коровы, собаки, козла или вообще чудовища. Люди в оборотней обращаются сами собой, для чего надо воткнуть два ножа в рот, прочитать заклинание и три раза перекувырнуться».
Из Калужской губернии (Мещовский уезд): «Узнать оборотней легко можно по тому, что у них задние ноги имеют колена вперед, как у человека, а не назад, как у волка. Людям они вреда не делают, кроме тех, кто их испортил; те не должны им попадаться навстречу».
Из Медынского уезда той же губернии: «В существование оборотней верят, но волколаков не знают. Оборотнями делаются колдуны: скидываются чаще всего в свиней, скидываются кошками, собаками, даже петухами или сорокой».
Из Пензенской губернии пишут: «При въезде в село Шигонь, Инсарского уезда, в восточной стороне, находится пересохший ручей, называемый Юр. Из-под моста по ночам выходят гусь и свинья, происхождение которых неизвестно, и нападают на проходящих, особенно на пьяных. По мнению народа, эти животные – оборотни и колдуны», и т. д.
Сопоставляя все эти противоречивые рассказы об оборотнях, нельзя не прийти к заключению, что вера в них значительно ослабла и рассыпалась на множество осколков, из которых с трудом можно составить себе цельное представление об этой нечистой силе. Даже в северных лесных трущобах, считающихся колыбелью всяких суеверий, миф об оборотнях не вылился в законченную форму. Оборотни здесь – существа временные, а не постоянные, являющиеся таковыми на ту лишь пору, когда требуют различные обстоятельства (например, желание отомстить и даже подшутить и тому подобное). В таких случаях оборотнями «скидываются на время» сами колдуны, или, как называют их в вологодских краях, «опасные». Здесь «оборачивают» некрещеных младенцев, девушек, лишивших себя жизни, – и в настоящих оборотней, и в обменок, и в русалок без всякого различия. Сами колдуны обращаются в таковых же после смерти в тех случаях, «если колдун продал свою душу черту». Избавить его можно лишь в том случае, если перед смертью перерезать ему на ногах сгибательные пяточные сухожилия. Тогда он уже теряет возможность ходить или шататься по земле. «Оборотни, – пишут из Кадниковского уезда, – бывали еще на нашей памяти (т. е. в памяти живущего поколения), когда целые свадебные поезда, прямо из-за стола, колдуны пускали волками…»
XII. Колдун-чародей
Прошло то доброе старое время, когда под шумок веретена охотно слушались повести о геройских подвигах могучих богатырей, – на нашей памяти наступают иные времена, когда под стук швейных машин на устах присяжных сказочников-портных стала уже смолкать сказка-складка. Но колдун-чародей все еще не забыт и все еще властен и крепок, несмотря на свое почтенное долголетие. Он точно тот старый дуб, у которого давно гниет сердцевина, но которого не свалила буря, благодаря лишь тому, что его корень так глубоко проник в землю, как ни у одного из прочих лесных деревьев. Самая внешность колдуна, строгая и внушительная, очень напоминает старый дуб. Вспомните обсыпанную снегом фигуру чародея, который стоит на переднем плане превосходной картины нашего жанриста (В. М. Максимова). Внезапно этот чародей явился на свадебный пир и всех напугал не на шутку; молодые вскочили с места и остолбенели от страха, батюшка-поп находится в тревоге, а все остальные настолько испуганы, что на лицах их одновременно можно читать выражение и страха, и раскаяния: забыли, дескать, позвать колдуна – жди теперь беды; он оскорблен, он отомстит, и запоздалым угощением его теперь не задобрить.
Суеверный страх перед колдунами покоится на общенародном убеждении, что все они состоят в самых близких отношениях с нечистой силой и что черти не только исполняют все их поручения, но даже надоедают, требуя для себя все новой и новой работы. Что ни придумают чародеи – все чертям нипочем, одна забава; выдумал один колдун заставить их овин молотить – в одну ночь измолотили так, что и соломы обирать не надо: осталась одна мякина. Дал другой меру овса в меру льняного семени, велел обе смешать и отобрать по зернышку, каждое в отдельное место: думал, что над льняными зернами, скользкими и увертливыми, черти надсадятся, а они в полчаса всю работу прикончили. Пошлют иные колдуны на елке хвою считать, каждую иголку перебрать, чтобы бесы искололи себе лапы, изошли кровью от уколов, а они сказывают верным счетом да еще самодовольно ухмыляются. Другие затейники на осину им указывают: сосчитайте, мол, листья (а осиновый лист, как известно, неподатлив: без ветру изгибается, без устали шевелится, ухватить себя лапами не дается). Долго черти с ними бьются: пот с них льется градом, несмотря на то что на осине листьев меньше, чем иголок на елке, – однако и глазом заказчик не успеет мигнуть, как работа у чертей окончена. Опять осклабили они зубы, опять навязываются на работу. Вбил один колдун в озеро кол и оставил конец над водой. «Заливайте, – говорит, – кол». Стали черти заливать – не могут. «Теперь не скоро явятся, – думает колдун, – дня два промучаются, а я тем временем отдохну от них». Однако колдун ошибся: хотя он наказал носить воду решетом, да забыл его «зааминить», сделать по молитве таким, чтобы они не могли навести свои чары – превратить решето в лукошко. Вот черти и залили кол. Снова пришли, расхохотались: давай им что-нибудь потруднее. Тогда колдун озлился: «Вот вам чурбан из того проклятого дерева, которое вы любите за то, что на нем удавился Иуда, и под корою которого видна кровь (кора под кожицей красновата); чурбан я вырубил во весь свой рост, да с одного конца отсек от него пол-аршина. Надо вытянуть кряж так, чтобы стал по мерке снова вровень с ростом». Тянули черти три дня целых – ничего у них не вышло. Пришли покаяться и опять просить работы, хотя бы еще поскучнее – например, песок с берега перетаскать в реку по песчинке, или еще мудренее – развеять куль муки по ветру да и собрать его по порошинке.
Колдуны бывают природные и добровольные, но разницы между ними никакой, кроме того, что последних труднее распознать в толпе и не так легко уберечься от них. Природный колдун, по воззрениям народа, имеет свою генеалогию: девка родит девку, эта вторая принесет третью, и родившийся от третьей мальчик сделается на возрасте колдуном, а девочка ведьмой. Впрочем, помимо этих двух категорий колдунов, существуют, хотя и очень редко, колдуны невольные. Дело в том, что всякий колдун перед смертью старается навязать кому-нибудь свою волшебную силу, иначе ему придется долго мучиться, да и мать сыра земля его не примет. Поэтому знающие и осторожные люди тщательно избегают брать у него из рук какую-нибудь вещь, даже самые близкие родные стараются держаться подальше, и если больной попросит пить, то не дадут из рук, а поставят ковшик так, чтобы он сам мог до него дотянуться. Рассказывают, что один колдун позвал девку и говорит: «Нá тебе!» Та догадалась: «Отдай тому, у кого взял». Застонал он, заскрипел зубами, посинел весь, глаза налились кровью. В это время пришла проведать его племянница; он и к ней: «На, – говорит, – тебе на память!» Та спроста приняла пустую руку – захохотал он и начал кончаться.
Для «невольного» колдуна возможно покаяние и спасение: их отчитывают священники и отмаливают в монастырях, для «вольных» же нет ни того ни другого.
Посвящения в колдуны в общем сопровождаются однородными обрядами, смысл которых повсюду сводится к одному – к отречению от Бога и Царствия Небесного и затем к продаже души своей черту. Для первого довольно снять с шеи крест и спрятать его под правую пятку или положить икону на землю вниз ликом и встать на нее ногами, чтобы затем в таком положении говорить богохульные клятвы, произносить заклинания и выслушивать все руководящие наставления сатаны. Лучшим временем для этого, конечно, считается глубокая полночь, а наиболее удобным местом – перекрестки дорог, как излюбленное место нечистой силы. Удобны также для сделок с чертом бани, к которым, как известно, приставлены особые духи. При заключении договоров иные черти доверяют клятвам на слово, другие от грамотных требуют расписки кровью, а неграмотным велят кувыркаться ведомое число раз через столько-то ножей, воткнутых в землю[36]. Когда все обряды благополучно окончены, к посвященному на всю жизнь его приставляются для услуг мелкие, бойкие чертенята.
Для изобличения колдунов в некоторых местах (например, в Пензенской губернии) знают три средства: вербную свечу, осиновые дрова и рябиновый прут. Если зажечь умеючи приготовленную свечу, то колдуны и колдуньи покажутся вверх ногами. Равным образом, стоит истопить в Великий четверг осиновыми дровами печь, как тотчас все колдуны придут просить золы. Рябиновая же палочка помогает опознать этих недоброхотов во время светлой заутрени: они стоят задом к иконостасу. Это повсюду считается самым верным средством, и если встречаются разноречия, то лишь в указании времени (например, в Орловской и Саратовской губерниях полагают более удобным моментом для наблюдений – пение Херувимской за пасхальной обедней, причем советуют надеть на себя все чистое и новое до последней ниточки). В Новгородской же губернии колдунов опознают несколько иначе. Для этого советуют взять в руки первое яйцо молодой курицы и во время светлой заутрени стоять на таком месте, откуда видно было бы всех молящихся; тогда у колдунов удается заметить даже рога на голове. В Калужской губернии колдуны узнаются по тому, что на Святую Пасху приходят в чужую избу огня просить и т. п. Наконец, есть и еще несколько способов, отличающихся большой странностью; в числе их один, например, такого рода: надо положить нож острием кверху и прочитать воскресную молитву («Да воскреснет Бог») с конца – тогда колдун либо заревет, либо начнет скверно ругаться. В Сарапульском уезде Вятской губернии указывают еще на «сорокообеденный ладан» (пролежавший на престоле во время сорокоуста). Если такой ладан растереть в порошок и всыпать в вино, пиво и дать подозрительному человеку выпить, то он начнет ходить по избе с одного угла на другой и дверей не найдет. Этот способ тем хорош, что, если в это время дать колдуну напиться поганой воды, хотя бы из лоханки, он охотно выпьет и затем потеряет всю силу.
Все эти заботы о приискании предохранительных средств против колдунов вытекают непосредственно из неколебимой народной веры «в порчу». Здесь, в этой порче, и сосредоточена собственно вся деятельность чародеев, и ею же объясняется их влиятельное значение в деревенской среде, наружное уважение к ним, почетные поклоны при всякой встрече и угощения водкой в виде отступного. Тем не менее под наружными признаками заискивающего почтения скрытно таятся зародыши глубокой ненависти, которая и вспыхивает всякий раз, как только отыскивается смельчак-обличитель, который выведет на свежую воду все чародейские штуки. Над опростоволосившимся колдуном охотно смеются, причем вслед за насмешками быстро наступает утрата всякого доверия к нему, полное равнодушие и невнимание. Это на лучший конец. В тех же случаях, когда озлобление скоплялось долгое время и вызвалось неудачею злобных выходок чародея, – общее негодование сопровождается жестокими побоями, напоминающими расправы с конокрадами. Но есть способ и единолично расправиться с колдуном. Для этого достаточно бывает ударить его наотмашь левой рукой, не оборачиваясь назад. Если при этом прольется кровь, то чародей уже испортился и в колдуны больше не годится. Он перестает быть опасным и затем, конечно, теряется в самых задних рядах, пребывая в полном презрении и совершенном отчуждении.
Темное дело «порчи» – в какой бы истерической форме она ни выражалась: в форме ли кликушества, омерячения, падучей, беснования и даже пляски святого Вита, – производится «сглазом», заговорами, «напуском» и «относом». Наговаривают на хлеб, соль, воду и проч., напускают по ветру и по следу, посылают порчу на «относ»[37], т. е. подкидывают наговоренные вещи, и кто их поднимет, тот и захворает. Примеров такого рода порчи рассказывают бесконечное множество: нашла баба наговоренное яйцо у колодца и зачала на голоса кричать; подняла другая на дороге узелочек с рубахой, крестом, поясом, цепочкой и угольками – и лишилась еды, тоска напала, все немилы стали; отнесла назад туда, где нашла, и начала поправляться.
Приемы, к которым прибегают, насылая порчу, очень разнообразны. Сильному колдуну довольно взглянуть своим недобрым косым взглядом, чтобы заставить чахнуть. Колдуну послабее нужен заклятый порошок, чтобы бросить его на намеченную жертву по ветру: дело сделано, если хоть одна порошинка попадет на человека или скотину. Вынутый след, т. е. щепотка или горсточка земли из-под ног обреченного, в мешочке подвешивается в чело печи, а в трубе замазываются глиной волоса его; начнет земля и глина сохнуть – сухотка обуяет и того человека. Через наговоренную сильным колдуном вещь достаточно перешагнуть, на зачурованное место стоит сесть, чтобы захворать. Иной колдун только лишь слегка ударит по плечу, ан смотришь – человек испорчен.
Тот колдун, который причинил порчу, снять ее уже не в силах – надо искать другого, хотя бы и слабенького. И наоборот: если свой колдун успел обезопасить от всяких чар, то чужому тут нечего делать. Последнее всего виднее замечается на свадьбах, около которых преимущественно и сосредоточивается деятельность колдунов.
Чтобы избавить молодых от порчи, колдунов обыкновенно зовут на свадьбы в качестве почетных гостей, причем приглашенного еще в дверях избы встречает сам хозяин низким поклоном, со стаканчиком водки. Вторую чарку колдун попросит сам и затем уже смело начинает кудесить с доброй целью предупредить возможность порчи: берет из рук хозяйки поднесенные хлеб и соль, разламывает хлеб на кусочки, круто посыпает солью и разбрасывает по сторонам. Плюнув три раза на восток, входит он в избу, осматривает все углы, дует в них и плюет, потом в одном сыплет рожь, в другом свою траву, в остальных двух золу: рожь против порчи, траву на здоровье молодых. Оглядит пристально пол: не набросано ли желтого порошка – ведомого, опасного зелья; заглянет в печь: не кинуты ли на загнетку с угольями такие травы, от которых смрад дурманит у всех головы, а у иных баб вызывает рвоту (бывали случаи, когда поезжане из-за этого смрада покидали избу и свадьбу отсрочивали). Затем колдун выходит на двор и три раза обходит лошадей, назначенных для поезда под жениха и невесту. Заглядывает под хомут: не подложил ли какой-либо недоброхот репейника или иных колючек. В избе обсыпает молодых рожью, заставляет проходить через разостланный под ноги черный полушубок и этим вконец изводит навеянную порчу. Провожая до церкви, он на каждом перекрестке и под каждыми воротами (которые считаются самыми опасными местами) шепчет заклинания. Из-под венца велит ехать другой дорогой. На свадебном пиру принимает первые чарки и напивается прежде всех до полного бесчувствия. Тогда только его увозят домой с выговоренными подарками сверх денег: холстом и расшитыми в узор, но не в кресты, полотенцами.
В лесных захолустьях еще живы рассказы о том, как целые свадебные поезда лихие люди оборачивали в волков, как один неприглашенный колдун высунул в окно голову и кричал ехавшему по селу поезду: «Дорога на лес!» – а колдун приглашенный отчуровывался своим словом: «Дорога на поле!» – и с соперником сделалось то, что у него выросли такие рога, что он не мог высвободить головы из окна, пока на обратном пути не простили его и не высвободили. Другой раз под ноги передней лошади колдун бросил рукавицу на волчьем меху, и лошадь зафыркала, остановилась как вкопанная и задержала весь поезд, который должен совершить свой путь без помех и препятствий. Против всех этих козней колдунов придумано бесчисленное множество самых разнообразных, хотя и малодействительных, средств: тут и лук, и чеснок, и янтарь, и ладан, столь ненавистные чародеям, и крест, нашитый на головной платок невесте, и монета, положенная ей с наговором в чулки, и иголки без ушек, зашитые в подоле платья, и льняное семя, насыпанное в обувь. Все эти меры предосторожности обыкновенно составляют заботу свахи, хотя у колдуна, в свою очередь, припасен гороховый стручок о девяти горошинах – средство, перед которым ничто не устоит.
Колдуны большею частью – люди старые, с длинными седыми волосами и нечесаными бородами, с длинными неостриженными ногтями. В большинстве случаев они люди безродные и всегда холостые, заручившиеся, однако, любовницами, которые к таким сильным и почетным людям очень прилипчивы. Избенки колдунов, в одно окошечко, маленькие и сбоченившиеся, ютятся на самом краю деревень, и двери в них всегда на запоре. Днем колдуны спят, а по ночам выходят с длинными палками, у которых на конце железный крюк. Как летом, так и зимой надевают они все один и тот же овчинный полушубок, подпоясанный кушаком. По наружному виду они всегда внушительны и строги, так как этим рассчитывают поддерживать в окружающих то подавляющее впечатление, которое требуется их исключительным мастерством и знанием темной науки чернокнижия. В то же время они воздерживаются быть разговорчивыми, держат себя в стороне, ни с кем не ведут дружбы и даже ходят всегда насупившись, не поднимая глаз и устрашая тем взглядом исподлобья, который называется «волчьим взглядьем». Даже и любовниц своих они не любят и часто меняют их. В церковь они почти никогда не ходят и только, страха ради иудейска, заглядывают туда по самым большим праздникам. Все это, взятое вместе, с одной стороны, совершенно порабощает напуганное воображение захолустных обитателей, а с другой – придает самим колдунам необыкновенную уверенность в своих силах. Вот характерный рассказ, показывающий, как велико обаяние колдунов в народной массе и как самоуверенны в своей «работе» эти темные люди.
– Уворовали у нас деньги, – передавал один крестьянин, нуждающийся в помощи колдуна, – пятнадцать целковых у отца из полушубка вынули. «Ступай, – говорят, – в Танеевку к колдуну: он тебе и вора укажет, и наговорит на воду али на церковные свечи, а не то так и корней наговоренных даст. Сам к тебе вор потом придет и добро ваше принесет». Приезжаем. Колдун сидит в избе, а около него баба с парнишком – значит, лечить привела. Помолились мы Богу, говорим: «Здорово живете!» А он на нас, как пугливая лошадь, покосился и слова не молвил, а только на лавку рукой показал: садитесь, мол! Мы сели. Глянь, промеж ног у него стеклянный горшок стоит с водой. Он глядит в горшок и говорит невесть что. Потом плюнул сначала вперед, потом назад и опять начал бормотать по-своему. Потом плюнул направо, потом налево, на нас (чуть отцу в харю не попал), и начало его корчить да передергивать. А вода та в горшке так и ходит, так и плещет, а ему харю-то так и косит. Меня дрожь берет. Потом как вскочит, хвать у бабы мальчишку, да и ну его пихать в горшок-от! Потом отдал бабе и в бутылку воды налил: велел двенадцать зорь умывать и пить давать – а потом велел бабе уходить.
«Ну, – говорит нам, – и вы пришли. Знаю, знаю, я вас ждал. Говори, как дело было».
Я так и ахнул: угадал, нечистый! Тятька говорит: так и так, а он опять:
«Знаю, знаю! С вами хлопот много!»
Отец его просит, а он все ломается, потом говорит:
«Ну ладно: разыщем, только не скупись»
Отец вынул из кармана полштоф на стол. Колдун взял, глотнул прямо из горла раза три, а отцу говорит:
«Тебе нельзя! – и унес в чулан вино. Выходит из чулана, сел за стол и отца посадил. Начал в карты гадать. Долго гадал, и все мурлыкал, потом содвинул карты вместе и говорит: – Взял твои деньги парень белый». – (А кто в наших деревнях, и по волосам и по лицу, не белый?)
Потом встал из-за стола и пошел в чулан. Выносит оттуда котел. Поставил его посередь избы, налил воды, вымыл руки и опять ушел в чулан. Несет оттуда две церковные (восковые) свечи; взял отца за рукав и повел на двор. Я за ними. Привел под сарай, поставил позадь себя, перегнулся вперед и свечи как-то перекрутил, перевернул. Одну дал отцу, одну у себя оставил и стал чего-то бормотать. Потом взял у отца свечу, сложил обе вместе, взял за концы руками, а посреди уцепил зубами и как перекосится – я чуть не убежал! Гляжу на тятьку – на нем лица нет. А колдун тем временем ну шипеть, ну реветь, зубами, как волк, скрежещет. А рыло-то страшное. Глаза кровью налились, и ну кричать: «Согни его судорогой, вверх тормашками, вверх ногами! Переверни его на запад, на восток, расшиби его на семьсот семьдесят семь кусочков! Вытяни у него жилу живота, растяни его на тридцать три сажени!» И еще чего-то много говорил. Затем пошли в избу, а он свечи те в зубах несет. Остановил отца у порога, а сам-то головой в печь – только ноги одни остались, и ну мычать там, как корова ревет. Потом вылез, дал отцу свечи и говорит:
«Как подъедешь к дому, подойди к воротному столбу, зажги свечу и попали столб, а потом принеси в избу и прилепи к косяку: пускай до половины сгорит. И как догорит, то смотри, не потуши просто, а то худо будет, а возьми большим и четвертым (безымянным) пальцем и потуши: другими пальцами не бери, а то сожжешь совсем и пальцы отпадут».
И так он велел сжечь свечи в три раза. Приехали мы с отцом домой и сделали, как велел колдун. А ден через пять приходит к нам Митька – грох отцу в ноги: так и так – моя вина! И денег пять целковых отдал, а за десять шубу оставил, говорит:
«Сил моих нет, тоска одолела. Я знаю – это все Танеевский колдун наделал»[38].
Таковы те приемы, при помощи которых колдуны поддерживают в народе свое обаяние. Но в то же время они твердо знают, что внешнее почтение быстро сменяется ненавистью, когда чары переступят меру и начнут наносить обиды. Правда, случаи резких самосудов уголовного характера стали замечательно редки, но о случаях презрения к колдунам-неудачникам, связанного с потерею всякого уважения к ним, еще поговаривают во всех захолустьях как лесных, так и черноземных губерний. Здесь еще возможны случаи публичных состязаний двух соперников на почве хвастливого преимущества.
На этот счет в южных великорусских лесных захолустьях (например, в карачевских и брянских местах) существует ходячий рассказ такого содержания.
– В старые времена на конце одного села жила-была старуха. Нос у ней был синий, большой. Как ночь, старуха то свиньей, то собакой скидывается, и все белогорлистой. Скинется – и ну по селу ходить: где солдатке под ноги подкатится и сведет бабенку с пути чистого, а где мужа с женой норовит разлучить. Грызть не грызет, а только под ноги подкатывается. А на другом конце села жил колдун. И не взлюбил тот колдун старуху, начал он ее изводить и на селе похваляться: «Я-де ее доконаю!» Вот как настала ночь и старуха, скинувшись свиньей, пустилась по селу, колдун встал посередь села и говорит: «Стой, – говорит, – у меня двенадцать сил, а у тебя и всего-то пять!» Завизжала свинья и сделалась вдруг бабой. Тут народ и давай ее кольями бить. «Откажись, – говорят, – окаянная сила!» С неделю после того она с печи не сходила, чтобы синяков не показывать, а там отдышалась и опять за свое. И вздумала она раз на метлу сесть. «На метле, – говорит, – он меня не уловит». Но только это она на середину села выехала, как он и почуял, почуял да на одном колесе в погоню за ней как пустится, сшиб ее с метлы да тут и заповедал ей больше этим ремеслом не заниматься.
В северных лесных местах – именно в Тотемских краях – общеизвестен между прочим такой случай.
На одну свадьбу для предохранения молодых от порчи приглашен был колдун. Когда молодые отправились в церковь, то заметили около своего дома неподвижно стоящего человека. Возвращаясь назад, увидели его опять в том же положении, словно пригвожденным к месту. Когда свадебный колдун приблизился к нему, то все слышали, как тот просил: «Отпусти ты меня – не держи, сделай милость». – «Я и не держу тебя – ступай». Тогда стоявший сорвался с места и бегом, во все лопатки, пустился прочь. Всем стало понятно, что то был колдун, подосланный для порчи: его узнал защитник и чарами своими заставил его простоять на одном месте во все время венчанья и не вредить.
Но если вера в колдунов еще очень сильна в отдаленных местах, захолустьях, то в местностях, прилегающих к крупным центрам, она стала значительно ослабевать. Из подмосковных фабричных мест, например, компетентный свидетель с полною уверенностью сообщает, что там «колдунов теперь очень мало, сравнительно с недавним прошлым» (Владимирская губерния, Шуйский уезд). Случалось, говорят бабы, их штук по пяти на одну деревню приходилось. Всех баб, бывало, перепортят. Бывало, все кликали, а нынче на целую волость пяти-то не наберешь, лекарок больше теперь. Сообразно с такой переменой и рассказы о колдунах из центрального района получаются совсем в другом роде. Вот, например, рассказ о столкновении колдуна с солдатом.
Вернулся домой солдат и попал прямо на свадьбу к богатому крестьянину. Все за столом сидят, а на почетном месте, в переднем углу, сидит, развалившись, и чванится Савка-колдун. Не стерпел солдат, задумал с ним погуторить: начал «прокатываться» на его счет, смешки подпускать. Не вытерпел и Савка-колдун, ударил по столу кулаком, зарычал:
– Эй, кто там крупно разговаривает? Кажись, солдат-от уж больно «дочий». Погодь, я его достану, в самое нутро достану.
Сватья и свахи повалились в ноги, стали умолять:
– Савелий Федорович, кормилец, прости его: во век твоей милостью будем довольны!
– Ладно, выгоните только этого солдатишку, а то я и сидеть у вас больше не стану.
Заговорил и солдат:
– Ты, Савелий Федорович, не больно на меня наступай, лучше давай-ко потолкуем с тобой, а потом поворожим и поглядим, кто скорее уйдет отсюда.
– Ну, давай ворожить!
Взяли оба по стакану с водкой. Колдун стал нашептывать в свой, положил какой-то корешок, песочку присыпал и дал солдату выпить. Тот перекрестился и сразу выпил, так что все не успели даже глазом мигнуть. Ухмыляется солдат да еще и спрашивает:
– Что вы на меня выпучили глаза? Ничего со мной не случится. Глядите лучше на Савелия Федоровича.
Над своим стаканом солдат не шептал, а прямо высыпал свой порошок.
– Прими-ка, Савелий Федорович, – выпей и ты на здоровье.
Проговорил Савка отворотные слова и выпил. А солдат велел припереть дверь и дружкам наказал не выпускать колдуна из-за стола.
Начало Савку прохватывать, стал он с почетного места проталкиваться. До середины избы не доскочил, как все повалились со смеху.
С той поры побежденный колдун заперся в своей хате, никуда не выходил и к себе никого не впускал. Вера в него поколебалась навсегда, хотя бабы приняли за колдуна и солдата.
Пользоваться помощью колдуна, как равно и верить в его сверхъестественные силы, наш народ считает за грех, хотя и полагает, что за этот грех на том свете не угрожает большое наказание. Но зато самих чародеев за все их деяния обязательно постигнет лютая, мучительная смерть, а за гробом ждет суд праведный и беспощадный. (Здешний суд для них не годится; по крайней мере, не только жалоб на колдунов не поступает в правительственные суды, но, ввиду явных обид, не приглашаются для разбирательства даже волостные и земские власти.)
Самая смерть колдунов имеет много особенностей. Прежде всего, колдуны заранее знают о смертном часе (за три дня), и, кроме того, все они умирают приблизительно на один манер. Так, например, пензенских чародеев бьют судороги, и настолько сильно, что они не умирают на лавке или на полатях, а непременно около порога или под печкой. Если над таким колдуном станут читать псалтырь, то в полночь он вскакивает и ловит посиневшего от страху чтеца. Вологодские колдуны перед смертными страданиями успевают дать родным словесное завещание: если умрет в поле – не вносить в избу, умрет в избе – выносить не ногами вперед, по обычаю всех православных, а головой и у первой реки заблаговременно остановиться, перевернуть в гробу навзничь и подрезать пятки или подколенные жилы. От смоленских колдунов не требуется и подобных завещаний: все там твердо знают, что необходимо тотчас же, как только зароют могилу колдуна, вбить в нее осиновый кол[39], с целью помешать этому покойнику подыматься из гроба, бродить по белому свету и пугать живых людей[40]. Умирают колдуны непременно очень долго, так как им указано мучиться сверх положенного. Одна орловская колдунья, например, умирала целых шесть дней: к вечеру совсем умрет – затихнет, положат ее на стол, а наутро она опять залезет в подполье и снова жива. Вытащат ее оттуда, а она опять начнет мучиться: корежит ее и ломает, вся она посинеет, высунет раздутый язык наружу и не может спрятать. Дивуется народ, а не догадается снять конек (верх крыши) или хотя бы одну жердочку, чтобы облегчить предсмертные страдания[41]. Короче сказать, все рассказчики, рисующие ужасы предсмертных страданий колдунов, не находят слов для выражения этих мук. Иные из колдунов доходят до того, что бьются головой об стенку, стараясь расколоть себе череп, рвут себе язык на куски и т. п. Один из них не велел жене подходить к нему и смотреть на его лицо, а когда она, бабьим обычаем, не послушалась, то после смерти мужа шесть недель лежала неподвижно, как полоумная, и все время смотрела в одну точку. Сами похороны колдунов – вещь далеко не безопасная, и, зарывая их в землю, надо смотреть в оба, чтобы не случилось какой-нибудь беды. Так, на похоронах одного колдуна (Орловская губерния, Брянский уезд) крестьяне не заметили, как дочь его, повинуясь слепо воле умершего, положила в могилу свежей сжатой ржи. Сейчас же после этого грянул гром, нашла грозовая туча с градом и выбило все полевые посевы. С тех пор каждый год в день похорон этого колдуна стало постигать «Божье наказание» (и в самом деле, в течение 1883, 1884 и 1885 гг. град при грозе побивал хлеб лишь в одной этой деревне), так что крестьяне наконец решили миром разрыть могилу, вынуть гнилой сноп и только тогда успокоились (выпито при этом было видимо-невидимо).
Подводя итоги злой деятельности колдунов, можно с уверенностью сказать, что почти все деревенские напасти имеют прямую или косвенную связь с кознями чародеев. Эта нечисть вредит человеку, вредит скотине и переносит свою ненависть даже на растения. Вред, приносимый человеку, всего чаще выражается в форме болезней. Колдуны, например, «насаживают килы» на людей, т. е. устраивают так, что здоровый человек заболевает грыжей или злокачественными темно-синими нарывами, сопровождаемыми невыносимой болью и необъяснимой тоской: человек просто на стену лезет. Запои также насылаются колдунами, когда несчастный бросает семью, уходит куда глаза глядят, иногда налагает на себя руки. Колдуны же отнимают у человека разум, делают его припадочным, возбуждают у мужа отвращение к жене и обратно и вообще нагоняют все те болезни, от которых бедняков отчитывают, а людей достаточных возят по монастырям, к святым мощам. Что касается растений и животных, то, как выше было сказано, колдуны, уступая настойчивым требованиям нечистой силы, вынуждены обращать свою деятельность и на них[42], причем эта деятельность поддерживает среди темного населения постоянную нервную напряженность, проистекающую от беспрерывного ожидания нечаянных несчастий и непредусмотренных бед. Дело доходит до того, что крестьяне, например, купив новую скотину, стараются укрывать ее подальше от недобрых глаз ведомого колдуна: стоит ему провести рукой по спине коровы, чтобы отнять у нее молоко, или по спине лошади, чтобы посадить ее на задние ноги. Над лошадьми – особенно в свадебных поездах – влияние колдунов безгранично: захочет – не пойдут с места или падут на пути во время движения поезда в церковь. Повальные падежи скота относятся также к работе колдунов.
Из растений колдуны всего более вредят хлебу, отлично понимая, что, уничтожая крестьянские поля, они причиняют величайшее несчастие не только отдельным лицам, но целым крестьянским обществам. Чаще всего чародеи прибегают к так называемому «залому» или «закруткам» (иначе «куклы»).
Залом представляет собою очень спутанный пучок стеблей еще не сжатого хлеба, надломленных в правую и левую сторону, закрученных в узел вместе с золой и присыпанных у корней солью, землей с кладбища, яичной скорлупой и распаренными старыми зернами. Если зола взята из печи одного хозяина, то залом сделан с расчетом нанести вред ему одному, предвещая различные бедствия: пожар, падеж скота и даже смерть. Так думают южные великороссы черноземной полосы и придесненские жители (Брянский уезд); северные же (например, в Пошехонье) боятся заломов еще больше, твердо веруя, что последствием таких закруток неизбежно является полный неурожай на всем поле. Крестьяне этих мест убеждены, что если они и успеют предупредить или ослабить козни колдунов на испорченных полосах, то все-таки выросший хлеб не будет «спориться», т. е. его будет расходоваться в семье гораздо больше обычного среднего количества, так что придется раньше времени покупать хлеб на стороне. Сверх того, с зачурованной десятины зерно получается легковесное и по количеству наполовину не сравняется с соседними. Такой хлеб ни один хозяин поля не решится пустить для домашнего потребления, а постарается поскорее продать его на сторону. Кроме дурного качества зерна, залом имеет еще ту особенность, что с ним чрезвычайно трудно бороться: что бы ни делали хозяева зачурованного поля, как бы ни вырывали и ни жгли залома, но загаданная беда непременно сбудется, если не отслужить молебна с водосвятием и не попросить самого священника вырвать крестом всю закрутку с корнем. Правда, кроме священника, во многих местах хлебородных губерний возлагают еще надежды на опытных стариков и даже на ловких знахарей. В Карачевском уезде, например, в селе Ячном, жил 75-летний старик, которого всюду возили «развязывать» заломы старинным и очень мудреным способом[43]. Старик этот приносил с собой на загон изломанное колесо, срезанный залом клал в ступицу и сжигал на глазах хозяев, от которых требовал лишь посильного угощения на дому. Не таков был мещанин из Малоархангельска, тоже специалист по части заломов. Этот брал дорого и выезжал на места неохотно. Зато он уж вполне, бывало, обнадежит и успокоит не только самого потерпевшего, но и всех соседей. Приезжал он обыкновенно с книжкой и по ней читал молитвы (требник Петра Могилы). «Мне, – говорит, – его московский митрополит дал и сказал: „Кормись и поминай меня“». Самое чтение он обставлял очень торжественно. «Залом-залом, взвейся под огнем, рассыпься пеплом по земле, не делай вреда никому! Огонь очищает, болезнь прогоняет» – так говорил он в поле, и притом обыкновенно поднимал руки кверху, держа ладони обращенными к огню, который наказывал приготовить к его приходу. Затем дул на все четыре стороны и говорил какие-то таинственные слова. Куда сам он не ездил, туда посылал либо три палочки (две сложит крестом, третьей прикроет и велит ими поднимать залом), либо давал записку с заклинательными словами, которую приказывал сжечь вместе с заломом, а пепел привезти к нему, для окончательного отговора. Мужики при этом удивлялись тому, что откуда бы ветер ни был, но пламя тянуло прямо на него.
Кроме заломов, равносильным и едва ли даже не большим несчастием следует считать так называемые «прожины» (или прорезы). Это не недочет в снопах или копнах, а та дорожка во ржи, в вершок шириною, которая проходит с одного края загона до другого и по которой все колосья срезаны. Срезают их жучки и черви в то время, когда рожь в цвету, и потому, конечно, никаких следов человеческих ног по сторонам никогда не замечается, а, напротив, стенки ржи бывают даже приметно гуще, чем в других местах той же хлебной полосы. Но крестьяне объясняют это явление тем, что колдун, делая прожин, стоит в это время обеими ногами на двух иконах, как на лыжах, и ведет дорожку, как колесо катит.
Когда опытные хозяева замечают прожин, то зовут священника и подымают иконы, придавая между ними большое значение «Святцам» (иконе двенадцати праздников с Воскресением в середине). Священник идет по прожину с крестом и кропит по сторонам святою водою. Если же эти меры предосторожности не будут приняты, то результаты прожина скажутся и надежды на урожай не оправдаются: на корню по всему полю рожь как будто бы хороша, т. е. соломой велика и зерном прибыльна, но как только сжали ее, привезли на гумно и начали молотить, то сейчас же стали замечать, что вместо пяти или четырех мер с копны вышло лишь по две, а то и по одной чистого зерна. Одни при этом толкуют, что затем колдуны и прожин делают, чтобы переливать зерно в свои закрома (пятое со всего поля), другие объясняют беспричинной злобой и желанием всем хозяевам полного недорода[44].
XIII. Ведьма
В духовном стихе, записанном (А. В. Баловым) в Пошехонье Ярославской губернии, душа ведьмы, уже завершившей свое земное существование, следующим образом кается в своих грехах:
- От коровушек молочко отдаивала,
- Промеж межи полоску прожиновала,
- От хлебушка спорынью отымывала.
В этом стихе дается полная характеристика злой деятельности ведьмы, так как эти три деяния составляют специальные занятия женщин, решившихся продать свою душу чертям. Впрочем, если внимательно всмотреться в облик ведьмы в том виде, в каком он рисуется воображению жителей северной лесной половины России, то в глаза невольно бросится существенное различие между великорусской ведьмой и родоначальницей ее – малорусской. Если в малорусских степях среди ведьм очень нередки молодые вдовы, и притом, по выражению нашего великого поэта, такие, что «не жаль отдать души за взгляд красотки чернобровой», то в суровых хвойных лесах, которые сами поют не иначе как в минорном тоне, шаловливые и красивые малороссийские ведьмы превратились в безобразных старух. Их приравнивали здесь к сказочным Бабам-ягам, живущим в избушках на курьих ножках, где они, по олонецкому сказанию, вечно кудель прядут и в то же время «глазами в поле гусей пасут, а носом (вместо кочерги и ухватов) в печи поваруют». Великорусских ведьм обыкновенно смешивают с колдуньями и представляют себе не иначе как в виде старых, иногда толстых, как кадушка, баб с растрепанными седыми космами, костлявыми руками и с огромными синими носами. (По этим коренным чертам во многих местностях самое имя ведьмы сделалось ругательным.) Ведьмы, по общему мнению, отличаются от всех прочих женщин тем, что имеют хвост (маленький) и владеют способностью летать по воздуху на помеле, кочергах, в ступах и т. п. Отправляются они на темные дела из своих жилищ непременно через печные трубы и, как все чародеи, могут оборачиваться в разных животных, чаще всего в сорок, свиней, собак и желтых кошек. Одну такую свинью (в Брянских местах) били чем ни попало, но кочерги и ухваты отскакивали от нее, как мячик, пока не запели петухи. В случаях других превращений побои также считаются полезною мерою, только советуют бить тележной осью и не иначе как повторяя при каждом ударе слово «раз» (сказать «два» – значит себя сгубить, так как ведьма того человека изломает). Этот ритуал избиения, определяющий, как и чем надо бить, показывает, что кровавые расправы с ведьмами практикуются весьма широко. И действительно, их бьют и доныне, и современная деревня не перестает поставлять материал для уголовных хроник. Чаще всего ведьмы подвергаются истязаниям за выдаивание чужих коров. Зная повсеместный деревенский обычай давать коровам клички сообразно с теми днями недели, когда они родились, а равно и привычку их оборачиваться на зов, ведьмы легко пользуются всем этим. Подманивая «авторок» и «субботок», они выдаивают их до последней капли, так что коровы после того приходят с поля такими, как будто совсем потеряли молоко. Обиженные крестьяне утешают себя возможностью поймать злодейку на месте преступления и изуродовать, отрезавши ей ухо, нос или сломавши ногу. (После того в деревне обыкновенно не замедлит обнаружиться баба с подвязанной щекой или прихрамывающая на ту или другую ногу.) Многочисленные опыты в этом роде производятся повсеместно, так как крестьяне до сих пор сохранили уверенность, что их коровы выдаиваются не голодными соседками, не знающими, чем накормить ребят, а именно ведьмами. Притом же крестьяне, по-видимому, не допускают и мысли, что коровы могут потерять молоко от болезненных причин или что это молоко может быть высосано чужеядными животными.
Ведьмы имеют чрезвычайно много общего с колдунами, и если подбирать выдающиеся черты в образе действий тех и других, то придется повторяться. Они также находятся между собою в постоянном общении и стачке (вот для этих-то совещаний и изобретены лысые горы и шумные игры шаловливых вдов с веселыми и страстными чертями)[45], точно так же тяжело умирают, мучаясь в страшных судорогах, вызываемых желанием передать кому-нибудь свою науку, и у них точно так же после смерти высовывается изо рта язык, необычно длинный и совсем похожий на лошадиный. Но этим не ограничивается сходство, так как затем начинаются беспокойные ночные хождения из свежих могил на старое пепелище (на лучший случай – отведать блинов, выставляемых за окно до законного сорокового дня, на худший – выместить запоздавшую и неостывшую злобу и свести не поконченные при жизни расчеты с немилыми соседями). Наконец успокаивает их точно так же осиновый кол, вбитый в могилу. Словом, бесполезно разыскивать резкие границы, отделяющие волхвов от колдунов, так же точно, как ведьм от колдуний. Даже история тех и других имеет много общего: ее кровавые страницы уходят в глубь веков, и кажется, что они потеряли свое начало – до такой степени укоренился в народе обычай жестокой расправы с колдунами и ведьмами. Правда, против этого обычая еще в Средние века выступали наиболее просвещенные Отцы Церкви, но в ту суровую эпоху проповедь кротости и незлобия имела мало успеха. Так, в первой половине XV века, одновременно с тем, как во Пскове во время моровой язвы сожгли живыми двенадцать ведьм, – в Суздале епископ Серапион вооружается уже против привычки приписывать общественные бедствия ведьмам и губить их за это. «Вы все еще держитесь поганского обычая волхования, – говорил святой отец, – веруете и сожигаете невинных людей. В каких книгах, в каких писаниях слышали вы, что голода бывают на земле от волхования? Если вы этому верите, то зачем же вы пожигаете волхвов? Умоляете, почитаете их, дары им приносите, чтобы не устраивали мор, дождь ниспускали, тепло приводили, земле велели быть плодоносною? Чародеи и чародейки действуют силою бесовскою над теми, кто их боится, а кто веру твердую держит к Богу, над теми они не имеют власти. Скорблю о вашем безумии, умоляю вас, отступите от дел поганских. Правила Божественные повелевают осуждать человека на смерть по выслушании многих свидетелей, а вы в свидетели поставили воду, говорите: „Если начнет тонуть – невинна, если же поплывет – то ведьма“. Но разве дьявол, видя ваше маловерие, не может поддержать ее, чтобы не тонула, и этим ввести вас в душегубство?» Однако гласом в пустыне прозвучали эти слова убеждения, исполненные высочайших чувств христианского милосердия: через двести лет, при царе Алексее, старицу Олену сжигают в срубе, как еретицу, с чародейскими бумагами и кореньями, после того как она сама созналась, что портила людей и некоторых из них учила ведовству. В Перми крестьянина Талева огнем жгли и на пытке дали ему три встряски по наговору, что он напускает на людей икоту. В Тотьме в 1674 г. сожжена была в срубе, при многочисленных свидетелях, женщина Федосья по оговору в порче и т. д. Когда (в 1632 г.) из Литвы дошли вести, что какая-то баба наговаривает на хмель, чтобы навести моровое поветрие, – то тотчас, под страхом смертной казни, тот хмель запретили покупать. Спустя еще целое столетие (в 1730 г.) Сенат счел нужным напомнить указом, что за волшебство закон определяет сожжение, а через сорок лет после того (1779 г.) епископ Устюжский доносит о появлении колдунов и волшебников из крестьян мужского и женского пола, которые не только отвращают других от правоверия, но и многих заражают разными болезнями посредством червей. Колдунов отправили в Сенат, как повинившихся в том, что отреклись от веры и имели свидание с чертом, который приносил им червей. Тот же Сенат, узнавши из расспросов колдунов, что их не раз нещадно били и этими побоями принудили виниться в том, в чем они вовсе не виноваты, распорядился воеводу с товарищем отрешить от должности, мнимых чародеев освободить и отпустить, а архиереям и прочим духовным особам запретить вступать в следственные дела о чародействах и волшебствах, ибо эти дела считаются подлежащими гражданскому суду. И вот с тех пор, как блеснул впервые в непроглядном мраке животворный луч света, – накануне XX столетия мы получаем нижеследующие известия все по тому же чародейскому вопросу о ведьмах:
«Недавно, – пишет корреспондент наш из Орла, – в начале 1899 г., чуть было не убили одну женщину (по имени Татьяна), которую все считают за ведьму. Татьяна поругалась с другой женщиной и пригрозила ей, что испортит ее. И вот что произошло потом из-за уличной бабьей перебранки: когда на крики сошлись мужики и обратились к Татьяне со строгим запросом, она им обещала превратить всех в собак. Один из мужиков подошел к ней с кулаком и сказал: „Ты вот ведьма, а заговори мой кулак так, чтобы он тебя не ударил“. И ударил ее по затылку. Татьяна упала, на нее, как по сигналу, напали остальные мужики и начали бить. Решено было осмотреть бабу, найти у ней хвост и оторвать. Баба кричала благим матом и защищалась настолько отчаянно, что у многих оказались исцарапаны лица, у других покусаны были руки. Хвоста, однако, не нашли. На крик Татьяны прибежал ее муж и стал защищать, но мужики стали бить и его. Наконец, сильно избитую, но не перестававшую угрожать женщину связали, отвезли в волость (Рябинскую) и посадили в холодную. В волости им сказали, что за такие дела всем мужикам попадет от земского начальника, так как-де теперь в колдунов и ведьм верить не велят. Вернувшись же домой, мужики объявили мужу Татьяны, Антипу, что жену его, должно быть, порешат послать в Сибирь и что они на это согласны будут дать свой приговор, если он не выставит ведра водки всему обществу. За выпивкой Антип божился и клялся, что не только не видал, но ни разу в жизни даже не заметил никакого хвоста у Татьяны. При этом, однако, он не скрыл, что жена угрожает оборотить его в жеребца всякий раз, когда он захочет ее побить. На другой день пришла из волости Татьяна, и все мужики явились к ней договариваться о том, чтобы она в своей деревне не колдовала, никого не портила и не отымала у коров молока. За вчерашние же побои просили великодушно прощения. Она побожилась, что исполнит просьбу, а через неделю из волости получился приказ, в котором было сказано, чтобы впредь таких глупостей не было, а если что подобное повторится, то виновные за это будут наказаны по закону и, кроме того, об этом будет доводиться до сведения земского начальника. Выслушали крестьяне приказ и порешили всем миром, что наверняка ведьма околдовала начальство и что поэтому впредь не следует доходить до него, а нужно расправляться своим судом».











