Читать онлайн Великое расширение
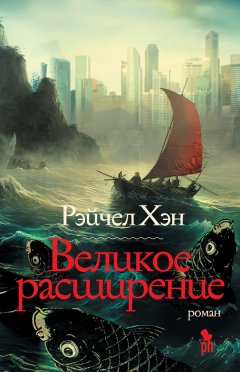
Моей матери
…Я размышляю о том, как мало мы в состоянии удержать в нашей памяти, как много всего постоянно предается забвению с каждой угасшей жизнью, как мир самоопустошается, оттого что бесчисленное множество историй, связанных с разными местами и предметами, никогда никем не будут услышаны, записаны, рассказаны…
В. Г. Зебальд, “Аустерлиц”
Часть первая
Островок
Глава
1
Спустя десятилетия в кампонге[1] будут вспоминать час, положивший начало тем событиям, – час, когда волны вымывали свет из отощавшей, голодной луны. Спустя десятилетия задумаются о том, как все пошло бы, реши в то утро Ли повернуть назад – вдруг отцу, который как раз копался в моторе, сделалось бы худо или малыш разревелся бы, и они махнули бы рукой на работу и развернули свое деревянное суденышко к дому. Могло ли все пойти иначе? Пролетят десятилетия – а ответ на этот вопрос так и не появится.
А может ли вообще прошлое срастись с настоящим? Смерть Дяди, такая, какой она пришла: оборванец сгорел, превратился в обугленную головешку в доме, который вроде как даже не принадлежал ему. И весь кампонг уничтожен. Нет, как того ни боялись обитатели, не волны, повинуясь воле какого-нибудь сердитого бога, смыли деревню – кампонг растащили на кусочки и распродали сами же местные. Если бы только мальчик, самый славный и ранимый в кампонге, несмотря ни на что, стал мужчиной, способным подчинить будущее своей воле…
Возможно, он так и поступил бы, но, может, не время всему причина, не лодка и не море, а сам мальчик. Впрочем, такие вопросы следует задавать по окончании всех войн, после рождения нации, когда море, некогда считавшееся надежным и неизменным, остановили лишь тонны песка. Этими вопросами стали задаваться, когда все уже произошло, когда любые действия сделались уже бессмысленны, случившееся изжило себя, обернулось ископаемым.
Однако сейчас на дворе был по-прежнему 1941 год, Сингапуром, как и столетие до этого, правили ан мо[2], а мальчик, крохотный, перепуганный, съежился на корме отцовской лодки.
Ли А Бооню было семь, и он, как любил напоминать ему старший брат Хиа, запоздал почти на год. Сам Хиа, которому исполнилось девять, впервые вышел в море в шестилетнем возрасте. Но если у Хиа в шесть лет руки были мускулистыми и загорелыми, а икры сильными и пружинистыми, так что он легко перескакивал через деревянную ограду кампонга, то семилетний А Боонь оставался хиляком с впалой грудью, тощими ногами и по-девчачьи тонкими ручонками. Он проводил на солнце не меньше времени, чем брат, но кожа его так и не утратила молочной бледности, какая бывает у приготовленной на пару дорогой рыбы. Отсюда и его прозвище.
– Лещ!
Услышав оклик брата, А Боонь отпрянул от борта лодки. В тусклом свете луны море вокруг походило на вязкое черное масло, мягко колышущееся на ветру. При мысли о том, что таится под складками воды, он вздрогнул.
– Чего, Лещ, страшно тебе?
Переступая через канаты и сети, которыми было завалено дно лодчонки, Хиа двинулся к А Бооню. Двигался он с бесстрашной, пугающей легкостью и напоминал мелкого варана из тех, что снуют в высокой траве вокруг кампонга. Хиа обхватил А Бооня за плечи и развернул к морю:
– Гляди, храбрец!
И неожиданно толкнул брата, будто хотел выбросить за борт. Лодка накренилась, вода оказалась прямо перед глазами А Бооня, он ухватился за борт и тихонько ойкнул.
– А чего, – сказал Хиа, – Па ведь не все рассказывает про первый выход. Он же не говорил тебе про то, как положено посреди ночи окунаться, да?
Хиа пустился в рассказ о традиции, через которую проходит каждый сын рыбака, впервые выйдя на большую воду. О том, что совсем скоро Па выведет лодку подальше в море, заглушит мотор и прикажет А Бооню прыгнуть за борт.
Вокруг пульсировал океан. А наверху, слепое и беззвездное, раскинулось во все стороны небо. Худосочную луну накрыло облаком, и темнота сгустилась.
А Боонь подумал о рыбах. Созданиях с сияющими глазами и серебряными телами, похожими на единую налитую мышцу. Весь последний год он промучился, помогая отцу разбирать улов. Живые рыбины в сетях отчаянно разевали рты, а их блестящие глаза смотрели с такой безысходностью, что мальчик, рыдая, в ужасе убегал, и лишь насмешки брата и резкие отцовские окрики заставляли его вернуться к работе.
А Боонь научился сохранять внешнее хладнокровие, даже если случайно наступал на берегу на скользкую нежгучую медузу, давя живую мокрую плоть. Он отточил способность скрывать неприязнь к строптивому морю, от которого зависела жизнь на берегу, его отвращение превратилось в холодный стеклянный шарик в глубине желудка. Но слова Хиа о том, что ему придется окунуться всем крохотным телом в широкое темное море, – этого мальчик не вынес.
– Не хочу, – только и проговорил он.
– Не хочешь? – завопил Хиа. – Да кто тебя спросит? Придется плыть, далеко-далеко, пока не услышишь, как мы тебя зовем. Это традиция. Что такое традиция, ты понимаешь?
Традиция – это клей, на котором естественным образом держались все люди, и только А Боонь никак не приклеивался. Подметать и пропалывать бабушкину могилу на Цинмин[3], когда в кустах, словно черти, орут цикады, на Новый год ходить по соседям, где все подтрунивают над его тщедушным тельцем и толкуют о том, что когда-нибудь он пойдет по стопам отца и станет рыбаком. Традиция – это мерка, которой его постоянно пытались мерить и перед которой он вновь и вновь пасовал.
– Традиция – это значит Па так делал, и я тоже, так что у тебя выбора нету. – Хиа усмехнулся, блеснув в темноте белыми зубами.
А Бооню свело подошвы ног – так бывало, когда его что-то тревожило. Он закусил губу. Не станет он плакать!
Лодка сбавила ход.
– О, наконец-то, – обрадовался Хиа. – Ну чего, Боонь? Готов окунуться в холодную воду и поплавать в темноте?
Двигатель стих, теперь до А Бооня доносились лишь мерные удары волн. Они сделались громче, словно вода разбивалась о твердь. И как же темно! Он почти ощущал, как холодная вода смыкается над ним, как от соли щиплет глаза, как где-то глубоко в носу полыхает пламя. В воде вокруг него что-то двигалось, нечто невидимое и крупное, а может, и маленькое, неважно. Важно, что оно притронется к нему. В тот самый момент, когда он меньше всего этого ожидает, оно прижмется своим скользким телом к его коже, к ступне, к щеке, к затылку. Заранее не угадаешь.
Лодка остановилась. А Боонь чувствовал, что отец, прежде сидевший у него за спиной, возле двигателя, поднялся. Того и гляди Па скажет, чтобы он прекратил реветь и лез в воду. А Боонь зажмурился. Он почувствовал, как отец коснулся его макушки, но вместо того, чтобы, по обыкновению, ласково потрепать по волосам, просто положил руку ему на голову.
Никто ничего не говорил. Лодка мягко покачивалась, однако где-то неподалеку, ближе, чем следовало бы, разбивались о камень волны.
– Как же это? – спросил Па. Говорил он тихо, точно боялся растревожить воздух.
– Не знаю, – ответил Хиа, – мы что, ушли куда-то в другую сторону?
– Не могли. Курс-то у нас всегда одинаковый.
А Боонь открыл глаза. Ни Па, ни Хиа на него не смотрели. Их взгляды были обращены на нечто впереди, нечто огромное.
Остров. Береговая линия его напоминала берег их родного острова: местами камень, а местами песок. Поэтому и волны так шумели – их лодка приближалась к бухте. Однако их остров был плоским, а эта суша гигантским горбатым чудищем громоздилась над морем. Никогда еще не видел А Боонь таких высоких утесов.
Прилив нес лодку, бережно подталкивая ее к берегу. А Боонь обернулся и посмотрел на Па и Хиа. Хиа стоял, разинув рот, его толстая нижняя губа блестела от слюны. Ноздри трепетали, словно плавники рыбы, когда ее вытащишь на сушу. Лицо Па, наоборот, оставалось непроницаемым. Губы поджаты, брови нахмурены.
По их лицам А Боонь понял: что-то неладно. Оба они молчали, точно боялись пробудить размытую громаду впереди.
Впрочем, сам А Боонь не испугался. Его лишь покалывало любопытство, да еще тело непривычно заныло. Он пожалел, что не видит в темноте контуров выросшей перед ним суши. Не видит, какие здесь склоны – каменистые или поросшие деревьями, гнездятся ли на берегу чайки, глинистая почва или песчаная. Прячутся ли за утесами джунгли и есть ли там протоптанные зверем или человеком тропинки. Легкий ветер погладил пушок на руках А Бооня. Остров будто бы издавал жужжание, и от этого воздух непривычно дрожал.
Па рыбачил здесь больше двадцати лет, добрую половину жизни. Он изучил каждый километр побережья, на котором стоит его кампонг, знал каждый водоворот, где поблескивают водоросли и мусор, каждый скальный выступ – некоторые облюбовали морские птицы и упрямо распевают на них песни, а других скал они по какой-то непонятной причине сторонятся. Разумеется, будь тут остров, отец знал бы это, а он точно знал, что никаких островов здесь нет.
Как же тогда объяснить вот это? Мираж? Однако волны говорили об обратном. Движения лодки позволяли Па определить расстояние до берега, и звук прибоя подтверждал то, что видели глаза. На миг ему даже пришла в голову сумасшедшая идея направить лодку к берегу и проверить, не пройдет ли она насквозь.
– Нам туда можно? – спросил, будто прочитав отцовские мысли, А Боонь.
Па вздрогнул.
– Не глупи, Боонь. Мы же про… это место ничего не знаем.
Он хотел сказать, что не знает, мелко в бухте или глубоко, что под водой могут торчать острые камни и много чего еще, хотел перечислить разумные доводы, останавливающие его, но слова застряли в горле. Им медленно овладевал благоговейный страх. Па не был суеверным, и тем не менее…
– Па, почему мы раньше такого тут не видели? – спросил Хиа.
Па молчал. Наконец он оторвал взгляд от острова.
– Поворачиваем домой.
– Да мы ж даже сети не поставили, – возразил Хиа.
– На обратном пути поставим, – сказал Па.
– На обратном пути и рыбы-то нету. Почему их тут не поставить? Рядом с нашим обычным местом.
Голос старшего сына звучал настойчиво, но уважительно. Хиа умел говорить так, чтобы не ставить под сомнение отцовский авторитет. И все же Па нахмурился еще сильнее. Необходимость объясняться его не прельщала.
– А вдруг мы тут не рыбу выловим, а еще чего-нибудь? – спросил А Боонь.
Рука Па стремительно взлетела в воздух и с силой врезалась в правое ухо А Бооня. Голова мальчика дернулась, и он поспешно прикрыл ее. Но затрещин больше не последовало – едва подняв руку, Па уже стал раскаиваться.
– Не говори глупостей, – бросил Па.
Однако втайне он боялся именно того, о чем сказал вслух А Боонь. Кто знает, что там прячется в воде возле этого несуществующего острова?
– Все, поворачиваем домой, – твердо произнес он.
Ухо А Бооня по-прежнему ныло от отцовской затрещины. Внезапно ветер с яростным воем пронесся по волнам, и воздух вновь словно наполнился жужжанием. Мальчику почудилось, будто из темноты за ними наблюдают. Не люди и даже не звери. В душе зрела необъяснимая уверенность, что наблюдает за ними сам остров.
Па дернул шнур, и тишину разорвал механический рев двигателя. А Бооню показалось, будто от шума остров отступил, а берег отпрянул. Но на этот раз мальчик предпочел промолчать.
Па развернул лодку. А Боонь и Хиа вскарабкались на корму, провожая глазами остров. Хотя двигались они на самых больших оборотах, неясная темная громада, похоже, не уменьшалась, а, напротив, росла. Точно пустилась за ними в погоню. Желая убедиться, что Хиа видит то же самое, А Боонь повернулся к брату.
Однако Хиа не смотрел на остров. Под руководством отца он спускал за борт сети.
– Давай-ка, Лещ, помогай. – Хиа протянул А Бооню угол сети и показал, где на борту полагается его закрепить.
А Боонь тоже забыл об острове. Задания были незамысловатыми: тут веревка, там – два узла, следить, чтобы сеть не зацепилась за руль. Это он усвоил мгновенно, и впервые жизнь рыбака не внушала ему прежнего ужаса – знай себе приглядывай за сетью, а ветер в это время треплет тебя по щекам. Больше А Боонь не отвлекался.
Лишь когда Хиа спросил Па, кому тот собирается рассказать об увиденном, А Боонь оглянулся назад. Остров уменьшился, его было видно, только если точно знать, куда смотреть. Прищурившись, мальчик вглядывался в холмик в отдалении, наблюдая, как тот все сжимается и сжимается, пока наконец совсем не исчез. Остался один горизонт.
Глава
2
Когда они вернулись, на берегу уже ждал Дядя. Он стоял на мелководье, на песке за ним виднелись тачки. Майка на Дяде посерела, а короткие штаны из грубой холстины он подтянул повыше.
Дядя приходился братом Ма, а не Па, однако эти двое мужчин почему-то и впрямь походили на братьев. Оба низкорослые и худые, но жилистые, словно потрепанные ветром деревья с тонкими и гибкими ветвями. У обоих были любопытные, напоминающие клювы носы с широкими ноздрями, растрескавшиеся, всегда неодобрительно поджатые губы и одинаково задубевшая, покрытая пятнами кожа.
Различались они дыханием: Па дышал ровно и уверенно, а Дядя медленно, со свистом – давала о себе знать затяжная болезнь, от которой он с трудом оправился шесть месяцев назад. А Боонь поежился, вспомнив о кисловатом металлическим запахе и о ночах, когда ужасный кашель Дяди не давал никому уснуть. При особенно мучительных приступах у того изо рта вылетали капельки крови, и когда на следующее утро Ма замачивала в тазах его простыни, вода окрашивалась в розовый цвет.
Па остановил лодку там, где взрослым было по колено, то есть по грудь А Бооню. Хиа выпрыгнул из лодки и плеснул в лицо брату морской водой.
– Пошли, ты чего, вечно тут сидеть решил?
– Отвяжись от него, – строго сказал отец.
Когда Па занялся сетями, Хиа состроил брату рожу, но промолчал, заплыл за лодку и присоединился к отцу.
– Пошли, Боонь.
Это произнес Дядя. А Боонь обхватил Дядю за шею, стараясь не дотрагиваться до бугристых наростов на Дядиной спине. Они появились по время болезни – крупные, уродливые – и вызывали у А Бооня гадливость. И тем не менее проще всего А Бооню было именно со спокойным, терпеливым Дядей. Одной рукой подхватив А Бооня под тощую задницу, он поднял его и донес до берега.
– Спасибо, – поблагодарил А Боонь, спрыгивая на мокрый песок.
Мальчик хоть и испытывал благодарность, но все же был слегка раздосадован. Если бы Дядя помедлил еще с минуту, то А Боонь наверняка набрался бы храбрости и спрыгнул за борт в воду. Как тут изменишься, когда никто в тебя не верит?
Па осмотрел сети, потом повернулся к Хиа и что-то спросил. Что именно, А Боонь не расслышал. Хиа покачал головой и замахал руками. А Боонь наблюдал за ними с берега, ему хотелось, чтобы Па и с ним разговаривал так же, как с Хиа. Чтобы распекал его, одергивал и отдавал приказания. Проходя мимо, Па трепал А Бооня по волосам, но выходило так, будто он гладил домашнее животное, от которого особо многого не ждешь.
Дядя и Хиа вернулись. Каждый тянул за собой сеть с рыбой. Их лиц было не разглядеть, однако спины ссутулились от напряжения. А Боонь подкатил к берегу тачки и увидел, что в сетях полным-полно рыбы. Рыбины были крупные и мелкие, некоторые с серебряным отливом, другие поблескивали розовым. Было среди них множество круглых и плоских, за таких на рынке хорошо платят. Тут же подергивали длинными усами толстые, лоснящиеся креветки. Глаза А Бооня изумленно распахнулись.
– Откуда столько? – спросил он Хиа. Обычно Па и Хиа привозили хорошо если половину сегодняшнего улова.
– Сам не знаю, – покачал головой Хиа. От удивления он даже не ехидничал. Потом показал на каменного окуня, на морского леща и на зубатку длиной с его руку от кисти до локтя: – Может, оставим одну на вечер сготовить!
Рот А Бооня наполнился слюной – под липкой кожей зубатки, когда расковыряешь ее палочкой, прячется белое мясо, плотное и маслянистое. Обычно себе они оставляли лишь рыбью мелюзгу, худосочную рыбешку, набитую костями-булавочками, съедобную, только когда ее пожаришь до хруста.
– Да ну! Ты чего, Хиа? А у Па ты спросил? – не поверил А Боонь.
– Еще нет, но ты глянь, сколько рыбы-то. Ничего ведь, если одну большую оставим, отпраздновать!
А Боонь радостно закивал. Когда Хиа относился к нему по-доброму, А Боонь преисполнялся обожанием. Он смотрел на круглое загорелое лицо Хиа, на блестящие черные глаза и падающие на лоб волосы, длинные и красивые. Спору нет, его брат – самый сильный, замечательный и симпатичный из всех деревенских мальчишек. Неудивительно, что Па к нему привязан больше всего, так оно и должно быть.
Па подозвал мальчиков, велел им сбегать к его лучшим друзьям-рыбакам – Гим Хуату, А Ки и А Туну – и созвать всех в дом Ли по окончании торговли.
– Это потому, что у нас сегодня на ужин большая рыбина? Потому что мы столько наловили? – спросил А Боонь.
Па покачал головой и наклонился, так что лицо его оказалось вровень с лицом сына.
– Боонь, будь умницей, не говори никому про то, как мы сегодня выходили. Ни про остров, ни про рыбу. Ладно?
– Но почему? – удивился мальчик. – Столько рыбы – это же хорошо?
– Будь умницей и никому не говори. – Объяснять Па ничего не стал.
Хиа схватил А Бооня за руку и оттащил его от Па.
– Мы никому не скажем. Давай, Боонь, пошли.
– Но почему? – повторил А Боонь. – Почему?
Он устал. В конце концов, он выходил рыбачить впервые, и поднялись они в полчетвертого утра. За их спиной медленно всходило солнце, а ущербный месяц бледнел. Небо наливалось краской. Этот оттенок синего почему-то наводил А Бооня на мысли о яичном желтке, хотя яичный желток желтый. Лицо Па окрасилось оранжевым, на выступающих скулах появились маленькие белые точки. А Боонь знал, что на вкус кожа Па солоноватая, как и его собственная рука. Сколько он себя помнил, кожа всегда была соленой, пот на ней смешивался с морской водой. Набившиеся в шлепанцы песчинки вминались в подошву, глаза разъедала соль.
– Почему? – не унимался он.
– Замолкни уже, – осадил его Хиа и потащил прочь с берега.
На рынке Па с Дядей все утро молчали, опасаясь, что кто-нибудь заметит их необыкновенный улов и примется задавать вопросы. Чтобы избежать ненужного внимания, они перед тем, как отправиться торговать, продали львиную долю улова перекупщику.
Лишь сейчас, сидя дома в компании Гим Хуата, А Туна и А Ки, они немного успокоились. Во рту у каждого торчала сигарета – у всех, кроме Па и Дяди. Из-за болезни Дядя, хоть и с большим трудом, но бросил курить, а Па никогда и не начинал.
Мужчин, подобных им, было множество – в кампонге, на всем побережье, в городе неподалеку. Втроем, вчетвером, впятером рассаживались они на стульях, на ступеньках, на циновках из пандана[4], на деревянном полу. Мышцы после долгого трудового дня приятно болели, а какие именно мышцы, зависело от ноши – таскали ли они рыбу, кирпичи, рис или трудились рикшами. Они баловали себя кофе, угольно-черным или забеленным сгущенкой, неторопливо отпивали по глотку и потирали жесткие узловатые суставы. Беседы велись на разные темы, чаще всего пересказывались местные сплетни, но время от времени заходили разговоры и о политике. Или о том, кто выиграл в “двенадцать карт”, чья дочь или чей сын завел роман, как проходит мобилизация, где подают самые большие порции наси-лемак[5]. Беседа текла неспешно, слова приносились в жертву отупляющему полуденному зною. Разговоры разматывали перепутанные мысли, притупляли боль и ломоту.
Па, Дядя и трое других много раз вели подобные беседы в золотые послеполуденные часы. Однако сегодня говорили они взволнованно, будто тайком. И причиной тому было загадочное наваждение, однородная твердь, остров.
– Ты про утесы? Тут всегда утесы были! Ты, Хуат, вечно просыпаешься ни свет ни заря, а потом в лодке сны досматриваешь… – Это сказал А Тун, самый громогласный из их компании. Его пухлые ладони были гладкими и блестящими, словно ракушки внутри.
– Как в Кота-Тингги? – задумчиво спросил А Ки. Тихий и спокойный, он славился своей способностью перетаскивать мешки с землей, здоровенные, размером со свинью. Родился он в Северной Малайе, а сюда, в кампонг, переехал еще мальчишкой, вместе с родителями, с тех пор так и жил тут.
Па в Кота-Тингги не бывал, о чем и сказал.
– Далеко это? Как на Сакиджанг-Пелепах идти? Или на Кусу?
– Нет, – с досадой возразил Па. Он рыбачил тут всю жизнь и знал все острова. Этот был совсем не там.
– А Пак Хассана ты не спрашивал? Или Пак Сулеха?
Па покачал головой. Никому, кроме собравшихся сейчас, он об острове не рассказывал.
– Откуда на пустом месте вообще взялся остров? – с недоверием проговорил Гим Хуат, бывалый рыбак, самый старший из них.
– Что видел, то и говорю, – ответил Па.
– А улов ты и сам видал, верно? – добавил Дядя.
Повисла тишина, которую нарушало лишь постукивание – кто-то нервно барабанил пальцами по стулу.
Гим Хуат признал, что за всю его бытность рыбаком, за все сорок лет, видеть подобного улова ему не доводилось. Остальные закивали. Было решено всем вместе совершить вечером вылазку и убедиться в существовании острова.
Услышав звук заведенного мотора, А Боонь и Хиа кинулись на берег. Несколько взрослых мужчин, втиснувшихся в тесную лодку, – зрелище странное. Па восседал на своем обычном месте возле мотора, остальные уселись по двое, наклонившись к бортам, чтобы равномерно распределить вес. Все они, как дети, подтянули колени к груди.
Мальчики провожали взглядом лодку, пока та, рассекая серые волны, не превратилась наконец в бугорок на плавном изгибе горизонта. Что же увидят там взрослые? Может, тайное пиратское убежище или колонию с миллионом разноцветных певчих птиц? Несмотря на неистовое послеполуденное солнце, напекающее спину, мальчики стояли на берегу, пока их не позвала мать.
– Боооонь! Яааааам! – долетел до них ее голос.
Увязая шлепанцами в мягком песке, мальчики бросились на зов. Хиа, как обычно, опередил брата, и когда А Боонь добежал до дома, Хиа уже сидел на траве и помогал матери раскладывать на газетах рыбу.
– Ай-ай-ай, Боонь, – сказала Ма, – сколько раз вас, мальчики, звать? Вы что, оглохли?
Она похлопала по земле, и Боонь присел на корточки возле матери. Его работа заключалась в том, чтобы доставать из ведра рыбин, вытирать их тряпкой и одну за другой передавать Ма, а та уже укладывала рыбу на газеты. Хиа сидел напротив и раскладывал рыбу в аккуратные ряды с противоположного конца.
Семейство Ли жило на окраине кампонга, в скромном доме из нипы[6], откуда было видно море. Их часть побережья представляла собой полоску булькающей жижи, которая больше смахивала не на берег, а на болото с густыми мангровыми зарослями, где корни растений, словно тонкие ручонки, пробивались сквозь грязь. Миллионы маленьких незаметных рачков сновали по поверхности, уступая числом разве что миниатюрным земляным шарикам, из которых они сооружали себе жилища. Размером с ноготь, серо-коричневые, с полупрозрачным туловищем, рачки превращали почву в постоянно движущееся полотно.
Порой среди мангровых корней мелькали илистые прыгуны с мерцающими в тени глазами. Совсем малышами А Боонь и Хиа часто соревновались, кто первый заметит прыгуна. И если взгляд Хиа нетерпеливо скакал по болоту, то Боонь всматривался в заросли вдумчиво, изучал каждый мшистый камень, каждый кусок гнилой коры, каждый потемневший корень, выискивая складчатый плавник и блестящий глаз. Однако, высмотрев рыбку-прыгуна, А Боонь молчал, ведь если Хиа слишком часто проигрывал, он огорчался и отказывался играть дальше.
В болоте попадались и участки прозрачной воды, как тот, откуда сегодня утром выходили в море Па и остальные мужчины, – в таких местах мангровые заросли уступали место плоскому песчаному пляжу, и лодку легко было столкнуть на воду. Жить рядом с таким местом – мечта и редкая удача, здесь селились рыбаки посостоятельнее – например, Гим Хуат. От жилища Ли до чистой воды было далеко. Их дом стоял возле густых мангровых зарослей, где в это время суток оглушительно верещали цикады, а дневное солнце, казалось, решило спалить все, до чего дотянется.
– Как сходили утром? – спросила Ма, не отрываясь от работы.
– Боонь почти разревелся, так воды забоялся, – ухмыльнулся Хиа.
Но ухмыльнулся он беззлобно. Этим утром между ними зародилось понимание. Теперь они хранили секрет, и даже если о нем уже узнали Ма, Дядя и другие рыбаки, пугающая утренняя диковинка принадлежала лишь им двоим.
– Привыкай, сынок, – сказала Ма, – море никуда не денется. Такой большой, а боишься? – И она пощекотала А Бооня, побарабанив пальцами по его ребрам под тонкой майкой.
А Боонь захихикал и вывернулся.
– Ничего я не боюсь! – сказал он.
Воспоминания о тех секундах, когда он думал, что его вот-вот столкнут за борт и заставят плыть, поблекли.
– Па и Хиа, когда остров увидели, тоже испугались. Рты разинули, прямо как обезьяны, вот так. – Боонь открыл рот и выпятил нижнюю губу.
Ма засмеялась, весело и переливчато, ее смех напоминал флажок на ветру. Подбородок у Хиа задрожал от обиды, и все-таки братец тоже рассмеялся.
– Передразниваешь Па, да? Смотри попадешься ему! – И она снова пощекотала Бооня.
Боонь дернулся, потерял равновесие и повалился на спину. Ма воспользовалась возможностью и пощекотала его оголившийся живот, отчего мальчуган засмеялся еще громче, задрыгал ногами и подбросил в воздух тапок.
– Э, осторожнее! – завопил Хиа. – Тут же рыба!
Липкий от пота, А Боонь растянулся на спине и уставился в слепящее небо. Он думал про остров. Возможно, Па, Дядя и все остальные сейчас там. Он представил себе побережье, совсем как это, с мангровыми зарослями в густой морской грязи. Широкие насыпи белого песка, которые обжигают босые ступни, но не жесткие обезьяньи лапы. Представил, как обезьяны с любопытством подходят к Па и остальным мужчинам, когда те вытащат лодку на берег. А может, их там встретят оранг-лауты, настоящие морские люди, когда-то населявшие местные острова, но вытесненные ан мо в Джохор.
Сами Ли тоже жили на острове, но намного крупнее. Их остров носил множество названий: Тумасик, Пулау Уджонг, Наньянг, Синцзяпо, Сингапура, Сингапур – все зависело от того, кого и когда спросить.
Когда Ма спрашивали о размерах их острова, отвечала она непонятно. Иногда – что он в десять раз больше их кампонга, иногда – что хоть целый день кати на велосипеде от одного берега, все равно до другого не доедешь. Бооню никогда не приходило в голову, что Ма, возможно, просто не знает ответа.
Сам же А Боонь знал вот что: их кампонг находится на юго-восточном берегу территории, которую называют Сингапуром – одна из четырех крупных деревень возле самых рыбных мест побережья. Два кампонга китайские, живут там в основном китайцы хоккьен, давно живут, с самого начала века. Другие два кампонга – малайские, они еще старше. Раньше здесь жили рыбаки, которые научили первых китайских переселенцев строить из мангровых деревьев лодки, ставить плетеные ротанговые ловушки для крабов, сушить на солнце креветок и растирать их в балачан[7]. Из уважения к соседям лишь несколько семей в кампонге Бооня держали свиней, да и то не выпускали их из загона.
Почти все жители их кампонга родились в Сингапуре. Ма и Па тоже выросли тут, и родители Па, и отец Ма. Только ее мать прибыла на корабле с Материка – ее привели сюда засуха и бедность. Впрочем, сейчас все они умерли. Боонь застал лишь мать Па – правда, он был тогда совсем маленький и не запомнил ее.
А Боонь старательно запоминал все эти факты, хотя и не знал ни что такое засуха, ни какой смысл взрослые вкладывают в слово “Материк”. В его представлении это место находилось где-то очень далеко, а жили там одни китайцы. Он считал, что помнить – очень важно. Особенно же его успокаивало воспоминание о том, как ровно год назад мама сказала ему, что невеста его обязательно должна быть из хоккьен, и желательно, чтобы не с Материка, а, как и он сам, выросла в Наньяне. Тогда А Бооню было шесть лет, и он поместил этот наказ в тот отсек памяти, который отвечал за будущее.
Вернулась лодка поздно. Солнце едва выглядывало из-за горизонта.
Что же расскажут взрослые? Они целый вечер пропадали. От предвкушения у Бооня свело желудок. Мальчик бросился на берег, шлепая босыми ногами по чудесному, прогретому солнцем песку. Как обычно, Хиа бежал впереди. Его майка белела в сумерках. Он влетел в воду и замахал над головой руками. Но из лодки махать не стали.
Па, совсем как утром, медленно направил лодку к берегу. Как странно – ведь все это случилось в один и тот же день. Хиа окликнул их, но ответа отца А Боонь не расслышал.
Наконец А Боонь добежал до Хиа. Что-то произошло. Окутанные молчанием, которое нарушали лишь редкие односложные реплики, мужчины вытаскивали лодку на берег.
– Что случилось? – шепотом спросил А Боонь.
– Заткнись. – Хиа оттолкнул его в сторону.
Судя по обиде в голосе, Хиа получил нагоняй от Па, и Боонь больше не приставал к брату.
Пришла на берег и Ма. Она тихо переговаривалась с Дядей. Вытащив лодку из воды, мужчины собрались в кружок.
– Как это – ничего? – спросила Ма.
– Ничего, – подтвердил Дядя, – никакого острова. Мы несколько часов искали.
А Ки разочарованно покачал головой, Гим Хуат потер серебристую щетину на подбородке, А Тун непрестанно цокал языком.
Па молчал. На шее обозначились складки, вокруг рта залегли морщины, словно кожу там перетянули тонкими резинками. Боонь впервые осознал, что Па старый.
Они долго молчали. Затем Па тряхнул головой, избавляясь от морока этого дня, и проговорил:
– Ничего страшного. Давайте по домам.
Мужчины недоверчиво переглянулись, и А Боонь понял, как они относятся к случившемуся.
– Он там был! – выпалил он. – Я тоже видел. Остров там был!
Взрослые повернулись к нему. Щеки у А Бооня запылали. Мужчины покачали головами.
– Молчи, Боонь. – Лицо Па посуровело.
– Но я видел, – уперся мальчик.
– Замолчи!
Ведь он собственными глазами видел – отчего же они не верят? Слова Па они ставят под сомнение, Па и сам начинает сомневаться, и как же невыносимо на это смотреть!
– На сегодня хватит, – сказал Гим Хуат, – расходимся.
Глава
3
Больше о случившемся не было сказано ни слова. Семья вернулась к своим обычным делам. Па и Хиа выходили по утрам на рыбалку, Дядя и Па отвозили рыбу на рынок, Боонь оставался дома помогать Ма. Если прежде рыбалка Бооня не интересовала, то теперь он затосковал по лодке. Но обычный уклад предполагал, что в море ему путь заказан.
Боонь спал в одной кровати с братом и каждое утро, когда отец будил Хиа, тоже просыпался. Он лежал неподвижно, закрыв глаза, мучимый завистью и стыдом. Боонь не сомневался, что на своей первой рыбалке он проявил себя плохо и теперь отец презирал его – иначе почему его больше не берут в море? Он истязал себя, представляя Хиа в лодке рядом с Па, как брат движется навстречу черным неведомым водам, а ветер треплет его волосы.
Похоже, взрослые решили, что Хиа – сын Па, а Боонь – мамин. И он таскал воду из колодца, развешивал белье, переворачивал соленую рыбу на нагретых солнцем циновках. И то, что прежде доставляло радость, теперь воспринималось как наказание. А Боонь напоминал себе, как спокойно ему бывало здесь, на суше, рядом с матерью, когда он сидел в тени кокосовой пальмы и знай себе давил спичечным коробком красных муравьев. Как ни крути, это ведь он сам воротил нос от рыбы. Рыбья кожа, липкая, когда морская вода на ней высыхала, внушала ему отвращение, а когда прибой размывал под ногами песок, А Бооню делалось не по себе.
И тем не менее. Остров. Высокие скалы, поросшие зеленью берега. Темные и суровые, как само море. Остров делал море более предсказуемым и обозримым, лишал необъятности.
Но он исчез.
Помогая по хозяйству, А Боонь ломал голову над загадкой острова и ждал дня, когда Па и Хиа вернутся и, волнуясь, объявят, что вновь обнаружили его. Тогда тайна острова станет их общей и наказание Бооня завершится.
Жители кампонга нередко становились свидетелями того, как братья и сестры, обидевшись друг на дружку, принимаются колотить посуду, как жены, стоя в дверях, во весь голос распекают мужей, как старики, сетуя на детей за малейшее неповиновение, громко сожалеют, что те родились на свет.
А вот дом Ли относился к тем, где царила тишина, но разнородная. Порой жесткая, она даже потрескивала, словно воздух обернулся льдом, а иногда тишина масляно сгущалась и будто оставляла на коже жирноватые пятна. Однако молчание, связанное с островом, не походило ни на какую другую тишину. Если не считать этого провала в памяти домочадцев, дела в семье шли хорошо. Ма и Па больше не ссорились из-за того, что Дядя не работает, Дядя не переживал из-за денег на знахаря, и даже Хиа не высмеивал А Бооня за то, что тот не выходит в море. Для Бооня тишина сделалась осязаемой, ношей, вес которой он ощущал на своих узких плечах.
Наконец однажды утром она стала невыносимой. А Боонь дождался, когда Па уйдет на рынок, а Хиа отправится за дом мыться – ведро воды Боонь сам притащил из колодца. Он слышал, как капли разбиваются о тело брата, как падают на землю, плеск воды успокаивал его, повторяясь снова и снова. Возможно, не следовало ему поднимать шум, раз уж все так благополучно забыли то происшествие. Однако из памяти А Бооня он никуда не делся – остров, огромный, непостижимый.
Поэтому, когда Хиа с мокрыми волосами, с обернутым вокруг бедер выцветшим розовым полотенцем, вернулся, Боонь тихонько спросил, не попадался ли им остров.
Хиа нахмурился.
– Молчи об этом, – сказал он, – беду накаркаешь. Па говорит, это злой дух работу портит.
– Значит, если я пообещаю Па не говорить про остров, он опять возьмет меня в море? – спросил А Боонь.
Насупленное выражение на лице Хиа превратилось в ухмылку. Он облизнул губы.
– Лещ, сам сообрази. Мы с Па каждое утро уже много лет выходим. Но остров появился, только когда мы взяли с собой тебя, – со значением проговорил Хиа.
– И чего?
– Злой дух к тебе липнет. И вообще на прошлой неделе Па сказал, что хорошим рыбаком тебе не стать.
Не успев сообразить, что делает, А Боонь бросился с кулаками на брата. Хиа с грохотом повалился на пол и ухватил Бооня за руки, изогнулся, уворачиваясь от ударов и ногтей.
Они уже много лет не дрались, а сейчас разница между ними существенно сократилась. Годы, проведенные за тасканием ведер из колодца и катанием тачки, придали мышцам А Бооня силы и упругости, хоть он и выглядел по-прежнему тщедушным. Сравнявшиеся в силах братья с диким шумом катались по полу, сбивали стулья и запутывались в полотенце, в которое прежде был завернут Хиа.
– Ай-ай-ай! Что это?! Ну-ка, прекратите!
Мальчики замерли, Ма воспользовалась моментом, ухватила каждого за ухо и разняла.
– Это Боонь начал! – пожаловался Хиа.
– Не ври, Ям, – не поверила Ма.
– Я никогда не вру! Мы просто болтали, а он словно сбесился! – возмутился Хиа.
– Что произошло, Боонь? – спросила Ма. – Пойдем, не плачь, садись.
Она потянула его за майку, там, где ткань во время драки порвалась.
А Боонь вытер лицо. Потом робко признался во всем: как задал Хиа вопрос, как Хиа заявил, будто Па не хочет брать его в море, потому что остров появился из-за него, а еще что рыбаком ему не стать.
Ма помолчала, а потом рассмеялась.
– Так и сказал? Ох, Ям, ну ты и чертенок. То и дело глупости говоришь!
Хиа скрестил на груди руки.
– Это Па сказал, – упрямо повторил он.
– Глупости. – Ма ласково потрепала А Бооня по волосам. – Ты больше не выходишь рыбачить, потому что мы с Па решили отправить тебя в школу.
Хиа молчал. А Ма добавила, что Бооня записали в школу в соседнем кампонге и что уроки начинаются через две недели.
А Боонь не знал, что и думать. Правда, некоторые мальчики из их кампонга ходят в школу, да. Но это считается большой роскошью, не для таких семей, как их собственная. Он всегда думал, что пойдет той же дорогой, что и Хиа, будет помогать отцу рыбачить и, возможно, скопит достаточно денег, чтобы хватило на собственную лодку. Какой смысл ему ходить в школу?
– Но зачем мне туда, Ма? Почему нельзя просто помогать Па и Хиа или тебе по дому? – спросил он.
В ушах у него продолжали звучать слова Хиа: “Потому что хорошим рыбаком тебе не стать. Потому что ты проклят”.
– У Па достаточно помощников, – только и ответила Ма, – ладно, хватит глупостей. Идите обедать. А ты, Ям, оденься.
Па ходил в школу всего два года, после чего разделил со своей матерью заботы о семье. Ма, подобно большинству женщин, образования вообще не получила. Дядя – единственный из них, кто окончил начальную школу и даже проучился немного в училище, поэтому по утрам, когда они пили на веранде кофе, именно Дядя читал вслух газеты для Ма.
Стальное море, упирающееся в далекий горизонт, стрекотание цикад в зарослях, отголоски пения птицы коэль ранним утром – ух-ууух, ух-ууух. Мир А Бооня всегда казался огромным, бескрайним и поэтому пугающим, и все же теперь мальчик видел, что мир имеет границы – это кампонг, и семья, и море.
На смену воспоминаниям об острове пришли мысли о школе. Сидя на траве перед домом и разглядывая соленую рыбу, которая вялилась на солнце, А Боонь размышлял о будущем. Мысли о школе, даже само упоминание о ней уже наводили его на догадку, как мало он знает о жизни за пределами дома. Боонь помнил, что в их кампонге живут тридцать четыре семьи, а всего жилищ двадцать девять. Семьи победнее вынуждены делить кров с другими. Именно поэтому о них – о Чанах, Лимах и Инах – Па и упоминал, когда хотел подчеркнуть, насколько призрачна любая стабильность: чтобы вогнать целое семейство в нищету, достаточно продолжительной болезни или вероломного родственника. Кое-кто из местных владел домом, в котором жил, но чаще они платили за аренду токею, местному богатею, холеному мужчине лет шестидесяти, обладателю двух жен и выводка из девяти детей, жившему в большом кирпичном доме с широким белым крыльцом. У этого крыльца любили фотографироваться дочери других преуспевающих дельцов.
Однажды А Боонь и остальная деревенская ребятня сбежались посмотреть на это диво. От такого великолепия Боонь едва не ослеп: девушка, одетая в вышитый чонсам[8] из пурпурного шелка, держала в руке сверкающий зонтик из вощеной бумаги, а на ногах у нее были крохотные туфельки цвета голубиного оперенья. И ни единого грязного пятнышка на них. Фотографировал ее мужчина смешанных кровей, с пугающими морщинами и в промокшей от пота и потому просвечивающей рубахе. Он перетаскивал с места на место большую черную коробку из металла и стекла. Вспыхивающая лампочка, воткнутые в грязь тонкие ножки штатива – все это намекало на существование за пределами кампонга огромного мира, места, где дорогих фотографов нанимают ради забавы, а мудреная техника служит людским прихотям.
Знал А Боонь и еще кое-что: все семьи, где мужчины здоровы, живут рыбной ловлей. Если же мужчины в семье нет, как, например, у живущих по соседству Танов, то на жизнь в семье зарабатывают женщины – стирают или пекут на продажу пирожные. Женщинам выходить в море нельзя, это плохая примета. Про это Боонь тоже знал и потому изгнание с лодки очень досаждало ему.
За годы, что он успел прожить в этом мире, кампонг почти не изменился, и все же А Боонь чувствовал, что совсем скоро грядут перемены. Как судачили в кампонге, своих троих младших детей токей отправил не в китайскую школу, которой он сам же и покровительствовал, а в английскую, неподалеку от города. Управляли той школой монахини. Шли в деревне пересуды и о старшем сыне Лимов, тот отказался от отцовской лодки и вместо этого устроился в город, в магазин, где продавали консервы. Все чаще и чаще молодежь уезжала жить и работать куда-то еще. Па с Дядей объясняли это слабохарактерностью, свойственной новому поколению, непривычному к тяготам, в которых выросли они сами.
Может, поэтому Па и решил отдать А Бооня в школу? Он считает своего светлокожего сына, худосочного и тонкорукого, с девчачьими волосами, представителем этого нового поколения? Впрочем, сейчас эта мысль расстраивала Бооня не так сильно, ведь он научится читать и писать, как Дядя.
У него возродился угасший было интерес к старым газетам, на которых они сушили рыбу. А Боонь всегда любил разглядывать фотографии, особенно ан мо – сухощавых светлоглазых призраков, которые правили островом Наньян и остальными малайскими территориями. Они разрезали ленточки, руководили собраниями, делали заявления на фоне белых рифленых колонн.
Своими глазами он видел ан мо только во время редких вылазок вместе с Ма в город. В кампонг они никогда не приезжали.
Еще сильнее занимали его уроженцы этих мест. В круглых темных очках на носу, с блестящими приглаженными волосами или в аккуратных тюрбанах. Одни малайцы, другие индусы, много китайцев. Эти мужчины, как и ан мо, носили рубашки и брюки, но если ан мо на снимках любезно улыбались или сидели за столами, то местные стояли на трибунах перед толпой и, нахмурившись, обнажив зубы, кричали что-то в мегафон. Ровесники Па и Дяди, выглядели они, однако, иначе, более мясистые и светлокожие. Эти люди не из тех, кто работает на солнце.
Может ли он стать таким же? Или пойдет по стопам Дяди, которому наука помогает разве что деньги считать да читать вслух газеты уставшим кумушкам? Внезапно слова, напечатанные на страницах, наполнились важностью, и А Боонь загорелся желанием узнать их смысл.
Глава
4
Над горизонтом появилась тонкая полоска солнца, а темное небо осветилось обещанием утра. Настал первый учебный день. Ма с Боонем вышли из кампонга и зашагали по проселочной дороге, той самой, по которой Па с Дядей каждое утро ездили на рынок. Вокруг раскинули ветви папоротники и изогнутые плетистые ветви брунфельсии, а между ними теснились более мелкие растения, и в этой сени, несмотря на светлеющее небо, дорога казалась сумрачной и узкой. Накануне прошел дождь, и хотя Боонь и Ма шагали осторожно, все равно порой наступали в мягкую жижу и с чавканьем вытаскивали из нее мокрый шлепанец.
Ма сегодня приоделась. Простая аккуратная блузка с высоким воротником, низ из такой же зеленой ткани с узором из маленьких белых цветочков. Бооню она казалась очень красивой, похожей на богатую тай-тай[9], однако он ничего не сказал, в их семье о подобном говорить было не принято. Ма шла чуть впереди, показывая на лужицы и гниющие в грязи кокосы.
– Ма, а школа – она какая? – спросил А Боонь.
Этот вопрос мучил его уже две недели. Но спросить он решился лишь сейчас, в сумраке, когда впереди маячила спина Ма. Ответ последовал не сразу, и у Бооня запылали уши. Хиа ни за что бы не спросил, какая она, школа. Он бы просто ходил в нее, и у него все получалось бы.
– Скоро сам все увидишь, – сказала Ма. К облегчению мальчика, голос ее звучал ласково.
– А почему ты в школу не ходила?
Ма рассмеялась и ответила, что у нее не было возможности. Столько работы по хозяйству, столько младших братьев и сестер, и каждого накорми и вымой. Потом она рано вышла замуж, и у нее появились собственные дети.
– Но ты хотела в школу? – спросил А Боонь.
Ма молчала. Она подобрала брюки и осторожно перешагнула через большую лужу. В луже кто-то зашевелился, и А Боонь отшатнулся. Из мутной воды выползла тонкая сине-черная змея.
– Не всегда бывает, как хочешь, Боонь, – сказала Ма и добавила, что он рожден не для такой жизни и чем раньше он это усвоит, тем лучше.
Боонь бережно прокрутил в голове ее слова. Для какой же он рожден жизни? Для жизни рыбака? И, несмотря на это, идет в школу. Значит, родители считают, что он рожден для лучшей жизни?
За деревьями мужской голос выводил протяжный напев. Азан. Там располагался малайский кампонг, сквозь ветви А Боонь разглядел деревенскую мечеть, большое изящное здание на опорах. Оставив снаружи сандалии и шлепанцы, рыбаки, облаченные в каин пеликаты[10], тихо входили в здание. Утреннюю тишину пронзал призыв к молитве – низкий навязчивый звук, который, казалось, проникал в каждый уголок души А Бооня.
Мелодичный зов муэдзина воскресил в памяти Ма всех потерянных ею детей. С последней утраты прошел всего год, случилось это ранним утром, похожим на сегодняшнее. Она вспомнила, как кричали птицы, как откликался эхом далекий голос муэдзина. Скорбный и в то же время утешающий.
Всего четыре выкидыша. Первый, ужасный, случился на позднем сроке, поэтому вызвали повитуху, и Ма пришлось выталкивать из себя крохотный молчаливый комочек подобно тому, как другие производят на свет живого ребенка. Всю следующую беременность Ма провела в страхе, что это случится вновь, и не верила, что А Ям жив, пока его, вопящего, не положили ей на грудь. В первый год его жизни она не могла избавиться от мысли, что он умрет. Наконец страх стих, наконец появился А Боонь. Казалось, жизнь вошла в положенную ей колею. Ма верила, что, подобно ее матери и сестрам, она выносит и родит семерых или восьмерых детей. А первое несчастье – просто невезенье. Она тогда слишком много работала, да и кровь разжижилась, потому что мяса они ели мало. Но потом-то она успешно родила двоих, причем мальчиков, а значит, ее можно считать нормальной и здоровой, и везет ей больше, чем большинству.
После ее ждали еще три выкидыша. Все на ранних сроках, и когда она видела блестящие сгустки, скользкие комочки в ночном горшке, ее захлестывало горе. Па был рядом, массировал ей спину. Но ей хотелось, чтобы он ушел, тогда она дотронется до нежных кровавых комков, так похожих на кусочки печени, которую она покупает у мясника. Наконец муж вышел, и она протянула руку. В ее пальцах сгустки растворились, превратились в темную жидкость, напоминающую уксус или вино. Что сгущает кровь так, что она наполняется жизнью? Что лишает ее жизни?
Пережив последнюю утрату, Ма решила, что этого больше не случится. Она посвятит себя заботе о двух своих детях, займется их воспитанием, подарит им то, чего не подарила детям нерожденным.
Голос муэдзина стих, и Ма бросила взгляд на А Бооня. Сосредоточенно нахмурившись, ее любимый малыш осторожно шагал по грязной дороге. Какой же он серьезный! Она всегда чувствовала, что в теле маленького мальчика прячется душа взрослого мужчины.
А Боонь должен ходить в школу. Она об этом позаботится, даже если будет сложно, даже если бы Па не согласился. Па хватит и А Яма. А вот А Боонь принадлежит ей, под ее руководством он научится читать и писать, его ждет судьба, какой от сына рыбака никто и не ожидает.
Остаток пути они прошли молча. Время от времени мимо, разбрызгивая колесами грязь, с грохотом проезжали грузовики. А Боонь вдруг понял, что не слышит моря. Это сбивало с толку, и тем не менее тишина освобождала в голове место, наделяла приятным простором, которого А Боонь прежде не знал. Он почти расстроился, когда они дошли до другого китайского кампонга и пространство наполнилось звуками утренней суеты.
Школа располагалась в скромном деревянном здании с цинковой крышей. Девочки прыгали через натянутые веревочки, мальчишки, крича и подпрыгивая, бегали за сделанным из разноцветных перьев воланчиком – играли в каптех.
А Боонь ухватился за ногу Ма.
– Что? – спросила Ма.
Он не ответил. Круг общения А Бооня ограничивался Хиа, и сейчас мальчику остро недоставало брата.
Ма присела на корточки и посмотрела сыну в глаза:
– Будь хорошим мальчиком, ладно, Боонь? Учись, старайся. Чтобы Ма тобой гордилась.
Ее слова поддержали А Бооня, заставили взять себя в руки. Он вспомнил тот миг в лодке, когда готов был спрыгнуть в воду. Если уж он не испугался непроницаемого моря, то и этого не испугается.
А Боонь отцепился от Ма.
– Молодец, – похвалила она.
Ма протянула ему что-то круглое, завернутое в газету. Еще теплую паровую булочку, перекусить на перемене.
Неожиданно она обняла его, и он вдохнул запах ее вымытых волос. Ма давно его не обнимала. Затем она отстранилась, встала, разгладила блузку, тихо вздохнула и подтолкнула А Бооня в сторону школы.
Учитель с вытянутым лицом смахивал на мурену. Очки в серебряной оправе удивительным образом держались на плоском носу. Будто боясь, что очки свалятся, он то и дело поднимал руку к лицу и трогал тонкую металлическую перекладину, соединяющую две выпуклые линзы. Однако очки сидели как приклеенные. Учитель так часто повторял это движение, что ученики, сплетничая о нем, не называли его по имени, а просто передразнивали жест.
– Говорят, что… – рука поднимается к носу, – работал учителем где-то в городе. Но ан мо велели его уволить!
Кто-нибудь еще тоже поднимал руку к носу:
– Вот уроды. А он так тихо говорит. Как думаешь, он в партии состоит?
В политических партиях дети ничего не смыслили, не знали ни о том, как малайские китайцы разрываются между коммунистами и Гоминьданом, ни о конфликте интересов, ни о подозрениях, которые колониальное правительство питает в отношении первых, ни о его неприязненной снисходительности к последним. Они были слишком малы, чтобы знать и о событиях в Крета Айер, где демонстранты с гоминьданским флагом затеяли потасовку с состоятельными кантонскими торговцами у мемориала Сунь Ятсена[11], а закончилось все тем, что ан мо принялись палить из винтовок по толпе китайцев. Эти юнцы не понимали гнева и скорби по пяти убитым и одиннадцати покалеченным.
Они были слишком малы, чтобы знать о таких событиях, но отголоски все же до них долетали. Порой в кампонге появлялись листовки, призывавшие объединяться против колониальных властей. А то вдруг группка бродяг нападала на магазин, в котором торговали не китайскими сигаретами, а английскими. Или волонтеры Фонда помощи выходцам из Китая обходили дома, собирая средства для защиты Материка от вторжения японцев. Хитросплетения патриотических и националистических альянсов от детей ускользали, но исчезновения людей не оставались незамеченными: в газетах писали, кого и когда арестовали, в вечерних школах проводились обыски, а сами школы закрывались, на партии накладывался запрет, типографские станки и множительные аппараты изымались. Так что учитель, которого уволили с работы по приказу ан мо, – персонаж интересный, ничего не скажешь.
– Учитель Чи А – наш учитель. Поэтому мы должны его уважать, – звонким, словно колокольчик, голосом сказала вдруг одна из девочек.
А Боонь подумал, что так говорят бесстрашные, но не такие, как Хиа, потому что его храбрость зависит от чужих страхов.
Остальные ученики загалдели.
– Он не учитель Чи А, он вот кто, – рука дернулась к лицу, – не путай, Мэй.
Девочка лишь стиснула губы. Мальчишки улюлюкали и смеялись, но она оставалась непреклонной. Не обращая внимания на их гримасы, девочка глядела уверенно и невозмутимо.
А Боонь смотрел на нее сквозь толпу. Он боялся за нее, оставшуюся наедине в этом море смеющихся лиц. Скопища живых существ всегда пугали его. Одна рыба бессильна, но стая способна перевернуть лодку. Под воздействием света, температуры и течения рыбьи косяки ведут себя непредсказуемо.
И все же девочка – Мэй, он бережно сохранил ее имя в памяти – не шелохнулась. Ее лицо, нежное и радостное, напоминало камушек на берегу: как бы ни обрушивались на него волны, он оставался на месте и поблескивал на солнце. Боонь смотрел на нее, и в животе у него будто стягивался узел. Лишь намного позже он понял, что это такое.
Один из мальчишек потянулся к лицу Мэй – похоже, чтобы поправить невидимые очки. Она тотчас же схватила его за руку. Обидчик хихикнул, но девочка не отпускала, и в его смехе зазвучали тревожные нотки. Со всех сторон посыпались насмешки.
– Давай, врежь ей!
– Что, А Гау, девчонки испугался?
– Врежь! Врежь!
А Боонь знал, как поступил бы кто-нибудь вроде Хиа. Он приготовился к удару, и тем не менее шепотом пробормотал:
– Не надо.
Все замолчали, а затем Мэй неожиданно отпустила руку мальчишки. Выражение ее лица изменилось, и она почти по-учительски снисходительно похлопала мальчишку по плечу. Ожесточение исчезло и с его лица, и он вернулся за парту. Окружающие недовольно заворчали, но уже беззлобно.
Удивительное тепло накрыло А Бооня. Эта девочка – кто она?
– Доброе утро, ученики.
На пороге стоял учитель Чи А. Школьники заспешили за парты, и в суматохе А Боонь вдруг понял, что его парта оказалась рядом с Мэй.
– Когда я говорю “Доброе утро”, вы отвечаете “Доброе утро, учитель Чи А”, – сказал учитель, – и кланяетесь, вот так. – Он вытянул руки по швам и слегка поклонился. А как только выпрямился, сразу же дернулся поправлять очки.
Однако школьники молчали, даже мальчишки, которые совсем недавно передразнивали его.
Учитель Чи А обладал своеобразной силой. Он смотрел на детей так, как никто из взрослых, будто действительно видел их и возлагал на них ответственность за их поступки.
– Итак, попробуем еще раз. Доброе утро, ученики.
– Доброе утро, учитель Чи А, – хором отозвались школьники и поклонились.
– Хорошо. Пожалуйста, садитесь.
В классе повисла тишина. Учитель Чи А говорил на правильном мандаринском китайском, присущем скорее диктору радио, чем школьному учителю в кампонге. А Боонь понимал его с трудом. Дядя немного учил его мандаринскому, но учитель Чи А говорил быстро и громко, из горла плотным потоком сыпались гласные, а на языке, словно комочки пережеванной пищи, перекатывались согласные. Небо и земля, если сравнить с привычным А Бооню грубым хоккьеном. Мальчик вспомнил слова одноклассника – мол, учитель Чи А прежде работал в городе, в престижном училище. Наверное, так оно и есть. Его речь словно придавала скромной обстановке – деревянным партам со сбитыми углами, серой исцарапанной доске, стенам, пестрым от обрывков давно сорванных плакатов, – какую-то торжественность.
Глядя на лист бумаги, учитель Чи А зачитал по очереди имена, отмечая каждого.
– Ин Сыок Мэй, – произнес он наконец.
– Здесь, – откликнулась Мэй.
Спрятанные под парту руки А Бооня налились теплом. Услышав свое имя, он поспешно ответил “Да”, но краем глаза увидел, как Сыок Мэй чуть повернула голову.
Она улыбнулась ему – едва заметно, не разжимая губ. Эта улыбка будто говорила, что они понимают друг дружку и попозже точно поговорят, однако сейчас надо притвориться, что они ничем не отличаются от всех остальных. А Боонь уставился в столешницу. Затылок покалывало. Боонь вспомнил, как она смотрела на мальчиков, ее маленькую руку на парте, когда девочка решила высказаться, холод в ее голосе. И вот она рядом, улыбается ему.
Завершив перекличку, учитель Чи А сказал, что его задача – научить их читать и писать, а другой учитель, У, будет преподавать им математику, географию и естественные науки. Он показал им книгу с нарисованным на обложке красно-синим флагом и белым полукругом, изображающим солнце. Их учебник. Завтра надо принести деньги, и тогда учитель закажет для них книги. Так как сегодня учебников у них нет, он почитает им вслух.
А Боонь, обычно внимательный к любым указаниям, слушал лишь вполуха и потому на следующий день пришел без денег. Но сейчас его мысли занимали полметра пространства между его партой и партой Сыок Мэй. Невыносимые полметра. Лучше бы там выросла стена, тогда хоть этот ужасный зуд в затылке уймется.
Но затем учитель Чи А начал читать. Во время чтения его голос изменился, сделался более громким, звучным, наполнился чувствами. Он читал о двух возлюбленных. Злой бог разлучил их, одного поселив на земле, а другого отправив на луну. Несмотря на множество слов, которые А Боонь понимал с трудом, он слушал как зачарованный. Голос учителя Чи А, глубокий, мелодичный, успокоил его, позволил вновь обрести себя.
Он взглянул на Сыок Мэй. Девочка сидела выпрямившись, поставив локти на парту и подперев ладонями подбородок. Ноги под партой она скрестила по-взрослому. Ее широко раскрытые глаза сияли, темные и блестящие, как у живой рыбы. Боонь задумался, представляет ли она, подобно ему самому, как ее отправили на пустынную луну.
Глава
5
Там, где каждый камень оброс упругим мхом, были похоронены родители Па, родители его отца и прадедушка Па – три поколения Ли. Их семейная могила находилась в глубине кладбища, возле склонившегося дерева, оно росло почти параллельно земле, а ствол его покоился на покрытой резными узорами подпорке. На скромных надгробиях виднелись только имена и даты – ни фотографий, ни эпитафий, никаких свойственных богачам излишеств. И тем не менее на грубых могильных камнях никогда не бывало паутины, а высеченные на камне слова Па тщательно протирал тряпицей и чистил зубочисткой, принесенными из дома.
Мало кто приходил на кладбище часто, разве что на Цинминь и другие важные праздники, и Па не был исключением. Однако после случая с островом он сюда зачастил. Он знал, что кое-кто в кампонге насмехается над ним за ту странную новость, за бесполезную, раздражающую вылазку в море. Да, их недоверие ранило, и его гордость невольно страдала, когда на рынке или в лавке он слышал шепоток у себя за спиной. Люди разговаривали с ним медленно, как с глупцом или безумцем. Такое любой сочтет унизительным.
Но Па верил своим чувствам и знал, что именно он видел. Чем сильнее крепла его одержимость островом, тем меньше возможностей говорить о нем он находил. Как можно рассказать о том, что море, знакомое ему всю жизнь, внезапно ополчилось на него, послав не просто непривычную погоду или странные морские течения, а огромную, незыблемую твердь в том месте, где прежде ничего не было?
Дело не только в том, что остров появился, а потом исчез. Ни Ма, ни Дяде он не говорил об этом, но дело было в невиданном улове, который в то утро набился в их сети. Это странно, да, с этим все согласились. Чего никто не видел, даже его по-детски любопытные сыновья, это как рябила вода, сперва на расстоянии, когда они поставили сети, а потом все ближе и ближе к сетям. Стаи рыб плыли к ним.
Па был не из тех, кто верит в удачу. Впрочем, имя ему дали в честь процветания – Ли А Хуат. Отец Па, завзятый игрок, обожал маджонг и “двенадцать карт” со всеми сопутствующими игре пороками – пьянством, праздностью, безбожием. Сам Па и появился на свет по недоразумению, отцу его к тому времени уже исполнилось пятьдесят три года, и он, по его собственным словам, был доволен тем, что “еще способен выстрелить”. Сына назвали в честь богатства, которое, как надеялся отец, мальчик принесет им, потому что на момент его рождения финансовое положение семьи оставляло желать лучшего. Отец проиграл все на свете, включая лодку. Он спускал на игру весь заработок, который его многострадальным жене и дочерям платили за случайные, полученные из жалости подработки, – если только бедняжки не успевали спрятать деньги в банку из-под печенья, хранившуюся под грязным бельем.
Отец надеялся, что Па станет его счастливой звездой. Долгожданным наследником, завершающим бесконечную вереницу дочерей. Однако Па сызмала бунтовал против него и принимал сторону матери и сестер. И никогда не забывал полученный от отца жестокий урок. Мальчику было тогда девять. Родители в очередной раз скандалили из-за денег.
– Ты хочешь, чтобы твой сын всю жизнь твои долги выплачивал? Ты этого хочешь, да?! – кричала мать.
Отец посмотрел на мальчика. Желтые глаза были в сеточке красных прожилок, опухший нос блестел.
– А Хуат этого не боится, верно? А Хуат любит папу, он хороший сын и будет ему помогать.
Па помнил внезапный прилив ненависти, руки стали горячими, кожу закололо, словно он слишком долго пробыл на солнце.
– Я буду помогать Ма, а до тебя мне никакого дела нет, – спокойно проговорил он.
Обычно отец наказывал его тростиной, но в ту ночь он слишком торопился и искать ее не стал. Правый глаз у Па не открывался еще несколько недель.
Счастливой отцовской звездой он не стал. Положение в семье ухудшалось, деньги появлялись все реже, а однажды ночью отец не вернулся домой. На следующее утро его тело нашли на берегу. Он лежал ничком, возле головы по воде расплылись ошметки рвоты. Он пьяный возвращался с игры и завернул на берег. Там, похоже, споткнулся и упал в воду, а подняться уже не сумел, захлебнулся, хотя вода там была высотой дюйма два, не больше.
Отгоревав положенный срок, домочадцы сняли приколотые к рукавам квадратные лоскутки белой ткани и зажили дальше. Они отмыли дом и собрали в кучу отцовскую одежду: изношенные майки, вытертые шорты цвета хаки, несколько пар посеревшего исподнего. Па помнил, как ничтожно и печально выглядела эта одежда. Так, значит, вот каков итог? Вот что остается от жизни – ветхая рубаха да щербатая чашка? Одежда напоминала старую, сброшенную змеиную кожу, вот только отец ушел навсегда, так и не нарастив новую.
Если не считать этой грусти, то после смерти главы семьи жизнь их пошла на лад. Закончились пьяные ночи, когда отец, проигравшись в каком-нибудь притоне, вымещал свой гнев на ближних, закончились лихорадочные поиски коробки из-под печенья, когда мать забывала, куда ее перепрятала, и думала, что муж добрался до денег, закончились нагоняи, крики, непредсказуемые вспышки гнева.
Вскоре старшая сестра Па вышла замуж, и ее муж стал брать Па с собой в море. Первую рыбалку мальчик запомнил навсегда. Тогда моторки были редкостью, лодка – старого малайского типа, искусной постройки, с узким корпусом, без форштевня, с одним-единственным парусом, которым шурин управлял с удивительным проворством. Па словно зачарованный смотрел, как парус подхватывает переменчивый ветер и превращает его в мощную движущую силу, на внезапные всплески полотнища, на то, как за несколько секунд оно наливается упругостью. Мальчик не испытывал большего счастья, чем в те минуты, когда ветер набирал силу, волны крепли, а лодка гигантской летающей рыбой прорезала переливающуюся поверхность моря. Спустя годы, выплатив отцовские долги и купив собственную моторку, он порой ловил себя на том, что по-прежнему вспоминает ту старую лодку. Но времена изменились. Теперь все китайские рыбаки обзавелись моторками, глупо было бы покупать парусную лодку в угоду своим сантиментам.
И вот у него собственное дело и семья, жизнь течет в ритмах, надежных, как прилив и отлив. Ничто существенное не меняло поверхности его жизненного моря, ничто – до этого самого момента.
Па обращал молитвы к Туа Пех Конгу и Ма Чи О[12], сжигал на их алтарях жертвенные палочки и приносил в жертву предкам пищу, чтобы они берегли его крохотное судно. Но веру в материальные проявления сверхъестественного – призраков, понтианаков[13] и духов – он оставлял другим людям, более впечатлительным, чем он. Тот исчезнувший остров, странное, но неоспоримое поведение рыбы, которая, будто чуя приманку, пошла прямиком в сети, противоречили его пониманию мира.
Однако больше всего на свете он хотел снова отыскать остров. Хуже того, Па думал, будто знает как. Это и привело его к предкам: он решил попросить разрешения, а возможно, и прощения.
Первой такую мысль вложила ему в голову жена. От нее он узнал о драке между сыновьями и о том, как старший заявил младшему, что остров появился по его вине.
– Ям сказал, что Боонь приносит несчастье, – сказала Ма, – он проклят, и поэтому ты больше не берешь его в море.
Сперва Па рассмеялся. Ну что за мальчишка! Вечно старший придумывает что-нибудь новенькое, чтобы помучить брата. Но потом Па умолк.
Как ни крути, но А Боонь вышел тогда с ними впервые. Все остальное было как раньше.
Остров существует. И Боонь – тот, кто способен показать ему, где этот остров.
Вот только благоразумно ли это, справедливо ли? Бооню пора в школу, Па обещал это жене. Не навлечет ли он невзгоды на семью, если втянет в это мальчика?
Па принялся оттирать надгробие, которое уже оттирал за день перед этим. Надгробие на могиле матери. Достал зубочистку, обмотал ее мягкой тряпочкой, которой обычно чистил гравировку на плитах.
Тряпочка лишь слегка посерела, а в складках запутался маленький красный муравей. Может, это знак? Па задумчиво посмотрел на муравья. Солнце садилось, ухо улавливало зуд комаров, а оранжевые лучи рисовали возле надгробий длинные темные тени. Па тронул пальцем муравья, тот замер, а потом извилистым путем засеменил к костяшке пальца.
Когда Па пришел к Пак Хассану, дома он его не застал.
– Рыбачит, – сказала Амина, одна из его шести дочерей, и покачала головой, словно считала главу семейства непослушным ребенком.
На руках у нее барахтался младенец с лицом, похожим на сливу. Ко лбу прилипла темная прядь волос, и Па вспомнил Хиа – тот родился с пушистыми кудряшками.
– Мальчик или девочка? – спросил Па на своем рыночном малайском.
– Девочка, – чуть обиженно ответила Амина, как будто это было очевидно. – Это первенец моей дочки.
– Значит, Пак Хассан прадедушка, но все еще рыбачит?
Амина улыбнулась и погладила тыльной стороной ладони липкую голую грудку младенца.
– Ты ж его знаешь.
Па знал. Четыре кампонга бились над загадкой, сколько же лет Хассану Бин Денгкелу. Издалека, благодаря уверенной, медлительной поступи, Пак Хассана запросто можно было принять за одного из его сыновей. Только вблизи было видно, какие впалые у него щеки и какая белоснежная щетина топорщится на подбородке. Впрочем, от его зорких глаз ничто не могло укрыться, он славился своей способностью замечать косяки рыбы за сотни метров. А непревзойденное знание местных вод заставляло обращаться к Пак Хассану даже богатых дельцов с северного побережья – он, словно паванг[14], помогал выбирать участки в море для строительства дорогих рыболовных сооружений. Сам Пак Хассан, постукивая себя по виску, выглядывающему из-под белой шапочки, говорил, что никакой он не знаток. Просто умеет находить правильное применение глазам и мозгам.
Па ждал на веранде – корчил малышке рожицы и беседовал с Аминой о засухе.
В этом кампонге было все как и в других: развешанные сети, разложенная для просушки на ротанговых подносах креветочная паста, спящие возле домов лодки. Но сами дома были старше, больше, они наводили на мысли о постоянстве. Если многие дома в его родном кампонге стояли прямо на земле, а их стены были из оцинкованного железа, то здесь дома были деревянные, более затейливые, многие выкрашены в белый цвет, с красивыми скошенными крышами из аттапа[15]. Говорили, что этот кампонг стоит тут уже почти два столетия, его, первым из четырех, много поколений назад основали рыбаки с Суматры. Ему дали название гелап, “таящаяся темнота”, в память о солнечном затмении, которое, как говорили, случилось, когда первые рыбаки ступили на местный берег.
Мужчины каждого кампонга держались особняком. К тому же у малайских рыбаков и методы были свои: они ставили сети на более мелких местах неподалеку от берега или забрасывали с лодок удочки. Ан мо то и дело лезли к малайцам – учили сыновей рыбаков пользоваться другими сетями и новыми видами снастей, но те предпочитали способы, проверенные не одним поколением. Китайцы же, с их присущей новым иммигрантам жаждой обогатиться, пересели на моторки, как только поняли, насколько это увеличит их заработок. Они стремились на глубоководье, где можно поставить большие сети, с которыми в одиночку не управишься, и не слишком часто встречались со своими малайскими соседями.
Пак Хассан, хоть и не уходил далеко от берега, одним из первых показал старым китайским рыбакам, где глубины безопасны, а где нет и на каких участках рыбы больше всего. Если кто-то и знал про исчезающий остров, то это Пак Хассан – так думал Па.
Наконец хозяин появился: на бедрах зеленый каин пеликат, грудь обнажена, под сморщенной коричневой кожей выступают ребра.
– Пак Хассан. – Па встал, приветствуя его.
Амина взяла руку отца и слегка коснулась губами.
– Что привело тебя сюда так поздно, Ли? – спросил Пак Хассан.
– Я… – Па вдруг понял, что слова покинули его. Как объяснить, что именно он видел и о чем хочет спросить?
В повисшей тишине Амина подхватила малышку и тактично удалилась поболтать с соседями.
– Ты про Лима хочешь поговорить и Разию? Пускай Лим сам приходит, если у него, змееныша, смелости хватит…
– Нет-нет, Разия тут ни при чем, – ответил Па.
Молодой рыбак из их кампонга влюбился в одну из внучек Пак Хассана – дело гиблое с самого начала, а ведь кое-кто видел, как он подошел к ней, когда она в одиночестве вытаскивала в устье реки крабовые ловушки.
– А что же тогда? – Пак Хассан внимательно вглядывался в лицо Па.
– Ты когда-нибудь видел… километрах в семи отсюда, к востоку от белого птичьего утеса… ты там ничего не видел?
– Что именно?
– Что-нибудь… что-нибудь необычное, – ответил Па.
Пак Хассан зацокал языком.
– Ли, – начал он, – я в жизни много необычного вижу. Ты же знаешь, как я однажды на леску акулу взял? Пятнадцать футов в длину, два пикуля[16] весом!
– Я не про рыбу, – сказал Па. – Хотя нет, и про рыбу тоже… – Он осекся, вспомнив рябь на воде и гигантские стаи рыб, устремившихся к ним.
– Так ты расскажешь мне, что тебя привело, или нет?
Внезапно Па испытал ужасное нежелание делиться своей тайной. Возможно, так все и есть – только они, только его младший сын способен отыскать этот остров. А коли так, то это их остров. И вот сейчас он расскажет Пак Хассану, а тот не поверит, его же тогда будут высмеивать не только в родном кампонге, но и тут.
– Ну так что? – поторопил его Пак Хассан.
– Да, я про рыбу, – солгал Па, – большая, как дюгонь, серебряная, точь-в-точь скумбрия.
Пак Хассан встрепенулся.
– Акула, э?
– Может, и так, – ответил Па. “Остров”, – подумал он, но задушил это слово. – Может, и акула. Не знаю, сын лучше разглядел.
– Но плавник ты заметил? С черной верхушкой?
– Не помню. Так удивился, никогда не видел раньше ничего похожего.
– Ох уж вы, юнцы, – рассмеялся Пак Хассан, – как что непонятное, сразу пугаетесь. Акула или нет – да если остановиться и приглядеться, то в море какой только рыбы не увидишь.
Па виновато улыбнулся. Эта роль была ему знакома. Пак Хассан обожал журить китайских рыбаков, особенно за спешку, за шумные моторки и грубые сети.
– Лучше вложи своему сыну в голову, – продолжал Пак Хассан, – что не надо лезть к акуле, тогда она тоже к тебе не полезет.
Каждый вечер за ужином Па наблюдал, как А Боонь отделяет от тушеных пророщенных соевых бобов ростки и лишь затем по одному отправляет их в рот, аккуратно запивая рисовым отваром. Он видел, что стоит младшему сыну открыть рот, как его тотчас же перекрикивает старший.
Па знал, как болезненно А Боонь переживает каждый тычок, которым награждает его мир, знал, что от каждого унижения уши у мальчика горят и желудок у него сжимается в комок, когда он ходит по пятам за отцом, неспособный от волнения сказать, чего ему хочется. Пока младший был маленьким, в кампонге часто удивлялись, как у Па родился такой сын – светлокожий, пугливый, с наивным взглядом, но на самом деле Па в детстве был таким же. А потом изменился. И причиной тому – взбучки, которые устраивал ему отец. Па наступил на горло собственной гордости, и эта горькая пилюля наделила его силой.
Проделать то же самое со своим сыном он не мог. Вместо этого он избегал мальчугана. По отношению к первенцу Па ощущал себя хорошим отцом, который растит хорошего человека. Он знал, что А Ям пойдет по жизни уверенно. Когда он ломает что-то, то всегда какое-нибудь мелкое, да и происходит это случайно, и починить несложно. В отличие от А Бооня, в нем не бродят мрачные силы. А младший, напротив, накапливает в себе печаль, и как с этим поступить, Па не знал.
Поэтому с островом Па медлил. А Боонь непредсказуем, дай волю – и его унесет, точно бумажный кораблик на отливе. Вот Па и изводил себя денно и нощно, не в силах решиться, пока однажды решение не приняли за него.
Приступы Дядиного кашля вернулись. Мокрого, глухого кашля, который Па узнал в первые же дни болезни шурина. Ма тоже его слышала, он это знал, и на лице ее появилось страдальческое выражение. Денег на то, чтобы позвать знахаря, не было, они и так уже задолжали Суи Хону, владельцу местной лавки, а его терпение не вечно.
Рыба, пойманная в тот день, когда они наткнулись на остров, позволила им оплатить еду почти на неделю и учебники А Бооня, но снадобья для Дяди грозили вновь затянуть их в трясину долгов. А ведь еще нужна курятина, чтобы варить больному бульоны, и ботинки для А Бооня – он же теперь школьник.
Дядя старался подавить кашель и по ночам, чтобы никого не разбудить, утыкался в подушку. Все понимали, что ему хуже, но молчали. Без денег все равно ничего не поделаешь. Даже мальчики, обычно не обращавшие внимания на горести взрослых, ходили по дому на цыпочках и носили чашки с водой в темную комнату, где лежал Дядя. Ма днем неизменно улыбалась, но по ночам часто поднималась и мерила шагами веранду.
Па больше не раздумывал об удаче и судьбе. Он решил поступить так, как должен.
На следующий день Па дождался возвращения сына из школы. Он заметил А Бооня, когда тот подходил к дому, а соседи приветственно махали ему и шутили. А Боонь смущенно махал в ответ, но упорно смотрел под ноги. Несмотря на замкнутость, А Бооня в кампонге любили, особенно женщины.
– Боонь, – сказал Па, – пошли, в море выходим.
– Ой. Сейчас?
– Да. Мне надо кое-что тебе показать, – сказал Па. Это была неправда, но иного объяснения он не придумал.
– Ладно. – А Боонь расплылся в широкой улыбке. Мелкие ровные зубы он унаследовал от матери. – Вот только учебники в дом отнесу.
Мальчик забежал в дом и через несколько секунд выскочил обратно. Они прошли за дом, где в тени лежала перевернутая лодка, и в душу Па закрались первые сомнения. Как они вообще дотащат лодку до берега? Шурина позвать нельзя и А Яма тоже, иначе придется растолковывать, почему он вдруг собрался днем в море, да еще и младшего сына с собой тащит.
– Давай двумя руками. Хватайся за тот край, – скомандовал он, – колени согни. А спину выпрями.
А Боонь метнулся к дальнему концу лодки. Он ухватил лодку снизу, и его щуплые руки напружинились. На миг Па засомневался, что костлявые плечи мальчика выдюжат, но А Боонь правильно выпрямил колени, и дальний конец лодки оторвался от земли.
– Хорошо, – похвалил Па.
Он с легкостью поднял лодку со своей стороны, и они беспрепятственно спустились на берег. Па велел сыну остановиться там, где начинаются волны, и развернул лодку так, чтобы двигатель оказался со стороны воды. От усердия мальчик прикусил нижнюю губу, ноздри его трепетали. Под левым глазом краснел волдырь от комариного укуса.
Па вдруг захлестнула мучительная любовь. Зря он обходится с мальчиком так сурово. Впрочем, если не он, тогда сурово с ним обойдется остальной мир, разжует его и выплюнет.
– Давай опускай, – угрюмо бросил он.
Па вытолкал лодку подальше. Вода, омывающая ноги, была непривычно теплой, прогретой солнцем, такая же температура, подумал вдруг Па, как у свежей мочи.
Сын не двинулся с места.
– Па, мы в море выходим? – спросил он.
– Ну да, зачем еще лодку сюда тащить? – раздраженно ответил Па.
Губы у А Бооня округлились, но больше он ничего не сказал. Он забрался в лодку и уселся на скамейку в середине.
– Пересядь, – велел Па, – вперед. Где обычно Ям сидит.
А Боонь замешкался и нерешительно посмотрел на отца. Тот оставался невозмутимым. В такие дни, когда на море рябь, а ветер сильный, сидящему на носу лодки кажется, будто он летит. Большинство мальчишек тотчас же ухватились бы за такую возможность, но А Бооню хотелось сидеть подальше от бескрайней воды и поближе к отцу. Однако Па настоял, и мальчик пересел на нос.
Едва Боонь уселся, Па толкнул лодку и занял свое обычное место.
– Куда мы, Па? – спросил А Боонь, перекрикивая рев двигателя.
Па не ответил. Он задумал провести эксперимент – если остров появится, значит, его догадки оправдались. А если не оправдаются, то А Бооню и знать необязательно.
Их маленькая лодка плавно скользила по волнам, слегка подпрыгивая и разбрызгивая воду. В темноте предрассветного утра, в свете луны волны отсвечивают черным, походя на чешую какого-то студенистого животного, но сейчас послеполуденное солнце стирало загадочность, окрашивая море в тусклый невнятный буроватый цвет. Испарения тонкой пленкой оседали у Па на шее. Он одернул майку, взглянул на узкие плечи А Бооня, порозовевшие от солнца, и внутри у него что-то сжалось от болезненной жалости. Из-за ожогов малыш толком не выспится.
Десять минут они просидели молча. Горизонт будто насмехался над Па. Никаких островов. Ничего, кроме моря. Отчаянье набирало силу. Так же, как в тот раз, когда они вышли на поиски с Дядей и другими рыбаками.
Он вспомнил, как тогда смотрел на него А Ки – искоса, недоверчиво, почти насмехаясь. Возможно, Па заслужил такой взгляд. Возможно, остров ему и впрямь привиделся.
Он взглянул на худенькую фигурку сына на носу лодки, на руки, вцепившиеся в скамейку с такой силой, что под светлой кожей обозначились жилы. И заглушил мотор.
– Что случилось, Па? – спросил А Боонь. За этим вопросом крылись и другие, и в первую очередь – что они тут делают.
– Боонь, – начал Па, – помнишь тот день, когда ты выходил в море со мной и с Ямом…
– И мы видели остров? – перебил его А Боонь.
– Ты ведь его тоже видел, так?
– Да, да! Видел! – От возбуждения А Боонь вскочил было на ноги, но лодка накренилась, он снова плюхнулся на сиденье и вцепился в борт.
– Помнишь… помнишь, где это было? – спросил Па, понимая, какой смехотворный вопрос задает.
Остров был здесь. Тут они его и увидели, однако сейчас на этом месте ничего нет, как и много дней и недель прежде.
Но А Боонь не смеялся и не смотрел с недоверием. Мальчик уставился на воду, словно обдумывая ответ. А затем поднял глаза, окинул взглядом пустоту вокруг и показал чуть вправо:
– Вон там.
В его голосе звучала такая спокойная уверенность, что Па не усомнился ни на секунду. Он кивнул и снова завел мотор.
Спустя пять минут А Боонь обернулся и, перекрывая стук мотора, скомандовал:
– Чуть-чуть туда!
То есть вправо.
Па повернул. Они продолжали двигаться вперед. Прошло еще пять минут, потом десять. Сомнения вернулись к отцу, а вместе с ними и беспомощный гнев.
Па резко заглушил мотор.
– Куда дальше? – крикнул он.
Он заподозрил, что А Боонь, которого никогда еще не просили указать направление, показывает куда вздумается, чтобы не расстраивать отца.
– К острову, – серьезно ответил А Боонь, – смотри!
Он показал влево, на солнце. Блеск воды сперва ослепил Па, но спустя несколько секунд глаза привыкли и он тоже увидел его. Такой же, как прежде. Темный холмик в отдалении.
– Ох ты… Ох ты! – Па снова завел двигатель.
Он растерянно, словно подгоняя лошадь, похлопал по борту лодки. Боонь прав. Остров там! Черное пятно на горизонте – это, безусловно, суша. По мере приближения пятно увеличивалось, но сейчас выглядело иначе, ниже и шире. Может, игра света? Хотя нет, он помнил утесы и поблескивающий в лунном свете известняк.
Этот остров был относительно плоским, разве что по всей его длине тянулся невысокий холм. Рельеф напоминал их родной остров, и только мангровые заросли образовали плотную преграду на пути к суше. К такому берегу на лодке не пристанешь. Да и зачем? Достаточно приблизиться к острову.
– Да как же это… – пробормотал Па.
– Смотри, Па! – крикнул А Боонь. Его круглое лицо сияло от восхищения.
Па вспомнил ухмылку А Ки, молчаливое сомнение в глазах Гим Хуата. Они решили, что он спятил. На миг он засомневался в том, что видит. Но нет, рыбаки ошиблись, а он прав. Вот он, остров.
Они поставили сети – скоро они наполнятся рыбой. И она принесет им деньги на знахаря, на еду, на школу.
– Молодец, А Боонь, – похвалил Па.
Румянец на щеках А Бооня заалел еще гуще. Мальчик расплылся в странной, словно пьяной улыбке. В тот момент Па снова чувствовал себя юным, и по мере того, как лодка приближалась к острову, у Па крепло решение одной вылазкой не ограничиваться. Солнце жарило что было сил, море трепетало, будто напружиненная мышца, впервые суля безоблачное будущее. Сети наполнялись серебряными рыбинами.
Глава
6
Ход жизни А Бооня изменился. Или, возможно, это он сам изменился, сделался весомее, даже тело стало иным, более крепким. Прежде у него получалось передвигаться незамеченным, разве что чувствуя время от времени руку отца у себя на голове, притом что взгляд Па проходил сквозь него, зато теперь глаза всех домочадцев обратились на него. Любовь Ма была не в новинку – А Боонь знал окутывающее тепло закоулков ее любви, сумрак, в котором он мог исчезнуть. А вот Па изменился тоже. Он дожидался А Бооня на веранде и радостно окликал, когда мальчик возвращался из школы. И Хиа было не узнать. Его зависть заглушали детский восторг от того, что они открывают новые острова, и жажда говорить о них. Такой старший брат был Бооню в диковинку.
Близость между ним и родными окрепла, но особенно он сдружился с Дядей. В тот первый вечер, когда они снова отыскали остров, А Боонь, едва сойдя на берег, с ликованием бросился рассказывать Дяде новости. Он вбежал в спальню, где, окутанный тяжелым облаком запахов, дрожал на кровати Дядя, и затараторил: они отыскали остров, сети того и гляди лопнут от рыбы, у них теперь будут деньги на знахаря! Лицо Дяди озарила широкая улыбка, и на секунду залегшие под глазами темные круги будто исчезли, щеки округлились и он опять сделался прежним – сильным и крепким.
– Я знал, что ты справишься, малыш, – сказал он и костлявой рукой похлопал А Бооня по плечу.
А Боонь просиял от гордости.
Знахарь, ставший им по карману, теперь заглядывал часто и вернул Дядю на путь выздоровления. Через несколько месяцев Дядя уже бодро возил с берега груженные рыбой тачки и не задыхался. С несвойственной ему прежде ребячливостью он подхватывал А Бооня на руки и катал на плечах, называя это своей ежедневной тренировкой. Кататься у Дяди на спине Боонь обожал. Часто они так гуляли по лесу, А Боонь срывал с веток пониже мангустины и гуавы, чистил их и делился сочной мякотью с Дядей. С Дядиных плеч мир пугал меньше, казался более открытым и приветливым, чем прежде.
Он дорос даже до любви к самой рыбалке и ловил себя на том, как, решая особенно заковыристую арифметическую задачку, вдруг с особым ноющим нетерпением начинает представлять себе лопасти лодочного мотора. Море вспоминалось ему часто и неожиданно. В лодке он ощущал себя так, будто смотрит в окно, когда-то покрытое жутковатой грязью, но сейчас ставшее прозрачным. Хотя по краям окна по-прежнему темнела грязь. Даже в самые чудесные моменты, когда играющий его волосами ветер наполнял душу мальчика ликованием, Боонь балансировал между радостью и ужасом.
А еще была школа. В школе самое сильное волнение вызывали не книги и не учебники, а одна-единственная одноклассница. Уже три месяца А Боонь сидел рядом с Сыок Мэй и не отваживался ей слова сказать. Когда она смотрела в его сторону, он упорно отводил глаза, а щеки пылали так, что – он не сомневался – она это чувствует. Иногда он был уверен, что она вот-вот заговорит с ним, и тогда наклонялся и делал вид, будто ищет в сумке карандаш, или заходился в приступе притворного кашля. В остальное время он словно вообще не замечал ее присутствия.
Школа превратилась в долгие часы тихого страдания рядом с Сыок Мэй. А Боонь так и не научился понимать страницы старых газет, на которых они сушили рыбу. Он узнавал несколько простых букв, освоил науку держать карандаш и заполнять зеленые клетки в прописях черточками, которые обещали когда-нибудь превратиться в целые слова. Он послушно выполнял задания, однако к одаренным ученикам не относился. Черточки часто выходили за рамки клеточек, а грифель ломался. Он отчетливо представлял себе линии, ясные и четкие, но поднесенный к странице карандаш все портил и калечил.
А Боонь преисполнился отвращением к чистописанию. Каждая плохо написанная черточка подтверждала его неспособность сделать то, чего ему хотелось на самом деле, – заговорить с Сыок Мэй.
Хотя он общался с другими своими ровесницами. В их компании ему было легче, чем с мальчиками, громкими и хулиганистыми приятелями Хиа. Он дружил с Аисьях, внучатой племянницей Пак Хассана, которая часто приходила собирать гуавы к высоким деревьям за домом Ли. И с А Хуэй он тоже дружил, и со всем многочисленным выводком ее младших сестер – дочками живущего по соседству семейства Чань. Как-то раз А Хуэй поспорила с А Боонем, что дольше задержит под водой дыхание, и выиграла. А Сыок Мэй всего лишь одна из трех девочек в их классе, где двадцать учеников. Кампонг был чересчур мал, чтобы держать там две школы, для мальчиков и для девочек, но в некоторых семьях все равно хотели научить дочерей читать и писать.
Однако другие девочки не вызывали у А Бооня такого удивительного чувства – страха и в то же время томления, рядом с ними ему не казалось, будто они открыли окно в другой, просторный мир. Знакомые ему девочки без труда вписывались в привычные будни кампонга. Подобно ему самому, они перебирали рыбу, прыгали в классики и играли в шарики, с легкостью ожидая будущего, в котором выйдут замуж за рыбаков, таких же, как их отцы. Казалось бы, Сыок Мэй ничем от них не отличалась. Чаще всего она сидела под кокосовой пальмой, читая какую-нибудь из брошюрок, что давал ей учитель Чи А. От одноклассников А Боонь слышал, что воспитывает ее дядя. Куда подевались ее родители, А Боонь точно не знал. Кто-то говорил, что они умерли, другие – что у Сыок Мэй родителей никогда и не имелось. Самыми правдоподобными были слухи, что они “уехали за границу”, иначе говоря, они “политические”, хотя смысла этого слова А Боонь не понимал.
Все эти пересуды его не интересовали. Зато он словно зачарованный наблюдал, как она строго хмурит брови, когда читает, как она, не раздумывая, поправляет других, порой даже учителя Чи А.
Она жила с серьезностью, подобной которой он прежде не видел, как будто готовилась к более значимой судьбе. Как же это возможно, чтобы кто-то был настолько особенным, полностью и непреклонно – самим собой?
Кажется, он так бы никогда и не заговорил с ней. Но, как ни странно, его с Сыок Мэй сблизило чистописание.
Тот день все никак не заканчивался, в наказание за скверное поведение учеников оставили после уроков и велели им переписывать из учебника длинный и мудреный отрывок. Доделав это нудное задание, ученики один за другим сдавали тетради дежурному и радостно бежали на улицу, в золотую послеобеденную жару. А Боонь, разумеется, был в числе последних. В классе осталось всего несколько человек, когда Сыок Мэй вдруг вернулась за забытой книгой.
– Да уж, сложновато, – сказала ему Сыок Мэй. Обыденно, словно у них давно вошло в привычку болтать друг с дружкой. – Мне сначала тоже не давалось. Покажешь?
А Боонь вспыхнул. Девочка смотрела на тетрадку, что лежала перед ним, на страницы, испещренные корявыми загогулинами. Он захлопнул тетрадь и наклонился за упавшим карандашом.
– Нет, – отрезал он. Еще не хватало перед ней унижаться.
– Ладно. – Она отвернулась.
А Боонь тотчас же пожалел о сказанном.
– Ты с дядей живешь, да? – выпалил он и тут же ощутил укол совести. Зачем он только напомнил ей о родителях?
Но Сыок Мэй лишь кивнула.
– А у вас дом около старого колодца, да? – спросила она. – В конце последнего кампонга? Хочешь, вместе домой пойдем?
А Боонь замешкался с ответом. Дорога занимает двадцать минут. Значит, все эти двадцать минут придется с ней разговаривать.
Ему одновременно хотелось и не хотелось. Наконец он покачал головой.
– Мне закончить надо, – показал он на тетрадь.
– Я тебя подожду, – предложила Сыок Мэй.
– Нет, я потом пойду побыстрей, меня Па ждет, – соврал А Боонь.
– Я тоже быстро хожу, – не отставала Сыок Мэй. И добавила, что бегает быстрее многих мальчишек в классе.
С этим А Бооню пришлось согласиться. Что тут скажешь?
– Ладно.
Сыок Мэй кивнула, села на свое место и погрузилась в чтение.
Никогда еще чистописание не доставляло ему такого удовольствия. Его карандаш словно зажил собственной жизнью, перелетая от одной клетки к другой, и каждый элемент получался полностью завершенным, хоть и без особого порядка. Оказывается, не так уж это и сложно. Закончив и отдав тетрадь недовольному дежурному (“Ну наконец-то!”), А Боонь вышел, а с ним и Сыок Мэй.
На улице А Боонь пустился бежать. Мимо тележки с лапшой, мимо домов, где на крыльце сидели кумушки, мимо маленького храма, окутанного жженым запахом молельных палочек. Чтобы срезать путь, А Боонь бросился через заросли, так что лаланг[17] минут пять хлестал его по икрам, пока не вылетел на главную дорогу, соединяющую все кампонги. И все это время он слышал позади дыхание Сыок Мэй – так близко, что оно почти обжигало ему шею.
Он остановился. Горло и легкие сдавило от нехватки воздуха. Совершенно невозмутимая Сыок Мэй стояла сзади.
– Ну что, ты готов? – Она приготовилась бежать дальше.
А Боонь посмотрел на дорогу перед ними. Склонившиеся с обеих сторон деревья, знакомый стрекот насекомых, словно рикошетом отскакивающий от стен этого сумрачного влажного коридора, который почему-то больше не пугал его, как в то утро, когда они шли здесь вместе с Ма. Лишь сейчас А Боонь заметил осколки света, пронизывающие этот лесной свод, услышал, как перешептываются листья.
Сыон Мэй встала в стойку бегуна, готового к соревнованиям, – так их учили на уроках физкультуры.
– Ну и кто у нас не отстает? – ухмыльнулась она.
Мокрая челка прилипла ко лбу, лицо раскраснелось от напряжения. Девочка самодовольно сдула с плеча несуществующую букашку.
А Боонь рассмеялся, но легким по-прежнему не хватало воздуха, поэтому вместо смеха он зашелся в икоте. Сыок Мэй похлопала его по спине, и от прикосновения ее твердой маленькой руки А Боонь залился краской. Чтобы не смотреть ей в глаза, он снова побежал, подныривая под низкие ветки, перескакивая через торчащие корни деревьев. Грудь, казалось, того и гляди лопнет, однако эта боль отзывалась радостным томлением. А Боонь все бежал, больше не пытаясь скрыться от Сыок Мэй, ему хотелось, чтобы все так же обжигало икры, чтобы ветер обдувал лицо. Девочка бежала рядом. А Боонь подумал, что она специально сбавляет ход, чтобы не обгонять его, ну да ладно.
Наконец там, где дорога сворачивала, они остановились. А Боонь огляделся – похоже, они миновали и малайский кампонг, и их собственный, а нужный поворот остался далеко позади. Они развернулись и пошли обратно. Неловкость исчезла, они принялись болтать. Сыок Мэй расспрашивала, чем занимаются его родители, есть ли у него братья и сестры, нравится ли ему школа и учитель Чи А. Каждый ответ она принимала с удивительной серьезностью, будто обычные ответы – это доверенные ей драгоценные камни. Особенно ее впечатлил рассказ о том, как А Боонь помогает отцу рыбачить. Сыок Мэй спросила, нельзя ли и ей как-нибудь с ними.
– Женщинам нельзя, – ответил он.
– Это почему? – удивилась Сыок Мэй.
Неужто она и впрямь не знает? А Боонь напомнил себе, что ее родители не рыбаки, и серьезно растолковал ей, что это плохая примета.
– А почему?
Он растерялся. Но потом нашелся с ответом: от этого морские духи злятся.
– Но почему?
– Я не знаю. – Он рассмеялся. Отчего-то признавать собственное невежество перед Сыок Мэй было совсем не зазорно. Даже почти приятно – получается, что они вместе выясняют, кто из них чего не знает.
Помолчали, и А Бооня вдруг снова накрыло смущение. Совсем он заболтался! Его никто никогда ни о чем не расспрашивал, а сейчас, когда это наконец произошло, он целых пятнадцать минут рассказывает о скучнейших подробностях собственной жизни. И он попробовал исправиться.
– А ты? У тебя есть братья и сестры? – выдавил он.
Сыок Мэй молчала, и он опять отругал себя. Зачем про семью спросил, это же запретная тема. Но удержаться от вопросов он не мог. Сыок Мэй опустила взгляд.
– У меня, например, есть Хиа, – выпалил А Боонь, чтобы хоть что-то сказать.
– Две сестры и три брата, – ответила в конце концов Сыок Мэй. – Братьев родители с собой забрали, а сестры у тети в городе живут.
В городе. Ма дважды брала А Бооня с собой в город. Дорога туда занимала час на автобусе. Ма тогда понадобилось что-то купить к дню рожденья или к китайскому Новому году. Во время таких поездок А Бооню казалось, будто за окном так и будут вечно мелькать обвитые жадными лианами старые деревья, случайные лавочки придорожных торговцев и дома с оцинкованной кровлей. А затем безлюдье сменилось вдруг городским шумом и суетой – вдоль улицы тянулись вереницей деревянные дома; двери распахивались, и выскакивавшие оттуда дети бежали гонять замызганных кур; одинокие собаки рылись в кучах мусора; бронзовые, сморщенные старики привычно катили по лужам на велосипедах. В их деревнях жили в основном китайцы и малайцы, а в городе А Бооню слышались самые разные языки, будто тут проживают люди из всех стран мира. За пыльными стойками перед шопхаусами[18] сидели ростовщики-индусы; смешанных кровей веснушчатые девочки в плиссированных юбках, ученицы католических школ, прыгали через скакалку; яванские рабочие перетаскивали в плетеных корзинах кирпичи; бледные, жутковатые ан мо, правители острова, важно шагали по улицам, наряженные в странную жесткую одежду, совсем не подходящую для местной жары.
При виде налезающих друг на дружку зданий и от гула человеческих голосов А Бооню захотелось уткнуться матери в бок и не отцепляться, а так и пробираться вместе с ней сквозь толпу, пока она не обойдет все нужные ей магазины. Город внушал ему ужасное, благоговейное осознание того, сколько жизней проживается каждый день. И в кампонг А Боонь возвращался с чувством беспокойного растревоженного облегчения.
Но сейчас город окутала тайна. Теперь город – это прошлое Сыок Мэй, ее братья и сестры.
– Скучаешь по ним? – спросил он.
– Бывает, – ответила Сыок Мэй. – По Ма очень скучаю.
– А по чему именно скучаешь?
Она помолчала.
– По ее запаху. И по тому, как она меня просит что-нибудь сделать… – Она посмотрела на ноги. – Ой!
Ее школьные туфли, матерчатые, белые, потемнели от грязи, и девочка, присев на корточки, стала оттирать их. А Боонь отыскал большой сухой лист и поспешил на помощь – пока Сыок Мэй отчищала правую туфлю, он тер левую. Поглощенные работой, они молчали. Немного погодя Сыок Мэй выпрямилась и грустно посмотрела на туфли.
– Ты их постирай, и все нормально будет, – посоветовал А Боонь.
– Наверное, – рассеянно согласилась она, и А Боонь понял, что расстроилась она не из-за туфель.
– Если хочешь, я тебе как-нибудь лодку покажу, – сказал он. – Даже если на воду ее не спустим, просто внутрь залезешь.
Сыок Мэй подняла глаза. Темные блестящие шарики, которые словно впитывали весь проникающий сквозь листву свет. А Бооню показалось, что в этих глазах он видит Сыок Мэй, ее маленькую копию меж холодных, сводчатых стен. Он представил, как ныряет туда, к ней.
– Ну ладно, давай, – согласилась она и на миг задумалась. – Если хочешь, я тебе с чистописанием помогу.
На этот раз А Боонь отказываться не стал. Он протянул ей руку, и Сыок Мэй с серьезным видом пожала ее. Здесь – стрекот насекомых в кустах. Здесь – осколки света сквозь листву. Далекие отголоски океана, накатывающего и отступающего. А может, это мальчик придумал. Рукопожатие словно обещало, что этот договор – надолго, хотя в чем именно он заключается, мальчик пока не понимал.
Глава
7
Уже четыре месяца подряд Ма вносила в общую кассу совсем немного. Украдкой взглянув на остальных женщин за столом и убедившись, что никто из них не смотрит на нее, она выводила на клочке бумаги цифры. Восемь женщин бросали свернутые бумажки в коробку из-под печенья, а Сор Хун, распорядительница кассы, одну за другой доставала бумажки, разворачивала и объявляла число. Тот, кто вносил больше всех, получал право в течение месяца распоряжаться всеми деньгами. Так что никто не узнает, что дела у семейства Ли, прежде живущего совсем скромно, теперь пошли в гору и Ма больше не нуждается в ссудах, которые предоставляются в кассе.
Когда записки были собраны, Сор Хун протянула руку с длинными тонкими пальцами и встряхнула коробку. Шуршание бумаги словно предвещало землетрясение, и Ма машинально посмотрела вниз.
Однако там, под столом, она увидела лишь собственные голые ноги и чистый деревянный пол большого благополучного дома Сор Хун. Других домов, подобных этому, в кампонге не имелось. Выстроенный на бетонных сваях, он был достаточно просторный, чтобы в нем хватило места для гостиной, трех спален, столовой, кухни, ванной и туалета. Сейчас женщины разместились в столовой, за овальным столом, накрытым чистой скатертью жизнерадостного желтого цвета. В комнате по-прежнему пахло обедом, и Ма различила сладкий душок подгоревшего самбала[19] и едва заметный запах рисового вина.
Сор Хун разворачивала бумажки, называла суммы и раскладывала бумажки по порядку, в зависимости от величины вклада. Женщины беспокойно постукивали пальцами по столешнице, под потолком крутились лопасти вентилятора. Ма всегда видела, кто в этом месяце больше всего нуждается. Даже если лица оставались бесстрастными, женщин выдавали жесты. Сама она старалась держать спину прямо, нервно сцепив руки, но время от времени грызла ноготь.
Однако сейчас события развивались странным образом. Сор Хун разворачивала бумажку за бумажкой, и суммы в каждой были меньше той, что написала Ма, меньше чем когда бы то ни было. Ма написала два доллара при максимальном взносе в сотню, но на остальных бумажках было указано полтора доллара или вообще один.
– Ух ты, – сказала Сор Хун, – на этой неделе все богатые, да?
Женщины рассмеялись.
Сор Хун сказала, что два доллара – это высшая ставка. Обычно потом она спрашивала, кто ее сделал. Но сейчас все семь женщин смотрели на Ма.
– Это моя, – непринужденно заявила Ма, – повезло мне на этой неделе. Вы все подарили мне этот шанс!
И все же, судя по их лицам, в том не было никакой случайности.
– А Би… – обратилась к ней Сор Хун и умолкла.
– Что? – Ма сцепила под столом руки. Сердце в груди колотилось. Как же глупо. Ее разоблачили. Ей следовало вести себя иначе, делать более высокие ставки и забирать кассу, пускай даже за это пришлось бы платить.
– Когда ты нам все расскажешь? Твой муж в маджонг выиграл, да? – спросила Суи По.
Голос ее звучал громко и резко. Низенькая и коренастая Суи По знала, что муж Ма вовсе не любитель азартных игр. Все знали. В этом и заключалась ее шутка. Суи По относилась к тому типу соседок, что посочувствуют твоим неудачам и порадуются твоему успеху, и всегда – с неискренним усердием сплетницы, которая старается запомнить мельчайшие подробности твоего поведения и речи, чтобы потом отправиться судачить по всему кампонгу.
Ма была из тех, кто вызывает раздражение у соседок, подобных Суи По. Пусть она всегда послушно сидела с другими женщинами возле кофейного ларька, улыбалась и, как все остальные, обмахивалась ладонью, но все равно в поведении Ма словно сквозила снисходительность. Она все делала правильно: смеялась над скабрезными шутками подруг, цокала языком, обсуждая, как некоторые дети бегают по кампонгу полураздетые и орут. Однако она никого не хаяла и, в отличие от остальных, никогда не выносила суждений. Она казалась скрытной, и Суи По, будто ищейка, пыталась вынюхать, что же такое Ма скрывает.
– Мы с Сор Хун заметили, – похвасталась она, – что каждый месяц кто-то делает очень низкий взнос, причем всегда два доллара. И почерк один и тот же.
Ма залилась краской. Значит, сегодняшние взносы – это лишь представление, ведь все уже поняли, что это ее почерк, и если они успели опросить всех остальных – а ведь это вразрез с правилами общей кассы, – тогда зачем на этой неделе они вообще записывали взносы? Суи По просто захотела прилюдно поиздеваться над ней. От Суи По такое вполне можно было ожидать, но от Сор Хун, супруги Гим Хуата, старейшего рыбака в их кампонге и доброго друга Па? И не от толстушки Лэ Он Хо, сестры лавочника, – когда им приходилось туго, она всегда насыпала Ма чуть больше риса. Ма оглядела усевшихся в круг женщин. Возможно, глядя на ее вздернутый подбородок, они решили, будто она обвиняет их, потому теперь так старательно отводили глаза.
– У А Хуата в последнее время отличный улов бывает, – сказала Сор Хун.
Замечание бесцеремонное, но не злое. Сор Хун смотрела на нее по-доброму, разве что слегка обеспокоенно. Словно понимала, как Ма нелегко. Ма взглянула на широкое, выдубленное солнцем лицо пожилой женщины, и ее охватило желание рассказать ей обо всем.
О том, что Па уже три месяца рыбачит возле острова и каждый раз, пробыв там всего десять-пятнадцать минут, возвращается с сетями, полными рыбы. О том, что А Боонь единственный, кто способен определить местоположение острова. И о том, что они догадались: остров не один – их неопределенное и постоянно меняющееся количество, а как такое возможно, она не понимает.
Па взволнованно описывал ей эти острова. Некоторые плоские, и берег там чистейший, песчаный, – так он говорил. На других – например, на самом первом, который они назвали Бату, – есть известняковые утесы. Одни острова большие, надо минут двадцать, чтобы обойти их на лодке, а другие смахивают на отмель – от силы пара метров в поперечнике. Общее между ними лишь изобилие рыбы у берега.
Ма не знала, что и сказать. Тихий, медлительный мужчина, которого она знала всю жизнь, превратился в незнакомца.
– Что ты будешь делать? – спросила она.
– Не знаю, – ответил он. – Но рассказывать мы пока никому не станем.
– Почему?
Он сурово нахмурился.
– Они мне не поверят. Как в прошлый раз.
– Но теперь ты же знаешь, где эти острова. Вот и покажешь.
Па упрямо выпятил подбородок.
– Нет, – повторил он, – они думают, я спятил. Вот и пускай думают.
И они оставили это в тайне. Дядя, разумеется, знал, они рассказали ему, чтобы тот не мучился, прикидывая, во сколько обходятся его лечение и еда. А от всех остальных скрыли – и от А Ки, и от Гим Хуата, и от А Туна, и от Пак Хассана. С той поры в глазах мужа поселилась тревога. Дотрагиваясь до его плеча, Ма ощущала неведомое прежде напряжение. Смех Па, громкий и внезапный, быстро уступал место загадочной тоске.
Ма переживала за мужа, и сейчас, глядя на спокойное, всепрощающее лицо Сор Хун, неожиданно почувствовала облегчение. Она скажет А Хуату, что женщины сами догадались, что их мужья уже несколько месяцев замечают его невероятный улов. Тайное станет наконец явным, причем не по ее вине.
Рука Ма лежала на столе. Бережно, едва касаясь костяшек ее пальцев, Сор Хун, будто утешая ребенка, погладила руку Ма.
– Расскажи мне, – попросила она, и Ма принялась рассказывать.
Спустя некоторое время Ма уже спешила домой. Густая растительность укрывала ее от послеполуденного солнца, однако повсюду – с красной почвы, с плоских матовых листьев аксонопуса, склонившихся травинок лаланга, с усыпавших землю плодов каучукового дерева – поднимался горячий пар. Ма отогнула воротник блузки, чтобы ткань не касалась кожи.
Па сейчас наверняка лег вздремнуть после обеда. Она представляла, как он лежит на футоне в гостиной, в самом продуваемом месте в их доме. Он лежит на боку, майка задралась, обнажив бледную, никогда не видевшую солнца кожу. Это тело Ма изучила лучше, чем свое собственное. Его жилистая спина со всеми ее выпуклостями вызывала у нее ноющую нежность. Когда он засыпал вот так, ей хотелось пробежаться пальцами по всем этим бугоркам, ласково погладить шею. Но это между ними не было заведено.
Ее мужа человеком неблагоразумным не назовешь. Она расскажет ему, как женщины загнали ее в угол. Передаст слова Сор Хун, ведь А Хуат глубоко ее уважает, а Сор Хун сказала, что в таком маленьком кампонге, как их, нет места для тайн, а ложь и полуправда лишь разрушат узы, связывающие его жителей. Ма знала, что слова о ценностях и единстве не оставят Па равнодушным. Именно за это она и любит его, хоть они и не говорят о любви.
Обедневшие родители продали ее собственную мать в девятилетнем возрасте в услужение в семью состоятельного торговца. Там девочка была помолвлена с их старшим сыном, а когда ей исполнилось тринадцать, стала его третьей женой, хотя ее положение после этого почти не изменилось. По большому счету она оставалась служанкой, и тот факт, что она производила на свет одну дочь за другой – Ма, бедняжка, родилась четвертой, а Дядя появился намного позже, – дело не поправило.
И потому, когда Ма исполнилось шестнадцать и пришла пора ей выходить замуж, выбор у нее был почти такой же ничтожный, как у ее матери. Мужем одной ее сестры стал калека, другой – одетый хуже бродяги и злобно поглядывающий на всех выходец с Материка, а третьей – золотарь, чьи руки вечно пахли нечистотами. Ма тоже готовилась к жизни, которой жили ее сестры, к бесконечной работе и борьбе за объедки. Услышав от матери про А Хуата, младшего сына спившегося, просадившего имущество своей семьи игрока, Ма стиснула зубы и ничего не сказала.
Она взяла маленькую фотографию и сделала вид, будто рассматривает ее, а на самом деле хотела собраться с мыслями. Ма разглядывала длинные печальные брови, выступающие скулы и острый нос, едва заметные морщинки возле глаз, свидетельствующие об улыбке. Таково ее будущее. Она силилась осознать это, однако в голове вертелось лишь, что мужчина на снимке выглядит как любой другой мужчина.
– По-моему, он добрый, – наконец сказала она, посмотрев матери в глаза.
– Нос прямой, как у твоего брата, – сказала мать. Она забрала у Ма снимок и ткнула пальцем в изображение: – Лицо хорошего человека.
Казалось, она довольна. Голос больше не дрожал, подозрительный блеск глаз исчез. Едва ли не сильнее всего в жизни Ма боялась, что мать не доживет до ее замужества.
До свадьбы оставалось несколько месяцев, когда ее мать вместе с двоюродным братом ехали на велосипеде по дороге. Мать пристроилась на багажнике. В них врезался автобус, и мать умерла на месте. Мешок с рисом, который она держала на коленях, упал на дорогу, и рис рассыпался. Когда старшая сестра Ма приехала и увидела это трагическое зрелище, она, сдерживая слезы, ссыпала потемневший от грязи рис обратно в мешок. А вернувшись домой, промыла его. Их мать поступила бы так же.
Во время скромной свадебной церемонии Ма очень тосковала по матери, но еще сильнее расстраивалась от того, что мать так и не узнала, насколько оказалась права. А Хуат и впрямь хороший человек. Лучший в мире. Очевидные доказательства этого – что он ни разу не поднял на нее руку и не кричал, не играл в азартные игры и не пил, а работал как никто другой. Но помимо этого, помимо качеств, которые она могла облечь в слова, был еще его взгляд, то, как Па смотрел на нее в день свадьбы, когда впервые взял ее за руку. Он смотрел на нее не как собственник и не как воздыхатель, а иного от мужчин она не видела. Первое – самое распространенное, въевшееся в привычные будни множества семей, а свидетельницей второго Ма стала только раз, в детстве, когда подглядывала за двоюродной сестрой и ее любовником. Парень сжимал в ладонях лицо возлюбленной бережно, словно сосуд с драгоценной жидкостью.
Ма никогда не задумывалась над тем, каких взглядов от мужчин она ждала, но если бы и задумалась, то сосудом с драгоценной жидкостью ей быть точно не хотелось. Такое отношение сделает ее уязвимой, даже когда это не так. Однако они с А Хуатом не спорили о власти в семье – он не навязывал ей свою волю, но и не покорялся полностью ее желаниям. Вместе они напоминали два дерева, посаженные на непреодолимом расстоянии друг от дружки, вот только тени их всегда переплетались.
Ма почти добралась до дома. За кустами возле дома она услышала незнакомый голос и смех. А затем крик – этот голос она хорошо знала.
А Боонь лазил по кустам, спугивая с низких ветвей птиц. Рядом Ма увидела девочку. Даже издали было заметно, что ее голубое самфу[20] пестрит заплатками. Девочка засмеялась. Она что-то держала в руках. И у А Бооня в руке тоже был какой-то небольшой предмет. Словно два котенка перед дракой, они повернулись друг к дружке, а затем, будто по сигналу, бросились к дому.
Когда Ма подошла, А Боонь и девочка стояли у старого колодца. И тут Ма догадалась. В руках у обоих было по семечку каучукового дерева. Если быстро и с силой потереть его о кирпичи колодца, семечко делается горячим и превращается в настоящее оружие.
У Бооня появилась подружка! За младшего сына у Ма всегда болела душа, ей хотелось, чтобы у него все сложилось как полагается. У ее тихого, замкнутого мальчика, который, в отличие от брата, никогда не играл с другими мальчишками в кампонге. Отчасти потому она и отправила его в школу.
Дети настолько увлеклись игрой, что когда Ма окликнула А Бооня, оба подпрыгнули и обернулись к ней с чуть виноватым видом, будто в том, чтобы уйти с головой в игру, было нечто предосудительное.
– Ма, – сказал А Боонь, – я скоро приду, помогу тебе стирать.
И он крутанул в руке семечко каучукового дерева, словно мячик, который приготовился бросить.
– А это твоя подруга? – Ма повернулась к девочке.
– Здравствуйте, тетушка. – Девочка закивала головой.
Голосок звучал уверенно, маленькие зубы сверкали белизной. Ма сразу же преисполнилась симпатией.
– Тебя как зовут?
– Ин Сыок Мэй, тетушка. Мы с А Боонем вместе в школе учимся. Я у двоюродного дяди живу, недалеко от лавочки.
Ма заметила маленький белый лоскуток, приколотый к рукаву Сыок Мэй. Так, значит, вот чья это дочка. Родители у нее такие патриоты, что вернулись на Материк, чтобы воевать против напавших на страну японцев, а детей пристроили по родственникам. Говорят, отца недавно убили – отсюда и эта траурная метка. Если верить слухам, мать девочки прячется где-то возле юго-западной границы, защищая конвои машин, которые по коварным горным дорогам доставляют войскам боеприпасы и провизию.
Такая жертвенность, верность идеалам вызывала уважение, и все же в голове у Ма не укладывалось, как же это они взяли и бросили дочку. Ее захлестнула жалость, захотелось обнять эту маленькую сильную девочку, погладить по голове и прошептать слова утешения. Но девочка глядела радостно и голову держала гордо. Ничто в ней не выдавало скорби. В утешении она не нуждалась.
– Поужинаешь с нами? – предложила Ма.
А Боонь не смог скрыть смущения:
– Ма, у Сыок Мэй есть свой…
– Спасибо, тетушка, – поблагодарила Сыок Мэй, – не хочу вас утруждать.
Но Ма и слушать не желала. Еды у них на всех хватит. Сыок Мэй девочка высокая, выше А Бооня, – Ма не сомневалась, что у нее отменный аппетит.
Лицо у А Бооня сделалось пунцовым. А Сыок Мэй улыбнулась и согласно кивнула.
– Вот и хорошо. Позову вас, когда ужин будет готов, – сказала Ма.
Направившись в дом, она вдруг вспомнила, что должна рассказать Па про общую кассу. Впрочем, тревога покинула ее. У А Бооня появилась подруга, Ма потушит отличную рыбу со свежим чили. И А Хуат поддержит ее: поделиться тайной с кампонгом – решение верное, а А Хуат из тех, кто старается поступать правильно.
Глава
8
На следующий день, вернувшись из школы, А Боонь и Сыок Мэй увидели возле дома Ли небольшую толпу. Собравшиеся были им знакомы: Суи По, А Тун, Гим Хуат, Сор Хун и еще много кто. А Боонь разглядел и Пак Хассана, старейшего рыбака из соседнего кампонга, которого А Боонь считал мудрым и уважаемым, как баньян. Пак Хассан привел с собой двух сыновей. По мере того как А Боонь шел к дому, рыбаки многозначительно переглядывались, но молчали. А Боонь приближался, а в сердце ему вползал страх.
– Боонь, привет. – Дядя отделился от толпы и выступил ему навстречу.
А Боонь бросился вперед, вцепился в Дядю, прижался к нему, уткнулся в его майку.
– Здравствуйте, дядюшка Лэ Он, – поприветствовала его Сыок Мэй.
Дядя кивнул ей.
– Поздоровайся с дядюшками и тетушками, – сказал он Бооню.
Обращаясь по очереди к каждому, А Боонь принялся перечислять: здравствуйте, тетушка Суи По, здравствуйте, дядюшка А Тун, здравствуйте, дядюшка Гим Хуат, здравствуйте, Пак Хассан, – все это тихим, преисполненным уважения голосом. Они смотрели на него с опаской, будто ожидая, что он того и гляди взлетит в воздух или обратится в пламя. Поприветствовав всех, он смущенно уставился себе на ноги. А Боонь представлял, как превратится в шарик и дождется, когда все уйдут.
Чья-то липкая теплая рука коснулась его руки. Страх исчез. Он поднял взгляд. Рядом стояла Сыок Мэй, уверенная, собранная, целиком и полностью такая, какая есть. Она перехватила его взгляд, будто говоря, что никуда не уйдет, и А Бооню сделалось вдруг тепло, словно в живот ему нежно положили горячий уголек. Мальчик повернулся к Дяде.
– Где Па? – спросил он.
– Скоро придет, – ответил Дядя.
Значит, вот кого они дожидаются. У А Бооня имелись и другие вопросы, однако гнетущая тишина не позволяла их задать. Сыок Мэй тоже молчала. Она слегка опустила голову, и густые волосы упали на лицо. Из-за прядей поблескивали глаза – она оглядывала толпу с любопытством животного, лишь недавно оказавшегося среди людей. Если верить ощущениям, простояли они так немало. Время от времени кто-то замечал, как жарко сегодня, или равнодушно принимался строить догадки о том, когда же прольется дождь. Почти весь кампонг у них дома – это как-то непривычно, такое случалось разве что на лунный Новый год, когда соседи, нарядившись в новую одежду и положив в маленькие авоськи апельсины, навещали друг дружку. Такое сходство придавало толпе странный, жутковато-праздничный вид.
Наконец А Боонь увидел отца – тот появился из-за дома, держа нос лодки. Корму поддерживал Хиа. Они направлялись к берегу. Рыбаки оживились и двинулись следом.
– Пойдем. – Дядя подтолкнул А Бооня в плечо.
А Боонь потянул за собой Сыок Мэй. Время для рыбалки неподходящее – полдень, тени совсем коротенькие, от духоты трудно дышать, но собравшиеся шли к берегу по тропинке между деревьями. Миновав мангровые заросли, которые в лучах слепящего солнца казались голыми, они спустились на сухой горячий песок. Словно удивительная похоронная процессия, в которой лодка, которую несли Па и Хиа, представляла собой гроб, а остальные играли роль скорбящих.
Когда они спустились на берег, А Боонь увидел еще три лодки. Рядом ждали рыбаки из соседних кампонгов, китайских и малайских. А Боонь видел их на рынке и на гонках колеков[21]. Они кивнули Па, Хиа и Дяде, однако внимание их было приковано к А Бооню, оно облаком окутывало пространство вокруг мальчика и повисало у него над головой.
А Боонь понял, зачем все это. В груди закололо – от чувства собственной значимости или от страха, он точно не знал. Выпустив руку Сыок Мэй, он бросился к Па и Хиа и ухватился за борт лодки. Гладкое теплое дерево на ощупь напоминало человеческую кожу, успокаивало своей твердостью. А Боонь помог спустить лодку на воду. Он вспомнил времена, когда волны, разбиваясь о голые икры, заставляли его выскакивать на берег. Кто был тот мальчик? А этот, сейчас, – он кто?
Наконец Па повернулся к А Бооню.
– Мы пойдем к островам, – сказал он, – ладно?
При упоминании островов толпа оживилась. А Боонь кивнул. Он понимал, что молчание последних месяцев нарушено. Высматривая недоверие или издевку, он всматривался в лица мужчин, но заметил лишь волнение, что-то вроде благоговейного страха.
Мужчины уже расселись по лодкам, когда вперед выступила Сор Хун. Хоть ей и исполнилось почти шестьдесят, она выглядела совсем не такой изможденной, как большинство вечно усталых, обожженных солнцем женщин кампонга. Под кожей не выпирали кости, в волосах не было проплешин. Судя по виду этой дородной женщины, жизнь ее протекала беззаботно, хотя на самом деле это было не так. А Боонь смотрел на ее полные, словно налитые руки и успокаивался. Сор Хун протянула руку к Па.
– Я с вами, – заявила она, – хочу посмотреть.
Мужчины загомонили громче, переглядывались, посматривали на Гим Хуата, ее мужа с бельмом на глазу, который стоял тут же, опершись на трость. Его дни как рыбака были сочтены. Все ждали, когда он скажет жене, что никуда та не пойдет. Однако Гим Хуат кивнул.
– Сор Хун увидит все вместо меня, – сказал он, обращаясь к Па.
Голос его звучал предостерегающе, а взгляд будто бы говорил: не отказывай мне. После долгого молчания Па кивнул. Мужчины заворчали, но возражать никто не стал. Сор Хун подвернула штанины самфу и вошла в воду, где Па помог ей забраться в лодку.
– А Би, и ты тоже садись, – сказала Сор Хун. – Это ты нам обо всем рассказала.
Ма вспыхнула и, глядя на Па, покачала головой. Значит, это Ма рассказала всем в кампонге. А Боонь посмотрел на мать с неведомым ему прежде любопытством. Она выглядела так же, как обычно, а лицо ее складывалось из непостижимого, нежного рисунка линий. А Боонь ни разу не видел, чтобы она противилась отцу и поступала наперекор его воле.
– Погодите! – подбежала к ним Сыок Мэй. – Я тоже хочу!
Маленькие кулачки сжались, будто готовые к бою. А Боонь подумал вдруг, что Сыок Мэй часто сжимает кулаки, хотя на его памяти она не вступала в драку. Интересно, она во сне тоже их сжимает? Она стояла на берегу, храбрая и сильная, будто одинокое дерево посреди песка. И снова кожу у А Бооня на руках защекотало, словно замахали крылышками тысячи крошечных насекомых.
Па вздохнул и устало потер лоб. Отказывать осиротевшей девочке никому не хотелось. К Сыок Мэй все относились со снисходительной добротой.
А Боонь знал, что именно ответить. Она его подруга, и это он должен сказать, что с ними ей нельзя. В повисшей тишине он увидел присосавшегося к коленке комара. А Боонь шлепнул ладонью по коленке, и по руке расползлось крохотное пятнышко крови.
– Сыок Мэй… – начал Па.
Но девочка смотрела не на Па, а на А Бооня. “Пожалуйста, – читалось в ее глазах, – ты обещал”. И ведь она права. Все по справедливости.
Или А Боонь лишь убеждал себя в этом. Правда всегда проще.
– Возьмем ее с собой, – выпалил он.
Его щеки горели. Он знал, что не должен ничего хотеть, и все-таки захотел. Ма учила его, что жизнь не для желаний. Но что делать, если деваться некуда? Ему хотелось, чтобы Сыок Мэй была рядом, куда бы он ни отправился. Он ощущал на себе взгляды собравшихся, чувствовал, как они заглядывают ему прямо в нежное, томящееся сердце. Зато Сыок Мэй просияла, и этого было достаточно.
– Заткнись! – вскинулся Хиа. Но в кои-то веки его грубость не имела значения. А Боонь даже не обратил на него внимания.
– Пускай она со мной сядет. Пожалуйста, Па? Можно ей с нами?
Брови Па удивленно поползли вверх. А Боонь еще ничего у него не просил. Просить, подольщаться, требовать – по этой части у них Хиа. И Па кивнул – возможно, от удивления.
– Ладно, – ответил он, – спереди сядет, рядом с тобой.
Разбрызгивая воду, Сыок Мэй побежала к лодке. Рыбаки неодобрительно качали головами, а Гим Хуат от возмущения стукнул тростью о землю. Однако возражать он не мог, ведь это с его благословения в лодку села женщина.
Сыок Мэй вскарабкалась в лодку. Освобождая ей место, А Боонь сдвинулся подальше. Однако в маленькой лодке им пришлось прижаться друг к дружке так тесно, что у А Бооня онемели ноги. Впрочем, когда Сыок Мэй шепотом поблагодарила его, в голосе ее было столько радости, что А Боонь забыл обо всем на свете.
Тишину разорвал рев лодочных моторов – одного, второго, третьего. Рев отдавался дрожанием в затылке, и А Боонь задумался, чувствует ли Сыок Мэй то же самое. Их лодка шла первой, остальные две следовали за ней.
А Боонь прикрыл глаза и оказался в темной пустоте. Рев двигателя слабел, а качка – вверх-вниз, вверх-вниз – превратилась в нечто вроде сердцебиения. Эта пустота когда-то пугала его, и тот ужас и привел его к островам. Сейчас на смену страху пришло одиночество, в которое мальчик, если нужно было, окунался, за которое хватался, точно за скользкую веревку. И он нырнул в одиночество. Для этого требовалась сосредоточенность – она заглушала стук мотора, отодвигала куда-то Па, делала лодку призрачной и несуществующей. Он забыл о цели их вылазки, о выжидающих лицах соседей, даже о прижавшейся к нему сбоку Сыок Мэй. Открыв глаза, он махнул рукой, и отец повернул лодку туда, куда показал А Боонь. Через несколько минут А Боонь показал новый курс, махнув рукой чуть в сторону. Па опять повернул.
– Куда мы плывем? – спросила Сыок Мэй.
А Боонь вздрогнул. Он вспомнил про лодки позади. В первой у руля сидел А Тун, во второй – А Ки. В одной разместилось четверо человек, в следующей пятеро. И все они валились друг на дружку, когда лодка делала резкий поворот. Одиннадцать лиц. А еще Хиа, Па, Сор Хун и Сыок Мэй. Итого пятнадцать. И все они ожидающе смотрели на А Бооня. В горле у него набухал комок.
Он развернулся лицом к морю, прищурился и сосредоточился. Но чувствовал лишь пустоту. Острова исчезли. Он медленно цепенел от ужаса, силился представить белые утесы, плоские, в ложбинах, луга. Но ничего.
А Боонь старался довольно долго – закрыв глаза, сдерживая скапливающиеся под веками слезы. Он уже представлял презрение Хиа, недовольство Сыок Мэй, как все пятнадцать смотрят на его тощую спину. Их недоверие, подобное полуденному солнцу, обжигало шею. Ему казалось, будто Сыок Мэй укоризненно толкает его в бок, и он корил себя за то, что уговорил Па взять ее с собой. Мальчик представлял, как они возвращаются ни с чем на берег, слышал, как они, ухмыляясь, рассказывают всем, что все это выдумки.
И тут лодка повернула. Вот и все, промелькнуло в голове у А Бооня, Па не выдержал. Они возвращаются обратно. А Боонь приготовился к взбучке, к позору. На Сыок Мэй он не смотрел.
Однако Па не развернул лодку. Они лишь поменяли курс. Что Па придумал? Через пять минут лодка снова повернула. Еще пять минут ходу – и еще один плавный поворот. А Боонь тайком взглянул на Па, но тот, казалось, был полностью поглощен морем.
А Боонь в растерянности смотрел на Па. Лица людей в лодках изменились. Сыок Мэй восхищенно выпрямилась, Сор Хун и А Тун издали возгласы удивления. Невероятно. Он обернулся и посмотрел туда, куда направлялась лодка. Вот он – извилистый берег, окутанный темной зеленью, высокие белые утесы, острые и величественные в лучах солнца. Этот остров они обнаружили первым и назвали его Бату, потому что утесы здесь напоминали знаменитые известняковые пещеры на севере. Отец и сын успели дать имя каждому из островов.
Па кивнул А Бооню, словно говоря: видишь, что произошло? А Боонь видел. Сегодня на остров их привел не он, а Па. Даже если кто-то еще и заметил, они вряд ли поняли важность этого. Они не знают, что острова – зыбкие миражи, которые появляются и исчезают, когда ты того хочешь. Да и откуда им знать? Ведь вот он, остров, сухой и прочный, как их собственные тела. Им же неизвестно, что до сегодняшнего дня найти их было под силу только А Бооню.
А Боонь перегнулся через борт и опустил в море разгоряченные ладони. Сыок Мэй рассмеялась, смех ее был чистым и переливчатым, как новые стеклянные шарики. Солнце окрасило ее щеки розовым.
– Какая красота! – сказала она. – Вот бы мы тут жили.
А Боонь представил, как они с Сыок Мэй живут здесь, строят дом на деревьях, жарят на костре выуженную из моря рыбу. Его потянуло вылезти из лодки, вытянуть затекшие ноги в этой загадочной живительной воде, несмотря на всех ее возможных обитателей – желеобразных и с плавниками. Он жаждал ощутить, как ямки под коленями заливает прохладная вода.
За спиной послышался всплеск. Похоже, одержимый тем же желанием А Тун выбрался из лодки. Его майка надулась в воде, отчего грудь сделалась похожей на женскую, и мужчины засмеялись. А Тун поплыл к острову.
– Тун, ты куда? – крикнул Па.
А Тун не ответил и лишь махнул рукой, приглашая присоединиться.
Взрослые переглянулись. Сор Хун заявила, что ноги ее там не будет. Кто знает, что за мерзости прячутся за этими деревьями?
Лицо Па оставалось непроницаемым. О чем он думает? Они с А Боонем никогда не говорили о духах или волшебстве. Их ежедневные вылазки превратились в обыденность: каждый день они спускали на воду лодку, А Боонь указывал курс, Па управлял лодкой. Они ставили сети, а потом вытаскивали их и возвращались домой с тем, что от щедрот своих давали им острова. Только и всего. В лодке они либо молчали, либо говорили о чем-то еще – о школе, о Ма, о жаре. И никогда – о том, где они побывали и что делали.
Было видно, как А Тун бредет в воде к короткому сияющему берегу. Его фигура будто нарушала спокойствие тех мест, которыми А Боонь любовался много месяцев подряд. Сам он так до конца и не поверил, что это настоящая, прочная суша. И тем не менее лодка А Туна причалила к острову, мужчины повыскакивали из нее и, как мальчишки, разбежались по берегу.
Несмотря на все это, Па улыбался. Будто король на троне, он сидел у руля и с довольным видом обозревал свое королевство. На мужчин на берегу он смотрел с тем же снисхождением, которое появлялось в его глазах, когда А Боонь с Хиа высматривали в болоте илистых прыгунов.
Лодка А Ки рванулась следом за лодкой А Туна.
– Давай, А Хуат! – позвал он Па.
Па подвел лодку к острову, и они вылезли – Хиа, потом Па, А Боонь и Сыок Мэй. Сор Хун, опасавшаяся “всякой мерзости”, сказала, что присмотрит за лодками. Вчетвером они прошли по берегу и последовали за остальными в джунгли у подножия утесов.
Глава
9
Остаток дня прошел в похожем на сон походе. Мужчины шагали молча, некоторые поодиночке, некоторые парами. Хиа шел рядом с отцом, А Боонь и Сыок Мэй двигались за ними.
На острове оглушительно стрекотали насекомые. Казурианы с толстыми стволами роняли на землю мелкие шишки. Путат лауд сбрасывал с плотных веток пушистые розовые бутоны. Тропинок здесь не было. Раскидистые листья папоротников щекотали икры, колючие аканты царапали ноги. А Боонь несколько раз протягивал Сыок Мэй руку и помогал перелезть через камень или упавшее дерево, замирая, когда она прижималась к нему. Порой ему казалось, будто он дома, будто они с Хиа исследуют неизвестную часть побережья, разве что тишина здесь была плотнее. Из человеческих голосов – только их собственные, и никакого гула автобусов или грузовиков. Хор насекомых здесь звучал тише, да и птичье пение тоже.
– Смотри, – сказала Сыок Мэй.
С лукавой улыбкой она взглянула на А Бооня и протянула сжатую в кулак руку.
Именно этот момент останется в памяти А Бооня, когда все закончится.
Не погоня, не этот день или последующие недели, не тяжелое многолетнее путешествие, которое проделает его сердце, формируясь, разбиваясь и вновь обретая форму. В его памяти останется лишь этот образ: Сыок Мэй, пока еще не революционерка, пока еще ей не грозят ни смерть, ни тюрьма, она не направляет полных решимости рабочих и таящихся шпионов, пока еще она обычный ребенок, как и сам он, она – посреди девственного леса на загадочном острове и протягивает ему сжатую в кулак руку. Сыок Мэй предлагает ему что-то. Там, в ее разжатой ладони, – семечко каучукового дерева. Маленькое, круглое, многообещающее, словно небольшое яйцо.
Мужчины ушли слегка вперед, пробивая тропинку среди густых зарослей. Справа А Боонь заметил крупный валун, рыжеватый и гладкий, как спина большой свиньи.
Ухмыльнувшись, он взял у Сыок Мэй семечко и двинулся к валуну, не обращая внимания ни на папоротники под ногами, ни на царапины на руках. Он слышал, как Сыок Мэй топает за ним, слышал ее тихий мелодичный смех. Они продирались сквозь лес, наступали резиновыми подошвами сандалий на усыпанную листьями землю, распугивали птиц и блестящих жуков. А Боонь подумал, что надо бы поостеречься змей, но все равно бежал. Мальчик почти добрался до валуна. Вот он – большой, рыжий, осязаемый. А Боонь вытянул руку с семечком, готовый потереть его о камень…
Сильный удар в спину повалил его на землю. А Боонь уткнулся лицом в траву. Сыок Мэй уселась ему на спину, прижала к земле руки.
– Пусти! – потребовал он.
Сказал он это неискренне. Падая, он чувствовал, будто его сердце тоже летит вниз, вырвавшись из грудной клетки, где обитало всю жизнь, вывалившись через подвальный люк в какое-то намного более опасное место. В ушах бешено пульсировала кровь, так что удары отдавались даже в кончиках пальцев. Теплые пальцы Сыок Мэй цепко держали его руки. Она оседлала его, словно мула, сдавив икрами поясницу. Он сильнее ее, он это знал, но был не в силах сбросить ее.
Она засмеялась, и ее смех словно покинул ее тело и проник в него. Его тело будто бы тоже засмеялось. Сыок Мэй наклонилась вперед и отняла у него семечко.
– Будешь знать, как у меня отнимать, – сказала она.
Он нервно хихикнул. Сыок Мэй слезла с него и помогла подняться на ноги. Потом А Боонь смотрел, как она трет семечко о камень. Он заметил, что она тоже старается не смотреть на него, и его сердце, похоже, вернулось на свое привычное место. По щекам Сыок Мэй разлился румянец, она с наигранной сосредоточенностью смотрела на семечко и на камень.
Наконец Сыок Мэй прекратила тереть семечко о валун, быстро повернулась к А Бооню, насупилась сердито.
– Обещай, что мы навсегда друзья, – потребовала она.
Ему показалось, что она требует ответа более веского, чем обычное “да”, что она ждет от него некоего великого поступка, вроде тех, что совершают романтические герои в любимых Ма радионовеллах, – например, обхватит ее руками или, даже хуже, попытается поцеловать ее.
Вместо этого он забрал у нее семечко, а потом сплел свои пальцы с ее, так что их ладони прижимались друг к дружке крепко, точно створки раковины. Руки она не отняла.
– Обещаю, – сказал он.
– И ты никогда не уедешь, – добавила она.
– Зачем мне уезжать?
Сыок Мэй помолчала.
– Ладно, неважно, – сказал она, – можешь не обещать.
– Обещаю, – быстро сказал А Боонь, – я тебя никогда не брошу.
– Посмотрим, – сказала она.
– Не брошу, – повторил он. – Если я тебе нужен, то я никуда не денусь.
– Ладно, – тихо проговорила она.
Дав это обещание, они умолкли. А Боонь думал лишь о ее маленькой потной ладони в его руке, о сладком запахе ее дыхания. Что теперь скажешь? Они оба словно оцепенели. Он подумал, что теперь они принадлежат острову, что они привязаны к нему, как большой рыжий валун у них за спиной.
А затем раздался крик:
– А Боонь! – Голос Па развеял чары.
– Пошли найдем их, – сказала Сыок Мэй.
Она потянула его за руку, и все закончилось. Они двинулись вперед, к взрослым.
Путешествие продолжалось. Остров был совсем небольшой, чтобы обойти его, потребовалось меньше сорока минут. Маленький пляж, к которому они причалили, был здесь один, в остальных местах волны разбивались о высокие скалы. Мужчины пришли к выводу, что в верхней части пляжа неплохо бы поставить дом, потому что мангровые заросли тут не густые, а земля сухая и ровная. Здесь же, образуя прекрасное укрытие, росла огромная казуриана. Старость тянула ее ветви к земле. Рыбаки шутили, что сбегут от жен и поселятся на этом острове. Кормиться будут выловленной у берега рыбой, а из деревьев этого девственного леса выстроят дома. На этих словах А Боонь хитро взглянул на Сыок Мэй.
Па весь день был немногословным, но таким счастливым А Боонь его прежде не видел. На пляже он поднял кусок мореной древесины и помахивал им, пока они пробирались через заросли. Время от времени он показывал этой деревяшкой на кокосовое дерево с плодами или на прячущегося под зеленым пологом жука-носорога, но в основном просто держал деревяшку в руке и помахивал ею, назад-вперед, назад-вперед.
Когда вся их компания вернулась наконец на пляж, им тут же неистово замахала Сор Хун. Она так все время и просидела в лодке.
– Смотрите! Смотрите! – закричала она, показывая на море.
Они пригляделись. Лодку раскачивало из стороны в сторону, и они поняли, что ритм ее движений, неровный, рваный, не совпадает с мягкими, набегающими на берег волнами. Море возле лодки переливалось серебром, и А Боонь вспомнил, как однажды грозовой ночью молния ударила в воду. Но сейчас был погожий день, а в небе разлилась такая синь, что глаза резало. Подойдя ближе, они поняли, что блестящая поверхность состоит из мелких, сверкающих на солнце частиц.
Рыба. Столько рыбы А Боонь с Па еще ни разу не видали. Рыбины бились о лодку, толкались на отмелях, будто просили, чтобы их выловили. Их было так много, что лодку мотало из стороны в сторону, словно ярмарочную карусель. Расплывшаяся в улыбке Сор Хун сидела в лодке. Мужчины бросились в воду, к лодкам, с трудом пробираясь по кишащей рыбой воде.
– Боонь, давай быстрей, ты где там застрял? – крикнул Па.
Море буквально бурлило, переливалось сверкающей чешуей. Скованный старым страхом А Боонь замер на берегу. За последние месяцы они с Па вытащили немало сетей с рыбой, однако ничего подобного видеть им не приходилось. Рыба всегда появлялась тихо и внезапно, просто в определенный момент канаты, которыми сети крепятся к лодке, вдруг натягивались. К этому А Боонь привык и принимал как данность. Он думал, что полностью преодолел страх перед океаном.
Увиденное сейчас поколебало его уверенность. Оно напоминало сцену из его детских ночных кошмаров, самых жутких, в которых море оживало и наводнялось невидимыми тварями, грозящими утащить его в неведомые глубины.
– Идем, Боонь, – сказала Сыок Мэй.
Она вошла в воду. Рыба терлась о лодыжки, но девочке, как и остальным, было, похоже, все равно. Ее лицо сияло от радости, связь между ними слабела, и А Боонь снова остался наедине со своим страхом.
– Что, Лещ, испугался, да? – завопил из лодки Хиа.
Старое прозвище, о котором все на несколько месяцев забыли, привело А Бооня в ярость. Он вошел в воду. Под его ступней забилась вдавленная в песок рыбина. А Боонь стиснул зубы и сильнее вдавил рыбью плоть в песок. Внутри всколыхнулась тошнота. Тонкие плавники щекотали голую кожу. Но А Боонь не остановился – шаг за шагом он продвигался к лодке. Поверх шума моря он словно слышал жару – громкий, пронзительный звон.
И вот все позади. Мокрый и бледный, он влез в лодку и плюхнулся рядом с Сыок Мэй.
– Боонь? Ты как? Все хорошо? – спросила девочка.
А Боонь слабо кивнул. Наверху без конца и края во все стороны раскинулось небо. На плечи А Бооню опустились прохладные ладони Па. Капли воды катились по лбу и разъедали глаза. Мало-помалу мир снова обретал очертания.
– Это просто жара, – сказал Па, – и день долгий.
А Боонь не возражал. Все убедились, что с ним все в порядке, и тут же забыли про него, занятые полными сетями. А Боонь сидел на носу, уткнувшись в колени и закрывшись от света. Сбоку к нему прижималась Сыок Мэй. Она крепко сжала его руку, но радость от ее прикосновений исчезла. Девочка стала свидетельницей его унижения, и этого А Боонь никак не мог выкинуть из головы.
Издалека доносились голоса рыбаков. Кто-то запел придуманную им самим песню – возможно, это был А Тун, движимый тем же восторгом, который выгнал его из лодки на остров. Остальные шутили и смеялись. А Боонь чувствовал, как Хиа перемещается по лодке, слышал, как Па тихо отдает брату указания. Все пребывали в приподнятом настроении – все, кроме А Бооня. Он чувствовал, как они смеются над ним. Объект всеобщих издевок, сын рыбака, который боится моря.
Снова крики и свист. Моторы взревели, и лодки рванули с места. Рыбы много – пора домой. А Боонь посмотрел поверх рук. Море стихло, теперь только лодки, разрезая ровные волны, тревожили его поверхность.
Наконец они добрались до родного острова. Провожавшие их так же стояли у берега, в тени деревьев. Они бросились навстречу лодкам, и А Боонь с обидой представил, как его снова начнут высмеивать, ведь при виде рыбы он едва не потерял сознание.
Ма ждала их на мокром песке, приготовив тачки и прищурившись от послеполуденного солнца.
При виде пойманной рыбы собравшиеся заахали. “Да как же это? – снова и снова спрашивали они. – Как же это?”
Рыбаки загалдели:
– Там высоченные деревья, выше, чем тут…
– Одна сеть у нас даже порвалась…
– А утесы!
– А Туну на голову жук-носорог сел, хорошо хоть, не нагадил…
– А когда А Тун спрыгнул в воду, у меня чуть сердце не разорвалось! – Это воскликнула Сор Хун, и женщины расхохотались.
– Но откуда же вся эта рыба взялась? – спросила одна из тетушек.
Мужчины в лодке замолчали.
– Трудно сказать, – ответила Сор Хун, – но наш А Боонь…
А Боонь посмотрел на горизонт и собрался с духом. “Но наш А Боонь, – подумал он, – несколько месяцев ходил к этим островам, а в воду зайти боится. Наш А Боонь хлопнулся в обморок, прямо как девчонка, вы б только видели!”
– Это он нас туда привел. Они с А Хуатом – вы бы их только видели. Уж не знаю, как они понимают, в какую сторону двигаться, но как-то понимают. Прямо чудо какое-то, – закончила Сор Хун.
Рыбаки закивали.
– Откуда вы знаете, где этот остров? – спросил кто-то.
А Боонь взглянул на Па, и тот жестом разрешил ему ответить.
– Я… я не знаю. Я это чувствую, – проговорил он, вспыхнув. Никогда еще столько взрослых не слушали его с таким вниманием.
– И рыба там всегда есть? Возле острова?
– Возле островов. Там он не один. Мы пока шесть нашли, – пробормотал А Боонь.
Перешептыванья стали громче.
Наконец кто-то из мужчин спросил:
– Значит, чтобы найти острова, надо каждый раз брать тебя с собой?
В голосе звучало презрение, будто его хотели надуть. Он явно считал зазорным задавать вопрос ребенку.
– Боонь может показать нам, как их найти, – сказал Па. – Мне он показал.
Остальные рыбаки одобрительно забормотали, и Боонь покраснел еще сильнее. Сейчас молчал даже Хиа, и когда А Боонь обернулся к нему, брат медленно, едва заметно кивнул. Ма тоже смотрела на А Бооня так, словно видела сына впервые. Тогда, чтобы не обмануться в наслаждении, которое испытывал, А Боонь встал и собрался было вылезти из лодки, но пока он стоял, все продолжали смотреть на него, словно на некое таинственное существо. А Боонь замер. Вот бы раскинуть руки и подпрыгнуть – и тогда этот прыжок отразится в глазах всех этих людей. Но ему не хватило смелости, и он стоял в лодке, которую ласково покачивали волны, а за спиной у него, скосив безудержные оранжевые лучи, затухало солнце. Настал миг умиротворения. Спустя годы воспоминания об этом спокойствии неразделимо сплетутся с памятью о бьющейся под ногой рыбе, и потому радость А Бооня всегда будет омрачена зыбким ужасом, который сонно булькает под безмятежной поверхностью.
Впрочем, сейчас солнце садилось, море было спокойным, а вокруг собрались люди. Родные любили А Бооня, и все остальные жители кампонга тоже.
Глава
10
Для кампонга и его жителей наступили сытые времена. Каждый день А Боонь и Па выходили в море, а за ними следовали другие рыбаки, которым А Боонь показал не только Бату, но и остальные острова. Месяц за месяцем рыбаки пытались запомнить местоположение этих трудноуловимых клочков суши. Однако это оказалось сложно: острова часто представали в ином составе, некоторые на несколько недель исчезали, иные до неузнаваемости меняли очертания. Даже установить точное их число было непросто, не говоря уж о том, чтобы определить их особенности.
В конце концов количество островов высчитал Па. Одной особенно душной ночью А Боонь без сна лежал на полу, ворочаясь и елозя в попытках поудобнее пристроить голову. Возле уха кружила муха, и ее ленивое жужжание медленно смешивалось с дремотой. А Боонь уже почти заснул, когда кто-то встряхнул его за плечо.
– Боонь? Ты не спишь? Боонь? – В темноте поблескивали зубы Па.
А Боонь покачал головой.
– Что такое? – прошептал он, стараясь не разбудить спящего в нескольких метрах от него Хиа.
– Это все луна, – проговорил Па.
На миг А Боонь испугался. Этот незнакомый Па – зачем он бродит ночами по дому и что значит “это все луна”?
– Острова, – нетерпеливо пояснил Па, – они подчиняются луне.
Послышалось какое-то шуршание. А Боонь уставился в сумрак. Па держал в руках стопку листков. Они вышли на террасу, где на деревянном стуле стоял газовый светильник. Во влажном тяжелом воздухе висел едва заметный запах земли.
Па показал А Бооню рисунки – грубые наброски с изображением примерного расположения каждого острова в каждый из дней на протяжении последнего полугода. А Боонь никогда не видел, чтобы Па что-то рисовал. Он представил, как Па просиживает ночи возле дома, по памяти лихорадочно зарисовывая увиденное.
Па с восторгом перебирал листки, тыча то в один, то в другой и шепча:
– Видишь? Видишь?
Сон выветрился из головы А Бооня, и мальчик внимательно прислушался к словам отца. При полной луне все острова исчезают. Когда луна убывает, снова появляются, а больше всего их, когда от месяца остается тоненький серп. При растущей луне острова один за другим пропадают. Па почти год их отслеживает, и хотя временами что-то меняется, общий принцип он угадал безошибочно.
Па замолчал.
– Погоди, Па. – А Боонь поднялся.
Он прошел обратно в комнату, которую делил с Хиа. Брат лежал на спине и, широко разинув рот, храпел. А Боонь на цыпочках обошел его, приподнял свою подушку и вытащил из-под нее какой-то предмет. Потертый, раздавленный спичечный коробок. Крепко зажав его в руке, он вернулся к Па.
– Вот это с Бату, – сказал А Боонь и открыл коробок.
Внутри лишь песок, остатки листьев и маленькая веточка. Па недоуменно смотрел на него.
– Все это никуда не делось, – пояснил А Боонь.
Во время одной из вылазок на Бату, пытаясь изловить особенно крупного красного муравья, А Боонь набрал песка и листьев. Муравей давно уже сдох, а все остальное по-прежнему лежало в коробке. Мальчику казалось, что он сохранил кусочек острова. Поэтому каждую ночь он проверял, не исчез ли песок так же, как исчезают острова. Но песок оставался в коробке. Словно частичка суши, унесенная с того места, где находилась, утратила свою переменчивость и превратилась в самую обычную.
Сейчас он рассказал об этом Па – одно открытие в обмен на другое. Они проговорили до поздней ночи. Заскорузлая рука Па лежала на плече А Бооня. А Боонь видел, что прежде густые темные волосы отца поредели, смотрел на проплешины у отца на голове, и его захлестывали нежность и желание припасть к ним губами. Разумеется, делать этого он не стал. А Боонь так и сидел – худая спина вжата в стену, голова занята лунными схемами и призрачными картами. На плече, словно якорь на дрейфующих песках, лежала тяжелая отцовская рука.
Под утро, когда они легли спать, хлынул дождь, грозовой ливень, продолжавшийся весь следующий день. Они подставили ведра там, где крыша протекала, и стали ждать. На мир, погрузив его в темноту, опустилась влажная серая мгла. Из дома больше не видно было поблескивающего моря. Лишь темные очертания мангрового леса там, где суша сменялась водой.
Тот дождь был не обычным – он возвещал о сезоне муссонов. С муссонами, как правило, приходили голодные времена, потому что в море выходили реже. Но в этом году из каждого дома плыл запах рыбы – тушеной, жареной, вяленой. Острова принесли улов такой огромный, что жители кампонга не находили ему применения. Разве что на рынке продавать. Если прежде их скудная трапеза ограничивалась бататом, волокнистыми бобовыми ростками и, изредка, тощей курицей, то сейчас они каждый день баловали себя рыбой. Ее варили с имбирем и нарезанным перцем чили, тушили с душистым самбалом, обжаривали, пока плавники не превращались в хрустящее лакомство для детей. Рыбная каша на завтрак, рыбный суп би хун на обед, а на ужин – тушеная с рисом рыба.
Несмотря на влагу, из-за которой свежеиспеченный хлеб покрывался ползучей плесенью, на вой ветра, на беспощадный грохот дождя, на грязь, которая пробиралась в дома, как бы тщательно ты ни вытирал ноги, настроение в кампонге царило приподнятое. Держа над головой газету, жители, насквозь промокшие, но с улыбкой на лице, беззаботно бегали к соседям. Главная проселочная дорога кампонга превратилась в грязевой пруд, в котором радостно плескались дети. Кампонг наводнили улитки и лягушки, а ноги у местных теперь почти всегда были заляпаны грязью.
Муссоны свидетельствовали о приближении лунного Нового года. До него оставалось три месяца, однако когда небо слегка посветлело, местные взялись за приготовления. Обычно они довольствовались тем, что предлагалось в местных лавочках, но в этом году хозяйки отправились в город и раскошелились на дорогую ткань, из которой нашили домочадцам новую одежду. И если прежде хлопушками баловали только детей токея, то в этом году хлопушки, коробку за коробкой, покупали в каждой семье. На напитки тоже не скупились – на газировку, от которой язык делался оранжевым или сиреневым и которую в прежние времена предлагали лишь гостям, да и то по особым случаям.
Когда дожди наконец отступили, жители кампонга принялись отскребать с крыльца засохшую грязь, латать дыры в крышах и выдергивать выросшие на тропинках и на старых могилах папоротники. В этом году праздник должен был стать таким, каких кампонг еще не видел, – подобного изобилия не помнил никто.
В доме Ли, как и в других семьях, атмосфера была радостная. Ма суетилась, прикладывала к плечам домочадцев одежду, прикидывая, сколько ткани ей понадобится для новых рубашек. Хиа гордо притащил домой пару бойцовых рыбок с чудесными волнистыми хвостами – он купил их на скопленные деньги. Дядя больше не кашлял. Па напевал себе под нос старый мотивчик из кантонской оперы, прилипчивую мелодию, рвавшуюся откуда-то из груди.
А еще была Сыок Мэй – она будто еще ярче расцвечивала все хорошее в жизни А Бооня. По вечерам они вместе возвращались из школы домой, играли под дождем, в зарослях гуавы и мангровом лесу. Сыок Мэй помогала ему с уроками, и он начал делать успехи в чистописании. Теперь А Боонь умел читать и писать благодаря прилежанию и усердию, пусть и не с легкостью.
Жизнь делилась на школу и то, что за ее стенами. Вместе с Сыок Мэй они узнали, каково это, когда из раны течет кровь, – они то и дело, гоняясь друг за дружкой среди деревьев, падали на острые камни. В порыве нездоровой впечатлительности они затеяли побрататься – соединили исцарапанные ладони и смешали свою кровь. “Отныне мы брат и сестра!” – провозгласила Сыок Мэй, а после оба смотрели, как кровь возле ран темнеет и запекается. Вместе они бродили по кампонгу, заглядывая в окна кухонь и спален, однажды даже украли жареных креветок, которых соседка вынесла на крыльцо охлаждаться, а как-то дождливым вечером им довелось понаблюдать за удивительными упражнениями, которые А Тун с женой проделывали на матрасе.
Это Сыок Мэй заронила в голову А Бооня мысли об училище. Сперва он отмахнулся: в их кампонге училища нет, придется ездить в город, а такое даже в голове не укладывается. К тому же это неосуществимо, ведь по утрам ему надо выходить с отцом на рыбалку. И вообще они пока дети, до училища еще ждать долгие годы, целую жизнь.
Однако Сыок Мэй рассказывала о своих мечтах с такой уверенностью, что в душе А Бооня тоже проклюнулось стремление. Каждый день Сыок Мэй заглядывала в лавочку и даже подружилась с хозяином, поэтому теперь ей разрешалось полистать “Сынь Су Дзит По”[22], не покупая газеты. Под руководством учителя Чи А она начала писать стихи на национально-освободительные темы и посылать их в китайские издания, где публиковались произведения школьников. Пока ни одного ее стихотворения не напечатали, но девочка не сдавалась и говорила, что она только начала учебу и пока слабее других, но когда-нибудь своего добьется.
Ее разум напоминал молнии в грозовую ночь. Сыок Мэй занимала война, которую японцы вели на Материке, и роль живущих за рубежом китайцев в борьбе за сильную республику. Чьи интересы они поддержат – Малайского полуострова, где обосновались, или же исторической родины? Она ненавидела ан мо, прибравших к рукам власть в стране, – грубые неумехи, разве способны они править? Но кто еще хуже, так это англоговорящие китайцы, толстопузые представители среднего класса с их уроками музыки и вечерним чаем. В ее представлении они отреклись от самих себя, поддались искушениям ан мо. Эти идеи с самого раннего детства вкладывали ей в голову родители, готовя дочь к революционной деятельности.
Но Сыок Мэй, все еще ребенок, не очень разбиралась во всех этих тонкостях и просто повторяла и пересказывала то, что ей вдолбили. Сейчас, когда она читала, писала или вела разговоры на подобные темы, она думала о погибшем отце и исчезнувшей матери. Втайне девочка лелеяла надежду, что мама вернется. И когда это произойдет, Сыок Мэй прочитает ей все свои стихи и споет все песни. Она подарит ей отшлифованную драгоценность – собственные умения – и скажет: “Смотри, Ма, что я тебе приготовила”.
В отсутствие родителей наставником Сыок Мэй был учитель Чи А. Если Материку предстоит стать могущественной республикой – а учитель Чи А в это свято верил, – то женщины должны сравняться с мужчинами. Такие идеи нередко поддерживались в китайских народных школах, известных своими националистическими и революционными настроениями. И хотя ученики зачастую не бывали нигде, кроме Сингапура, многие учителя тем не менее считали их в первую очередь китайцами и лишь потом – сингапурцами. Ан мо с большим подозрением относились к этим идеям.
В свое время ан мо арестовали учителя Чи А, который тогда преподавал в престижном городском училище, и подвергли допросу. Его больше двух недель продержали в темной камере, а чужеземцы с молочно-белой кожей проверяли его благонадежность. Разве любить свою родину – это противозаконно? Именно этот вопрос задал он проводившему допрос следователю, который обвинил его в агитации и в гоминьданском заговоре с целью свергнуть данную Богом власть ан мо. За две недели ареста учитель Чи А задал лишь этот вопрос. Это противозаконно? Неужели?
Нет, не противозаконно. Спустя несколько лет о требованиях благонадежности все забудут, но когда учителя Чи А арестовали, ан мо еще прятались под маской цивилизованности. Доказательств того, что Чи А участник заговора, у них не имелось, и его отпустили, сделав выговор и запретив преподавать в школах, где количество учеников превышает пятьдесят человек. Вот так учитель Чи А, этнический кантонец из купеческой семьи, чьи родители оплатили его дорогостоящую учебу в университете на Материке, оказался в крошечной сельской школе, где в классах хорошо, если имелось по одной электрической лампочке.
Это было унизительно. И тем не менее, если пробудить детей из этих сельских районов, добиться можно немалого. Он взялся за обучение. Основным меценатом школы был местный токей, поэтому учителю Чи А предоставили полную свободу действий. В каком-то отношении, убеждал себя Чи А, здесь ему работается лучше, чем в престижном училище, – ни соперничества, ни показухи, к которой склонны некоторые сторонники революционных идей. Тут он волен честно трудиться, воспитывая юные умы.
Ученики, подобные Сыок Мэй, порой вызывали у него едва заметную горечь. Дочь истинных патриотов, вот уже несколько лет как вернувшихся на Материк, чтобы бороться против японских захватчиков, она обладала настоящей добродетелью – обостренным чувством справедливости. Кампонг, сонная рыбацкая деревушка, – место, чуждое политике. Ни в одном доме, за исключением дома Ингов, не было ни портретов Сунь Ятсена, ни гоминьданских флагов. Сам учитель Чи А не имел удовольствия познакомиться с родителями Сыок Мэй, но узнал о них все подробности от двоюродного дядюшки, на чье попечение оставили Сыок Мэй.
О характере Сыок Мэй, думал учитель Чи А, свидетельствует и то, что она не жалуется, когда после уроков ее оставляют помогать более слабым ученикам. Она выполняет свои обязанности с неугасающим рвением. Учитель Чи А полагал, что когда-нибудь она совершит не один великий поступок.
И этот А Боонь Ли, от которого она, похоже, в восторге, ну что ж, возможно, из него тоже что-нибудь выйдет. Сперва учитель Чи А не возлагал на мальчика особых надежд – писал тот скверно, а держался чересчур застенчиво. Когда его вызывали отвечать, А Боонь так мямлил и запинался, что даже самые терпеливые из учителей не выдерживали. Учитель Чи А ожидал, что через несколько месяцев мальчик просто тихо исчезнет из класса и займет свое место в рыбацкой лодке, как уже неоднократно случалось с его учениками, когда те вдруг осознавали, какого усердия требует образование.
Однако А Боонь выдержал. Он выправился, слушал теперь внимательно и время от времени задавал вопросы. В чистописании он тоже делал успехи. А Боонь даже интересовался брошюрками, которые учитель Чи А давал почитать Сыок Мэй, и после уроков спрашивал значение определенных слов. Однажды учитель Чи А слышал, как эти двое на перемене обсуждают училище.
Огонь, горящий в Сыок Мэй, разжег в этом молчаливом мальчике тлеющие искры – амбиции или томление. Учитель Чи А сперва думал, что А Боонь будет тянуть Сыок Мэй вниз. Но, наблюдая за ними на переменах, он видел, как девочка расцветает, как она, когда-то испуганная и зажатая – что немудрено для ребенка, потерявшего семью, – сияет мягким обаянием. Их дружба уравновешивала ее, дарила утешение, которого учитель Чи А, стараясь играть роль наставника, дать ей не мог.
Постепенно он решил убедить их вместе поступить в училище. Там их ждет совсем иной мир, и вполне возможно, что обязательства, которые он накладывает, окажутся для такой незаурядной ученицы, как Сыок Мэй, чрезмерными. А Боонь не даст ей сбиться с пути. В глазах мальчика учитель Чи А заметил характерный блеск и подумал, что, возможно, и А Боонь чего-нибудь достигнет. И учитель постепенно проникся доверием и к Бооню. Вместе, думал он, эти двое вполне способны на великие дела.
Итак, приближался 1942 год, год Змеи готовился уступить место году Лошади. Что же до неведомого прежде благосостояния, дарованного жителям кампонга, до радостных приготовлений к Новому году и до радужных дней, наступивших, когда развеялись тяжелые тучи, тут никто не обвинил бы местных жителей, измученных жизненными тяготами и оттого циничных, в том, что они наконец поверили в перемены к лучшему. Никто из них не сказал бы этого, чтобы не спугнуть удачу, и тем не менее удача давала о себе знать: благодаря рыбе тела людей раздобрели, отремонтированные дома выглядели внушительно. Даже заросли словно слегка отступили, а зажатая меж деревьями дорога из кампонга, казалось, стала шире, светлее, расцвеченная пятнами солнечных лучей.
Лишь когда погасили последний газовый светильник, когда уснул наконец последний неугомонный ребенок, лишь тогда над кампонгом появились самолеты. Если бы кто-нибудь из местных не спал, они бы услышали отдаленный гул семнадцати морских бомбардировщиков, кружащих в предрассветный час над островом. В кампонге не имелось ни фонарей, ни автотранспорта, поэтому он не представлял собой стратегической цели. Бомбардировщики направлялись в город и в порт, что был километрах в восьми оттуда, где спали А Боонь и его родные. Бомбы упали на остров достаточно далеко от их дома, и никто не проснулся – ни когда в огне обрушились несколько строений, ни пятнадцать минут спустя, когда все же сработали сирены воздушной тревоги.
Очевидность войны настигнет их лишь через несколько часов, когда они проснутся. В то утро семья Ли проснулась с приятным послевкусием минувших дней и предвкушением дня грядущего. Ма думала дошить новую ночную сорочку для Хиа, которую тот надел бы в новогоднюю ночь, ложась спать. Настоящая роскошь. Па хотел отшлифовать песком и отполировать лодку, Хиа готовился помогать ему. А Боонь – тот собирался в школу, где увидит Сыок Мэй. После уроков они хотели сбегать к устью реки, где, по словам друзей Хиа, появился дюгонь.
Домочадцы еще умывались и одевались, когда в дверь забарабанили. Этот звук словно отдавался в груди. Все замерли и повернулись к двери. Открывать никто не спешил. А затем из-за двери закричали:
– Японцы! Японцы! Японцы!
Глава
11
Разумеется, в кампонге знали о войне, но смотрели на нее издалека и видели в черно-белом цвете. Она велась в далеких холодных странах, на родине ан мо. Они, ан мо, говорили о ней все чаще и чаще, расписывая в английских газетах свои победы и поражения, которые потерпел враг. Кто такой этот враг, в кампонге не знали, да и английских газет тоже не читали. Зато на рынке они постоянно обсуждали новости, и в лавочке тоже – Суи Хон там часто слушал радио. Познания в английском у лавочника были скудные, но достаточные, чтобы уловить суть новостных сводок, которые теперь выходили все чаще и чаще.
Даже годом ранее, когда японцы, ввязавшись в общую заварушку, прошли по малайским болотам на севере острова и прокатились на танках по городам и весям, рассказы о войне воспринимались по-прежнему – как рассказы. Судачили, что танки танками, однако с одного поля битвы на другое японцы перемещаются на велосипедах, а к такой смешной картинке в кампонге серьезно не относились.
Сейчас же, несмотря на постоянные бомбежки, продолжавшиеся уже два месяца, несмотря на введенный в городе комендантский час, жители кампонга с трудом верили, что на их острове и впрямь идет война. Хотя рев бомбардировщиков в небе и наводил на них страх, бомбы никогда не падали возле кампонга. Разумеется, все знали и о потерях, о том, что одна-единственная ночь способна принести сотню смертей. Они видели фотографии двух величественных военных кораблей, потопленных японскими самолетами. Видели они и лучи прожекторов, обшаривающих ночное небо в поисках любого намека на металл.
Когда появились первые беженцы, не обращать внимания стало сложнее. Семьи с тачками, в которых громоздились мешки с одеждой и утварь, дети – босые, плачущие. Они прибывали в кампонг по главной дороге на автобусе, ходившем все реже, или пешком. Люди лишились домов и теперь искали укрытия подальше от городов. В кампонге относились к ним с пониманием, позволяли набирать воду в колодцах и отдыхать в тени деревьев. В конце концов они всегда уходили дальше.
В кампонге не говорили о войне, разве что пересказывали друг дружке отдельные факты – например, про особенно тяжелую ночную бомбежку.
– Двести пятьдесят, – говорил кто-нибудь.
– Нет-нет, триста! – возражал другой.
Этим разговор и ограничивался. Деревенские погружались в молчание, надеясь защититься от того, что надвигалось на них.
Приготовления к Новому году продолжались, но в меньшем масштабе. Прежний неумеренный восторг был сочтен опрометчивым. Наверное, они обидели какого-нибудь бога или духа предков, вот он и пугает их войной. Все же полностью подготовку к празднику сворачивать не стали – так и беду навлечь недолго, это все равно что к смерти готовиться. Приготовления шли полным ходом, но женщины, подметая кухню, перестали задорно бранить своих детей и хлопотали по дому со спокойной деловитостью. Дети, в свою очередь, отказались от шумных шалостей, не бегали по лужам и не заглядывали в мангровый лес. Ну а отцы семейств снова надели непроницаемые маски фаталистов.
Хотя воды загадочных островов продолжали одаривать рыбаков невиданным уловом, теперь жители кампонга упорно отвергали излишества. Обильные рыбные блюда ушли в прошлое. Все вернулись к обычной тушеной, соленой и сушеной рыбе, пышные трапезы допускались раз в месяц, чтобы принести жертву богам. Ощущение радости казалось приглушенным, люди будто затаили дыхание.
Ближе к Новому году бомбы стали падать все чаще, кучнее. До кампонга дошла весть, что как-то ночью погибла почти тысяча горожан. Жители кампонга удвоили порцию жертвенной курятины и рыбы, несколько раз в день жгли молитвенные палочки, ходили в большой храм, расположенный на севере, возле кампонгов, где разводят свиней, потому что выбираться в город стало небезопасно.
Некоторые засомневались, что им следует продолжать ходить на промысел к островам. В конце концов, они и так уже давно подозревали, что подобная удача просто так не бывает, за все приходится платить. Вдруг они позволили себе чересчур много и разозлили какого-то злобного духа? С каждым днем число рыбаков, отправлявшихся вслед за Па и А Боонем, убывало.
Сингапур привычно считался крепостью. Ан мо называли его “Гибралтаром Востока”, и, даже несмотря на то что японцы уже шли сквозь малайские джунгли, никто всерьез не думал, что война не ограничится лишь дефицитом продуктов и воздушными налетами.
Однако за две недели до Нового года в кампонг пришла весть, что дамба, соединявшая Сингапур с полуостровом Малакка, взорвана. Сделали это не японцы, а ан мо – те самые ан мо, что твердили, будто врагу не преодолеть естественных препятствий в виде джунглей и моря. А сейчас они сами взорвали дамбу. Неужто японцы так близко? В газетах печатали фотографии: разрушенные кампонги, в грязи валяются пронзенные штыками тела жителей. И до местных дошло, что от этих разрушенных домов и растерзанных людей их отделяет лишь узенький пролив. Пролив, через который можно перебраться по дамбе.
Кое-кто, например Ма и Сор Хун, заявляли, что выводы делать рано. Дамбу взорвали из предосторожности – ведь так говорят. Это вовсе не значит, что японцы наступают, однако уж лучше перестраховаться, чем потом рвать на себе волосы, – и с этим не поспоришь. Другие, например А Тун, стали запасаться рисом, консервами и свечами. Па своего мнения не высказывал, но однажды притащил домой два огромных ящика, набитых банками мясного рулета с овощами.
– Не на кухню, – сказал Па, когда Ма стала было доставать банки.
Мальчики пошли вместе с Па за дом и помогли выкопать яму. Когда они с перепачканными землей руками вернулись на кухню, Ма стояла на прежнем месте и взволнованно теребила кожу на локтях.
– Не втягивай в это мальчиков, – сказала она, – нечего их пугать всякими глупостями.
Но с каждым днем это все меньше напоминало глупости. Местные заходили в лавочку, даже когда им не требовались продукты, чтобы просто расспросить Суи Хона о новостях. Он как-то пошутил, что пора бы ему ввести сбор за услуги, и остальные поняли намек. Вскоре у них вошло в обыкновение приносить лавочнику гостинцы – паровые пирожки или креветочную пасту. Суи Хон любезно благодарил дарителей и лишь потом пересказывал последние новости.
Вскоре после того, как Па принес домой консервы, учитель Чи А исчез, а школу закрыли. Теперь А Бооню ничего не оставалось, кроме как сидеть дома вместе с родными, маясь от беспокойства и дожидаясь очередного несчастья.
Когда японцы переправились через северные проливы и начали наступление с севера и запада, Па принес домой еще один ящик, на этот раз с крекерами и спичками, и тяжелый мешок риса. Ма больше не возражала, лишь сказала, что рис, перед тем как закапывать, надо завернуть в старый брезент, иначе в нем заведутся долгоносики.
Новости приходили противоречивые, сбивающие с толку. Ан мо имеют преимущество в воздухе, взлетно-посадочные полосы разрушены. Японцы в двадцати милях, они сгруппировались на северном побережье. Ан мо подожгли мангровый лес. Линия обороны отодвинута назад. Японцы испытывают недостаток горючего и боеприпасов. Как бы там ни было, японские танки уже катились по западным регионам острова. Военно-морские базы подвергались бомбардировкам, облака густого черного дыма видно было даже из кампонга, за двадцать миль. Взрывы были делом рук ан мо – те боялись, что базы перейдут в руки японцев. Такой исход событий представлялся вполне возможным. Дула орудий были развернуты не туда. Хотя нет, орудия смотрели в правильном направлении, вот только это были не те орудия. Впрочем, значения это не имело.











