Читать онлайн Пространственное воплощение культуры. Этнография пространства и места
- Автор: Сета Лоу
- Жанр: Культурология, Научно-популярная литература
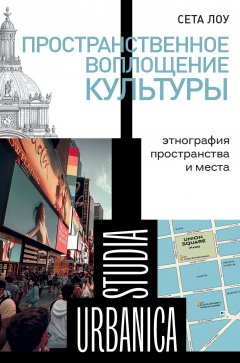
STUDIA URBANICA
СЕТА ЛОУ
ПРОСТРАНСТВЕННОЕ ВОПЛОЩЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
Этнография пространства и места
Новое литературное обозрение
Москва
2024
SETHA LOW
SPATIALIZING CULTURE
The Ethnography of Space and Place
Routledge
London & New York
2017
УДК 930.85:39
ББК 71.082
Л81
Редактор серии О. Паченков
Перевод с английского Н. Проценко
Сета Лоу
Пространственное воплощение культуры: Этнография пространства и места / Сета Лоу. – М.: Новое литературное обозрение, 2024. – (Серия STUDIA URBANICA).
Как социальные и культурные процессы отражаются в городских пространствах? И что об этом может рассказать этнография? Опираясь на более чем двадцатилетний опыт полевых исследований, антрополог Сета Лоу показывает, как основанный на этнографическом подходе пространственный анализ способен пролить свет на повседневную жизнь людей, в чьи дома и места проживания вторгаются глобализация, неравномерное пространственное развитие (uneven development), насилие и социальное неравенство. Лоу разрабатывает понятие «пространственного воплощения культуры», включающее в себя одновременно несколько концептуальных рамок: от социального производства и социального конструирования пространства до анализа телесности, дискурса, эмоций, аффектов и транслокальности. В сочетании этих подходов автор видит способ по-новому взглянуть на взаимодействие человека с окружающей средой в городском планировании и архитектуре. Задача, которую ее концепция помогает решить, – предложить специалистам новые методы для создания социально чувствительной и экологически устойчивой городской среды.
Сета Лоу – профессор антропологии, наук о Земле и окружающей среде (географии), психологии среды и женских исследований в Аспирантском центре Городского университета Нью-Йорка (CUNY Graduate Center).
В оформлении обложки использована фотография Roberto Lee Cortes on Pexels.com
ISBN 978-5-4448-2374-3
© 2017 Setha Low
Authorised translation from the English language edition published by Routledge, a member of the Taylor & Francis Group
© Н. Проценко, перевод с английского, 2024
© Д. Черногаев, дизайн обложки, 2024
© ООО «Новое литературное обозрение», 2024
Ради будущего – Александеру, Максу и Скай
Благодарности
Эта книга начиналась с серии бесед с Долорес Хейден, Салли Мерри, а позднее и Нилом Смитом, вызванных их проницательными вопросами о полевых методах, разновидностях данных и построении теории для изучения пространства и места. Важные наблюдения на эту тему представили Дебора Пеллоу, Теодор Бестор, Мэтью Купер, Роберт Ротенберг и Маргарет Родмен как в своих публикациях, так и во время встреч за обеденным столом на ежегодных собраниях Американской антропологической ассоциации. Непосредственное участие в работе над книгой принимала Дениз Лоуренс-Суньига, поделившаяся материалами, которые мы обсуждали и над которыми совместно работали. В процессе написания книги на помощь в прочтении отдельных глав и внесении предложений и замечаний с конструктивной критикой пришли Джефф Масковски, Ида Сассер, Гейли Моуден, Кристин Монро, Ребио Диас, Бабетта Одан, Клэр Панетта, Эва Тешса Удвархейи, Весна Вучинич, Чихсинь Чиу, Асил Савалха, Джессика Уайнгар, Фарха Ганнам, Сара Хэнкинс, Сандра Уэйл, Стефан Тоннела, Сьюзан Шелд и Вейва Аглинскас. Я глубоко признательна всем перечисленным коллегам за интеллектуальную, эмоциональную и содержательную поддержку этого проекта.
В процессе совместного с Лори Олин, а затем и Робертом Ханна преподавания ландшафтной архитектуры и участия в работе градостроительных студий в Университете Пенсильвании я выяснила, что ключевыми компонентами в воображении и создании пространств и мест являются обследование территории, построение схем дорожного движения, формирование программ коллективных мероприятий и эскизное проектирование. В работе планировочных студий, лабораторий по дизайну среды, а также в консалтинговых проектах по дизайну мои коллеги способствовали применению этнографических методов, позволявших добиваться лучшего понимания не только собственно архитектурного, но и социального и культурного аспектов при создании мест; таких мест, которые способствуют раскрытию человеческого потенциала, а не потворствуют неравенству. Значимость этнографических интерпретаций при разработке программ по созданию мест не так давно подчеркивали мои коллеги в Институте Прэтта Рон Шиффмен и Дэвид Бёрни. Хотелось бы поблагодарить этих целеустремленных исследователей за возможность изучить то, как этнографические методы способны играть важную роль в анализе и проектировании искусственной (антропогенной) среды (built environment)1.
Этнографические примеры, представленные в книге, не состоялись бы без финансирования и командной работы с участием многих специалистов. В особенности хотелось бы поблагодарить за поддержку Службу национальных парков США и отдельно Дорис Фанелли (Национальный исторический парк Независимости), Ричарда Уэллса (Эллис-Айленд), Уильяма Гарретта (парк Якоба Рииса), покинувшего нас Мюриеэла Креспи, бывшего директора Программы по прикладной антропологии Службы национальных парков (Вашингтон, округ Колумбия), а также Ребекку Джозеф и Чака Смита, бывших региональных директоров этнографической программы по Восточному побережью США. Кроме того, благодарю за содействие Аспирантский центр Городского университета Нью-Йорка и Центр экологии человека. Реализовать все эти исследовательские проекты было бы гораздо сложнее без воодушевления Сьюзен Сэгерт и профессионализма Джареда Бекера.
Финансовую поддержку моим этнографическим полевым исследованиям оказывали различные фонды и грантовые организации. Исследование истории и этнографии пласы в столице Коста-Рики Сан-Хосе (см. главу 3) [Low 2000 / Лоу 2016] было выполнено на средства исследовательского гранта Фонда антропологических исследований Уэннер-Грена, средства Национального фонда стипендиального целевого капитала в гуманитарной сфере, исследовательской стипендии Фулбрайта и стипендии Мемориального фонда Джона Саймона Гуггенхайма. Исследование закрытых жилых комплексов в США (gated communities, см. главу 7) профинансировали Фонд антропологических исследований Уэннер-Грена и Исследовательский фонд Городского университета Нью-Йорка. Исследование рынка на Мур-стрит (см. главу 8) было проведено в рамках одной из инициатив Проекта по развитию общественных пространств Нью-Йорка. Фонд Расселла Сейджа профинансировал пилотное исследование изменений в районе Бэттери-Парк-сити после событий 11 сентября (см. главу 7), а Канадский исследовательский совет по социальным и гуманитарным наукам предоставил средства на проект по жилищным кондоминиумам (см. главу 6), выступивший источником компаративных данных для исследования Рэнди Липперта в Торонто. Я признательна всем фондам, благодаря которым стали возможны эти проекты, а также Университету Пенсильвании и Аспирантскому центру Городского университета Нью-Йорка за оплачиваемые академические отпуска, позволившие мне завершить полевые исследования и описать полученные результаты.
В сборе данных для проектов Службы национальных парков участвовали многие магистранты Аспирантского центра Городского университета Нью-Йорка – многие из них уже сами стали профессорами. В этом списке отдельно хотелось бы отметить таких людей, как Сьюзанн Шелд, Дана Тейплин, Трейси Фишер, Ларисса Хани, Чарльз Прайс, Беа Видач, Мэрилин Диггс-Томпсон, Эйна Апарисио, Реймонд Кодрингтон, Карлотта Паскуали, Кармен Видаль, Кейт Брауэр и Нэнси Шварц. Многие этнографические проекты были реализованы командами, входящими в Группу по изучению общественных пространств. В проекте в Бэттери-Парк-сити участвовали Майк Лэмб и Дана Тейплин, с которыми я продолжаю сотрудничать. Елена Данайла, Эндрю Кирби, Линмари Бенитес и Мариана Диас-Виончек – участники исследования закрытых жилых комплексов – на тот момент были магистрантами, записавшими множество интервью в Нью-Йорке. Грегори Донован, Джен Джизкинг, Джессика Миллер, Оуэн Тоуз и Хиллари Колдуэлл были участниками двух групп по исследованию жилищных кооперативов (см. главу 6), а Дженнифер Ориц, Хелен Панагиотопулос и Шелли Бачбайндер были задействованы в проекте по кондоминиумам. Я признательна всем этим молодым ученым, которые привнесли в исследовательский процесс положительные эмоции и интеллектуальный напор. Благодаря их идеям, энтузиазму и упорству работа шла вперед даже в те моменты, когда мы сталкивались со сложностями и задержками, и без всех, кого я упомянула, ее бы не удалось завершить.
Кроме того, я хотела бы поблагодарить за предоставленные фотоматериалы Петара Декича (фотографии променада (корсо) из города Смедеревска-Паланки в Сербии), Грегори Донована (фотография Юнион-сквер в Нью-Йорке), Бабетту Одан (фотографии рынка на Мур-стрит в Нью-Йорке), Джессику Миллер (фотографии большого кооперативного дома в Нью-Йорке) и Джоэла Лефковица, сделавшего много разных снимков, которые использованы в книге. Служба национальных парков, Бри Кресслер, Чихсинь Чиу, Клэр Панетта и Дин Шарп участвовали в подготовке материалов для схем, которые затем обрабатывала и верстала Эрин Лилли, архитектор и магистрантка, являющаяся ассистентом в моих исследованиях. Превосходная работа Эрин над визуальными материалами, иллюстрирующими каждую главу книги, заслуживает высокой оценки.
Для того чтобы книга содержала больше этнографических примеров, многие коллеги разрешили мне подробно цитировать их работы. Среди тех, кого хотелось бы за это поблагодарить, назову таких исследователей, как Чихсинь Чиу, разрешивший использовать его работу о рынке Шилинь в Тайбэе, Бабетта Одан, Родриго Корхадо, Аманда Матлес и Бри Кресслер (полевые материалы по рынку на Мур-стрит), Дорис Фанелли, Дана Тейплин, Сьюзанн Шелд и Трейси Фишер (полевые материалы и публикации по Национальному историческому парку Независимости), Джессика Уайнгар и Фарха Ганнам (работы, посвященные протестам на площади Тахрир в Каире), Асил Савалха (работы о столице Ливана Бейруте), Сара Хэнкинс (работы о новом главном автовокзале столицы Израиля Тель-Авива) и Габриелла Моуден (публикации и гипотезы о ее жилищном кооперативе в Маунт-Плезанте, Вашингтон, округ Колумбия). Все эти авторы любезно откликнулись на просьбу прочесть те фрагменты книги, где упоминались их работы, и если после этого остались какие-то неточности, то они целиком на совести автора.
На всем протяжении работы над книгой и ее выпуска в печать меня воодушевляла редактор издательства Routledge Кэтрин Онг, находившая блестящих рецензентов, которые помогли сделать текст более качественным. Хотелось бы поблагодарить и эффективного и внимательного помощника редактора Лолу Карр. Когда Кэтрин была в отъезде, за помощь и советы в работе над книгой отвечала ее заместитель Луиза Вахтрик. Руководителю издательского проекта Отэм Сполдинг при помощи выпускающего редактора Рут Берри удалось качественно и своевременно отправить книгу в печать.
Наконец, я хотела бы поблагодарить своего спутника жизни Джоэла Лефковица за любовь и поддержку на всем протяжении моих исследований и написания книги. Это был долгий путь, и Джоэл внес принципиальный вклад в завершение работы и как читатель черновиков, и как редактор, и как человек, который вдохновлял меня двигаться дальше. Он не только ученый, но и профессиональный фотограф; он сопровождал меня во время полевых исследований и сделал много снимков, которые представлены в этой работе. Его вера в значимость моей книги и готовность на все что угодно – от приготовления еды до сканирования, отправки факсов и поиска потерянных ссылок на источники, лишь бы работа была завершена, – имели решающее значение. Я признательна Джоэлу за его юмор и здравый смысл.
1. Введение. Значение этнографии пространства и места и подходы к ней
Предварительные замечания
Этнографическое изучение пространств и мест имеет принципиальное значение для понимания повседневной жизни людей, в чьи дома и места проживания вторгаются глобализация, неравномерное пространственное развитие (uneven development)2, насилие и социальное неравенство. Эти процессы подталкивают, а во многих случаях и заставляют людей покидать те сообщества и районы, где они выросли, и искать новые места обитания, которые были бы наполнены смыслом и имели потенциал для создания новых идентичностей. Необходимо признать, что критический уровень бедности, неолиберальные структурные реформы и глобальный капитализм порождают такие пространственные эффекты, как миграции вдоль оси «север – юг»3, возникновение лагерей беженцев, джентрификация, приватизация общественных пространств, ориентированные на извлечение прибыли городское планирование и редевелопмент. Под воздействием конкурирующих притязаний на пространства и отдельные места, а также проистекающих из них территориальных и культурных конфликтов происходит трансформация социальных отношений между этническими и религиозными группами, классами, регионами, государствами и жилыми районами. Такие глобальные проблемы, как антропогенные катастрофы, гражданские войны, террористические атаки, изменения климата и прочие экологические бедствия, невозможно отделить от материальных, символических и идеологических аспектов пространства и места.
Кроме того, растущий интерес к этнографии пространства и места проистекает из исследований в таких сферах, как науки об окружающей среде (environmental studies), геоинформационные системы (GIS), городские исследования, мир-системный анализ, изучение миграции, технологии строительства/проектирования, и в других областях, связанных с концепциями пространства, места и территории. Можно привести даже пример из области медицины, где внимание к значимости пространства и места привлекли результаты исследований трех ученых, которые в 2014 году были удостоены Нобелевской премии по физиологии и медицине за изучение «внутренней GPS [системы глобального позиционирования]» мозга, позволяющей ориентироваться в окружающем пространстве не только лабораторным крысам, но и человеку. Еще в 1971 году профессор Джон О’Киф обнаружил структуры, названные им клетками (нейронами) места, и «продемонстрировал, что эти клетки фиксировали не только видимое, но и незримое для них, выстраивая внутренние карты в различных средах» (Altman 2014). В 2005 году профессора Эдвард и Мэй-Бритт Мозер выявили еще один компонент присутствующей в мозге системы позиционирования, открыв нервные клетки, которые отвечают за координацию и ориентацию, – они получили название клеток (нейронов) решетки (Altman 2014). В этих исследованиях постулируется биологическая основа ориентации в пространстве и делается более существенный акцент на человеческом опыте пространства и места. Даже в области архитектуры, где застройка и пространственные отношения зачастую предопределяются формальными принципами проектирования, не связанными с опытом и предпочтениями людей, состоялось возрождение представлений о пространстве с точки зрения культуры. О внимании же к категории места (place) свидетельствует появление в архитектурных и дизайнерских вузах курсов и программ по «созданию мест» (place-making) (Weir 2013).
Все более уверенным становится и понимание значимости этнографии в качестве методологии для решения социально-пространственных проблем и публичной политики. Среди представителей социальных наук уже звучали призывы к более ангажированной этнографической практике и приверженности целям социальной справедливости (Low 2011, Low and Merry 2010), к созданию публичной антропологии, нацеленной на выявление расовых предрассудков и расизма (Mullings 2015), и публичной социологии, выходящей за рамки традиционных количественных прикладных исследований (Burawoy 2005 / Буравой 2008). Как утверждает Дидье Фассен, «этнографический подход особенно актуален для малоисследованных сегментов общества», поскольку он «проливает свет на неизвестное», одновременно «подвергая допросу очевидное» (Fassin 2013: 642). Этнографические исследования получают признание даже в рамках международной системы правосудия благодаря их применению для мониторинга нарушений прав человека и фиксации нарастающего во всем мире ощущения небезопасности (Goldstein 2012, Merry et al. 2015). Способность этнографии давать точные описания и проводить исследования, учитывающие разные точки зрения, обеспечивает гибкость и нестандартность подхода к сложностям сегодняшних социальных отношений и культурных контекстов. Этнография пространства и места в качестве подраздела этого методологического комплекса обладает не только всеми перечисленными особенностями, но и потенциалом для интеграции материальности и смыслов человеческих действий и практик в локальном, транслокальном и глобальном масштабах.











