Читать онлайн Странные дела к югу от города
- Автор: Линь Хайинь
- Жанр: Литература 20 века, Зарубежная классика, Историческая литература, Современная зарубежная литература
Размер шрифта: 15
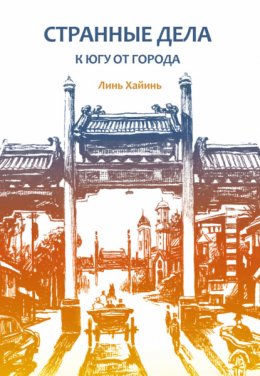
Об авторе
Продолжить чтение
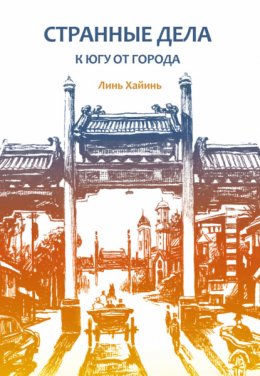
Об авторе