Читать онлайн Кроме шуток
- Автор: Сара Нович
- Жанр: Young adult, Современная зарубежная литература
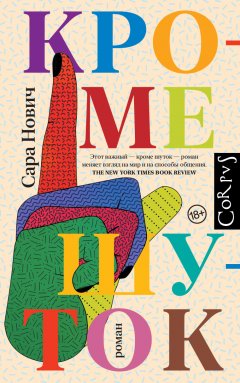
Те, кто, как и я, полагает формирование неполноценной человеческой расы страшным бедствием для всего мира, тщательно изучат причины, приводящие к бракам между глухими, с тем чтобы исправить положение дел.
Александр Грэм Белл, 1883 г.
Производитель удивительных медицинских приборов под названием кохлеарные импланты, которые возвращают глухим слух, годами продавал детям и взрослым неисправные устройства – даже после того, как выяснилось, что значительная их часть не справилась со своей задачей.
“Эн-би-си ньюс”,14 марта 2014 г.
© Sara Noviс´, 2022
All rights reserved
© Tree Abraham, cover illustration
© Illustrations by Brittany Castle
© А. Гайденко, перевод на русский язык, 2024
© А. Бондаренко, художественное оформление, макет, 2024
© ООО “Издательство Аст”, 2024
Издательство CORPUS ®
Фебруари Уотерс было девять, когда она – посреди урока математики, на глазах у всех – воткнула себе в ухо “тикондерогу” номер два. Учительница писала мелом на доске таблицу умножения на двенадцать, поэтому у Фебруари появилась возможность заточить карандаш, скрежет которого привлек внимание витавших в облаках детей, и их взгляды устремились на нее, пока она шла через весь класс к учительскому столу. Фебруари неловко влезла на вращающееся кресло с тканевой обивкой, потом взобралась на стол, расставив ноги пошире, и всадила карандаш глубоко в левое ухо.
Класс дружно ахнул, и это вывело завороженную доской учительницу из задумчивости. Она сняла Фебруари со стола – кровь шла сильнее, чем учительница ожидала – и взвалила ее себе на плечо; всю дорогу до медицинского кабинета за ними тянулся тонкий алый след.
Вытащив грифель и определив, что рана поверхностная, медсестра остановила кровотечение и отвела Фебруари через холл в кабинет директора, где секретарша подготовила приказ об отстранении от занятий за “агрессивное и буйное поведение, неподобающее ученику”. Потом, едва только было решено, как именно связаться с родителями Фебруари, ее отправили домой на неделю.
Одноклассники Фебруари, оставшиеся в кабинете 4‐Б, провозгласили ее героиней, собственной кровью купившей им двадцать пять минут безнадзорного блаженства. Администрация школы, напротив, сочла этот инцидент криком о помощи, учитывая “семейные обстоятельства” Фебруари, как их называл директор. На самом деле, объяснила Фебруари отцу, когда он приехал за ней, она совсем не злилась, а просто устала слушать таблицу умножения, жужжание лампочки в разбитом плафоне над партой и скрежет металлических стульев по полу. Он не знает, каково это – постоянно что‐то слышать, сказала она. И с этим он поспорить не мог.
Окончательно Фебруари сорвалась, когда Дэнни Браун, сидящий у нее за спиной, прокричал нараспев: “Февралька-вралька, желтый снег пожуй давай‐ка!” Только глухие люди могли назвать свою дочь Фебруари, подумала она тогда. Названия некоторых месяцев были вполне приемлемы в качестве имен для девочек – Эйприл, Мэй, Джун, – а ее родители явно что‐то недопоняли в этой традиции. С другой стороны, они всегда предпочитали зиму, безмолвное великолепие снега, укутывающего чинкапинские дубы, а красоту в кругу глухих, где росла Фебруари, было принято ценить. Друзей ее родителей безвкусица не смущала, и Фебруари никогда не замечала, чтобы кто‐нибудь из них иронизировал над ее именем. Ей не хотелось уходить из этого круга и уж тем более менять его на такую враждебную среду, как четвертый класс.
Ты можешь считать себя частью мира глухих, – сказала тем вечером мама, подтыкая ей одеяло. – Но никогда больше так не делай.
Конечно, теперь все по‐другому, думает Фебруари, глядя на двор школы для глухих Ривер-Вэлли и щурясь от утреннего солнца. Интернет открыл для глухих людей целый мир, и их культура обогатилась, вобрав в себя множество популярных шуточек и сленговых слов. Да и какие только имена не дают своим детям слышащие люди – названия фруктов, животных, сторон света.
Мир глухих больше не убежище для нее, а место работы, и сейчас она здорово влипла. Как директор школы она должна держать руку на пульсе. А она совершила худший из возможных поступков – потеряла чужих детей. Двух мальчиков, Остина Уоркмана и Элиота Куинна, учеников десятого и одиннадцатого классов, соседей по комнате.
Перед Клерк-холлом полиция припарковала фургон с мобильной системой наблюдения, с помощью которой они получают доступ к камерам Министерства внутренней безопасности в Цинциннати и Колумбусе. Они пытаются определить местоположение мальчиков по GPS, но это только возвращает их в общежитие, где под столом в комнате отдыха обнаруживаются три сложенных аккуратной стопкой телефона. Наличие третьего телефона приводит к еще одному кругу проверки комнат, но все ученики на месте. Приезжают родители Элиота и Остина и кричат на смеси языков на Фебруари, на полицейских, друг на друга. Приезжает Суолл, начальник окружного управления образования, и тоже кричит, требуя у Фебруари ключи от ее кабинета, чтобы он мог войти туда и написать обращение. На все мобильные номера в ближайших окрестностях будет разослано оповещение. А Фебруари придется выступить в утренних новостях.
Она сбегает в туалет для младших классов, закалывает волосы и красит губы перед низенькой раковиной. Переживает, нормально ли выглядит эта рубашка, и тут же упрекает себя за то, что думает об одежде в такой момент.
Она возвращается во двор и останавливается около полицейского фургона. Уже видно, что для месяца, в честь которого ее назвали, день будет не по сезону теплым – снега нет, в каплях росы на траве отражается солнце. Красивый и ухоженный газон засеян иглтонским мятликом, который уже зазеленел, хотя весна еще не наступила, – этот выносливый сорт она выбирала сама, потому что он отлично подойдет для пикников и игры в “разрывные цепи”. Она всегда прилагала все усилия, чтобы ученикам здесь жилось как можно лучше.
Фебруари пытается собраться с духом перед выступлением, подыскать слова, которые могли бы утихомирить истерику или, по крайней мере, не подливали бы масла в огонь. “Потерялись” – это неправильно, не стоит так говорить: она их не теряла. Скорее уж они сбежали, хотя в таком случае школа будет ассоциироваться с тюрьмой. Слово “беглецы” заряжено тревожными смыслами, намекает на жестокое обращение. В конце концов она останавливается на “пропали” – пассивном варианте, позволяющем ни на кого не возлагать ответственность.
Появляется Суолл и вручает Фебруари обращение, школьные фотографии Элиота и Остина размером восемь на десять дюймов и большую кружку. Глотая кофе, она разглядывает фотографии – оба мальчика одеты в рубашки, выглядят опрятно и смотрят доброжелательно, хотя и не то чтобы улыбаются. Глаза у Остина знаменитого зеленого цвета Уоркманов, светлого, почти мятного оттенка. У Элиота – такие темные, что кажутся практически черными, и она пытается не отводить от них взгляда, чтобы не видеть шрамы на его щеке. На мгновение ее охватывает чувство, что мальчики смотрят на нее в ответ, и она часто моргает, чтобы отогнать эту мысль. Потом она отдает кружку Суоллу и поднимается на импровизированную трибуну.
Когда их выводят в прямой эфир, Фебруари показывает фотографии и откладывает их, чтобы одновременно вслух и жестами кратко описать приметы каждого мальчика, а потом переходит к обращению начальника управления образования: Школа для глухих Ривер-Вэлли круглосуточно сотрудничает с шерифом округа Колсон и делает все возможное, чтобы вернуть своих учеников в целости и сохранности как можно быстрее. Если вы увидите этих детей, пожалуйста, позвоните по номеру на экране. Когда она произносит последнюю фразу, в кармане у нее вибрирует телефон. Отвлекшись, она выдерживает паузу чуть дольше, чем стоило бы. Репортеры обрушивают на нее шквал вопросов, в основном неразборчивых, за исключением вопроса от стоящего ближе всех к ней человека:
Не беспокоит ли вас судьба мальчиков, учитывая их особенность?
Фебруари ощетинивается. Она знает, что сейчас не время рисоваться, но надо что‐то сказать.
Да, меня беспокоит судьба моих учеников, – говорит она. – Как беспокоила бы судьба любого пропавшего подростка.
Но если они не слышат…
По уровню интеллекта они ничем не уступают своим слышащим сверстникам.
У них есть импланты?
Фебруари ошеломлена тем, как беззастенчиво он требует от нее ответа, но старается этого не показывать.
Я не уполномочена разглашать информацию о здоровье несовершеннолетних по телевидению, сэр, – говорит она.
Репортер краснеет, но еще не готов лишиться внимания публики:
Есть какие‐нибудь свидетельства преступления? Ожидаете ли вы уголовного преследования?
Он прижимает микрофон к ее подбородку и бросает на нее сочувственный взгляд, в котором сквозит фальшь.
Прошу прощения, я должна поговорить с полицией, – отвечает она.
Она отходит от трибуны, но лицо репортера так и стоит у нее перед глазами. Он прав – Элиот и Остин подвергаются большей опасности, чем если бы были слышащими, хотя и не в том смысле, который он имел в виду. Что, если патрульный увидит их и окликнет, но они не остановятся? Что, если им действительно нужна помощь, но у них нет возможности позвонить в полицию? Что, если все кончится хорошо и они вернутся невредимыми, но органы опеки используют этот инцидент как повод усилить свое влияние в дебатах о кохлеарной имплантации? Она читала, что такое происходило в других штатах. Фебруари приходится прикусить губу, чтобы не поддаться панике, – она снова забегает вперед. Она проверяет телефон. Сообщение было от Мэл: ты как? Она не знает, что ответить. Засовывает телефон обратно в карман и, подняв глаза, видит еще одного родителя, отца Чарли Серрано, прислонившегося к полицейскому фургону.
Доктор Уотерс? – говорит он, и его голос оказывается гораздо тоньше, чем можно предположить по его фигуре.
Не сейчас! – хочется закричать ей. – Ваш случай отложим до другого раза.
Но она держит себя в руках и вместо этого говорит:
Мистер Серрано, у нас тут небольшая проблема. Кампус сегодня закрыт, так что пусть Чарли еще побудет дома.
Он бледнеет.
Вы хотите сказать, что ее здесь нет?
Нет, а… у вас все в порядке?
Просто, кажется, вчера вечером она ушла из дома, и она не с моей бывшей женой, так что я подумал, может быть…
Он обводит взглядом двор.
Мать твою, – бормочет она себе под нос. Три телефона.
Что? – говорит отец Чарли.
Он наваливается на машину всем телом, сжимает руки.
Я сейчас, – Фебруари указывает на опознавательные знаки полиции, наклеенные на кузов, – только введу их в курс дела.
Подождите…
Я быстро, правда, сэр, – говорит она. Потом обходит фургон, и ее выворачивает на переднее колесо только что выпитым кофе.
Шестью месяцами ранее
Летом перед тем, как Чарли пошла в деcятый класс, долгий бракоразводный процесс ее родителей подошел к концу, отец выиграл битву за право опеки и отдал ее в школу для глухих.
В августе в Колсоне, штат Огайо, было так душно и так много комаров, что погода стояла почти как в тропиках; все вспотели, пока шли от парковки до суда, и в атриуме отец снял пиджак, а мать промокнула лоб носовым платком c “турецкими огурцами”. В зале судья огласил свое решение, но Чарли слышала только шум промышленного вентилятора, стоявшего на подоконнике рядом с ними. Он выдувал прядки из ее хвоста, и в конце концов она оставила попытки пригладить их и занялась подсчетом панелей в деревянной обшивке стен.
Когда судья закончил, ей потребовались все силы, чтобы не закричать: НУ И ЧТО ТАМ? Но она просто вышла за родителями на улицу, где оказалось, что спрашивать не нужно. Глаза и матери, и отца блестели от слез, но отец улыбался.
Обе их команды дорогих адвокатов шли нос к носу, и в конце концов Чарли решила, что именно паршивая успеваемость – еще один семестр, который она закончила только благодаря тому, что никого не оставляли на второй год, – больше всего повлияла на вердикт судьи. За ней числилось и много дисциплинарных нарушений еще с начальной школы, хотя на бумаге проблемы выглядели давно решенными. В реальности это было не совсем так, но большинство взрослых мало интересовались реальным миром, за исключением тех случаев, когда угрожали подросткам предстоящим изгнанием в него. Что бы ни подтолкнуло судью к его решению, Чарли просто радовалась, что свалит из своей прежней школы. В Джефферсоне малейшая оплошность могла привести к тому, что над человеком издевались годами. Насколько она поняла, одного мальчика до сих пор дразнили за роковой пук на физкультуре в шестом классе, так что, сколько ни представляй себе, что могло ждать глухую-но-не-немую девочку-киборга, на самом деле все было еще хуже. Девочкам всегда хуже.
Теперь все будет по‐другому, – сказал отец, когда они возвращались в его квартиру.
Конечно, решение суда сопровождалось оговорками. Чарли все равно придется носить имплант во время занятий, даже несмотря на то, что от него болит голова, даже несмотря на то, что именно его бесполезность стала одной из причин развода ее родителей, хотя они никогда бы в этом не признались. “Никто не виноват” было у них в семье мантрой. Но никто в это не верил.
Когда Чарли была маленькой, ее отец однажды прослушал на Ютубе серию симуляций слухового восприятия после кохлеарной имплантации. Чарли стояла рядом, пока он смотрел одно видео за другим, но звук из динамиков был неразборчивым.
Это ужасно, – сказал он. – Как в “Изгоняющем дьявола”.
Ей не страшно, – сказала ее мать. – Она не знает, как оно должно звучать.
В какой‐то степени она была права. Куда страшнее для Чарли оказалось то, что мать говорила о ней так, будто ее вообще не было.
Мать Чарли была консультантом на конкурсах красоты и музыкантом, но никогда не испытывала тех же чувств, что и герой “Опуса мистера Холланда”, хотя, если бы и испытывала, легче не стало бы. Отец Чарли, программист, регулярно имел дело с новейшими разработками, и, видимо, как раз по этой причине ему было легче смириться с их недостатками. Он рос с глухим двоюродным братом Антонио, которому, как думала Чарли, повезло родиться в семидесятых годах в семье, работающей на ферме. Родители Антонио недавно переехали в США и сами пока не очень хорошо знали английский, поэтому их не терзал страх, что он не сдаст экзамен или что двуязычие может ему навредить. Его семья выучила некоторое количество слов на жестовом языке, которые он узнал в школе; он закончил учебу, получил специальность паяльщика или что‐то в этом роде и превзошел родителей, даром что они были слышащие, в лучших традициях американской мечты.
Чарли гадала, обращались ли ее родители к Антонио, когда узнали, что она глухая, спрашивали ли, что он думает об имплантах и специальном обучении, или же первые годы ее жизни прошли под безраздельной властью материнского страха. В любом случае возможность такого разговора давно осталась в прошлом – Антонио погиб в автокатастрофе, когда Чарли было четыре, и вспоминала о нем в основном только мать, да и то когда проклинала гены своего мужа. Других глухих людей Чарли не знала. Врач сказал, что она должна избегать общения с ними; ей нужно было стать на сто процентов зависимой от импланта, чтобы научиться слушать. Устройство могло только передавать звуки в мозг – оно не могло ни расшифровывать их, ни отделять важную информацию от простого шума. Тем не менее жестовый язык в их семье никогда даже не обсуждался – это был бы чит-код, костыль. Если бы она выучила жестовый язык и смогла говорить о своих потребностях и понимать других, что бы тогда мотивировало ее заниматься звучащим английским?
Многие эксперты утверждали, что лучший способ максимально раскрыть потенциал импланта – это практиковаться, и именно в обычной школе, среди слышащих людей, она будет практиковаться больше всего, пусть и по принципу “бросили в воду – выплывай как знаешь”. В сочетании с терапией это вооружило бы ее инструментами для анализа смысла, скрытого в звуке.
Чарли поставили имплант в три года – возраст не идеальный, но у нее оставалось достаточно времени для формирования новых нейронных связей. По всем стандартам операция прошла успешно, и, хотя никто никогда не говорил ей этого прямо, она понимала: выходит, она сама виновата, что никак не приспособится к импланту. Может, просто недостаточно старается.
Официально в школе ее проблема называлась “оральная дисфункция” (вот повеселились бы ее одноклассники, если бы узнали), и, насколько Чарли понимала, в общем и целом это означало, что когда она говорит, это звучит глупо. Но Чарли не была глупой. Ей просто пришлось всему учиться самостоятельно, причем в обстановке обычной средней школы, совсем не способствующей обучению: мебель бесконечно скрипит, ученики болтают, учителя изрыгают из себя материал, стоя спиной к классу и что‐то записывая на доске. Вообще‐то, думала она, тот факт, что она со своим робо-ухом понимает процентов шестьдесят, а при возможности читать по губам даже, пожалуй, и больше, уже впечатляет сам по себе. Но в школе шестьдесят процентов – это все еще D.
Ей очень хотелось избавиться от импланта, хотя она знала, что требование носить его было для ее матери своего рода утешительным призом, лучиком надежды на то, что в один прекрасный день Чарли проснется и начнет улавливать смысл в этих бесконечных помехах, которые он вдалбливает ей в голову. Но передача права опеки отцу, несомненно, стала для Чарли победой. Она поступит в Ривер-Вэлли, будет жить в общежитии, и они вдвоем будут ходить на занятия по жестовому языку, которые школа проводит после уроков. Может, все наконец изменится к лучшему.
Мать не стала обжаловать решение суда, и Чарли почувствовала облегчение, но в то же время немного расстроилась. В передачах по телевизору матери всегда боролись за своих детей; это был смысл их жизни и все такое. С другой стороны, все они уже очень устали от походов в суд.
Теперь Чарли складывала сумки, чтобы перевезти большую часть своих вещей в квартиру, где ее отец жил уже почти год, – новостройку на берегу реки с большими окнами и кухней-студией, типичную “холостяцкую берлогу”, которая – в качестве бонуса – еще и страшно бесила мать, любительницу стиля прованс. Уже оттуда еще часть вещей Чарли собиралась взять с собой в общежитие.
За две недели до начала семестра они с родителями пошли на встречу с директором ее новой школы. Директриса оказалась высокой, фигуристой женщиной с туго стянутыми на затылке черными волосами. Ее внешность показалась Чарли внушительной даже после того, как все сели и разница в росте между ними уменьшилась. Она говорила на жестовом и на звучащем языке одновременно, и ее руки двигались с грацией и скоростью человека гораздо более миниатюрного. Говорить на двух языках сразу – это не самая удобная стратегия, предупредила директриса, и после сегодняшнего Чарли вряд ли часто будет видеть такое в Ривер-Вэлли. Чарли отчаянно хотелось найти смысл в изгибах ее рук, но для этого требовалось отвести взгляд от ее губ, чего Чарли себе позволить не могла. Пока не могла.
Директриса вытащила из принтера несколько распечаток и ознакомила Чарли и родителей с учебным планом. Чарли пересдаст алгебру, и ее запишут на углубленный курс английского. Ходить к логопеду все равно придется.
Но как она будет изучать жестовый язык? – спросила мать.
Мы записались на курсы, – ответил отец.
Отлично, – сказала директриса. И снова посмотрела на Чарли. – _____ будет ключевым, – сказала она. – Как и с любым другим языком.
Что? – спросила Чарли.
Директриса достала из‐под груды бумаг блокнот.
ПОГРУЖЕНИЕ, – написала она.
Чарли пожала плечами.
Попасть в среду, – сказала директриса. – Жестовый язык придет, если приложить немного усилий.
Чарли прочла на лице матери сомнение – вполне резонное, учитывая ее успеваемость. И разве врачи не говорили то же самое про английский? Еще одно занятие, или еще один сеанс терапии, или посещение еще одного специалиста могут все изменить. Директриса, впрочем, тоже заметила этот скептицизм.
С жестовым языком все иначе, – сказала она. – Твое восприятие запрограммировано на визуальный язык.
Она улыбнулась, и Чарли понимала, что она пытается ее подбодрить, но слово “запрограммировано” напомнило ей о приеме у аудиолога. Чарли видела, как мать роется в сумочке в поисках гигиенической помады – сигнал, который, как она знала, означал, что дискуссия окончена.
С тобой все в порядке? – спросила директриса.
Сначала Чарли не поняла, почему она спрашивает, но потом осознала, что снова потирает шрам за ухом – место вживления импланта. В последнее время шрам побаливал; Чарли даже заставила мать осмотреть его, потому что не могла толком разглядеть его в зеркале сама. Но все выглядело нормально.
Имплант барахлит, – сказала мать с наигранной веселостью и пробормотала что‐то о предстоящем приеме у врача.
Уже лет двенадцать, – сказала Чарли, и директриса попыталась подавить улыбку.
После встречи с Серрано настроение у Фебруари испортилось. Девочка неглупая, это несомненно, но как понять, какой у нее уровень? В ее справке об успеваемости даже указано, что она завалила несколько предметов; в последнее время это редкость в общеобразовательных школах, где принято вытягивать трудных и плохо подготовленных учеников только для того, чтобы от них избавиться, и переводить их в следующий класс, чтобы результаты их выпускных экзаменов были головной болью других учителей.
Дисциплинарных проступков за Чарли числилось не так много. Фебруари даже удивилась, учитывая, сколько в этой девочке отчаяния, но хотя бы можно не волноваться за педагогический коллектив. Среди лингвистов существует теория, что способность мозга к изучению языка – языка как концепции, как способа мышления – ограничена. Ученые назвали период с рождения до пяти лет “критическим окном”: в это время ребенок должен свободно овладеть по крайней мере одним языком, любым, иначе ему грозят необратимые когнитивные нарушения. Как только окно закрывается, учиться становится трудно, если не невозможно – как думать или даже чувствовать без языка?
Теория “критического окна” так и осталась теорией – главным образом потому, что специалисты по этике сочли намеренное лишение детей языкового окружения слишком жестоким экспериментом. И тем не менее Фебруари наблюдала результаты таких опытов каждый день – в детях, чьи родители боялись, что жестовый язык станет для них клеймом, но клеймом в итоге стало его незнание. Эти дети никогда не представляли язык таким, какой он есть на самом деле, за дверью кабинета логопеда, живым и необузданным, никогда ни с кем не болтали на детской площадке или за обеденным столом.
Сообщество глухих зачастую обращало свою злость на импланты, хотя на самом деле специалисты призывали к языковой депривации задолго до того, как появилась эта технология. Для Фебруари привлекательность имплантов была очевидна, но ложная дихотомия, которую они порождали, представляла реальную опасность.
Не было никаких оснований считать, что вспомогательные технологии и жестовый язык исключают друг друга; некоторые из ее самых сильных учеников раз за разом доказывали, что, когда дело доходит до языка, чем больше ты знаешь, тем лучше. Часто, вступая в педагогические диспуты с коллегами из других школ, она объясняла это так: представьте, каково это – сказать родителю, что изучение французского помешает ребенку говорить по‐английски и создаст лишнюю нагрузку для мозга. Обычно люди фыркали в ответ, и Фебруари кивала. Это действительно звучало нелепо. И все же, хотя опасение, что билингвизм может навредить слышащим детям, воспринималось как ксенофобная чушь, хотя теперь было даже желательно, чтобы они знали два языка, медицина по‐прежнему продолжала порицать жестовый язык.
Может, это было не так уж и важно. Фебруари подозревала, что родители найдут причину отказаться от жестового языка независимо от того, предоставят им псевдонаучные доказательства его вреда или нет. Всему виной элементарный стыд, страх неудачи или перемен. За годы ее работы в Ривер-Вэлли туда поступило много детей, которые не могли поддержать разговор с собственными родными.
Ничего удивительного, что ученики, выросшие в таких условиях, часто имели взрывной характер. Для некоторых было уже настолько поздно, что даже АЖЯ[1] оказывался им не по силам, хотя трудно было сказать, что у них атрофировалось: языковые центры в мозгу или стремление к контакту с другими людьми.
Фебруари доводилось видеть куда более запущенные случаи, чем у Чарли. Язык у нее был. Ей просто пришлось приложить к этому слишком много усилий. Тем не менее, когда Фебруари заполняла документы о переводе, ей стало обидно за Чарли – все эти годы столько энергии тратилось на то, чтобы девочка получала видимость образования, а не на то, чтобы на самом деле чему‐то научиться.
В конце дня Фебруари побрела по жаре домой, в Новую резиденцию, как ее ласково называли сотрудники. Сейчас в школе круглосуточно жили только несколько дежурных по общежитию и охранники, но на рубеже XIX–XX веков, когда Ривер-Вэлли только начала свою работу, почти все преподаватели жили в кампусе вместе с учениками. Директор жил в квартире-студии над своим кабинетом – это длилось до тех пор, пока у директора Арбегаста и его жены не родились две пары близнецов одна за другой. После этого школа приобрела семь акров земли, прилегающей к кампусу, и в дальнем углу была построена Новая резиденция – домик в стиле крафтсман[2].
В семидесятые, когда Ривер-Вэлли настиг экономический кризис, бóльшую часть территории продали девелоперам, которые проложили от ворот две улицы и застроили их типовыми домами. Но Новая резиденция осталась в собственности школы, и ее строгую покатую крышу было хорошо видно из центральной части кампуса, даже несмотря на втиснувшиеся перед ней дома-ранчо. Фебруари любила этот старый коттедж и была благодарна за возможность жить в нескольких минутах ходьбы от работы: дорога домой позволяла ей проветрить голову. Иногда, правда, она только продолжала себя накручивать. Сегодня был именно такой день.
К тому времени, как она дошла до дома, ее раздражение достигло пика, хотя машина Мэл уже стояла на подъездной дорожке, и обычно эта картина ее радовала.
Как же это тоскливо, – сказала Фебруари, толкая боковую дверь. – Когда самая большая мечта некоторых людей – это чтоб их ребенок “выглядел нормально”.
Да ты прямо излучаешь позитив! – сказала Мэл.
Извини, просто…
…все плохо? У вас там всегда так, разве нет?
Фебруари бросила сумку на кухонный стул.
Ты сегодня рано, – сказала она.
Мэл сменила свой костюм на майку и спортивные шорты и, вооружившись прихваткой, помешивала в кастрюле картофельное пюре быстрого приготовления. Рядом со стопкой ее бумаг чудесным образом обнаружился цыпленок-гриль в пакете из “Крогера”.
А ты поздно, – сказала Мэл. – Особенно учитывая, что сейчас в школе нет детей.
Сегодня был один! – возразила Фебруари и огляделась. – Как мама?
Вроде сегодня хороший день, – сказала Мэл. – Она на крыльце.
Читает? О, это хорошо.
Состояние ее матери в последнее время было нестабильным – этого следовало ожидать, все врачи так говорили, – но Фебруари все равно привыкала с трудом. Да и можно ли привыкнуть к постоянным переменам? Все, что она могла сделать, – это черпать силы в хороших днях и стараться не слишком задумываться о том, сколько их осталось. Фебруари прижалась к спине Мэл, обхватив ее руками за талию.
Из-за тебя, – сказала Мэл, поворачиваясь, чтобы встретиться с губами Фебруари, – я буду вся потная. Иди переоденься, ужин готов.
Спасибо, что взяла его на себя. Я знаю, сегодня моя очередь.
Только ты можешь работать больше, чем юрист.
Ну слушай, мне же тоже нужно вести уроки. Я уже давно не составляла программу занятий. Но как ты приехала раньше меня?
Я вернулась, когда заседание кончилось. Подумала, что почитать показания могу и тут.
Ага! Так ты берешь работу на дом! – сказала Фебруари.
Как и ты, – сказала Мэл, постучав пальцем по виску Фебруари. – Иди переоденься.
Фебруари надела шорты и футболку, вышла на террасу и обнаружила, что ее мать устроилась на качелях и читает триллер в мягкой обложке, который Мэл купила в аэропорту. Она топнула ногой, чтобы привлечь мамино внимание. Та завернула уголок страницы, подняла голову и, возвращаясь из мира, куда книга увлекла ее, одарила Фебруари широкой улыбкой.
Хочешь есть?
Привет, милая. Как дела в школе? Все готово?
В процессе.
Как прошла встреча?
Да, когда она соображала, что к чему, то соображала прекрасно. Фебруари даже не помнила, что упомянула при ней семью Серрано, и теперь жалела об этом. Мама плохо разбиралась в кохлеарных имплантах, поскольку принадлежала к поколению, для которого слуховые аппараты выглядели как коробки, работавшие на транзисторах и крепившиеся к груди ремнями. Фебруари не хотела ее расстраивать – врачи утверждали, что важно поддерживать в доме спокойную, стабильную обстановку, – а рассказ о печальной участи еще одного глухого ребенка, которого лишили языка собственные родители, однозначно все испортил бы. Фебруари глубоко вздохнула.
Хорошо, – сказала она. – Девочка с трудом училась в обычной школе. Ничего удивительного.
Я уверена, вы быстро все исправите.
Исправим. Пойдем есть.
Фебруари помогла маме дойти до кухни и до самого конца ужина забрасывала их с Мэл бесконечными вопросами о книге, погоде, судебных делах – о чем угодно, лишь бы не рассказывать о том, как прошел день у нее. Наконец, когда они вымыли посуду, а мама ушла в свою комнату смотреть телевизор, Фебруари и Мэл сели на диван, положив каждая свои бумаги на колени и поставив между собой пакетик “Гриппос” со вкусом барбекю. Фебруари снова открыла папку с документами Серрано, провела ладонями по лицу.
Ну и что там? – спросила Мэл.
Да просто так бесит! У нее имплант, но он явно не прижился нормально, она всю жизнь мучается с пониманием устной речи, завалила в Джефферсоне чуть ли не все предметы, а ее мать, похоже, все равно больше переживает о том, как все это выглядит со стороны!
Потрясающий нарциссизм, – сказала Мэл.
Если мы в ближайшие три года ничего с этим не сделаем, то пиши пропало. Я должна открыть ее матери глаза.
Даже не рассчитывай, зай.
Ты же не думаешь, что…
Я знаю, что ни одна лекция в мире не заставит мать перестать хотеть, чтобы ее ребенок был таким же, как она сама. И никто еще ничего не добился с позиции “уж мне‐то лучше знать”.
Но…
Слушай, я понимаю, ты беспокоишься за этих детей. Но мать мыслит по‐другому.
Фебруари знала, что Мэл права. И хотя это не имело отношения к делу, такого рода вещи всегда ощущались болезненно, будто обнажая ее собственный вечный страх, что ее рождение лишило родителей какого‐то важнейшего опыта. Что, если они тоже хотели иметь такого же ребенка, как они сами? Она вздохнула, глядя на их фотографию на каминной полке.
Ой, даже не начинай, – сказала Мэл.
Эти переживания она считала по меньшей мере утомительными.
Я ничего не говорила.
Ты больше гордишься принадлежностью к сообществу глухих и лучше знаешь грамматику АЖЯ, чем половина твоих глухих сотрудников, и новенькая уже к вам зачислена, так что все у нее будет хорошо.
Мэл легонько поцеловала Фебруари, пошла на кухню и вернулась с парой салфеток, чтобы вытереть пальцы от жирных чипсов.
Ее родители в разводе, – сказала Фебруари, указывая на бумаги Мэл.
Ну естественно, – сказала Мэл.
На первое занятие по АЖЯ Чарли с отцом опоздали. Они в буквальном смысле недоглядели, не увидев ту часть письма, где говорилось, что во внеучебное время въезд открыт через боковые ворота, и без толку простояли пять минут у главных. Сначала отец высовывался из окна машины и жал на кнопку звонка. Потом взял телефон, чтобы перечитать письмо на электронной почте, и еще пять минут они ехали вдоль периметра кампуса в поисках боковых ворот, которые, конечно же, оказались не с той стороны, куда отец сначала свернул. Кованая железная ограда с острыми пиками в угасающем дневном свете имела зловещий вид, но трава во внутреннем дворе выглядела густой, а фасады из песчаника – знакомыми. Рыжевато-коричневый камень, который добывал в Восточном Огайо отец ее отца, встречался повсюду – из него были сделаны опоры подвесного моста Роблинга, здание суда, даже стены Джефферсона.
Правда, камнем сходство между ее старой школой и Ривер-Вэлли и ограничивалось, и то здесь он казался другим. В Джефферсоне он был холодным и неприветливым, а в Ривер-Вэлли – теплым, и даже следы времени на нем создавали впечатление скорее уюта, чем обветшалости. Раньше Чарли слышала о Ривер-Вэлли только плохое: здесь учились дети с низкой успеваемостью, и это была последняя надежда для тех, кто не справился с программой обычной школы. Но сейчас, в красноватом вечернем свете, все здесь выглядело почти волшебным, как будто это старинный замок. Чарли хотелось стоять и вбирать в себя пейзаж, любоваться тем, как солнце скрывается за большим зданием, где они встретились с директрисой, – как оно называется? Клерк-холл? Но с этим придется подождать. Ее отец держал перед собой мятую карту, которую дала им директриса, как будто это был магнит, способный притянуть их в нужную аудиторию, если дать ему такую возможность, и Чарли пришлось бежать трусцой, чтобы догнать его.
Наконец они добрались до Кэннон-холла и обнаружили, что, к счастью, дверь не заперта. Но внутри карта была бесполезна, и они заглядывали в один пустой кабинет за другим.
Ты ничего не слышишь?
Отец покачал головой. Нужный кабинет нашелся за последней дверью слева. Там уже сидели другие ученики – странное собрание взрослых, которые выглядели неуместно в школьном классе, причем некоторые явно с трудом умещались на стульях с откидными столиками. Хотя Чарли так и не смогла понять, где здесь учитель, ученики уже приступили к занятию, и их руки двигались с разной степенью уверенности. Было тихо.
Стулья были расставлены полукругом, чтобы все видели друг друга, – что имело смысл, но, оказавшись в этом полумесяце, Чарли почувствовала себя так, словно попала на сеанс групповой терапии. Вскоре пришел мужчина с небольшим брюшком и покрасневшим кончиком носа, чем‐то похожий на чисто выбритого Санту, и сразу же начал что‐то рассказывать, хотя Чарли узнавала только отдельные иконичные жесты: смотреть на часы, бежать, тяжело дышать, чашка, пролить на рубашку. Если учитель и был слышащим или владел речью, он ничем не выдавал ни того, ни другого.
Курс был рассчитан на начинающих, но ясно было, что Чарли сильно отстает от всех. Она знала дактильный алфавит, но только потому, что успела наскоро глянуть кое‐какие уроки в интернете перед занятием, хоть они и оказались менее полезными, чем она себе представляла. Алфавит был костылем, позволяющим прибегнуть к помощи английского, и Чарли наблюдала, как ее одногруппники опирались на него, с трудом воспроизводя цепочки слов по буквам. Но учитель никогда ничего не дактилировал, даже когда ученики смотрели на него полными ужаса глазами, как это сейчас делали Чарли и ее отец. Если большинство взглядов становились непонимающими, он возвращался к началу и разыгрывал искусную пантомиму того, что сказал: вот он садится в автобус, уступает место старику с тростью, остаток пути проводит стоя и изо всех сил вцепляется в поручень, когда автобус резко поворачивает. Напряжение в классе рассеивалось. Может быть, все‐таки получится, думала Чарли.
Учитель повернулся к доске и написал: Как вы?
Постучал мелом по “как” и сказал жестами:
Как.
Вращательное движение, как будто разбираешь что‐то на части, чтобы посмотреть, как оно устроено внутри.
Он постучал по “вы”.
Вы.
Тут несложно – показать на собеседника.
Он постучал по вопросительному знаку, потом показал на собственные приподнятые брови.
Как + вы + брови
Когда пришло время Чарли отвечать, она просто подняла большой палец вверх.
Учитель повторил все то же самое, написав: Как ваше имя? – и продемонстрировав соответствующие жесты, хотя на этот раз они были в другом порядке:
Вы.
Имя: дважды стукнуть сомкнутыми указательным и средним пальцами одной руки по указательному и среднему пальцу второй.
Как похоже на жест, которым пользуются слышащие люди: поднять руки ладонями вверх и развести в стороны, как будто пожимаешь плечами.
Опять брови, на этот раз нахмуренные.
Вы + имя + как + брови
Тут‐то алфавит и пригодился, и Чарли порадовалась, что может хотя бы продактилировать собственное имя.
Мое имя Ч-а-к-л-и, – ответила она.
Учитель покачал головой и указал на свою руку.
Ч.
Указал на Чарли.
Ч.
А.
А.
Р.
Черт.
Р, – повторила она.
Он поднял большой палец.
Еще раз, – сказал он.
Все ждали, глядя на нее.
Мое имя Ч-а-р-л-и.
Учитель кивнул и продолжил спрашивать остальных по кругу. Когда все представились, он вернулся к доске и написал: глухой, слышащий, сын, дочь, брат, сестра, потом указал на каждое слово и воспроизвел жестами его эквивалент.
Ее одногруппники стали рассказывать о себе. Большинство из них были родителями или родственниками самых маленьких учеников Ривер-Вэлли:
Я слышащая. Мой сын глухой.
Некоторые, судя по всему, либо приняли глухоту своего ребенка, либо смирились с ней, а другие еще не дошли до этой стадии, хотя все они в любом случае значительно опережали родителей Чарли, как минимум мать, – они‐то хотя бы пришли на это занятие. Одна девушка выглядела так, что вполне могла еще учиться в старших классах:
Я слышащая. Моя сестра глухая.
Но, насколько Чарли могла судить, из всех присутствующих она была единственной ученицей Ривер-Вэлли. Потому что, если вдуматься, это нелепо – глухой ребенок в школе для глухих, который не знает жестового языка.
Я глухая, – сказала она, когда подошла ее очередь.
Учитель подмигнул. Настала очередь отца, и он посмотрел на Чарли, когда пытался воспроизвести комбинацию девочка + ребенок, означавшую дочь, – ей было приятно и неловко видеть, с какой нежностью он произнес это слово. Но, наблюдая за другими учениками, Чарли обнаружила, что что‐то в этих фразах ее настораживает. Что‐то было не так. Почему они не совсем естественные? Что за “как ваше имя” вместо “как вас зовут”? Может, это слишком сложно для начинающих?
Остаток урока они провели, указывая на предметы в комнате и выясняя, как они называются, но это только обострило любопытство Чарли – почему жестовый язык устроен так непохоже на звучащий? Почему в нем другой порядок слов? Она хотела спросить учителя, но ей не хватало слов, чтобы сформулировать вопрос. В ту ночь она не спала, просматривая онлайн-словари АЖЯ, бесконечные ленты гифок и схематичные рисунки человечков, чьи руки застыли в разных положениях. На некоторых сайтах она даже прочитала, что в АЖЯ не существует жеста для глагола “быть”, но не нашла удовлетворительного объяснения его отсутствию.
Фебруари родилась на окраине Восточного Колсона в обшитом голубыми досками доме, в зад- ней спальне, которая позже стала ее собственной. Как только интервалы между схватками сократились до шести минут, ее мать отправила мужа в город за своей сестрой Мэй, а сама тем временем ходила туда-сюда по кухне и пыталась вытереть околоплодные воды с линолеума кухонным полотенцем, возя его по полу ногой. Телетайпы, неуклюжие электромеханические пишущие машинки, подключаемые к городскому телефону, сделали возможным обмен сообщениями еще с шестидесятых годов, но тогда они были по‐прежнему дорогими. В то время мать Фебруари сочла такие траты ненужными, поскольку бóльшая часть ее близких жила в нескольких минутах езды от города. Однако схватки, которые она пережила в одиночестве в тот жаркий день в конце августа, видимо, ей запомнились – одним из самых ранних воспоминаний Фебруари было то, как она тыкает по клавиатуре телетайпа.
Мать Фебруари была худощавой и страдала астмой, и медицинское наблюдение во время родов, безусловно, ей бы совсем не помешало, но она давно приняла решение рожать дома. Было бы гораздо страшнее и даже опаснее рожать там, где никто не знает жестового языка. Среди глухих ходило множество страшилок о больницах, особенно о том, как там принимают роды. Лу, подругу ее матери, привезли на каталке в операционную, даже не предупредив, что ей собираются делать кесарево; женщина в Лексингтоне умерла от тромба, потому что медсестры проигнорировали жалобы на боль, которые она нацарапала на салфетке. До принятия Закона о защите прав граждан с ограниченными возможностями, который обяжет больницы создать глухим пациентам необходимые условия, оставалось еще более десяти лет. Так что мать Фебруари не собиралась рисковать – пусть ей не сделают эпидуральную анестезию, но, по крайней мере, она будет знать, что вообще с ней происходит.
В мире слышащих бытует ложное представление о том, что глухие люди тихие. Если соседи Уотерсов раньше не осознавали ошибочности этого стереотипа, то явно разуверились в нем в день рождения Фебруари: ее мать кричала так громко, что мистер Коллхорн со всех ног кинулся через улицу и влетел в парадную дверь, уверенный, что там кого‐то убивают.
Мать Фебруари всегда с огромным удовольствием рассказывала эту историю в день рождения дочери, перевоплощаясь в мистера Коллхорна так, как это позволял только АЖЯ: изображала его движения, когда он крадучись входил в спальню, и выражение ужаса на его лице, когда он понял, что происходит.
Он бы, наверное, предпочел увидеть убийство!
Эту фразу она тоже говорила каждый год, и хотя Фебруари теперь боялась, что повторение одних и тех же рассказов свидетельствует об ухудшении состояния матери, истории своего рождения она была рада.
Фебруари взяла отгул во второй половине дня, чтобы пообедать с матерью в Колсоне, – ежегодная традиция, которая в этот раз казалась ей просто необходимой. Пока они ехали по городу, она искоса поглядывала на маму, которая, в свою очередь, смотрела в окно на проплывающие мимо улицы. В последнее время Фебруари ловила себя на том, что хочет расспросить ее об их с отцом детстве, об их свиданиях, о своих собственных ранних годах, пока деменция все не поглотит. Каким был Колсон, когда они переехали туда? Ходил ли тогда троллейбус Север – Юг, о котором Фебруари знала только понаслышке?
Фебруари и сама застала серьезные перемены в облике Колсона, причем это происходило скачками, волнообразно, как всегда бывает в Ржавом поясе. Когда‐то город был окружен промышленными предприятиями – “Дженерал электрик” с запада и “Гудиер” с востока, – но за последние несколько десятилетий численность жителей неуклонно сокращалась, а кварталы горели и опять восставали из пепла.
Сейчас завод “Дженерал электрик” продолжал работать на последнем издыхании вопреки здравому смыслу. Люди в главном офисе в Цинциннати, видимо, очень привязаны к Южному Огайо, думала Фебруари. Та же самая солидарность стала причиной поджогов в Колсоне в 2001 году, когда полиция Цинциннати убила девятнадцатилетнего Тимоти Томаса, который нарушил правила дорожного движения. Фебруари тогда училась там в аспирантуре и в тот день вышла на мирный марш. Но когда протесты в Цинциннати переросли в беспорядки, то же самое произошло и в Колсоне – она вернулась к себе после вечерних занятий и, включив телевизор, обнаружила, что Восточный Колсон горит.
В этом хаосе “Гудиер” увидел долгожданный предлог, чтобы прекратить свою деятельность. Беспорядки продолжались всего четыре дня, но завод так и не открылся снова. Начальство вернулось в Акрон, контракты передали в Бразилию, а колсонские сотрудники остались ни с чем. Когда пришло время восстанавливать город, власти прикрылись нехваткой средств, и, хотя налоговые поступления действительно снизились без вклада шинного гиганта, Фебруари была не так глупа, чтобы не понимать: причины в том, что пострадали рабочие районы Восточного Колсона. В следующий раз, подумала она, надо провести акцию протеста в центре и посмотреть, найдутся ли тогда у города деньги на восстановление.
Потом произошел отток белого населения, и после этого власти быстро сократили финансирование везде, где только могли. Так что выбоины никто не залатал, а перегоревшие лампочки уличных фонарей никто не заменил. Государственную среднюю школу закрыли, здание продали какой‐то чартерной школе[3], которая прекратила свое существование через четыре года. Все, кто мог, переезжали в центр или в пригород. Но ее родители остались жить в маленьком голубом домике, и даже после того, как Фебруари выросла и съехала из Восточного Колсона, он все равно занимал особое место в ее сердце. Она любила этот район с неистовством, свойственным рьяным спортивным фанатам.
Двадцать лет спустя одно крыло старого шинного завода занял филиал какой‐то фармацевтической компании, на окраинах стали вырастать мелкие кустарные предприятия, но большая часть Восточного Колсона все равно пустовала. Когда Территориальное управление пассажирских перевозок Огайо отменило остановки троллейбусов у “Гудиер” и на Вайн-стрит, люди шутили, что общественный транспорт просто подстроился под свою аббревиатуру. Как организовано его движение? ТУППО! В народе этот район стали называть “бесполетной зоной”, что Фебруари считала неостроумной и сомнительной шуткой, хотя на самом деле не ей было возмущаться – она тоже не была там уже несколько месяцев, с тех пор как мать переехала к ней.
Но во внутренней части Восточного Колсона, там, где он граничил с центральным районом, располагалось местечко, в котором Фебруари любила обедать, – “Чумовая чашка”. Это была непритязательная закусочная, где кружки различались по цвету и размеру, кофе подавали крепкий, а официанты были вооружены внушительными кофейниками. Более того, эту закусочную отличало то, что Фебруари считала самым важным критерием качества еды, – она закрывалась в 15.00. Если у них получалось зарабатывать только на завтраках и сэндвичах, можно было не сомневаться, что сэндвичи там отличные.
Фебруари включила парковочный счетчик, помогла маме выйти из машины и посадила ее на диванчик у окна. Мэл предпочитала сидеть подальше, но Фебруари и ее мать любили наблюдать за людьми. Интерьер “Чумовой чашки” был старомодным, сплошь винил и пластик, но не то чтобы это была претензия на винтажный стиль. Скорее владельцы просто не потрудились сделать ремонт. Пока мама изучала меню, подошла официантка и автоматически налила им кофе, как будто ни один гость никогда от него не отказывался. Мама подняла свою кружку, и они чокнулись.
Твое здоровье! – сказала она. – И не забудь, плачу я.
Ну уж нет. Я угощаю.
Сегодня твой день рождения.
Но потрудилась‐то ты.
Ее мать рассмеялась глубоким гортанным звуком, не имеющим абсолютно никакого отношения к тому, каким, по мнению окружающих, должен быть смех.
Пожалуй, да.
Расскажи мне еще раз, как вы познакомились с папой, – сказала Фебруари чуть погодя.
И мать поставила кружку и стала рассказывать.
Чарли с самых ранних лет понимала, что она не та дочь, которую хотела ее мать. Она начинала осознавать, что виной всему не ее глухота (которая, впрочем, делу явно не помогала). Они просто не сошлись характерами, и это было еще хуже.
Когда Чарли была маленькой, злиться из‐за их отношений и возмущаться, что мать никогда ее не понимает, было легко. Но в последнее время она ловила себя на том, что иногда испытывает к матери сочувствие. Бывало, что на мгновение она видела себя такой, какой, вероятно, была в глазах матери, – пацанкой, которая растоптала все надежды превратить ее в королеву красоты, которая ходит в рваных джинсах с пятнами от травы, с карманами, полными камней, забивающих сушилку, и которая отчаянно сопротивляется всем попыткам заставить ее надеть в гости к бабушке и дедушке платье, пока кто‐нибудь из них – Чарли или мать – не начнет плакать. У матери была стройная фигура и тонкие черты лица, и держалась она бодро независимо от того, была ли счастлива на самом деле или нет. Она когда‐то была такой же, как те девочки, которые пользовались популярностью в Джефферсоне, которые издевались над Чарли. Как‐то Чарли пришло в голову, что, пока она не родилась, ее матери уже долго никто ни в чем не противоречил.
Единственное, что их объединяло, – склонность подавлять эмоции, и обычно это и определяло их взаимоотношения, но в прошлом году все вылилось в типичную ссору, какие бывают между родителями и детьми, причем не где‐нибудь, а в торговом центре. Было как раз Рождество, и Чарли не могла припомнить, из‐за чего они спорили, но запах тел, аромат духов и крендельков с корицей, крики, доносившиеся из фотобудки Санты, – все это подлило масла в огонь, и мать выпалила:
Ты не знаешь, что такое родить человека, который тебя ненавидит!
А потом, увидев, что ее крик привлек внимание других покупателей, побежала через весь фуд-корт в туалет.
Чарли была ошеломлена. Ее мать никогда не выходила из дома без грима дебютантки, впервые появляющейся в светском обществе, – волосы осветлены, зубы отбелены, французский маникюр, сумка в тон обуви. Даже на протяжении многих лет, в течение которых ее родители бесконечно орали друг на друга, Чарли никогда не видела, чтобы мать выходила из себя на публике. Чарли зашла в туалет и остановилась перед кабинкой, из‐под двери которой виднелись удобные лоферы матери.
Я тебя не ненавижу, – сказала она двери.
Но что делать дальше, она понятия не имела. С тех пор они не ходили в этот торговый центр.
Поэтому, когда мать написала и спросила, не хочет ли она закупиться к школе, Чарли пожалела, что не может сказать нет. Она хотела остаться у отца и закончить разбирать свои вещи, а не тащиться в пригород, чтобы спорить с матерью о том, куда пойти сначала – в “Олд нэви” или в “Хоум сенс”. Но теперь, когда они больше не жили вместе, Чарли чувствовала себя виноватой – разве она вообще может отказаться? К тому же от Ривер-Вэлли на почту только что пришел список школьных принадлежностей и вещей, которые понадобятся в общежитии, а у нее ничего из этого не было. И вот Чарли стояла рядом с матерью возле исполинского отдела “Эйч энд Эм”, и мать, фальшиво изображая воодушевление по поводу ее новой школы, рассказывала о важности первого впечатления. Тот срыв в туалете был не таким уж и беспричинным: трудно было представить, что они с Чарли когда‐то были единым целым.
Ты могла бы найти себя в новом качестве! – сказала мать.
Чарли подумывала ответить, что она еще и в старом‐то не нашла. Правда, в Джефферсоне она выбрала определенный стиль, нечто среднее между тем, как выглядели панки и моды, и в рамках этой эстетики должна была носить в основном темную одежду и мрачное выражение лица. Она демонстрировала довольно вялую приверженность своему стилю (и не демонстрировала вообще никакой, если просыпала), но он служил ей своего рода визуальной броней. Это был знак солидарности с другими отверженными и намек популярным одноклассникам, что, возможно, она не совсем чокнутая, просто увлекается искусством или чем‐то таким, чего они не понимают. В качестве бонуса это еще и бесило мать, вызывая у нее мучительную ностальгию по ее собственным школьным дням, белым кроссовкам и плиссированным юбкам.
Когда они вошли в главный холл торгового центра, Чарли не питала никаких особых надежд, но через некоторое время между ними с матерью воцарилась редкая гармония. В “Босков” они купили постельное белье с длинными простынями, мешок для стирки и полотенца. И хотя вкусы в одежде у них были прямо противоположными, мать виртуозно умела находить джинсы, хорошо прилегающие в области талии. В какой‐то момент они даже вместе посмеялись над теми сумасбродами, которые носят джинсы с ширинкой на пуговицах.
Наконец, когда их утомило блуждание по магазинам и общество друг друга, они добрались до фуд-корта.
Может, возьмем замороженный йогурт? – спросила мать.
О-к.
Мать на мгновение застыла, и Чарли испугалась, что разозлила ее. Она этого не хотела. Каждый вечер после того первого урока жестового языка, перед сном, она садилась за компьютер и учила новые слова, а днем бродила по квартире отца, воспроизводя пальцами названия случайных предметов в комнате, чтобы попрактиковать дактильную азбуку. Теперь, хотя в глубине души Чарли гордилась тем, что эти две буквы отложились в ее мышечной памяти, она положила руки на колени и сцепила их в замок.
Покажи мне, – тихо сказала мать.
Чарли продактилировала буквы, взяла мать за руку и помогла ей изобразить “к”.
Они взяли два апельсиновых рожка и сели за столик. Шрам Чарли снова побаливал, но она не хотела поднимать эту тему. Лицо матери тоже выглядело страдальческим, как будто она пыталась решить в уме математическую задачу.
Получается, – сказала мать через некоторое время, – тебе приходится просто все показывать по буквам?
Нет, – сказала Чарли, стараясь сохранить нейтральное, терпеливое выражение лица. Несколько дней назад она знала о жестовом языке примерно столько же. – Как раз почти ничего не приходится показывать по буквам.
Тогда слова целиком…
У слов и понятий свои обозначения. Они никак не связаны с английским.
Мать кивнула и с сожалением посмотрела на свой рожок. Чарли поняла, что это будет большим отступлением от ее обычно строгой диеты.
Знаешь, – сказала Чарли минуту спустя, – ты тоже можешь прийти на занятия по АЖЯ, если хочешь.
Может быть, – сказала мать тоном, который означал “нет”.
Рожок Чарли размокал, и она смотрела, как апельсиновый йогурт капает на стол. В голове что‐то жужжало, как слепень, скорее на уровне ощущения, чем звука, и она не знала, имплант это или недобрая мысль.
Хотя первый учебный день всегда наступал раньше, чем Фебруари успевала к нему подготовиться, она его любила. Но после окружного совещания она поняла, что это чувство разделяют немногие. Правда, не в ее школе – уж об этом она позаботилась, хотя специфика работы здесь была такова, что сюда почти все приходили по призванию. Большинство ее учителей были глухими, и ими двигала если не любовь к детям, то, по крайней мере, преданность сообществу. Как директору ей повезло: мало что мотивирует сильнее, чем страх уничтожения общности, к которой принадлежишь, а глухие люди уже были на грани исчезновения. Они проиграли в культурной войне, исход которой некоторые члены педсостава называли просто Концом.
У девяти из десяти глухих детей родители были слышащими, и эти родители держали судьбу глухих в своих руках – разумеется, в первую очередь судьбу собственных детей, но еще и будущее всего сообщества. Проблема была в том, что большинство родителей понимали глухоту только так, как им ее представляли медики: как вероломство генов, как то, что нужно исправить.
Как и учителя, Фебруари боялась того дня, когда ученые разработают какую‐нибудь методику трансплантации стволовых клеток или внутриутробной коррекции, которая избавит мир от глухих людей и сделает ее родной язык ненужным, когда не станет учеников, ждущих у подножия холма, чтобы она открыла ворота школы. Не раз она даже эгоистично молилась, чтобы Конец подождал до тех пор, пока она не умрет, и тогда ей хотя бы не придется с болью его наблюдать.
Но сейчас у Ривер-Вэлли впереди был еще год. По правде говоря, закрытие ей грозило меньше, чем большинству школ для глухих, хотя это было связано скорее с неблагоприятным положением местного населения, чем с ее успехами. В округе Колсон людям жилось тяжело как в сельской, так и в городской местности, а высокий уровень бедности привел к уменьшению числа операций по установке имплантов, нехватке денег на частных логопедов, сокращению разрыва в показателях успеваемости между Ривер-Вэлли и обычными школами с низкими результатами, а также к тому, что родители, которые с трудом могли прокормить своих детей, отправляли их в “специальную” школу с проживанием, не беспокоясь о том, как это будет выглядеть в глазах соседей. В некоторых случаях трехразовое питание и готовность учителей уделить внимание конкретному ученику были роскошью, на которую не могли рассчитывать другие дети из той же семьи.
География тоже была на стороне Ривер-Вэлли – от Кентукки их отделял один мост, а до границы с Западной Вирджинией было всего пятьдесят минут езды. Другая ближайшая школа для глухих, школа Святой Риты в Цинциннати, была католическая и к тому же маленькая. Поскольку остальные учебные заведения в Огайо и Кентукки находились в трех часах езды от приграничных городов, родителям легче было отдать ребенка в Ривер-Вэлли. Так что Фебруари стала своего рода монополистом, а ее школа оказалась центром притяжения широкого круга людей, которым она была необходима. Хотя сокращение численности глухих казалось неизбежным, как минимум на Ривер-Вэлли это пока что не повлияло.
Теперь на главную дорожку въезжала колонна машин, доверху набитых вещами, в которых ученики не нуждались, а вот того, в чем нуждались, чаще всего там не было. Младшие братья и сестры тащили валики постельных принадлежностей больше их самих, потому что хотели увидеть это волшебное переплетение школы и лагеря, в котором им не было места. Одни родители стояли в слезах, другие ждали расставания с детьми с душераздирающим безразличием.
Этим детям Фебруари уделяла особое внимание, потому что их родители выбрали школу-интернат не из необходимости, а из соображений удобства, чтобы избежать лишних трудностей и не учиться общаться со своим ребенком. Конечно, в такой ситуации языковая депривация практически неизбежна, поэтому Фебруари и родители сходились на том, что общежитие действительно лучший вариант. Но это не мешало ей испытывать к детям сочувствие. Мать есть мать, и это не изменится вне зависимости от того, где ночует ребенок.
Она заставила себя перевести глаза на экран. Пару минут назад доктор Суолл разослал всем проект окружного бюджета, который вызывал у нее серьезное беспокойство. Рядом на столе лежал сворованный у Мэл блокнот, где Фебруари составила список запланированных нововведений. Теперь большинство из них она будет вынуждена вычеркнуть. Никакого нового оборудования для компьютерных классов (но, может, получится хоть Windows обновить?). Закупать графические калькуляторы придется родителям. Футбольные шлемы детям понадобятся в любом случае – не дай бог кто‐нибудь проломит себе голову, она за них отвечает.
Обновить учебники истории получится только через год, как и заменить шаткие парты, которые стоят ровно только благодаря подложенным под них картонкам. Ковер в общежитии для мальчиков-младшеклассников обязательно надо убрать; этот пункт она оставила в списке, равно как и переход на новую программу по испанскому языку, в которую наконец‐то не будет входить аудирование.
Она вздохнула. Если Суолл не встретит отпора, он попытается сэкономить на учителях. И так далее по цепочке – меры жесткой экономии приняли городской совет, сенат штата, Министерство энергетики. Помимо всего прочего, это означало, что сама Фебруари впервые за почти десять лет вернется к преподаванию, чтобы заменить ушедшую в декретный отпуск Дайану Кларк. Быстро выяснилось, что найти на длительный срок специалиста по истории, свободно владеющего АЖЯ, невозможно, а если нанимать еще и команду переводчиков, это истощит резервный фонд на случай непредвиденных обстоятельств. Поэтому она наспех придумала план: два курса Дайаны дала учительнице средней школы, третий спихнула на учительницу английского, а коррективный взяла на себя. Она тщательно изучала учебный план, составляла и переделывала программу, беспокоилась, сможет ли справляться как с преподавательскими, так и с административными обязанностями. Все это очень на нее давило, и в какой‐то момент она пожалела, что лето закончилось слишком рано.
Эту ночь она проведет на территории школы, в Старой резиденции над своим кабинетом. Это помещение долгое время служило складом – Фил, помощник директора, в шутку называл его “архивом”, хотя документы в коробках (тоже любезно предоставленных Мэл) содержались в таком беспорядке, что этого названия оно явно не заслуживало. Мэл считала, что ночевать там глупо, и говорила так каждый год. Их дом в двух шагах, Фебруари могут мгновенно вызвать по видеофону, если она понадобится, да и в любом случае, когда чего‐то ждешь, это никогда не происходит. Но Фебруари слишком уважала традиции и поэтому осталась в своем кабинете, глядя из окна на дорогу и наблюдая за родительской процессией, которая теперь двигалась в обратную сторону, пока Уолт не запер ворота на ночь.
Она поднялась с ноутбуком и сумкой по винтовой лестнице и, лавируя между коробками, подошла к старой односпальной кровати с железными спинками, как у больничных коек. Кровать была застелена свежим бельем, и она улыбнулась заботливости дежурных по общежитию. Хорошие ребята. На кухонной стойке ей оставили немного банок “Кэмпбелла”, молоко и кофе из столовой. Она открыла томатный суп и разогрела его на плитке, а из рам на нее сверху вниз смотрели глаза прежних директоров. Поглядывая на эту подборку дурацких усов и бород, она вдруг придумала, как помочь девочке Серрано.
Хотя в принципе Фебруари уже определилась с материалами своего курса, ей хотелось привнести в него что‐то новое, и теперь, стоя перед портретами своих предшественников, она точно поняла, что именно. Чарли была неприкаянной; она совсем не разбиралась ни в культуре, к которой принадлежала, ни в истории, которая принадлежала ей. Такими были почти все ученики, для которых предназначался коррективный курс, – большинство из них пришли в Ривер-Вэлли уже после того, как не справились с учебой в обычной школе. Фебруари напишет для них свою собственную учебную программу, курс о культуре глухих. Так они узнают больше, чем мог бы им дать приглашенный на замену учитель, рассуждала она, и в любом случае, как можно ожидать, что человек будет изучать историю, если он ничего не знает о самом себе?
Что касается Чарли, если ее языковой пробел еще можно восполнить, то АЖЯ она выучит скорее благодаря взаимодействию с одноклассниками, чем из учебных пособий. Но что, если она застенчива? Что, если ученики будут избегать ее из‐за того, что она не знает жестовый язык? Такое ведь случается – в мире глухих, безусловно, тоже существует травля, и здесь часто делят других на касты по степени “чистоты” АЖЯ. Чарли не единственная новенькая в этом году, но единственная старшеклассница, не владеющая языком. Наклонив тарелку, чтобы собрать остатки супа, Фебруари решила, что знает надежный способ устроить Чарли языковое погружение, – она назначит ее учителем Остина Уоркмана.
Воздух к ночи наконец‐то остыл, как будто присутствие учеников в школе навеяло погоде осеннее настроение, и Фебруари распахнула мансардные окна. Ветерок был освежающим, но в комнату сразу же налетели бабочки, поэтому она выключила верхний свет и зажгла ночник у кровати. Она написала маме “спокойной ночи”, позвонила Мэл, которая не взяла трубку, сделала пометку в календаре утром поговорить с Остином. А потом, повинуясь духу этой старомодной комнаты, отложила телефон и взялась за роман, который в последнюю минуту бросила в сумку.
Это была французская книга о морских путешествиях и кораблекрушениях, и, хотя Фебруари ждала, что ночь будет беспокойной – непривычная обстановка, важный день впереди, – ее убаюкал ритм океана на страницах, и вскоре она погрузилась в сон.
Для Остина Уоркмана-Бэйарда глухота была семейной реликвией. Историю его прапрадедушки и прапрабабушки рассказывали в сообществе глухих с тем же почтением, с каким слышащие люди говорят о доблести героев войны: одной дождливой октябрьской ночью 1886 года, под покровом темноты и тумана, Герберт Уоркман и Клара Хэмилл бежали из Мичиганского приюта для глухих, немых, слепых и душевнобольных. Там с ними делали всевозможные жуткие вещи – им связывали руки, чтобы они не могли общаться жестами; их лишали еды и воды в наказание за то, что они все равно общались; их избивали палками и ремнем за каждую неудачную попытку украсть еду или выбраться на свободу; однажды учитель попытался засунуть руку Герберту в штаны. И они еще легко отделались. Они сбежали только после того, как их друг Баки предупредил их об операциях.
Баки не был глухим – он был из сумасшедших. Они любили шутить, что Герберта и Клару заперли здесь, потому что они не слышат голоса, а Баки – потому что он слышит слишком много голосов. Но он слышал еще и крики. Шесть человек в моем крыле стерилизовали, – написал он на широкой ладони Герберта за ужином, – и кто знает, не займутся ли потом и крылом глухих. Баки был старше их и знал, что такое случалось и раньше.
Клара и Герберт обдумали это предупреждение в своем укромном уголке под лестницей. С одной стороны, Баки считался чокнутым. С другой – их и самих отправили в психиатрическую лечебницу, а он, по их мнению, никогда не делал ничего странного. В конце концов, опьяненные молодой любовью и промышленной революцией, они четыре дня запасались едой, а потом бежали на юг через границу с Огайо и дошли пешком до самого Колумбуса. Они спали на ступенях церкви, просили милостыню и искали работу, пока бригадир одной текстильной фабрики не решил, что ему подойдут работники, которые не могут ему перечить.
Клара научилась ткать на станке, а Герберт пошел в истопники, топить углем бойлер. Они сняли дешевую комнату над пабом, потому что шум драк их не беспокоил. И нашли себе место под солнцем.
Они переехали в Цинциннати и устроились в “Дженерал электрик”, двое их сыновей – Джек и Джон – окончили среднюю школу, а потом тоже пошли работать на фабрику. Братья купили два соседних дома и поселились рядом; во время Великой депрессии им урезали зарплату, но они хорошо себя зарекомендовали и даже помогали фронту: по выходным работали на почте, искали вражеские микрофиши, спрятанные под марками.
Джек, любитель выводить из себя членов клуба глухих Цинциннати, выбрал жизнь холостяка; Джон женился, и его сын Уиллис чувствовал себя как дома и у родителей, и у дяди. Уиллис окончил школу и тоже устроился на фабрику, как и остальные члены семьи. Он завел роман с рыжеволосой стенографисткой начальника цеха, но продлилось это недолго – он и сам несколько удивился, когда осознал, что ему все же нужен кто‐то, с кем он мог бы поговорить. Поэтому, как бы неприятно ему ни было это делать, он попросил мать и тетку замолвить за него словечко на рождественской вечеринке Общества глухих женщин.
И тут на сцене появляется Лорна Левин. Лорна окончила колледж и преподавала историю в Ривер-Вэлли, которая гораздо меньше походила на психиатрическую лечебницу и гораздо больше – на настоящую школу. Она хорошо владела речью – по крайней мере, слышащие люди понимали ее, когда она ходила с ними в ресторан. Она была умнее Уиллиса, и его это немного пугало, но в то же время вызывало желание ни за что ее не упустить. Его мать предложила ему свое обручальное кольцо, но он накопил денег и купил в рассрочку новое бриллиантовое.
Об их свадьбе говорил весь клуб (к тому времени Уоркманы стали знаменитостями) – это была пьянка всю ночь напролет. Не прошло и года, как у них родилась дочь Бет. Лорна серьезно относилась к ее образованию и экономила на всем, чтобы отправить ее в Галлодетский университет. Учеба давалась Бет легко, и на втором курсе она стала представлять факультет когнитивных наук в студенческом совете. И именно там, на собрании Ассоциации студенческого самоуправления, в университете для глухих студентов, мать Остина влюбилась в слышащего мужчину.
Генри Бэйард учился в магистратуре, работал сурдопереводчиком, свободно владел АЖЯ и с большим энтузиазмом относился к культуре глухих, как это бывает при ассимиляции, но все это было слабым утешением для совершенно глухой семьи Бет Уоркман.
Они сменили гнев на милость после рождения внука, Остина, – они радовались тому, что ребенок Уоркманов глухой в пятом поколении, точно так же, как любой человек гордился бы сходством новорожденного со своей семьей. У Остина было прекрасное детство среди горячо любящих его людей, говорящих с ним на жестовом языке, его обожали все местные глухие, и он рос таким жизнерадостным, уверенным в себе мальчиком, каким можно быть, только если чувствуешь, что тебя понимают.
Теперь всякий раз, когда у Остина что‐то не получалось в школе или его ругали за своенравие, история его семьи превращалась в нечто вроде легенды, а его предки представали эталоном терпения и стойкости в мире, где они были изгоями. И вывод каждый раз был один и тот же: Остину очень повезло.
Он знал, что это правда. Он понимал это из разговоров в школе – с учителями, с другими ребятами. Многим его друзьям действительно приходилось нелегко – они были заперты у себя дома, как в одиночной камере; матери плакали, что у них неправильные дети; их постоянно таскали на осмотры к хирургам и терапевтам. А мать Остина то и дело говорила ему, что он само совершенство.
Но этим летом Остин стал казаться ей не таким уж и ангелом и раздражал ее тем больше, чем больше рос ее живот и чем чаще подступала утренняя тошнота, которая сопровождала его увеличение. Залетела, как‐то сказала она и тут же попросила Остина не повторять это слово. Конечно, они хотят ребенка, просто из‐за этой крыши сейчас туговато с деньгами, но ему не о чем беспокоиться. Потом она заплакала. Отец нашел расстроенного Остина на заднем дворе и успокоил, объяснив, что это все гормоны, но тот все равно чувствовал себя неловко, потому что из‐за его ненасытности они слишком много тратили на продукты.
Теперь на юге Огайо подходил к концу август, мать Остина была на восьмом месяце беременности, и ей было очень жарко. Она обливалась потом, когда готовила, или когда ковыляла от машины к дому, или когда неподвижно лежала на диване в гостиной и ее волосы облепляли голову, как шелуха лук. Даже отцовские футболки туго обтягивали ее живот, а вокруг выступающего пупка темнело кольцо пота.
Все это очень беспокоило Остина. Он поймал себя на том, что с нетерпением ждет начала учебы, возвращения в общежитие и смены обстановки. Их дом был всего в получасе езды от кампуса, но его мать, когда училась в школе, тоже жила в общежитии, как и ее родители – все четыре поколения Уоркманов, если считать Герберта и Клару, – и это было их семейной традицией. Родители говорили, что для формирования социальных навыков важно жить с глухими сверстниками. Учителя говорили, что детям, у которых, в отличие от него, не было счастливой возможности всю жизнь общаться на жестовом языке, будет полезно у него учиться. Сам Остин всегда думал, что это немного глупо – оставаться в общежитии, когда его семья живет совсем рядом и у них прекрасные отношения, но теперь он был даже рад такому раскладу.
Он начал собирать вещи за две недели, чего никогда не делал раньше и что, как оказалось, было неосмотрительно делать сейчас. У него быстро кончилась чистая одежда, главным образом потому что за стирку отвечали они с отцом, и теперь он каждое утро копался в своем чемодане в поисках то трусов, то новой футболки, но там все лежало настолько вперемешку, что в конце концов он вывалил содержимое чемодана на пол.
В то утро, когда Остин должен был ехать в школу, отец обнаружил его без штанов среди кучи вещей. Он окинул комнату оценивающим взглядом, словно решая, ругать ему сына или нет. Потом наклонился, выудил с дальнего склона горы шорты и бросил их Остину.
Спасибо.
Выезжаем через полчаса. Положу твои постельные принадлежности в машину.
Остин натянул шорты, раскрыл чемодан и начал запихивать одежду обратно. Только подойдя к пикапу, он вспомнил о неприятностях, наверняка поджидающих его в школе. Из-за этой напряженной атмосферы ему так не терпелось вырваться из дома, что он совсем забыл о любви, в которой когда‐то признавался, и о разыгравшейся драме.
Ты идешь?
Остин открыл перед мамой дверь, потом забрался на заднее сиденье.
Извините за беспорядок в комнате.
Не переживай, тебе в эти выходные все равно заняться нечем.
На мгновение Остину показалось, что отец заглянул ему в голову и дразнит его по поводу расставания с девушкой, но он не мог припомнить, чтобы говорил об этом кому‐то из родителей. Даже если отец и узнал обо всем через сарафанное радио, больше он ничего не сказал, просто повернул ключ в замке зажигания. Другой рукой он продактилировал х-а-х-а – визуальное сопровождение смеха, привычное для большинства говорящих на жестовом языке, – и Остин уже не в первый раз задумался, как бы это могло звучать.
Чарли вспоминала первые годы обучения с некоторой ностальгией – больше времени под надзором взрослых, а следовательно, меньше травли, частые перерывы на перекус, а еще раскрашивание и вырезание фигурок, с которым она справлялась ничуть не хуже сверстников. Но быстро овладеть языком, как обещали врачи после имплантации, у нее не вышло. Некоторое время она даже делала успехи, занимаясь в маленькой белой комнате с доброжелательной блондинкой, которая постоянно брызгала слюной. Чарли провела с ней много часов: они изучали положение губ и направление струи воздуха, задувая свечи, зажимая нос или прижимая к языку перевернутую ложку. Но за пределами кабинета врача большинство звуков по‐прежнему оставались непостижимыми. В классах было шумно, и среди этого гама она не могла разобрать слова, которые они отрабатывали.
Это стало отражаться на ее успеваемости. Дети начали учиться читать, писать по буквам, даже складывать, повторяя или подхватывая за учителем, – но для Чарли это была трясина звуков, через которую она пробиралась со страхом. Учителя ругали ее, когда она соображала медленно или отвлекалась, а на родительских собраниях высказывали опасения, что у нее “еще какие‐то отклонения”. Чарли не знала, как объяснить, что она не может дать ответ, если не поняла вопрос.
У нее часто случалось то, что ее мать называла “приступами”. Учителя же называли это “выходками”, как будто любой поступок ребенка, не вписывающийся в рамки абсолютного подчинения, считается чем‐то плохим. Чарли, конечно, вообще никак это не называла, что делу не помогало.
Сейчас она почти ничего не помнила об этих срывах, только отдельные фрагменты: кафельный пол, с которого учительница пытается ее поднять, а Чарли вырывается у нее из рук; жар слез и комок в горле от истерики; но ярче всего – то жгучее чувство, которое спускается со лба прямо в живот, когда нужное слово вертится на кончике языка, но ты не можешь его поймать. Только вот для Чарли такими были все слова. И поэтому ее временно перевели в класс коррекции.
Там Чарли проводила бóльшую часть времени в одиночестве. Ей выделили парту, рабочие тетради, крендельки и воду в стакане-непроливайке с носиком, который, похоже, предназначался для детей гораздо младше. Возможно, сначала на нее были другие планы, но изо дня в день учительница и ее ассистенты были поглощены множеством неотложных дел – кормили, мыли и приучали к туалету, а также постоянно присматривали за мальчиком, который начинал стучать передними зубами о стену, когда его что‐то расстраивало.
У одной из ее новых одноклассниц был блокнот с картинками, прикрепленный к шлевке ремня, – мультяшные изображения туалета, различных продуктов и напитков, игрушек в классе. Чарли нравились эти яркие, четкие картинки, и она мечтала, чтобы кто‐нибудь сделал и ей такую книжку, но никто так и не сделал. Иногда после обеда девочка с блокнотом подходила к Чарли, показывала ей картинку с лего, они шли на ковер для групповых занятий и строили башню. Кроме нее, Чарли почти не общалась с другими учениками, за исключением одного мальчика, который поцарапал ее, когда она по незнанию заняла его любимое место за столом для рукоделия. Учительница отправила Чарли вниз к медсестре, приколов к ее рубашке записку с просьбой обработать ранку антисептиком – неприятной штукой, от которой щипало щеку.
Сама Чарли сначала тоже продолжала устраивать “выходки”: это были срывы из‐за непостижимых учебников по фонетике. Коррекционная программа была рассчитана на такие случаи, и Чарли отводили в Комнату тишины – пустую каморку, застеленную синими матами. Чарли ее ненавидела. Тишина была для нее привычной и поэтому, конечно, нисколько не успокаивала. В двери каморки было маленькое окошко, но оно располагалось слишком высоко, Чарли не могла выглянуть наружу и боялась, что учителя отвлекутся на какое‐нибудь происшествие и забудут о ней. Она знала, что единственный способ не остаться там навсегда – это справиться с приступами, поэтому мало-помалу научилась преодолевать их, поджимать пальцы ног в кроссовках и крепко стискивать зубы, когда злилась. Ее визиты в Комнату становились все реже и реже, но на занятия отводилось мало времени, друзей у нее не было, и ее успехи в учебе по‐прежнему оставляли желать лучшего. Иногда логопед был единственным человеком, с которым она общалась.
Удивительным образом в конечном счете спасло ее то, что мать переживала, как это выглядит со стороны. В Колсоне начали ходить слухи, а одна соседка как‐то увидела Чарли на автобусной остановке в оранжевом сигнальном жилете, который ей выдали в коррекционном классе. Взгляды, сплетни, назойливые расспросы о психическом здоровье Чарли – для ее матери это было слишком, и в конце концов она явилась в школу и потребовала прекратить эксперимент. Ей и возражать особенно не стали – учителя коррекционной программы с самого начала были против перевода, – и вскоре Чарли отправили в обычный класс. Но и ученики, и учителя помнили о ее временном отсутствии. Одноклассники уделяли ей такое внимание, какого она бы предпочла не удостаиваться, а учителя поступали наоборот. В государственной школе, где всегда не хватало ресурсов, дополнительные занятия и эмпатию приходилось дозировать, и никто не мог позволить себе тратить их на нее. Все смирились с тем, что придется переводить ее из класса в класс, пока она не окончит школу.
Как могла бы сложиться ее жизнь, если бы она с самого начала поступила в Ривер-Вэлли? – подумала Чарли, когда они с отцом встали в очередь на заселение. Оживленный кампус выглядел иначе, чем вчера вечером. На главной дороге были толпы, лужайки по обе стороны от нее заняли маленькие дети и их встревоженные родители, сидевшие рядом на траве, а дети постарше играли в футбол или передавали друг другу мобильные телефоны. Повсюду мелькали летающие туда-сюда руки: наверняка все рассказывали, как провели лето, хотя это происходило с такой скоростью, что Чарли ничего бы не поняла, даже если бы подошла ближе. Очарование огромных каменных зданий, которые так заворожили ее в вечер их первого занятия по АЖЯ, несколько ослабло, зато в этой мешанине жестов она увидела магию другого рода.
Чарли с отцом получили ее пропуск и папку, в которую были вложены номер ее комнаты, расписание занятий и еще одна карта кампуса, а потом подъехали к площадке перед общежитием для девочек, где дежурная подтолкнула к ним брезентовую бельевую тележку. Чарли стояла у багажника машины, делая вид, что помогает, пока отец выгружал два ее чемодана, рюкзак, набитый школьными принадлежностями, три прозрачных пластиковых пакета с новым постельным бельем, одеялом и подушками, мешок для прачечной с полотенцами, феном и новыми галошами, а также нераспечатанную коробку, в которой лежал ноутбук, подарок от родителей.
Внутри общежитие оказалось темнее, чем Чарли себе представляла: все было погружено в зеленоватый свет люминесцентных ламп, и она постаралась не дать себе разочароваться. Сейчас проход для заселяющихся учеников был открыт, но Чарли увидела в небольшом холле стойку охраны и турникеты, куда ей предстояло в будущем вставлять карточку. Она почему‐то занервничала. Раньше у нее никогда не было ключей от дома; мать всегда оставляла боковую дверь незапертой. Чарли отдала охраннику листок с номером ее комнаты, и он указал на длинный центральный коридор. Отец катил тележку за ней, пока она шла, читая таблички, к комнате 116. К двери были приклеены составленные из картонных букв имена КЭЙЛА и ШАРЛОТТА.
Фу, – сказала она вслух.
Она ненавидела свое полное имя. Она сунула карточку в щель замка. Ничего не произошло. Дверь открылась только с четвертой попытки.
Чарли считала, что у нее довольно мало вещей; хотя по выходным она собиралась возвращаться домой, с собой она взяла не так уж много, если учесть, что это на целый год. Но когда она наконец открыла дверь и втолкнула свою тележку внутрь, то обнаружила, что ее соседка по комнате уже сидит, скрестив ноги, на голом матрасе, и не видно, чтоб у нее было с собой хоть что‐то. Девочка была сухощавой, темнокожей, с черными как смоль волосами, заплетенными в косички-жгуты. Чарли отметила, что соседка намного выше ее, хоть та и сидела.
Привет, – сказала соседка. – Мое имя К-э-й-л-а.
Слава богу, что ее имя было на двери – она дактилировала так быстро, что Чарли ни за что бы не успела понять.
Ч-а-р-л-и.
Жестовое имя?
Они обсуждали жестовые имена на уроке АЖЯ – дать такое имя глухому может только другой глухой. Чарли покачала головой.
К-на-щеке, – сказала Кэйла, рисуя букву на щеке, в том месте, где бывает ямочка.
Очень приятно, – ответила Чарли.
Мне тоже, – сказала Кэйла, но вид у нее был не очень довольный.
Тебе помочь? – спросил отец, указывая на тележку.
Нет, спасибо, – сказала Чарли.
О-к, – ответил отец.
Он посмотрел на собственные ботинки.
В общем, думаю, я…
Да, хорошо. Спасибо, папа.
Они обнялись, и Чарли почувствовала, что его сердце бьется слишком часто.
Напиши, если тебе что‐нибудь понадобится.
О-к.
Люблю тебя.
Я тоже тебя люблю, – сказала она.
На мгновение она застыла, подавляя желание пойти за ним. Она спала не дома всего несколько раз – у нее не было настолько близких друзей, чтобы часто заваливаться к ним с ночевкой. Может, надо было остаться в Джефферсоне.
Все о-к?
Чарли кивнула.
Дверь?
Она закрыла дверь и огляделась. В комнате были два шкафа и по кровати с каждой стороны, один письменный стол у двери и второй у окна; все симметрично, за исключением небольшого телевизора на левой стене. Неудивительно, что Кэйла выбрала именно ту сторону. Но где все ее вещи? Может, привезут позже, подумала Чарли, хотя заметила штанину, торчащую из одного ящика, а рюкзак Кэйлы висел на спинке ее стула.
Ты ________?
Что?
________?
Что?
Чарли почувствовала, что начинает паниковать.
Я не понимаю, – сказала она вслух. – Ты читаешь по губам?
Кэйла вздохнула.
Б-о-г-а-т-а-я, – продиктовала она по буквам. – Богатая.
Она указала на тележку Чарли и нарисовала в воздухе между ними большую кучу.
Богатая, – повторила Чарли. – Я? Нет.
Кэйла больше ничего не сказала, а Чарли не знала жестового языка, поэтому вытащила свои чемоданы из тележки и положила их на кровать.
Над головой вспыхнул свет. Чарли вздрогнула, думая, что это сработала пожарная сигнализация, но Кэйла встала и открыла дверь, за которой стояла дежурная с охапкой постельного белья. У нее было свежее жизнерадостное лицо, внешностью и манерой держаться она напоминала тех девушек, с которыми обычно работала мать Чарли, хотя мир конкурсов красоты сейчас казался Чарли таким далеким, будто их разделяло много световых лет. Кэйла бросилась к дежурной, та обняла ее в ответ свободной рукой, и между ними произошел быстрый и бурный обмен репликами, в котором Чарли не поняла ни слова. Потом дежурная вручила Кэйле комплект белья с выцветшим синим штампом “Ривер-Вэлли”.
Дежурная посмотрела на Чарли и что‐то сказала. Чарли улыбнулась и помахала рукой, что, видимо, показалось ей удовлетворительным ответом, потому что она повернулась, чтобы уйти.
Подожди, – сказала Кэйла и добавила еще что‐то, что Чарли не поняла.
Дежурная кивнула и, оторвав кусок малярного скотча от рулона, который носила на запястье наподобие браслета, протянула его Кэйле.
Спасибо.
Она подняла вверх большие пальцы и ушла. Чарли увидела, как Кэйла достала что‐то из кармана и осторожно развернула: это были две фотографии женщины в ярко-желтой баскетбольной майке, вырезанные из журнала. Кэйла разорвала скотч на восемь частей и приклеила фотографии к стене. Она начала застилать постель, потом остановилась.
Что?
Ничего, – сказала Чарли, осознав, что пристально смотрит на нее. – Извини.
Кэйла пожала плечами, и Чарли тоже начала стелить постель. Она еще развешивала одежду в своем шкафу, когда Кэйла щелкнула выключателем, чтобы привлечь ее внимание.
Еда-вечер?
Точно, ужин! Чарли еще не была голодна, но знала, что есть в столовой можно только в определенное время, а еще она понятия не имела, где эта столовая находится, поэтому вытащила из‐под груды одежды свою карточку и пошла за соседкой по коридору во двор.
Чарли предполагала, что большинство учеников живут в школе, но столовая, когда они туда пришли, оказалась полупустой: там было всего, наверное, человек семьдесят пять. За несколькими столами сидели младшие школьники со своими дежурными по общежитию; у самых маленьких глаза были еще припухшие от слез, но дети постарше, видимо, знали друг друга и легко возвращались к привычной жизни. Чарли стало интересно, какой бы она была в их возрасте – плакала бы, расставаясь с родителями, или радовалась, что находится там, где ей все понятно? Она вгляделась в лица старших учеников начальной школы: на них не было слез. Учебная неделя будет казаться им намного короче, чем малышам, и в любом случае они наверняка привыкли к прощаниям. Или, возможно, для них изменилось само значение слова “дом”, и дом, где живет семья, теперь считается домом чисто формально.
В другом конце зала стоял стол учеников средних классов; большинство из них тесно сгрудились вокруг девочки, включившей на телефоне какое‐то видео, и толкали друг друга локтями, чтобы подобраться ближе. А еще там были ее одноклассники – некоторые пары отделились от группы и держались за руки, другие просто болтали вдвоем, но все они столпились вокруг парня, которого Чарли могла видеть только со спины, – как созвездия, удерживаемые силой его гравитации.
Директриса рекомендовала Чарли поселиться в общежитии, чтобы ускорить процесс изучения языка, но, насколько Чарли могла судить, многие исполняли жесты быстро и плавно, и она недоумевала, зачем они выбрали обучение с проживанием. Она решила спросить об этом Кэйлу, когда они вернутся к себе, но после ужина ее соседка ушла в комнату отдыха смотреть сериал на ноутбуке подружки. Чарли постояла на пороге, наблюдая, как после летней разлуки все приветствуют друг друга объятиями и выразительными жестами, но, когда одна из девочек встретилась с ней взглядом, смутилась и захлопнула дверь. Сидеть одной было ничуть не лучше, стены давили, но выйти Чарли не осмеливалась. Она еле‐еле понимала свою соседку по комнате в диалоге один на один, что уж говорить о целой компании девочек, которые общаются на предельной скорости. Теперь они, наверное, считают ее последней скотиной, но, по крайней мере, хоть дурой не считают. Это будет завтрашняя проблема.
Она достала из глубины рюкзака упаковку с последними мармеладками с марихуаной – Кайл, парень из Джефферсона, с которым она встречалась, дал их ей в их последний раз, когда они виделись. Ей стало интересно, что он сейчас делает, и она подумала, не написать ли ему, но удержалась. В одном ее мать была права: приезд в Ривер-Вэлли – шанс окончательно порвать с прошлым. Она сунула маленького желтого медвежонка в рот, переоделась в пижаму и стала ждать, когда отступит тревога или когда ее одолеет сон, смотря что наступит раньше.
Родители Остина оба приехали его проводить, и пока Остин с папой выгружали вещи, мама си- дела на диване в комнате отдыха и ковыряла шелушащуюся обивку. Спальня Остина была теперь на другом этаже, но выглядела так же. Он всегда заселялся пораньше и выбирал ту сторону, где был установлен видеофон. В любом случае он пользовался им чаще, чем его соседи по комнате; большинство детей были из слышащих семей и редко звонили домой. Родители поцеловали его в лоб и собрались уходить, но он дошел с ними до машины.
Пообещайте, что позвоните, когда начнутся роды?
Они пообещали, он отошел с дороги и проводил их взглядом, а потом вернулся в общежитие, уже чудовищно скучая по ним. Он проходил через это много раз, и тоска по дому длилась все меньше, хоть и оставалась такой же глубокой. В начальной школе он плакал каждый раз, когда родители уезжали, а в первом классе целых два дня был практически безутешен. Если сосредоточиться на воспоминаниях, он мог бы перенестись в прошлое и вновь пережить гложущую тревогу, которую испытывал тогда, но он подавил это желание и попытался вспомнить своих одноклассников в их первые часы в школе. Переживали ли они тоже, или Остину расставание давалось труднее из‐за того, что ему было что терять? Он вызвал в воображении свой первый завтрак в столовой, попытался разглядеть лица других ребят, но все они были как в тумане.
Вернувшись в общежитие, он открыл дверь, и в лицо ему ударил поток влажного воздуха и запах сигаретного дыма. У окна стоял Элиот Куинн, который снял сетку и, высунувшись наружу, стряхивал пепел на газон.
Когда в конце прошлого учебного года директор Уотерс обратилась к Остину с просьбой поселиться вместе с Элиотом, он с радостью согласился. Он не очень хорошо знал Элиота – тот был на класс старше, но с годами Остин понял, что гораздо лучше просто поддерживать с соседом хорошие отношения, чем быть с ним близкими друзьями. Это снижает вероятность того, что вы будете выносить друг другу мозг. До Остина доходили слухи о том, что случилось с Элиотом, и он соглашался с друзьями, когда они обсуждали, какая это жесть, но теперь он боялся, что проблемы человека, с которым он делит комнату, вот-вот станут и его проблемами тоже.
Что ты делаешь?
Элиот посмотрел на него как на инопланетянина.
Курю. Ты против?
Остин обдумывал, как ответить, не показавшись занудой. Хотел ли он получить нагоняй или заработать какую‐нибудь гадость в легких от пассивного курения? Не особо, хотя на самом деле вопрос был не в этом. На самом деле Элиот спрашивал, настучит он на него или нет.
Тебя засекут.
Он кивнул на сигнализацию над дверью.
Нет, – сказал Элиот и снова повернулся к окну, чтобы выдохнуть дым.
Остин изучал участок бугристой кожи, начинающийся под ухом Элиота. На краю его щеки не росла щетина, а под ворот футболки уходила уродливая россыпь пятен. Но и что с того? Даже если все эти истории были правдой, это не давало ему права быть мудаком.
Как хочешь. Я иду ужинать.
Слышал, она уже ищет тебя.
Что? Кто это сказал?
Элиот рассмеялся – как показалось Остину, прямо‐таки злорадно.
Да шучу я. Я еще ни с кем не разговаривал. Хотя видел бы ты свое лицо.
Элиот бросил окурок в старую бутылку из‐под “Гаторейда”, и Остин не спускал с него глаз, пока не убедился, что он полностью догорел.
Утром первого учебного дня Чарли почистила зубы дважды. У нее был такой пунктик, потому что она слишком привыкла смотреть на рот говорящих людей. Из-за этого она опоздала, что было особенно обидно, учитывая, что она вообще почти не спала и в конце концов задремала незадолго до рассвета. А уже пару часов спустя ее разбудил будильник – он был более старой модели, чем та, которая была у нее дома, с такой мощной вибрацией, что она даже испугалась. Она не учла, что в ванную будет большая очередь – там было четыре раковины на двенадцать девочек, и некоторые шли умываться вдвоем, но Чарли не знала, как об этом договориться. И тем не менее она все равно вернулась, чтобы почистить зубы еще раз. Потом побежала по дорожке к корпусу старшей школы. Найти его было просто – общежития для старшеклассников, мужское и женское, располагались по обеим сторонам от Кэннон-холла, где проходили занятия по АЖЯ. К счастью, она без труда нашла свой класс, но, когда вошла, остальные ученики уже расселись по местам.
Она подошла к учительнице, которая говорила что‐то так быстро и плавно, что все жесты, которые Чарли помнила с вечерних занятий, тут же вылетели у нее из головы.
Простите, что? – спросила она, и теперь настала очередь учительницы выглядеть озадаченной.
Господи, подумала Чарли, она же тоже глухая. Черт. Учительница повторила свою фразу, но медленнее – это был эквивалент того покровительственного тона, которым с ней разговаривали слышащие учителя в Джефферсоне. Чарли была уверена, что видела один из этих жестов раньше – может, это говорила дежурная? – но не могла вникнуть в смысл.
Черт, – сказала она вслух.
Учительница подъехала на вращающемся кресле к доске.
Представьтесь, – написала она.
Мое имя Ч-а-р-л-и, – сказала Чарли.
Но я, как видите, девочка, так что… – добавила она.
Несколько ребят, умеющих читать по губам, захихикали. Учительница снова исполнила жест представиться, и Чарли растерялась – что она сделала не так? Но потом учительница улыбнулась и написала: Приятно познакомиться, Чарли, – под своей первой строчкой.
Она указала мелом на надпись “приятно познакомиться” и опять повторила жест. Забавно, подумала Чарли, что один и тот же жест имеет два значения. В школе для слышащих, когда она представлялась, знакомство с ней никто не считал приятным.
К обеду глаза у Чарли разбегались в разные стороны от бесконечно мелькающих рук. Одно дело понимать разговор взрослых, медленно и старательно объясняющих, что они ели на завтрак, но здесь Чарли попала в совершенно другой мир, и ей больше всего хотелось хоть несколько минут просто отдохнуть, глядя в стену. В Джефферсоне ей тоже не нравился обед – вся эта болтовня доходила до нее абсолютно исковерканной, – пока она не научилась отключать имплант и наслаждаться тишиной. Но возможности закрыть глаза у нее не было – по крайней мере, она подозревала, что не сможет при этом продолжать есть.
Все хорошо, – сказала она себе вслух в холле, чтобы почувствовать, как ее голос отдается в груди.
Как и вчера за ужином, она сделала заказ, ткнув в еду пальцем – проблема заключалась не в языке, просто она совершенно не понимала, что это за блюда, – и выбрала пустой стол в углу. Она провела пальцем по надписи МОЛЧАНИЕ – ЗОЛОТО, вырезанной на столешнице, и невольно улыбнулась.
Потом она сосредоточилась на попытках нарезать лежащий перед ней кусок мяса, густо намазанный соусом и ставший таким жестким от времени, химических добавок и запекания в духовке, что пластиковому ножику он был не под силу. Она сдалась, подняла глаза и увидела какого‐то парня, который листал ее блокнот.
Эй, – сказала она, но, конечно, ничего не произошло.
Она протянула руку и захлопнула блокнот. Он удивленно поднял голову, как будто это она вторглась в его личное пространство. Глаза у него были зеленые, как искусственный газон, такие яркие, что можно было бы подумать, что это линзы, но по остальным деталям его внешности создавалось впечатление, что он не из тех, кто станет их носить. Она уставилась на него.
Он вытащил из‐за уха ручку и написал на салфетке:
Чарли, да?
Она кивнула.
Я искал тебя сегодня утром, – написал он.
Меня? Я… О-п-о-з- д-а-л-а.
Опоздала.
Опоздала, – повторила она.
Он перевернул салфетку.
Директриса хочет, чтобы я показал тебе школу.
Чарли снова кивнула, не зная, что сказать.
Сегодня не могу. Хочешь экскурсию завтра?
О-к.
Экскурсия.
Экскурсия, – повторила она.
О-к.
Он опять перевернул салфетку той стороной, где написал ее имя.
Я…
Он сложил ладонь в букву Ч и постучал ею по подбородку, потом снова указал на имя на салфетке. Чарли почувствовала, как ее сердце застучало быстрее. Неужели он дает ей имя?
Я?
Он кивнул.
Она взяла его ручку и другую салфетку: Что это значит?
Он написал: Ты слишком много говоришь.
Она постаралась скрыть разочарование. Конечно, ее жестовое имя будет намекать на ее зависимость от устной речи. Что же еще в ней примечательного?
Нет, – сказала она.
Но он приложил палец к губам, и она почувствовала, как сквозь нее прошел какой‐то электрический разряд, не похожий на обычные помехи в голове.
Чарли, – сказала она, пробуя новое имя.
Он улыбнулся, обнажив крупные белые зубы с такой большой щелью между передними, что стало понятно: брекеты он не носил. Его улыбку, в отличие от ее, не подвергали пыткам, чтобы добиться идеала.
Чарли, – снова повторил он, указал двумя пальцами на свои глаза, а потом на нее, намекая, что будет за ней следить, и встал со скамейки.
Когда он ушел, она некоторое время сидела неподвижно, обрадованная и взволнованная этой встречей. В Джефферсоне она научилась не доверять таким вот благопристойным типам, хотя этот парень – вот черт, она даже не спросила, как его зовут, – скорее только что вышел из душа, чем специально так уложил волосы. Может, в Ривер-Вэлли все по‐другому. Да еще и эти глаза.
Остаток дня она не понимала практически ничего и мучительно хотела поскорее вернуться к вечерним занятиям, где все происходило медленно и четко.
Ну что? – спросил отец после урока АЖЯ, провожая ее обратно в общежитие.
Что?
Как прошел первый день?
Тяжело, хотела сказать она. Тяжело, странно и интересно. Но за весь день она произнесла всего несколько фраз, и горло было как будто чем‐то забито. Она пожала плечами.
Ночью, когда Кэйла уже спала, Чарли снова открыла онлайн-словарь АЖЯ, не ища ничего конкретного, просто открывая видео в алфавитном порядке и тренируясь перед экраном в темноте, как ненормальная, в надежде, что хоть что‐нибудь останется в памяти. Она так и задремала перед ноутбуком и очнулась в час ночи, с туманом в голове и с больной шеей, где‐то между языками, бодрствованием и сном.
Это был один из тех вечеров, когда ссора была неминуема: атмосферное давление упало, и Мэл еле‐еле дошла домой после работы. Фебруари взяла за правило приходить пораньше, оставлять маму в гостиной наедине с головоломкой, где нужно было искать спрятанные слова, а самой идти готовить ужин, думая, что атмосфера домашнего уюта поможет разрядить обстановку. Но на Мэл это не действовало – она ко всему придиралась, пока Фебруари готовила, а потом с мрачным видом сидела за столом, прихлебывая крем-суп из цуккини и даже не говоря спасибо.
Что‐то тлело между ними всю неделю, с той самой ночи, которую Фебруари провела в школе. Она лелеяла надежду, что обойдется без открытого конфликта, но когда Мэл в раздражении ушла из‐за стола, даже не потрудившись счистить с тарелки остатки еды, миролюбие Фебруари начало таять. Тем не менее она дочиста отдраила посуду, замочила кастрюлю, помогла маме дойти до спальни. Когда она вернулась в гостиную и достала свой ноутбук, Мэл вздохнула настолько тяжело, что это могло бы показаться комичным, если бы так не бесило. Фебруари захлопнула ноутбук.
Что с тобой происходит? – сказала Мэл.
Со мной? Это ты пыхтишь, как астматик хренов.
Тут, похоже, умереть надо, чтобы ты соизволила обратить внимание.
Я приготовила тебе ужин.
Ты все время разговаривала только со своей мамой.
Вообще ты могла бы и сама начать разговор. Танго танцуют вдвоем, ты же знаешь.
Сказала женщина, которая ночует там, где ее душеньке угодно.
Милая, – сказала Фебруари. – Этой традиции уже сто двадцать три года. Всего на одну ночь.
И?
И ничего! Я съела суп! Потом почитала книгу и заснула.
Вообще‐то это было даже романтично, своего рода побег от реальности, но Фебруари не осмелилась в этом признаться. Мэл опустила взгляд на собственные руки, лежащие на коленях.
Ты вроде говорила, что она уезжает, – сказала она тихим голосом.
Так вот оно что. А Фебруари так надеялась, что дело не в этом. Год назад учитель естественных наук в старшей школе ушел на пенсию, и Фебруари взяла на замену миссис Ванду Сайбек. Ванда и Фебруари много лет назад работали вместе в институте в Колумбусе, когда Фебруари сама еще преподавала. Пригласив Ванду в Ривер-Вэлли, Фебруари радостно сообщила Мэл, что наняла давнюю коллегу, которую знает как преданного своему делу учителя. Она сочла неблагоразумным и лишним добавлять, что Ванда по‐прежнему может похвастаться той же красивой фигурой, которая была у нее в две тысячи седьмом, и что ее кожа осталась не тронутой годами, за исключением разве что пары пятнышек на щеках. Она также не упомянула об их четырехмесячной интрижке, случившейся в том же году, о горячем и бурном романе, когда они сами вели себя как подростки, которых учили, и однажды даже опустились до перепихона в лаборантской во время классного часа Ванды. Мэл была склонна к ревности, да и в любом случае это было давным-давно. Ванда теперь была в браке. С мужчиной.
Фебруари немного нервничала из‐за того, что их пути должны были пересечься на корпоративе, но Мэл была в хорошем настроении, и к тому времени, когда подали ужин, Фебруари расслабилась. Ванда была глухой, поэтому ее общение с Мэл было очень скудным – большинство жестов, которые Мэл выучила благодаря маме Фебруари, оказались неприменимы в светском разговоре. Ванда, со своей стороны, много улыбалась Мэл, а во время десерта Мэл даже прошептала Фебруари, что та милая.
Подавали вино, потом эгг-ног, и Мэл не возражала, когда Фебруари с Вандой танцевали, почти соприкасаясь щеками – они же старые друзья, – но в конце концов Деннис, тупица-муж Ванды, обо всем проболтался. Ванда, судя по всему, поделилась с ним подробностями их с Фебруари отношений, чтобы расшевелить его фантазию, и он мимоходом отпустил какой‐то комментарий, причем Фебруари так и не знала наверняка – специально ли он пошутил в разговоре с Мэл о прошлой жизни их жен или она невольно подслушала. Все, что Фебруари помнила, – это то, что, подняв глаза, она увидела, как Мэл выбегает из столовой.
Они были в ссоре несколько дней, Мэл переходила от молчания к тирадам, сначала обвиняя Фебруари в том, что та абсолютно не умеет врать, а потом жалуясь, что ей ведь даже понравилась эта женщина – это, казалось, было для Мэл обиднее всего. Никакие разумные доводы не помогали. Хотя теоретически Фебруари не сделала ничего плохого, ее вероломство подготовило благодатную почву для взращивания сомнений, а Мэл была талантливым садоводом. Если у Фебруари не было далеко идущих планов, почему она не рассказала об их отношениях? На этот вопрос у Фебруари не нашлось удовлетворительного ответа, и она провела пару ночей в Старой резиденции.
Так я ведь и думала, что она уезжает, – сказала Фебруари. – Но у Денниса с работой все сорвалось.
И?
И я не могу уволить ее только потому, что она тебе не нравится!
Ой, да не она, – сказала Мэл, поднимаясь по лестнице. – Это ты мне не нравишься!
Она торжествующе хлопнула дверью спальни. Даже после стольких лет жизни со слышащей партнершей Фебруари не могла заставить себя закричать на весь дом. Она пошла за Мэл и подергала ручку, но дверь была заперта.
Да ну какого хрена, она уже практически натуралка! – крикнула Фебруари в дверь.
Мэл с той стороны фыркнула.
Фебруари вернулась вниз, чтобы поработать, но не могла сосредоточиться. Она сунула ноутбук обратно в чехол. Когда стало ясно, что Мэл не собирается спускаться и начинать второй раунд, она пошла в комнату к маме. Беспокоить ее так поздно было не лучшей идеей: вечерами она часто принимала Фебруари за свою любимую сестру Филлис. Если мама ее не узнает, ей станет только хуже. Но, услышав из‐за двери приглушенные звуки главной музыкальной темы из “Семейной вражды”, Фебруари решила попытать удачи.
Мама нас зовет?
Фебруари вздохнула.
Нет, мама, я твоя дочь, Фебруари.
Мать сняла очки, как будто проблема была в зрении, и потерла переносицу. Надев их обратно, она улыбнулась.
Точно. Фебруари. Прости!
Извини за беспокойство. Мне просто нужно взять книгу.
Фебруари подошла к шкафу в дальнем углу комнаты и выбрала наугад томик, который оказался книгой под названием “Если не кормить учителей, они съедят учеников!” – подарком от Мэл в честь официального назначения Фебруари на пост директора. До того как они поселили здесь мать Фебруари, это был их домашний кабинет. У них было два письменных стола, и они часто работали допоздна, пусть и не разговаривая, – им было приятно сидеть рядом.
Фебруари без особого энтузиазма взяла книгу. Мама похлопала по кровати, приглашая подойти и сесть с ней.
Обожаю этот сериал.
Я думала, ты больше любишь “Колесо фортуны”.
Нет, там слишком много говорят. Это твоему отцу нравилась В-а-н-н-а[4].
При упоминании об отце в прошедшем времени Фебруари почувствовала облегчение. Ее мама стала прежней – по крайней мере, хоть на несколько минут.
Где моя Мэл?
Наверху, в спальне. Немножко злится на меня.
У твоего отца был тот еще характер.
Знаю, – сказала Фебруари, хотя в тот момент не могла припомнить, чтобы хоть когда‐нибудь по‐настоящему его разозлила.
Он стал поспокойнее, когда ты родилась. Мы же можем сходить на фермерский рынок в выходные?
Конечно, если хочешь. В субботу утром?
Да, хорошо. И Мэл возьмем.
Если я завоюю ее расположение.
Она сказала последнюю фразу крупно и размашисто, как будто говорила несерьезно, но в каждой шутке есть доля правды.
Утро вечера мудренее, – ответила мама.
В этом и была вся она – давала советы, прямо противоположные тем, которые дают все остальные. А как же “не ложись спать в раздражении”? Впрочем, у ее родителей почти никогда не было таких серьезных ссор, которые происходили у них с Мэл. Фебруари придвинула стул к маминой кровати и перевела взгляд на телевизор, где в очередной раз показывали сериал “Вражда”.
Если бы в Ривер-Вэлли существовала такая вещь, как осенний бал, Остин Уоркман и Габриэлла Валенти были бы его королем и королевой. Когда эта мысль пришла Остину в голову, он не нашел в ней ничего тщеславного. Ведь так оно и было бы.
По всеобщему мнению, Габриэлла была красива – рыжевато-русые волосы, нежная россыпь веснушек на переносице, – и Остин тоже был хорош собой, по крайней мере хорош настолько, что Габриэллу он устраивал. Они играли Керли и Лори в прошлогодней постановке “Оклахомы!”, несмотря на негласное правило, что главные роли должны оставаться за выпускниками. Но он знал, что настоящая причина их популярности не связана с внешностью или талантом; она заключается в их фамилиях. Пусть Валенти не были Уоркманами, но Габриэлла и ее младшая сестра были глухими во втором поколении, и привилегия иметь родителей, владеющих жестовым языком, давала им еще больше привилегий – Остин и Габриэлла хорошо учились, потому что родители читали им, когда они были маленькими; они неплохо играли, потому что в детстве ходили на театральные постановки глухих; их плавная, уверенная манера исполнения жестов вызывала у сверстников восхищение.
Итак, все знали Остина и Габриэллу, и все знали, что они должны быть вместе. В каком‐то смысле они и были вместе еще с дошкольного возраста, с того момента, когда Остин, взобравшись на детскую горку, сделал Габриэлле предложение. Тот факт, что сам Остин ничего не помнил, не помешал глухим по всему Огайо сплетничать об этом, и хотя они с Габриэллой фактически начали встречаться только спустя десять лет после помолвки, в прошлом году, когда Остин пригласил Габриэллу поесть мороженого, их союз считался предрешенным. Вот почему все, включая самого Остина, были потрясены, когда в День посвящения в старшеклассники, на глазах у всех, в городском бассейне, их отношениям пришел конец.
Он чувствовал себя виноватым – он не хотел портить празднование окончания учебного года, которого они оба с нетерпением ждали. И уж точно не хотел ставить Габриэллу в неловкое положение, тем более перед всем классом. Но Габриэлла отличалась не самым приятным характером. Она постоянно злилась на Остина, обижаясь на невнимание всякий раз, когда он недостаточно активно демонстрировал ей свою любовь. Она была еще и крайне самовлюбленной, что, впрочем, имело свои преимущества: она всегда шикарно одевалась, могла похвастаться идеальным “инстаграмным” телом и часто позволяла Остину наслаждаться им. Но эта одержимость внешностью не ограничивалась ее собственной персоной, и ее любимым занятием было критиковать всех вокруг, что Остин считал проявлением дурного вкуса и очень скучным способом проводить время. Он то и дело поражался ее готовности проехаться по кому‐нибудь, кого они знали всю жизнь, и той непринужденности, с которой оскорбления слетали с ее пальцев. Лично Остину было абсолютно все равно, кто во что одет, у кого неудачная стрижка или кому – как ее жертвам в тот день – не стоит с таким целлюлитом ходить в купальнике.
Они с Габриэллой стояли в бассейне, прислонившись к стенке на мелководье, и Остин, долго терпевший ее злорадное перечисление безобразных ямочек на чужих бедрах, почувствовал, как у него начинает гореть обожженная на солнце шея, и наконец выпалил:
Господи, да замолчи ты уже!
Потом он сожалел, что не увел ее куда‐нибудь, чтобы поговорить наедине. Но они стояли у всех на виду, и глаз, устремленных на них, стало еще больше, когда Остин сказал ей, что как‐то у них в последнее время ничего не ладится. Габриэлла перенаправила всю энергию, которую обычно тратила на перемывание костей, на него – он не уделяет ей внимания, он холоден, у него плохо пахнет изо рта. Он лишил ее девственности и вышвырнул, как подержанную вещь. Остин ошеломленно молчал на протяжении большей части ее тирады, но последнее обвинение заставило его устыдиться, и он попытался схватить ее за руки, чтобы остановить или, по крайней мере, заставить ее жестикулировать не настолько размашисто, но она вырвалась и завизжала так, что напугала спасателя. Спасатель, который был всего на несколько лет старше их, и без того нервничал из‐за глухих детей в бассейне, поэтому тут же подбежал и бросил Габриэлле спасательный буй, который ударил Остина по затылку. Тут настала очередь Остина кричать, и появился еще один спасатель. Когда их с Габриэллой вытащили из воды, он чувствовал, что должен что‐то сказать, но на ум пришло только одно:
Ты была девственницей?
Занятия закончились через два дня; после инцидента в бассейне они больше не разговаривали. Остин смутно подозревал, что она ждет подходящего момента, чтобы привести в исполнение тщательно продуманный план мести, но, когда они увидели друг друга за ужином в первый вечер после возвращения в школу, она просто села за дальний конец стола и уставилась на него.
Потом директриса попросила его показать школу новенькой. Сначала в этом не было ничего особенного. Он подошел и представился без особой помпы, но поймал себя на том, что весь остаток дня не может перестать думать о Чарли, а особенно о ее глазах – о том, как она украдкой осматривалась, как наконец подняла на него взгляд и его окутал теплый ореховый цвет.
Увидев ее на следующий день, он сунул ей записку, где назначал место и время встречи для экскурсии, но от дальнейшего общения воздержался – он пока не мог пригласить ее к ним за стол. Он почувствовал себя трусом, когда она села в дальнем конце столовой рядом с этими помешанными на покемонах, но все места за его столом были заняты, и он просто не готов был к очередной вспышке ярости Габриэллы. Да и с Чарли пока ничего не понятно. Обычно старшеклассников переводят к ним только в том случае, если они недавно переехали в этот район или если их исключили откуда‐то еще. Кто знает, что там у нее?
Большинство сверстников Остина научились жестовому языку здесь, в школе – для них Ривер-Вэлли была сродни надежной гавани, где они понимали других и могли быть понятыми. Но он знал, как сказывается на людях жизнь без подобного убежища, и слышал множество рассказов о совершенно неуправляемых детях, которые перевелись из обычных школ: несколько лет назад один четвероклассник дал пощечину учителю во время контрольной по математике, а в прошлом году ученик средней школы поджег ковер в общежитии.
Но истерики, которые он видел своими глазами, всегда были вызваны скорее болью, чем яростью. Самым ярким воспоминанием было утро во втором классе, когда один мальчик почти час стоял посреди комнаты и безутешно рыдал. Остальным велели выбрать себе игру и перебраться на коврик для групповых занятий, пока учительница и ее ассистентка пытались выяснить, в чем дело. Продавливая пластилин через пресс, Остин наблюдал, как его одноклассник завывает и показывает на свой живот. Учителя сняли и проверили его имплант, потом дали ему печенье в форме зверюшек и яблочный сок, и он тут же выблевал все это в розоватую лужицу на полу, забрызгав учительнице брюки. Ассистентка отвела его к медсестре.
В то время Остину не верилось, что родители забыли научить своего ребенка основным жестам, которыми он мог бы дать понять, что ему плохо; сам он был уверен, что знал их всегда. Только позже он выяснил, что этого мальчика, скорее всего, не учили АЖЯ намеренно, чтобы стимулировать навык устной речи. Жестовый язык был настолько стигматизирован, что, пытаясь избежать его, родители неосознанно выбирали изоляцию, запирая детей в их собственной голове, как раньше их запирали в специализированных учреждениях. Остин думал, что такой жестокий подход стоило бы запретить законодательно, но в мире слышащих людей было много непонятных вещей.
Мысль о дружбе с кем‐то вроде Чарли одновременно привлекала его и заставляла нервничать. Он провел в Ривер-Вэлли всю жизнь, знал здесь всех, но за пределами школы не был знаком почти ни с кем. Помимо родственников по отцовской линии, которых он видел всего пару раз в год, Чарли была наиболее близким к слышащему миру человеком, с кем он мог бы нормально общаться. Но если она не знает жестовый язык, насколько нормальным может быть их общение?
На самом деле глухота редко бывала абсолютной – все глухие чувствовали вибрацию, и большинство умело различать громкие звуки. Некоторые даже могли слышать речь, а слуховые аппараты и импланты расширяли эти возможности. Но если многие дети разговаривали вслух дома или во время поездок в Колсон, у Остина не было никаких вспомогательных аппаратов, и он совершенно не владел своим голосом. Он знал, что во многом поэтому директриса и назначила его сопровождать Чарли. Он не сможет говорить вслух, а значит, и она тоже.
Как дела? – спросил он, когда они встретились после уроков у входа.
Она пожала плечами, переступила с ноги на ногу. Они оба уставились на ее кеды – красные высокие “конверсы”. За исключением их, она была во всем черном, на руке красовались три браслета с шипами. Ему не был виден ее имплант, хотя из любопытства он попытался его разглядеть. У нее были блестящие и такие темные волосы, что почти сливались с футболкой. Она казалась ему просто потрясающе красивой, но из‐за мрачности ее наряда ему было трудно придумать комплимент, который не прозвучал бы сомнительно.
Ты готова? – спросил он вместо этого.
Она кивнула. Он зашагал вперед, и она последовала за ним, держась очень близко. Слишком близко. Да уж, она действительно совсем ничего не знает. Он отступил на середину дорожки, чтобы между ними было больше пространства. Вид у нее стал как будто разочарованный, или ему показалось? В любом случае она, наверное, поняла, что так им легче будет видеть друг друга, и дальше шла вдоль края.
Кампус был разделен пополам, а спортивные площадки и административное здание, Клерк-холл, разграничивали старшую и начальную школы. Ученикам младших классов не разрешалось ходить на половину старших, но старшеклассники, как правило, могли свободно гулять по кампусу и часто ходили к младшим помогать после уроков или проводить с ними индивидуальные занятия. Так что Остин сначала повел Чарли в сторону начальной школы, вдоль оврага к футбольным полям. Он не вполне понимал, что из себя должна представлять экскурсия, и просто указывал на разные здания – общежитие, учебный корпус, тренажерный зал, – но с этой задачей справилась бы любая карта. Что директриса имела в виду, когда назначала его сопровождать Чарли? Они добрались до дорожки, которая шла по периметру кампуса вдоль ограды, и двинулись обратно на половину старшей школы. Солнце было теплым и ласковым. Остин перестал нервничать и решил рассказывать обо всем, что приходило в голову:
Это общежитие назвали в честь первого глухого бейсболиста. В восьмидесятые годы ученики проводили тут демонстрации солидарности с протестующими Галлодета. Здесь я сломал ногу на прыгалке-“кузнечике”, когда мне было девять.
Он остановился перед своим общежитием.
Это мое.
Тут ее лицо изменилось, как будто пелена спала с глаз. Она ничего не поняла из того, что он говорил, да?
Твое?
Ну, значит, только последнюю фразу.
Я живу в кампусе с шести лет.
Чарли серьезно кивнула, но блеск в ее глазах снова угас. Он достал телефон.
мы живем в колсоне, но это такая традиция, – написал он. – моя мама тоже жила в школе.
Подожди. Твои родители глухие?
Моя мама. И ее родители. Мой папа – переводчик.
ты понимаешь? – напечатал он. – у тебя удивленный вид.
Чарли начала набирать несколько разных сообщений, потом удалила каждое, и все это время ее губы сжимались сильнее и сильнее. Он провел ладонью по экрану.
Что? – спросил он.
Я…
Она вздохнула, закончила печатать.
просто кое‐что вспомнила. я думала, что вырасту и стану слышащей, потому что никогда не встречала глухих взрослых.
Остин расхохотался. Он не хотел ее обидеть, но это, конечно, было феерично.
такое часто бывает, – написал он. – многие дети приходят сюда и думают так же.
Ты вообще можешь говорить?
Что?
Извини, – сказала она, снова краснея. – Я имею в виду…
какое‐то время занимался с логопедом
Но?
получается так себе, – написал он. – для тебя… это важно?
Нет.
по‐моему, это здорово, – написала Чарли.
Она застенчиво посмотрела на него, и теперь настала его очередь смущаться. Редко случалось, чтобы он терялся от комплимента, если это можно было так назвать. Чарли, казалось, увидела его замешательство. Она перекинула волосы через плечо.
О-к, – сказал он. – Круто.
Конфета, – попыталась повторить она.
Нет, к-р-у-т-о. Круто.
Он потянулся к ладони Чарли, придал ее пальцу правильное положение и поднес его к ее лицу. Ее щека была загорелой и шелковистой, и он задержал свою руку на ней дольше, чем намеревался, очарованный теплом, исходящим от ее кожи и пронизывающим кончики его пальцев.
Круто, – сказала она.
Ты что, запал на эту девушку? – спросил Элиот, когда Остин вернулся, и почти неохотно оторвал взгляд от окна – можно было подумать, что не он сам начал этот разговор.
Нет. Ты про кого?
Про новенькую. С шипастыми браслетами.
Директриса заставила меня провести ей экскурсию, вот и все.
“Заставила”. – Элиот рассмеялся.
Вообще‐то да!
Она симпатичная. Надо тебе к ней подкатить.
Я ее почти не знаю.
Давай, пока тебя кто‐нибудь не опередил. Всем интересно свеженькое.
А что, ты сам заинтересовался?
Элиот закатил глаза, глубоко затянулся и указал на бугристые шрамы на своем лице. В этом‐то и заключался главный недостаток разговоров на жестовом языке – они требовали зрительного контакта и давали мало возможностей скрыть свои истинные чувства.
Извини.
Забей.
Элиот отвернулся и выдохнул дым во двор.
С чего ты взял, что она мне нравится?
Элиот ухмыльнулся.
Я глухой, а не слепой, – сказал он.
Атмосфера в доме в течение нескольких недель после ссоры оставалась очень напряженной и особенно накалилась на четвертые сутки, когда Фебруари назвала все произошедшее Вандапокалипсисом.
Вот только не надо, – сказала Мэл.
Что? – спросила она, стараясь принять невинный вид.
Делать из меня сумасшедшую.
И все началось заново. Так и выглядели их ссоры – достаточно было одного крупного скандала, чтобы истощить запас взаимного расположения, который они накапливали месяцами. Конечно, у них случалось недопонимание, но ничего такого, что могло бы подорвать саму основу их отношений, и при наличии этой подушки безопасности они могли быстро справиться с паршивым настроением или истолковать любые сомнения в пользу друг друга.
Но теперь все рушилось. Каждая мелочь – не та интонация, случайно испорченная при стирке вещь – могла бросить их в штопор, и они стремительно летели на дно, где уже ждала Ванда. Один раз Фебруари даже спросила Мэл, как, по ее мнению, она должна была поступить. Не то чтобы по Огайо в ожидании ее звонка слонялось множество квалифицированных, дипломированных учителей естественных наук, свободно владеющих жестовым языком, не говоря уже о том, что Ванда даже не сделала ничего плохого. Мэл все это знала, но логика отправилась туда же, куда и взаимное расположение.
Так что Фебруари выбрала тактику, которой теперь и придерживалась, – не думать о проблеме. Она пыталась с головой уйти в работу, но если ее семейная жизнь дала трещину, то в Ривер-Вэлли все шло настолько гладко, что она просто недоумевала. Спокойствие нарушили разве что несколько истерик в младших классах и сообщение о том, что в мужском общежитии для старшеклассников иногда пахнет сигаретами. Курильщика они скоро поймают, об этом она не волновалась. На самом деле она была ему даже благодарна – без него идиллия этого семестра стала бы очень уж подозрительной.
После обеда она оставалась в школе, составляя планы уроков, и задерживалась допоздна под предлогом работы над своим курсом, хотя обычно делала все это дома. И даром что Фебруари стойко терпела все колкости Мэл (сформулированные с тщательностью юриста), она начала чувствовать себя так, словно ее травят медленно действующим ядом, каждая новая доза которого усиливает эффект предыдущей. Тем не менее она все игнорировала, в том числе тот факт, что игнорируют ее саму, пока однажды вечером, спросив Мэл, что та хочет на ужин, и получив в ответ только сердитый взгляд, она не взорвалась.
Да что за хрень! – закричала она. И рассмеялась, как было ей свойственно, когда ситуация становилась такой невыносимой, что она не могла реагировать иначе, – в таких случаях она хохотала, выпучив глаза, что придавало ей немного шальной вид, хотя Мэл утверждала, будто считает это милым. Фебруари смеялась не для того, чтобы изобразить истерику и вызвать к себе жалость – на это ей не хватало актерского таланта; но Мэл подняла взгляд от стопки бумаг, и в конце концов нежность, наполнившая ее глаза, начала выплескиваться через край, пока она тоже не заулыбалась, хоть и не настолько безумно.
Иди сюда, – сказала Мэл.
Фебруари, теперь уже тяжело дыша и чувствуя спазм в животе, подошла и положила голову к Мэл на колени. Та поглаживала ее по лбу, пока она не успокоилась.
Господи, – сказала Фебруари через некоторое время. – Подумать только: все, что нужно было сделать, чтобы ты снова меня полюбила, – это пережить нервный срыв.
Я всегда люблю тебя, Феб. Это не отключается. В том‐то и проблема.
Я знаю, – сказала она.
Некоторое время они сидели молча, как часто делали после крупной ссоры, ожидая, когда пройдет неловкость от осознания того, что они обнажили друг перед другом свои самые уродливые стороны, что они вели себя как дети.
Как дела на работе? – отважилась спросить Фебруари.
И тут плотину прорвало. Они были так заняты ссорой, что им не хватало времени на разговоры, и теперь нужно было многое наверстать. Мэл подробно рассказала о последних исках, которые рассматривались в суде по семейным делам, один хуже другого. В некоторых случаях речь шла о жестоком обращении с детьми или о домашнем насилии, но те истории, которые пугали Фебруари сильнее всего, были еще мрачнее – они заставляли ее гадать, не ухудшает ли ситуацию вмешательство суда в частную жизнь. В отношении работы Мэл была толстокожей – в отличие от Фебруари, которая всегда и поражалась, и завидовала беспечности, с которой Мэл могла об этом всем говорить.
А ты как? – спросила Мэл. – Как новый курс?
Да вроде хорошо. Приятно вернуться к преподаванию.
А девочка Серрано?
Еще слишком рано что‐то говорить, – сказала Фебруари.
Эльдоглядо – понимаете, в чем суть?
Утопический мир в культуре носителей жестового языка называется Эльдоглядо, потому что это общество, которое ставит во главу угла зрение, а не слух, как принято в реальности.
В мире глухих очень популярна легенда о стране, где люди пользуются жестовым языком и все рассчитано на визуальное восприятие. В одних рассказах слышащие составляют меньшинство и учат язык большинства, в других эта страна полностью населена глухими. Кто‐нибудь из вас видел рассказы об Эльдоглядо?
Само его название основано на каламбуре, но это не шутка, а миф.
Миф (сущ.):
1) предание, в котором раскрывается отдельная сторона мировосприятия того или иного народа или воплощаются общественные идеалы и институты;
2) притча; короткая вымышленная история, иллюстрирующая ту или иную моральную установку или принцип.
Роль Эльдоглядо в культуре глухих двояка. Во-первых, это легенда о наших ценностях: о жестовом языке, о свободной коммуникации, о доступной среде, о взаимной поддержке. Она выражает наши мечты о равенстве, об особом пространстве, которое мы могли бы назвать своим и которое не было бы подстроено под потребности слышащего общества, о признании нашей культуры.
Эльдоглядо важно еще и потому, что оно формирует культуру глухих как таковую. Фольклор и мифология – неотъемлемая часть того, что делает нас людьми, и они присущи любому этническому сообществу.
💡 А вы знали?
• Глухие ученые доказали, что глухота соответствует всем критериям, необходимым, чтобы считать сообщество глухих отдельным этносом.
• Долгое время эта теория была общепринятой, пока устный метод обучения практически не уничтожил жестовые языки.
• Даже Александр Грэм Белл, который хотел избавить общество от глухоты, говорил о “расе глухих людей”.
Сделай сам
Вместе с партнером придумайте, что Эльдоглядо значит для вас:
1. Какие архитектурные и технологические разработки или другие элементы дизайна, созданные для удобства глухих, вы бы хотели там видеть?
2. Как бы вы обеспечили доступную среду для слышащего гостя Эльдоглядо?
К тому времени, как Фебруари наконец запихнула в портфель последние на сегодня документы, сумерки уже были на исходе – а все из‐за того, что в мужском общежитии для начальных классов прорвало трубу и на решение проблемы ушло много времени. Она надеялась, что все равно вернется домой раньше Мэл. Она не хотела ничем нарушать воцарившийся между ними мир.
Однако, если не считать трубы, день выдался хорошим. Она наконец‐то влилась в преподавательскую деятельность (и больше не путала базовые команды для интерактивной доски), а ее ученики прекрасно справились с заданием – представили Эльдоглядо как мир, где ничего не мешает обзору: стеклянные здания с балконами, автоматическими дверями и широкими коридорами, где две пары людей могут разойтись без необходимости прерывать разговор, чтобы протиснуться мимо друг друга. Ребята решили, что слышащим гостям надо выдавать очки, которые будут переводить им простейшие фразы с жестового языка на английский, но для полноценного общения придется воспользоваться услугами переводчика. Им также должны предоставляться затычки для ушей. В Эльдоглядо, сказали ученики, люди будут кричать, когда им захочется, и никто не будет пугаться, услышав их голос, или просить их замолчать. Фебруари посмеялась тогда и снова улыбнулась, вспомнив об этом сейчас. В Ривер-Вэлли и так было шумно, и она попыталась представить, во что превратилась бы школа, если бы ученики не уезжали на ночь и на выходные к родителям, где привыкали вести себя тихо.
Фебруари услышала, как зазвонил ее телефон, но звук был приглушенным, и она с тоской поняла, что он доносится со дна ее только что собранного портфеля. Она выругалась и сунула туда руку, но без толку. Пришлось вытащить большую часть бумаг, чтобы высвободить телефон, и на экране она увидела незнакомый номер. Обычно она не отвечала на звонки неизвестных людей, но теперь, приложив столько усилий, чтобы достать телефон, решила, что можно и ответить.
Алло! – сказала она.
Фебруари? – спросил мужчина на другом конце.
Голос был знакомым, но она никак не могла его вспомнить.
Да.
Это Эдвин Суолл. Извините, это я вам на мобильный звоню?
Да, сэр.
Я хотел позвонить на рабочий телефон и оставить сообщение.
Ничего страшного, сэр.
Ну ладно, слушайте, мне нужно с вами встретиться.
Хорошо, сэр. По какому поводу?
Суолл откашлялся.
На следующий год грядет небольшая реструктуризация. Бюджет и все такое.
Конечно, сэр.
Когда вам удобнее? Завтра или на следующей неделе?
Фебруари взглянула на свой настенный календарь. В понедельник у нее было меньше дел, но она не хотела ждать все выходные, чтобы выяснить, что происходит. За свою карьеру она несколько раз слышала слово “реструктуризация”, и оно никогда не означало ничего хорошего.
Завтра в обед я свободна, – сказала она.
Отлично, встретимся в “Панере” в Оукли. В половине первого.
Хорошо, – сказала она.
Но в этом не было ничего хорошего: ни внезапность встречи, ни ее слегка пугающая тема, и уж точно не “Панера” – это заведение Фебруари терпеть не могла. Она шла домой в темноте и старалась не позволять своим мыслям уходить в штопор.
Все в порядке? – спросила Мэл.
Фебруари добралась домой раньше нее, но не настолько, чтобы успеть стереть с лица тревогу.
Да, в порядке. Просто у меня был странный разговор с Суоллом. Он завтра хочет со мной пообедать.
Суолл – это который из управления образования?
Он самый.
Сказал зачем?
Нет.
Ну хоть пообедаешь бесплатно.
Я бы не стала на это ставить, подумала Фебруари.
Как насчет пиццы? А то я хотела приготовить свиные отбивные, но что‐то сил нет.
Давай. Ты закажи, я заберу, – сказала Фебруари и пошла проведать маму.
Фебруари? Вы слышите?
Фебруари усиленно заморгала.
Конечно, сэр, – сказала она.
Ей все никак не удавалось ни на чем сконцентрироваться, кроме неровной капли новоанглийского клэм-чаудера прямо в центре начальственного галстука.
Вы сохраните наш разговор в тайне? – спросил Суолл. – Это крайне важно.
До сих пор Суолл лишь туманно намекал на “изменения, затрагивающие весь округ”, и она никак не могла понять, к чему он клонит. Едва ли она смогла бы повторить хоть что‐то из того, что он говорил.
Конечно, – сказала она.
Хорошо, потому что я убежден, что вы должны узнать эту информацию пораньше. В силу вашей жизненной ситуации.
Что? – спросила она, наконец оторвав взгляд от пятна.
Хотя Суолл никогда не подавал к этому повода, Фебруари поймала себя на том, что боится услышать какой‐нибудь гомофобный выпад.
Моей ситуации?
Ну, вы же там живете, – сказал он.
Где?
В кампусе.
Формально мы живем за пределами кампуса, сэр.
Да, но…
Доктор Суолл вздохнул и склонился над своим супом. Судя по всему, этот галстук ему придется выбросить.











