Читать онлайн Под южными небесами. Юмористическое описание поездки супругов Николая Ивановича и Глафиры Семеновны Ивановых в Биарриц и Мадрид
- Автор: Николай Лейкин
- Жанр: Русская классика, Литература 19 века, Юмор и сатира, Юмористическая проза
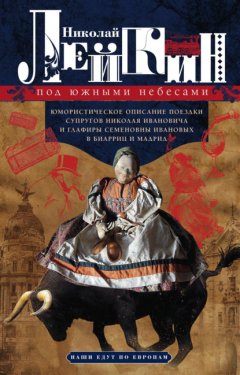
© «Центрполиграф», 2018
© Художественное оформление, «Центрполиграф», 2018
1
Стояла теплая ясная осень, но по ночам температура воздуха значительно понижалась. Каштановые деревья и белые акации на парижских бульварах давно уже пожелтели и обсыпали тротуары желтыми пожухлыми листьями. Стоял конец сентября по новому стилю. Был девятый час утра. Каретка общества «Урбен» с кучером в белой лакированной шляпе, выехав из улицы Ришелье в Париже, давно уже тащилась к самому отдаленному от парижского центра железнодорожному вокзалу – к вокзалу Орлеанской железной дороги. Рядом с кучером стоял большой дорожный сундук, залепленный самыми разнообразными цветными бумажными ярлыками с надписями городов и гостиниц. В каретке среди саквояжей, баульчиков, картонок со шляпами и связки с двумя подушками, завернутыми в пледы, сидели русские путешественники супруги Николай Иванович и Глафира Семеновна Ивановы. Николай Иванович курил, выпуская изо рта густые струи дыма. Глафира Семеновна морщилась и попрекала мужа.
– На минуту не можешь обойтись без соски, – выговаривала она мужу и кашляла. – Учись у французов. Они курят только после еды, а ведь ты как засосешь спозаранку, да так до ночи и тянешь. Все глаза мне задымил… И в нос, и в рот… Брось…
– Да уж докурил. Две-три затяжки только… – спокойно отвечал муж.
– Брось, тебе говорят! Ты видишь, у меня в горле першит!
Она вырвала из руки мужа папироску и выкинула за окно кареты.
Карета переехала уже два моста и тащилась по набережной.
– Удивительное дело: сколько раз мы ездили за границу и ни разу не были в Биаррице, – сказал супруг после некоторого молчания.
– Да ведь ты же… – опять набросилась на него Глафира Семеновна. – Всякий раз я говорила тебе, что у меня ревматизм в плече и коленке, что мне нужны морские купания, но ты не внимаешь. Еще когда мы были на последней Парижской выставке, я у тебя просилась съездить покупаться в Трувиль…
– В первый раз слышу.
– Ты все в первый раз слышишь, что жены касается. У тебя уши уж так устроены. А между тем в Париже на выставке я даже купила себе тогда купальный костюм.
– Ты купила себе, насколько мне помнится, красную шерстяную фуфайку и красные панталоны.
– Так ведь это-то купальный костюм и был. И так зря, ни за что тогда съела у меня в Петербурге моль этот костюм.
– Ну, матушка, если в таком костюме, какой ты купила тогда в Париже, купаться даме при всей публике, то мое почтение! Совсем на акробатический манер…
– Молчите! Что вы понимаете!
– Понимаю, что срам…
– Но если это принято и дамы купаются в костюмах, которые еще срамнее, так неужели же мне отставать? В чужой монастырь со своим уставом не ходят. Впрочем, ведь на купальные костюмы мода, как и на все другое. И я, как приеду в Биарриц, сейчас же куплю себе там самый модный купальный костюм.
– Только уж, прошу тебя, поскромнее.
– Не ваше дело. Какой в моде, такой и куплю.
– Декольты-то этой самой поменьше.
– Мне нечего утаивать. У меня все хорошо, все в порядке. А если так принято…
– Но ведь ты дама хорошего купеческого круга, а не какая-нибудь, с позволения сказать…
– Если есть чем похвастать, то отчего же не похвастать и даме из хорошего купеческого круга? Ведь если бы дама тайком от мужа, а тут… Решительно ничего не вижу предосудительного. Но главное, на морских купаниях это принято, – закончила Глафира Семеновна тоном, не допускающим возражения, и умолкла.
Умолк и Николай Иванович. Он видел, что жена уж начинает его поддразнивать, и знал по опыту, что чем больше он будет ей возражать, тем сильнее она закусит свои удила и будет его поддразнивать. Это состояние супруги он обыкновенно называл: «закусить удила».
Карета подъехала к самому вокзалу Орлеанской железной дороги, закоптелому и грязному на вид, и остановилась у подъезда. К карете подскочили носильщики в синих блузах с номерами на форменных фуражках и стали вынимать из кареты багаж.
– Директ а Биарриц, – сказал Николай Иванович носильщику, вылезая из кареты с пачкой зонтиков и тростей. – Е шерше вагон авек коридор…
– Вуй, вуй. Непременно вагон первого класса с коридором, в котором была бы уборная, – прибавила в свою очередь и Глафира Семеновна тоже на ломаном французском языке и пояснила по-русски: – А то эти французские купе каретками с двумя дверями и без уборной – чистое наказание. Ведь более полусуток ехать. Ни поправиться, ни рук вымыть, ни… – улыбнулась она, не договорив, и, кивнув носильщику, опять перешла на французский язык: – Если будет для нас купе с коридором – получите хорошо за услугу.
Носильщик, захватив из кареты мелкие вещи, пошел в вокзал за тележкой для крупного багажа. Глафира Семеновна, опасаясь за свои новые шляпки в картонках, только что купленные в Париже, побежала, слегка переваливаясь с ноги на ногу, за носильщиком и кричала ему, мешая русские слова с французскими:
– Экуте… Же ву при картонки поосторожнее! Се сон ле шапо… Не опрокидывать их… Ту ба… By компрене? – спрашивала она, опередив носильщика.
Но тот, полагая, что его подозревают, чтобы он не скрылся с вещами, указал на свой номер на фуражке и отвечал по-французски:
– Номер шестьдесят девять, мадам… Будьте покойны.
Супруги Ивановы, как и все русские за границей, приехали к поезду еще задолго до его отправления. Даже билетная касса была еще заперта. Они были на вокзале первыми пассажирами. Глафира Семеновна, как всегда, и за это набросилась на мужа.
– Ну вот, целый час ждать поезда. Лаже билеты купить нельзя. Ходи и слоняйся, пока откроют кассу. А все ты! – восклицала она. – «Скорей, Глаша! Торопись, Глаша! Не копайся, Глаша!»
– Так что за беда, что рано приехали? – отвечал муж. – Опоздать неприятно, а приехать раньше отлично. Хорошие места себе займем в вагоне с коридором. Ты знаешь, места-то в вагоне с уборной берут чуть не штурмом. Наконец, взявши билеты, пока не впускают еще в поезд, можно пройти в ресторан.
– Нет, насчет ресторана-то ты уж оставь. Кофе мы пили в гостинице, а глотать вино с раннего утра я тебе не позволю.
– Не пить сейчас, но захватить с собой в вагон бутылочку не мешает. Ведь это поезд-экспресс… Летит как молния… Нигде на станциях не останавливается. Начнется жажда…
– Вздор. В поезде есть ресторан.
– Какой же на французских железных дорогах ресторан! Ведь это не неметчина с поездом гармошкой.
Носильщик между тем, уложив весь ручной багаж супругов на тележку, тыкал пальцем в тюк с подушками, высовывающимися из пледов, и, улыбаясь, спрашивал:
– Les russes?
– Рюсс, рюсс… – кивнула ему Глафира Семеновна, тоже улыбнувшись, и сказала мужу: – По подушкам узнал.
– Brave nation! – похвалил носильщик русских и прищелкнул языком.
Касир отворил кассу, и Николай Иванович бросился к его окошечку за билетом.
2
Не прошло и десяти минут, как супруги Ивановы сидели уже в купе вагона первого класса с коридором и уборной – единственном вагоне с коридором во всем поезде.
– Отвоевали себе местечки в удобном вагончике! – радостно и торжественно говорила Глафира Семеновна, располагаясь в купе со своими вещами.
– Да хорошо еще, что такой вагон в поезде-то нашелся, а то иногда во французских поездах с коридором-то и не бывает, – тоже торжествующе отвечал Николай Иванович и на радостях дал носильщику целый франк. – На, получай и моли Бога о здравии раба Божьего Николая, – сказал он ему по-русски, но, ощупав в кармане медяки, сунул носильщику и их, прибавив: – Вот тебе и еще ребятишкам на молочишко три французских пятака. С богом… Мерси… – приветливо махнул он ему рукой.
– Bon voyage, monsieur… – раскланялся с ним носильщик, улыбаясь во всю ширину своего рта по поводу такой особенной щедрости.
Мадам Иванова была так рада удачному занятию мест, что даже перестала придираться к мужу, но, не особенно доверяя себе в том, что вагон их с уборной, тотчас же пошла убедиться в этом.
– Все в порядке… – любезно подмигнула она мужу. – Раскладывай поскорей вещи-то по сиденьям.
Николай Иванович стал раскладывать вещи.
– Почти еще полчаса до отхода поезда, – говорил он, взглянув на станционные часы. – За что люблю французов? За то, что у них на конечных пунктах, как и у нас в России, заранее в вагоны забираться можно. Ведь вот поезду еще полчаса стоять, а мы уж сидим. Можно и в окошечко посмотреть, публику покритиковать, водицы содовой выпить, газетку купить. Одним словом, без спешки, с прохладцей… А ну-ка, попробуй это в Берлине! Так на станции Фридрихштрассе примчится невесть откуда поезд и трех минут не стоит. Все бросаются в поезд, как на пожар… вагоны берут чуть не штурмом. Не успеешь даже разглядеть, куда садишься. Носильщик почем зря бросает в вагон вещи. Некогда пересчитать их. Насилу успеешь сунуть ему никелевые пфенниги за труды – фю-ю-ю – и помчался поезд. А здесь куда проще. Нет, французы нам куда ближе немцев!..
Николай Иванович выглянул в окошко и купил у разнозчика газету «Фигаро».
– Зачем ты это? Ведь читать ты не будешь, – заметила ему жена.
– А может быть, кое-что прочту и пойму, – отвечал он. – Во-первых, в «Фигаро» всегда картинка есть. Картинку посмотреть можно. Наконец, о приезжих. Кто из русских в Париж приехал. Это-то уж я всегда понять могу… Да и вообще приятно в путешествии быть с газеткой.
Он надел пенсне, развернул газету и стал смотреть в нее, но тотчас же отложил в сторону.
– Пойду-ка я в буфет… Как ты хочешь, а бутылочку винца надо с собой захватить, – сказал он жене.
– Незачем, – строго остановила его та. – Ты уйдешь из вагона, а здесь увидят, что я одна, и сейчас же займут места в купе.
– Однако, душечка, ведь это экспресс… Поезд полетит без остановки. Нас жажда замучить может. Ведь и тебе не мешает глоточек винца сделать.
– Обо мне прошу не заботиться… А ваше пьянство за границей мне уже надоело. Стоит только вспомнить Турцию, где мы с тобой были в прошлом году, так и то меня в дрожь бросает. Уж, кажется, турки и народ-то такой, которым вино законом запрещено, но ухитрялся же ты…
– Позволь… Но какое же тут пьянство, если я одну бутылку вина-ординера?
– Сиди… От жажды у меня яблоки с собой есть.
И муж повиновался. Он вышел в коридор и стал смотреть в окошко. Прошли дама с мужчиной. Мужчина был в усах, в светлом пальто и фетровой серой шляпе. Пальто сидело на нем как на вешалке и было далеко не первой свежести. Они говорили по-русски.
«Наверное, военный, – подумал про мужчину Николай Иванович. – Не умеют военные за границей статское платье носить».
Догадка его подтвердилась. Мужчина говорил даме:
– Представь себе, мне все кажется, что я где-нибудь свою шашку забыл. Хвачусь за бедро, нет шашки, и даже сердце екает. Удивительная сила привычки.
Николай Иванович обернулся к жене и сказал:
– С нами в поезде русские едут: мужчина и дама.
– Что ж тут удивительного? Я думаю, даже и не один русский мужчина с дамой, а, наверное, целый десяток, – отвечала Глафира Семеновна. – Теперь в Биаррице начало русского сезона. Ведь потому-то я тебя туда и везу. Туда русские всегда наезжают на сентябрь месяц и живут до половины октября. Я читала об этом.
Через минуту и в конце коридора послышалась русская речь. Кто-то плевался и произнес:
– Черт знает, какие здесь во Франции папиросы делают! Словно они не табаком, а мочалой набиты. Мочалой набиты, да еще керосином политы. Право. Не то керосином, не то кошкой пахнут.
– Глаша! И в нашем вагоне русские сидят, – снова заглянул в купе к жене Николай Иванович.
– Ну вот видишь. Я же говорила тебе… Мадам Кургузова говорила мне в Петербурге, что теперь Биарриц переполнен русскими.
– Но все-таки в поезде не много пассажиров. Разве на пути садиться будут, – заметил супруг, сел на свое место, достал из саквояжа путеводитель Ашетта и развернул карту Южной Франции.
– Конечно же по пути будут садиться, – продолжал он, смотря в карту. – По пути будет много больших городов. Вот Орлеан… Это где Орлеанская-то дева была. Помнишь Орлеанскую деву? Мы пьесу такую видели.
– Еще бы не помнить. Еще в первом акте ты чуть не заснул в театре, – отвечала Глафира Семеновна.
– Уж и заснул! Скажешь тоже… – пробормотал Николай Иванович.
– Однако храпеть начал. С ног срезал… Действительно, эта Орлеанская дева что-то уж очень много ныла. Монологи длинные-предлинные… Но спать – это уж чересчур!
– Да не спал я… Брось… Бордо будет по дороге… – рассказывал Николай Иванович. – Это откуда к нам бордосское вино идет. Бордо… Бордо – большой город во Франции. Я читал про него. Торговый город. Вином торгуют. Вот бы нам где остановиться и посмотреть.
– И думать не смей! С какой стати? Поехали в Биарриц, так прямо в Биарриц и приедем.
– Всемирный винный город. При громадной реке город… У нас билеты проездные действительны на пять дней. Остановились бы, так, по крайности, настоящего бордо попробовали.
– А я вот винных-то этих городов и боюсь, когда с тобой путешествую. Бордо… Пожалуйста, ты эту Борду выкинь из головы.
– Да ведь я ежели говорю, то говорю для самообразования. Путешествие – это самообразование… – доказывал Николай Иванович.
Часы по парижскому времени показывали девять часов тридцать пять минут. Кондуктор провозгласил приглашение садиться в вагоны и стал захлопывать дверцы вагонов, запирая их на задвижки. Раздался свисток оберкондуктора. Ему откликнулся паровоз, и поезд тронулся.
Глафира Семеновна перекрестилась.
– Давнишняя моя мечта исполняется. Я еду в Биарриц на морские купания.
3
Поезд-экспресс, постепенно ускоряя ход, вышел из пределов Парижа и несся вовсю, мелькая мимо полустанков, около которых ютились красивые дачные домики парижан, огороженные каменными заборами. С высоты поезда за заборами виднелись садики с фруктовыми деревьями и другими насаждениями, огородики с овощами. Попадались фермы с скученными хозяйственными постройками, пасущиеся на миниатюрных лужках коровы и козы, привязанные на веревках за рога к деревьям, фермерские работники, работающие в синих блузах и колпаках. Некоторые из рабочих, заслыша несшийся на всех парах поезд, переставали работать, втыкали заступы в землю и, уперев руки в бока, тупо смотрели на мелькающие мимо них вагоны. Из придорожных канав вылетали утки, испуганные шумом. Погода стояла прекрасная, солнечная, а потому чуть ли не в каждом домишке сушили белье. Белье сушилось на протянутых веревках, на оголенных от листьев фруктовых деревьях, на балконах и иногда даже на черепичных крышах. Николай Иванович смотрел в окно и воскликнул:
– Да что, они по команде все стирали, что ли! В каждом домишке стирка.
Вскоре, однако, однообразные, хоть и ласкающие взоры, виды приелись. Николай Иванович перестал смотреть в окно и, вооружившись пенсне, снова стал рассматривать карту Франции, приложенную к путеводителю. Смотрел он в карту долго. Тряска вагона мешала ему читать мелкие надписи городов. Но вдруг лицо его прояснилось, и он произнес:
– Мимо каких знаменитых городов-то мы поедем!
– Мимо каких? – задала вопрос Глафира Семеновна, от нечего делать кушавшая шоколадные лепешки из коробки.
– Да мимо Бордо, мимо Ньюи, Медока… Все они тут. Наверное, и Шато-Марго тут, и Сан-Жюльен…
– А чем они знамениты, эти города?..
– Бог мой! Чем они знамениты… Да неужели ты не знаешь?.. А еще в хорошем пансионе училась. Ньюи, Медок, Марго, Лафит – это все винные города.
– Какие?
– Винные… Где вино делают.
– Тьфу ты! А я думала, чем же они знамениты! Да разве девиц в пансионе про винные города учат? Я думаю, и у мальчиков-то эти города из географии их вычеркивают.
– Нет, у нас учили. Про все хмельные города учили. Я и посейчас помню, где Херес в испанской земле лежит. У меня в карте, когда я учился, он был даже красными чернилами обведен.
– Хвастайся! Хвастайся! Разве это хорошо? – сказала мужу Глафира Семеновна.
Николай Иванович продолжал разглядывать карту.
– Бордо, Ньюи, Медок… Когда еще в другой раз будем в этих краях – неизвестно. А теперь едем почти что мимо – и вдруг не заехать!
– Опять? И из головы выбрось, и думать об этом не смей!
– Да я так, я ничего… А только, согласись сама, быть у самого источника виноделия и не испробовать на месте – непростительно. Ты женщина молодая, любознательная.
– Пожалуйста, не заговаривайте мне зубы! – строго сказала жена. – Едем мы в Биарриц, и никуда я не сверну до Биаррица… а тем более в хмельные города.
– Батюшки! И Коньяк тут! – воскликнул Николай Иванович, ткнув пальцем в карту. – Глаша! Коньяк! Вот он, не доезжая Бордо, вправо от железной дороги лежит. Знаменитый Коньяк, вылечивший столько лиц во время холеры… Коньяк… Скажи на милость… Ты, душечка, и сама им, кажется, лечилась столько раз от живота? – обратился он к жене.
– Оставь меня, пожалуйста, в покое! Не уговаривай. Никуда я не сверну. Выбрал самый хмельный город и хочет туда свернуть…
– Допустим, что он очень хмельной… но ведь я не ради пьянства хотел бы в нем побывать и посмотреть, как вино делают, а только для самообразования…
– Знаю я твое самообразование!
– Для культуры… И главное, как близко от железной дороги этот самый Коньяк. Чуть-чуть в сторону… Сама же ты стоишь за культуру и прогресс…
– Никуда мы не свернем с дороги… – отрезала Глафира Семеновна.
– Да хорошо, хорошо… Слышу я… Но ты посмотри, Глаша, как это близко от железной дороги.
Николай Иванович протянул жене книгу с картой, но та вышибла у него книгу из рук. Он крякнул и стал поднимать с пола книгу.
В это время отворилась дверь купе и на пороге остановился молодой человек в коричневом пиджаке с позументом на воротнике, с карандашом за ухом и в фуражке с надписью по-французски: ресторан. Он говорил что-то по-французски. Из речи его супруги поняли только два слова: дежене и дине.
– Как?! С нами едет ресторан! – воскликнул Николай Иванович, оживившись. – Глаша! Ресторан! Вот это сюрприз.
– Я говорила тебе, что есть ресторан, – кивнула ему супруга.
– Me коман донк ресторан? – обратился было к гарсону по-французски Николай Иванович, но тут же сбился, не находя французских слов для дальнейшей речи. – Глаша, спроси у него: коман донк ресторан в поезде, если поезд без гармонии? Как же в вагон-ресторан-то попасть из нашего вагона, если прохода нет?
Начала спрашивать ресторанного гарсона Глафира Семеновна по-французски и тоже сбилась. Гарсон между тем совал билеты на завтрак и разъяснял по-французски, на каких станциях и в какие часы супруги могут выйти из своего вагона во время остановки поезда и пересесть в вагон-ресторан. Билеты были красного цвета и голубые, так как всех желающих завтракать ресторан мог накормить не сразу, а в две смены.
– Лежене? – спросила гарсона Глафира Семеновна и сказала мужу: – Что ж, возьмем два билета на завтрак. Ведь уж если он предлагает билеты, то как-нибудь перетащит нас из нашего вагона в вагон-ресторан.
– Непременно возьмем. Нельзя же не пивши, не евши целые сутки в поезде мчаться. Погибнешь… – радостно отвечал супруг. – Но какие же билеты взять: красные или голубые?
– Да уж бери, какие дороже, чтобы кошатиной не накормили. Кель при? – задала гарсону вопрос Глафира Семеновна, указывая на голубой билет.
– Quatre francs, madame… – отвечал тот. – Mais vous payez apres.
– Четыре франка за голубой билет, – пояснила она мужу. – А платить потом.
– А красный билет почем? Гуж, биле руж комбьян? – спросил Николай Иванович гарсона, тыкая в красный билет.
– Lа même prix, monsieur. – И гарсон опять заговорил что-то по-французски.
– И красные, и голубые билеты по одной цене, – перевела мужу Глафира Семеновна.
Значение разного цвета билетов супруги не поняли.
– Странно… Зачем же тогда делать разного цвета билеты, если они одной цены… – произнес Николай Иванович и спросил жену: – Так какого же цвета брать билеты? По красному или по голубому будем завтракать?
– Да уж бери красные на счастье, – был ответ со стороны супруги.
Николай Иванович взял два красных билета. Гарсон поклонился и исчез, захлопнув дверь купе.
4
В полдень на какой-то станции, не доезжая до Орлеана, была остановка. Кондукторы прокричали, что поезд стоит столько-то минут. По коридору вагона шли пассажиры, направляясь к выходу. Из слова dejeuner, несколько раз произнесенного в их французской речи, супруги Ивановы поняли, что пассажиры направляются в вагон-ресторан завтракать. Всполошились и они. Глафира Семеновна захватила свой сак, в котором у нее находились туалетные принадлежности и бриллианты, и тоже начала выходить из вагона. Супруг ее следовал за ней.
– Скорей, скорей, – торопила она его. – Иначе поезд тронется, и мы не успеем в вагон-ресторан войти. Да брось ты закуривать папироску-то! Ведь за едой не будешь курить.
Выскочив на платформу, они побежали в вагон-ресторан, находившийся во главе поезда, и лишь только вскочили на тормоз вагона-ресторана, как кондукторы начали уже захлопывать купе – и поезд тронулся.
Супруги испуганно переглянулись.
– Что это? Боже мой… Поезд-то уж поехал. Глаша, как же мы потом попадем к себе в купе? – испуганно спросил жену Николай Иванович.
– А уж это придется сделать при следующей остановке, – пояснил русский, стоящий впереди их пожилой коренастый мужчина в дорожной легкой шапочке.
– Ах, вы русский? – улыбнулся Николай Иванович. – Очень приятно встретиться на чужбине со своим соотечественником. Иванов из Петербурга. А вот жена моя Глафира Семеновна.
– Полковник… из Петербурга, – пробормотал свою фамилию пожилой и коренастый мужчина, которую, однако, Николай Иванович не успел расслышать, поклонился Глафире Семеновне и продолжал: – В этом поезде много русских едет.
– Да, мы слышали в Париже, на станции, как разговаривали по-русски.
– Позвольте, полковник, – начала Глафира Семеновна. – Вот мы теперь в ресторане… Но как же наш багаж-то ручной в купе? Никто его не тронет?
– Кто же может тронуть, сударыня, если теперь поезд на ходу? А при следующей остановке вы уж сядете в ваше купе.
– Да, да, Глаша… Об этом беспокоиться нечего. Да и что же у нас там осталось? Подушки да пледы, – сказал Глафире Семеновне муж.
– А шляпки мои ты не считаешь? У меня там четыре шляпки. Неприятно будет, если даже их начнут только вынимать и рассматривать.
– Кто же будет их рассматривать? Никто не решится. У тебя везде на коробках написана по-русски твоя фамилия. А здесь, во Франции, ты сама знаешь, «вив ля Рюси»… К русским все с большим уважением. Вы в Биарриц изволите ехать, полковник? – спросил Николай Иванович пожилого господина.
– Да ведь туда теперь направлено русское паломничество. Ну и мы за другими потянулись. Там теперь русский сезон.
– И мы в Биарриц. Жене нужно полечиться морскими купаниями.
Разговор этот происходил на тормозе вагона, так как публика, скопившаяся в вагоне-ресторане, еще не уселась за столики и войти туда было пока невозможно.
У входа в ресторан метрдотель, с галуном на воротнике жакета и с карандашом за ухом, спрашивал билеты на завтрак.
Полковник, в круглой дорожной шапочке, дал билет метрдотелю и проскользнул в ресторан, но когда супруги Ивановы подали свои билеты метрдотелю, тот не принял билеты и супругов Ивановых в ресторан не впускал, заговорив что-то по-французски.
– Me коман донк?.. Дежене… Ну вулон дежене… Вуаля биле… – возмутился Николай Иванович. – Глаша! Что же это такое?! Навязали билеты и потом с ними не впускают!
– Почем же я-то знаю? Требуй, чтобы впустили, – отвечала Глафира Семеновна. – Экуте… Пуркуа ву не лесе на? Вуаля ле билье, – обратилась она к метрдотелю.
Опять объяснение на французском языке, почему супругов не пускают в ресторан, но из этого объяснения они опять ничего не поняли и только видели, что их в ресторан не впускают.
– Билеты на завтрак были двух сортов и, очевидно, двух цен, – сказала Глафира Семеновна мужу. – Ты, по своему сквалыжничеству, взял те, которые подешевле, а теперь дежене за дорогую плату, и вот нас не впускают.
– Да нет же, душечка… Ведь мы об этом спрашивали.
– Однако видишь же, что нас не впускают. Должно быть, гарсон, который приходил к нам в купе, наврал нам. Ах, и вечно ты все перепутаешь! Вот разиня-то! Ничего тебе нельзя поручить! Ну, что мы теперь делать будем? Ведь это скандал! Ну, куда мы теперь? – набросилась Глафира Семеновна на мужа. – Не стоять же нам здесь, на тормозе… А в купе к себе попасть нельзя. Ведь это ужас что такое! Да что же ты стоишь, глаза-то выпучив?! Ведь ты муж, ты должен заступиться за жену! Требуй, чтобы нас впустили в ресторан! Ну приплати ему к нашему красному билету… Скажи ему, что мы вдвое заплатим. Но нельзя же нам здесь стоять!
Николай Иванович растерялся.
– Ах, душечка… Если бы я мог все это сказать по-французски… Но ведь ты сама знаешь, что я плохо… – пробормотал он. – Все, что я могу, – это дать ему в ухо.
– Дурак! В ухо… Но ведь потом сам сядешь за ухо-то в тюрьму! – воскликнула она, и сама с пеной у рта набросилась на метрдотеля: – By деве лесе… Не имеете права не впускать! Се билде руж, доне муа билле бле… Прене анкор и доне… Мы вдвое заплатим. Ну сом рюсс… Прене дубль… Николай Иваныч, дай ему золотой… Покажи ему золотой…
Рассвирепел и Николай Иванович.
– Да что с ним разговаривать! Входи в ресторан, да и делу конец! – закричал он и сильным движением отпихнул метрдотеля, протискал в ресторан Глафиру Семеновну, ворвался сам и продолжал вопить:
– Протокол! Сию минуту протокол! Где жандарм? У жандарм? Он, наверное, заступится за нас. Мы русские… Дружественная держава… Нельзя так оскорблять дружественную нацию, чтоб заставлять ее стоять на тормозе, не впускать в ресторан! Папье и плюм!.. Протокол. Давай перо и бумагу!..
Он искал стола, где бы присесть для составления протокола, но все столы были заняты. За ними сидели начавшие уже завтракать пассажиры и в недоумении смотрели на кричавшего и размахивающего руками Николая Ивановича.
К Николаю Ивановичу подскочил полковник в дорожной шапочке, тоже уж было усевшийся за столик для завтрака.
– Милейший соотечественник! Что такое случилось? Что произошло? – спрашивал он.
– Ах, отлично, что вы здесь. Будьте свидетелем. Я хочу составить протокол, – отвечал Николай Иванович. – Напье, плюм и анкр… Гарсон, плюм!
– Да что случилось-то?
– Вообразите, мы взяли билеты на завтрак, вышли из своего купе, и вот эта гладкобритая морда с карандашом за ухом не впускает нас в ресторан. Я ему показываю билеты при входе, а он не впускает. Вас впустил, а меня не впускает и бормочет какую-то ерунду, которую я не понимаю. Жена ему говорит, что мы вдвойне заплатим, если наши билеты дешевле… дубль… а он, мерзавец, загораживает нам дорогу. Видит, что я с дамой, и не уважает даже даму… Не уважает, что мы русские… И вот я хочу составить протокол, чтобы передать его на следующей станции начальнику станции. Ведь это черт знает что такое! – развел Николай Иванович руками и хлопнул себя по бедрам.
– Позвольте, позвольте… Да вы мне покажите прежде ваши билеты, – сказал ему полковник.
– Да вот они…
Полковник посмотрел на билеты, прочел на них надпись и проговорил:
– Ну вот видите… Ваши билеты на второй черед завтрака, а теперь завтракают те, которые пожелали завтракать в первый черед. Теперь завтракают по голубым билетам, а у вас красные. Ваш черед по красным билетам завтракать при следующей остановке, в Орлеане, когда мы в Орлеан приедем. Вы рано вышли из купе.
Николай Иванович стал приходить в себя.
– Глаша! Слышишь? – сказал он жене.
– Слышу. Но какое же он имеет право заставлять нас стоять на тормозе! – откликнулась Глафира Семеновна. – Не впускать в ресторан!
– Конечно, вы правы, мадам, но ведь и в ресторане поместиться негде. Вы видите, все столы заняты, – сказал полковник.
– Однако впусти в ресторан и не заставляй стоять на тормозе. Ведь вот мы все-таки вошли в него и стоим, – проговорил Николай Иванович, все более и более успокаивавшийся. – Так составлять протокол, Глаша? – спросил он жену.
– Брось.
За столами супругам Ивановым не было места, но им все-таки в проходе между столов поставили два складных стула, на которые они и уселись в ожидании своей очереди для завтрака.
5
Супругам Ивановым пришлось приступить к завтраку только в Орлеане, около двух часов дня, когда поезд, остановившийся на орлеанской станции, позволил пассажирам, завтракавшим в первую очередь, удалиться из вагона-ресторана в свои купе. Быстро заняли они первый освободившийся столик со скатертью, залитою вином, с стоявшими еще на нем тарелками, на которых лежала кожура от фруктов и корки белого хлеба. Хотя гарсоны все это тотчас же сняли и накрыли стол чистой скатертью, поставив на нее чистые приборы, Николай Иванович был хмур и ворчал на порядки вагона-ресторана.
– В два часа завтрак… Где это видано, чтобы в два часа завтракать! Ведь это уж не завтрак, а обед, – говорил он, тыкая вилкой в тонкий ломтик колбасы, поданной им на закуску, хотел переправить его себе в рот, но сейчас от сильного толчка несшегося на всех парах экспресса ткнул себе вилкой в щеку и уронил под стол кусок колбасы.
Он понес себе в рот второй кусок колбасы и тут же ткнул себя вилкой в верхнюю губу, до того была сильна тряска. Кусок колбасы свалился ему за жилет.
– Словно криворотый… – заметила ему Глафира Семеновна.
– Да тут, матушка, при этой цивилизации, где поезд вскачь мчится по шестидесяти верст в час, никакой рот не спасет. В глаз вилкой можно себе угодить, а не только в щеку или в губу. Ну, цивилизация! Окриветь из-за нее можно.
Николай Иванович с сердцем откинул вилку и положил себе в рот последний оставшийся кусочек колбасы прямо рукой.
– И что бы им в Орлеане-то остановиться на полчаса для завтрака, по крайности люди поели бы по-человечески, – продолжал он. – А с ножа если есть, то того и гляди, что рот себе до ушей прорежешь.
– Это оттого, что ты сердишься, – опять заметила жена.
– Да как же не сердиться-то, милая? Заставили выйти из купе для завтрака в двенадцать часов, а кормят в два. Да еще в ресторан-то не пускают. Стой на дыбах два часа на тормозе. Хорошо, что я возмутился и силой в вагон влез. Нет, это не французы. Французы этого с русскими не сделали бы. Ведь этот ресторан-то принадлежит американскому обществу спальных вагонов, – сказал Николай Иванович.
– Но ведь гарсоны-то французы.
– То был не гарсон, что нас не впускал, то был метрдотель, а у него рожа как есть американская, только говорил-то он по-французски.
Подали яичницу. Приходилось опять есть вилкой, но Николай Иванович сунул вилку в руку гарсону и сказал:
– Ложку… Кюльер… Тащи сюда кюльер… Апорте… Фуршет не годится… Заколоться можно с фуршет… By компрене?
Гарсон улыбнулся и подал две ложки.
– Ешь и ты, Глашенька, ложкой. А то долго ли до греха? – сказал жене Николай Иванович.
– Словно в сумасшедшем ломе… – пробормотала супруга, однако послушалась мужа.
Ложками супруги ели и два мясных блюда, и ломтики сыру, поданные вместо десерта.
Завтрак кончился. Николай Иванович успел выпить бутылку вина и развеселился. За кофе метрдотель, тот самый, который не впускал их в вагон, подал им счет. Николай Иванович пристально посмотрел на него и спросил:
– Америкен? Янки?
Последовал отрицательный ответ.
– Врешь! Америкен. По роже вижу, что американец! – погрозил ему пальцем Николай Иванович. – Нефранцузская, брат, у тебя физиономия.
– Je suis Suisse…
– Швейцарец, – пояснила Глафира Семеновна.
– Ну вот это так. Это пожалуй!.. – кивнул ему Николай Иванович. – Всемирной лакейской нации, поставляющей также и швейцаров и гувернеров на весь свет. Это еще почище американца. Нехорошо, брат, нехорошо. Швейцарская нация, коли уж пошла в услужение ко всей Европе, то должна себя держать учтиво с гостями. Иль не фо па комса, как давеча.
Метрдотель слушал и не понимал, что ему говорят. С поданного ему супругами золотого он сдал сдачи и насыпал на тарелку множество мелочи.
– Что ж, давать ему на чай за его невежество или не давать? – обратился Николай Иванович к жене. – По-настоящему не следует давать. Вишь, рожа-то у него!
– Да рожа-то у него не злобная, – откликнулась супруга. – А мы действительно немножко и сами виноваты, что, не спросясь брода, сунулись в воду… Может быть, у них и в самом деле порядки, чтобы не пускать, если в поезде такая цивилизация, что он бежит с рестораном.
– Ну, я лам. Русский человек зла не помнит, – решил Николай Иванович и, протянув метрдотелю две полуфранковые монеты, прибавил: – Вот тебе, швейцарская морда, на чай. Только на будущее время держи себя с русскими в аккурате.
Метрдотель поклонился и поблагодарил.
– Зачем же ты ругаешься-то, Николай? – заметила мужу Глафира Семеновна. – Нехорошо.
– Ведь он все равно ничего не понимает. А мне за свои деньги отчего же не поругать? – был ответ.
– Тут русские есть в столовой. Они могут услышать и осудить.
Часу в четвертом поезд остановился на какой-то станции на три минуты, и можно было перейти из вагона-ресторана в купе. Супруги опрометью бросились из него занимать свои места. Когда они достигли своего купе, то увидели, что у них в купе сидит пассажир с подстриженной а-ля Генрих IV бородкой, весь обложенный французскими газетами. Пассажир оказался французом. Читая газету, он курил и, когда Глафира Семеновна вошла в купе, обратился к ней с вопросом на французском языке, не потревожит ли ее его курение.
– Если вам неприятен табачный дым, то я сейчас брошу сигару, – прибавил он.
Она поморщилась, но разрешила ему курить.
Николай Иванович тотчас же воскликнул:
– Вот видишь, видишь! Француз сейчас скажется. У него совсем другое обращение. У них все на учтивости. Разве может он быть таким невежей, как давешняя швейцарская морда, заставлявшая нас стоять на тормозе! Me комплиман, монсье… Вив ли Франс… Ну – рюсс… – ткнул он себя пальцем в грудь и поклонился французу.
Француз тоже приподнял свою дорожную испанскую фуражку.
– Зачем ты это? С какой стати расшаркиваться! – сказала мужу Глафира Семеновна.
– Ничего, матушка. Маслом кашу не испортишь. А ему за учтивость учтивость.
Поезд продолжал стоять. Вошел кондуктор, попросил билеты и, увидав, что супруги едут в Биарриц, сообщил, что в Бордо им надо пересаживаться в другой вагон. Фраза «шанже ля вуатюр» была хорошо известна Николаю Ивановичу, и он воскликнул:
– Коман шанже ля вуатюр? А нам сказали, что ту директ… Коман?
– Коман шанже? Сет вагон е пур Биарриц… – возмутилась в свою очередь Глафира Семеновна.
– Нет, мадам, в Бордо в шесть часов вечера вы должны переменить поезд, – опять сказал ей кондуктор по-французски, поклонился и исчез из купе.
– Боже мой! Это опять пересаживаться! Как я не терплю этой пересадки! – вырвалось у Глафиры Семеновны.
6
В шесть часов вечера были в Бордо. Поезд вошел под роскошный, но плохо освещенный навес из стекла и железа. Пассажирам, едущим в Биарриц, пришлось пересаживаться в другой вагон. Супруги Ивановы всполошились. Явился носильщик в синей блузе. Глафира Семеновна сама сняла с сетки свои картонки со шляпами.
– Ты как хочешь, а эти две картонки я не могу поручить носильщику, – говорила она мужу. – Неси ты сам…
Николай Иванович сделал недовольное лицо.
– Но это же, душечка… – начал было он.
– Неси, неси. Вот эта шляпка стоит восемьдесят три франка. Больше четырех золотых я за нее заплатила в Париже. А носильщик потащит ее как-нибудь боком – и что из нее будет! Неси…
И муж очутился с двумя картонками в руках.
– Биарриц… Вагон авек коридор, же ву при… – скомандовала Глафира Семеновна носильщику и торопила его.
– Будьте покойны, мадам… Времени много вам. Здесь вы будете сорок минут стоять, – отвечал ей старичок носильщик и поплелся как черепаха.
Поезд в Биарриц был уже готов, но стоял на противоположной стороне вокзала, на другом пути. Это был поезд Южной дороги. В нем уже сидели пассажиры.
– Вагон авек коридор, авек туалет, – напоминала носильщику Глафира Семеновна, но в поезде не было ни одного вагона с коридором. Все вагоны были старого французского образца с купе, у которых двери отворялись с двух сторон. – Варвары! – сказала она. – Вот вам и французы! Вот вам и цивилизованная нация, а не может понять, что вагоны без уборной быть не могут.
Пришлось садиться в тесноватое купе, где уже сидела пожилая дама, горбоносая, в усах и с маленькой мохнатой собачонкой в руках. Собачонка ворчала и лаяла на супругов, когда они садились.
– Приятное соседство, нечего сказать… – ворчала Глафира Семеновна и крикнула на мужа: – Тише ты с картонками-то! Ведь в них не репа.
Николай Иванович промолчал и стал располагаться у окошка. Через минуту он взглянул на часы и проговорил:
– Полчаса еще нам здесь в Бордо стоять. Бордо… Такой счастливый случай, что мы в знаменитом винном городе Бордо… Пойду-ка я в буфет да захвачу с собой бутылочку настоящего бордоского вина.
– Сиди! Пьяница! Только и думает о вине! – огрызнулась на него супруга.
Она была раздражена, что в поезде нет вагона с коридором, и продолжала:
– Нет, в деле удобств для публики в вагонах мы, русские, куда опередили французов! У нас в первом классе, куда бы ты ни ехал, так тебе везде уборная, отличный умывальник, зеркало и все, что угодно.
– Зато здесь рестораны в поездах… – попробовал заметить супруг.
– Тебе только бы одни рестораны. Вот ненасытная-то утроба… Пить, пить и пить. Как ты не лопнешь, я удивляюсь!
Николай Иванович пожал плечами и, показав глазами на усатую соседку, тихо пробормотал:
– Душечка, удержись хоть при посторонних-то! Неловко.
– Все равно эта собачница ничего не понимает.
– Однако она может по тону догадаться, что ты ругаешься.
– Не учите меня! Болван!
Муж умолк, но через пять минут посмотрел на часы и сказал со вздохом:
– Однако здесь мы могли бы отлично пообедать в ресторане. Бог знает, когда еще потом поезд остановится, а теперь уже седьмой час.
– Вот прорва-то! – воскликнула супруга. – Да неужели ты есть еще хочешь? Ведь ты в три часа только позавтракал. Ведь тебе для чего ресторан нужен? Только для того, чтобы винища налопаться.
– Не ради винища… Что мне винище? А я гляжу вперед. Теперь есть не хочется, так в девять-то часов вечера как захочется! А поезд летит как птица, и остановки нет.
– Не умрешь от голоду. Вот гарсон булки с ветчиной продает, – кивнула Глафира Семеновна в открытое окно на протягивающего свой лоток буфетного мальчика. – Купи и запасись.
– Да, надо будет взять что-нибудь, – сказал Николай Иванович, выглянул в окошко и купил четыре маленькие булочки с ветчиной и сыром.
– Куда ты такую уйму булок взял? – опять крикнула ему супруга.
– Я и для тебя, душечка, одну штучку…
– Не стану я есть. У меня не два желудка. Это только ты ненасытный. Впрочем, у него виноград есть. Купи мне у него винограду тарелочку и бутылку содовой воды.
– Вот тебе виноград, вот тебе содовая вода.
Глафира Семеновна стала утихать.
– Там у него, кажется, груши есть? Возьми мне штуки три груш.
Куплены и груши.
– Прихвати еще коробочку шоколаду. У него шоколад есть.
Куплен и шоколад. Глафира Семеновна обложилась купленным десертом и принялась уписывать виноград. Николай Иванович с аппетитом ел булку с ветчиной. Поезд тронулся. Собачонка на руках у усатой дамы залаяла. Дама дернула ее за ухо. Собака завизжала.
– Хороший покой нам будет в дороге от этой собаки, – проговорила Глафира Семеновна. – То лает, то визжит, подлая. Ведь этак она, пожалуй, соснуть не даст. Да и хозяйка-то собачья своими усами и носом испугать может, если на нее взглянешь спросонья. Совсем ведьма.
Николай Иванович, видя, что к супруге его несколько вернулось расположение духа, с сожалением говорил:
– Бордо, Бордо… Какой мы случай-то хороший опустили! Были в Бордо и не выпили настоящего бордо. Похвастаться бы потом в Петербурге можно было, что вот так и так, в самом бордосском винограднике пил бордо.
– И так похвастаться можешь. Никто проверять не будет, – отвечала супруга.
– Но еще Бордо – бог с ним! А что в Коньяк мы не заехали, так просто обидно! – продолжал он. – Век себе не прощу. И ведь как близко были! Чуть-чуть не доезжая Бордо в сторону… А все ты, Глаша!
– Да, я… И радуюсь этому…
– Есть чему радоваться! Это была бы наша гордость, если бы мы побывали в Коньяке. Оттуда бы я мог написать письмо Рукогрееву. Пусть бы он затылок себе расчесал от зависти. Вином человек иностранным торгует, а сам ни в одном винном городе не бывал. А мы вот и не торгуем вином, да были. Даже в Коньяке были! Шик-то какой! И написал бы я ему письмо из Коньяка так: «Коньяк, такого-то сентября. И сообщаю тебе, любезный Гаврила Осипович, что мы остановились в Коньяке, сидим в коньяковском винограднике и смакуем настоящий коньяк финь шампань». Каково? – подмигнул жене Николай Иванович.
– Брось. Надоел, – оборвала его супруга взглянула на даму с усами и проговорила: – И неужели эта ведьма усатая поедет с нами вплоть до Биаррица?!
Молчавшая до сего времени усатая дама вспыхнула, сердито повела бровями и ответила на чистом русском языке:
– Ошибаетесь, милая моя! Я не ведьма, а вдова статского советника и кавалера! Да-с.
7
Выслушав эти слова, произнесенные усатой дамой, Глафира Семеновна покраснела до ушей и мгновенно уподобилась Лотовой жене, превратившейся в соляной столб. Разница была только та, что Лотова жена окаменела стоя, а мадам Иванова застыла сидя. Она во все глаза смотрела на мужа, но глаза ее были без выражения.
Сам Николай Иванович не совсем растерялся и мог лаже вымолвить после некоторой паузы:
– Вот так штука! А вы, мадам, зачем же притворились француженкой? – задал он вопрос усатой ламе, но не смотря на нее, а устремив взор в темное пространство в окошке.
– Никем я, милостивый государь, не притворялась, а сидела и молчала, – отвечала усатая дама.
– Молчали, слушали, как мы с женой перебраниваемся, и не подали голоса – вот за это и поплатились, – произнес он опять, несколько помолчав. – А мы не виноваты. Мы приняли вас за француженку.
– Еще смеете оправдываться! Невежа! Кругом виноват и оправдывается! – продолжала усатая дама. – И вы невежа, и ваша супруга невежа!
– Вот и сквитались. Очень рад, что вы нас обругали.
– Нет, этого мало для таких нахалов.
– Ну, обругайте нас еще. Обругайте, сколько нужно, – вот и будем квиты.
– Я женщина воспитанная и на это не способна.
Она отвернулась, прилегла головой к спинке вагона и уж больше не выговорила ни слова.
Глафира Семеновна стала приходить в себя. Она тяжело вздохнула и покрутила головой. Через минуту она вынула носовой платок, отерла влажный лоб и взглянула на мужа. На глазах ее показались слезы, до того ей было досадно на себя. Муж подмигнул ей и развел руками. Затем она попробовала улыбнуться, но улыбки не вышло. Она кивнула на отвернувшуюся от них усатую даму и опять тяжело вздохнула. Николай Иванович махнул жене рукой: дескать, брось. Они разговаривали жестами, глазами. Собачонка, лежавшая на коленях усатой дамы, видя, что Николай Иванович машет руками, опять зарычала. Усатая дама, не оборачиваясь, слегка ударила ее по спине.
– Вот дьявольская-то собачонка! – прошептал Николай Иванович, наклоняясь к жене.
Та ничего не отвечала, но достала из саквояжа флакон со спиртом и понюхала спирт. Очевидно, она волновалась.
– Успокойся… Все уладилось… – опять шепнул муж, наклоняясь к ней и кивая на усатую даму. – Спит, – прибавил он.
– Как обманулись! В какой переплет попали! – прошептала наконец и Глафира Семеновна.
– Еще смирна она. Другая бы как заголосила, – отвечал супруг шепотом и опять махнул рукой.
Махнула рукой и супруга, несколько повеселев, и принялась есть грушу в свое утешение.
Покончив с парой груш, она стала дремать и, наконец, улеглась на диван, поджав ноги. Клевал носом и Николай Иванович. Вскоре они заснули.
Когда супруги Ивановы проснулись, поезд стоял. Дверь их купе со стороны, где сидела усатая дама, была растворена, но ни самой дамы, ни ее собаки не было. Не было и ее вещей в сетках. Шел дождь. Завывал ветер. По платформе бегали кондукторы и кричали:
– Bayonne! Bayonne!
– Что это? Уж не приехали ли мы в Биарриц? – спрашивал жену Николай Иванович, протирая глаза.
– А почем же я-то знаю? Надо спросить, – отвечала та. Но спрашивать не пришлось. В их вагон вскочил обер-кондуктор в плаще с башлыком, спросил у них билеты, отобрал их и сообщил, что через пятнадцать минут будет Биарриц.
– Ну, слава богу! – пробормотала Глафира Семеновна. – Скоро будем на месте. Но какова погода! – прибавила она, кивнув на окно, за которым шумел дождь.
– Каторжная, – отвечал муж.
– А усатая ведьма провалилась?
– На какой-то станции исчезла, но на какой, я не знаю, я спал.
– Да и я спала. И как это мы не могли понять, что эта усатая морда русская!
– Да ведь она притворилась француженкой. Даже собачонке своей сказала по-французски: «куш».
– С собаками всегда по-французски говорят.
Глафира Семеновна суетилась и прибирала свои вещи, связывала ремнями подушку, завернутую в плед.
Поезд опять тронулся. Николай Иванович опять вспомнил о Коньяке.
– Ах, Коньяк, Коньяк! – вздыхал он. – Какой город-то мы мимо проехали! О Бордо и Ньюи я не жалею, что мы в них не заехали, но о городе Коньяке…
– Молчи, пожалуйста. И без Коньяка нарвались и вляпались, а уж возвращались бы из Коньяка, так что же бы это было!
– Да ведь ты же назвала, а не я, эту усатую мадам ведьмой. А как меня-то ты при ней ругала! – вспомнил он. – И дурак-то я, и болван.
– Ты этого стоишь.
В окне сверкнула молния, и сейчас же загремел гром.
– Гроза… – сказал Николай Иванович. – В такую грозу приедем в незнакомый город…
Супруга разделяла его тревогу.
– Да, да… – поддакнула она. – Есть ли еще крытые экипажи? Если нет, то как я с своими шляпками в легоньких картонках?.. Пробьет насквозь и шляпки превратит в кисель. Слышишь… Если на станции нет карет, то я со станции ни ногой, покуда дождь не перестанет.
– Наверное, есть. Наверное, есть и омнибусы с проводниками из гостиниц. Такой модный город, да чтоб не быть! Но вот вопрос: в какой гостинице мы остановимся? Мы никакой гостиницы не знаем.
– А скажем извозчику наугад. Наверное, уж есть в городе Готель-де-Франс. Вот в Готель-де-Франс и остановимся, – решила Глафира Семеновна.
– Ну, в Готель-де-Франс так в Готель-де-Франс, – согласился Николай Иванович.
Глафира Семеновна прибралась с вещами и уселась.
– Говорят, здесь испанская земля начинается, хоть и принадлежит эта земля французам, – начала она. – Мне Марья Ивановна сказывала. В гостиницах лакеи и горничные испанцы и испанки. Извозчики испанцы.
– Вот посмотрим на испаночек, – проговорил муж, осклабясь. – До сих пор видел испаночек только в увеселительных садах на сцене, а тут вблизи, бок о бок…
– А ты уж и рад? У тебя уж и черти в глазах забегали! – вскинулась на него супруга.
Николай Иванович опешил.
– Душечка, да ведь я на твои же слова… – пробормотал он.
– То-то на мои слова! Смотри у меня!
Поезд убавлял ход и наконец остановился на плохо освещенной станции.
– Биарриц! Биарриц! – кричали кондукторы.
Дверь купе отворилась. Вбежал носильщик в синей блузе и заговорил на ломаном французском языке. Что он говорил, супруги не понимали.
– Испанец, – сказала Глафира Семеновна мужу про носильщика. – Слышишь, как он говорит-то? И меня сеньорой называет. – Вуатюр пур ну… Готель-де-Франс, – объявила она носильщику.
Супруги вышли из купе и поплелись за носильщиком.
У станции стояли и кареты, и омнибусы. Нашлась и Готель-де-Франс, супруги не обманулись. Был на станции и проводник из Готель-де-Франс. Он усадил супругов в шестиместный омнибус, поставил около Глафиры Семеновны ее картонки со шляпками и побежал с багажной квитанцией за сундуком супругов.
А дождь так и лил, так и хлестал в стекла окон омнибуса. По временам завывал ветер, сверкала молния и гремел гром. Была буря. Омнибус, в ожидании багажа, стоял около плохо освещенного одним газовым фонарем станционного подъезда. Площадь перед станцией была вовсе не освещена, и чернелось совсем темное пространство. На подъезде переругивались носильщики на непонятном языке, который супруги принимали за испанский, но который был на самом деле местный язык басков. Все было хмуро, неприветливо. Николай Иванович взглянул на часы и сказал:
– По парижскому времени четверть одиннадцатого. Достанем ли еще чего-нибудь поесть-то в гостинице? Есть как волк хочу, – прибавил он. – Две порции румштека подавай – и то проглочу!
– Уж и поесть! Хоть бы кофе или чаю с молоком и булками дали – и то хорошо! – откликнулась супруга.
Но вот сундук принесен и взвален на крышу омнибуса, проводник вскочил на козлы, и лошади помчались по совершенно темному пространству. Ни направо, ни налево не было фонарей. Глафира Семеновна была в тревоге.
– Уж туда ли нас везут-то? – говорила она. – В гостиницу ли? Смотри, какая темнота…
– А то куда же? – спросил супруг.
– Да кто же их знает! Может быть, в какое-нибудь воровское гнездо, в какой-нибудь вертеп. Ты видал проводника-то из гостиницы? Рожа у него самая разбойничья, самая подозрительная.
– Однако у него на шапке надпись: Готель-де-Франс.
– Да ведь можно и перерядиться, чтобы ограбить. Что меня смущает – это темнота.
– Полно… Что ты… Разве это возможно? – успокаивал супруг Глафиру Семеновну, а между тем уж и сам чувствовал, что у него холодные мурашки забегали по спине.
– Главное то, что мы в карете одни. Никто с нами в эту гостиницу не едет, а приехали в Биарриц много, – продолжала супруга.
– Не думаю я, чтобы здесь проделывали такие штуки. Европейское модное купальное место.
– Да, модное, но здесь испанская земля начинается, а испанцы, ты, я думаю, сам читал, нож у них на первом плане… нож… разбойничество…
Николай Иванович чувствовал, что бледнеет. Он выглянул в открытое дверное окно омнибуса и затем произнес дрожащим голосом:
– В самом деле по лесу едем. Стволы деревьев направо, стволы деревьев налево и никакого жилья по дороге. Не вынуть ли револьвер? Он у меня в саквояже, – сказал он жене.
– Да ведь он у тебя не заряжен.
– Можно зарядить сейчас. Патроны-то у тебя… Ах, патроны-то ведь в багажном сундуке, а сундук на крыше омнибуса!
– Ну, вот ты всегда так! – набросилась на мужа Глафира Семеновна. – Стоит возить с собой револьвер, если он не заряжен! А вот начнут на нас нападать – нам и защищаться нечем.
– Да ведь никто не знает, что не заряжен. Все-таки им можно напугать. Я выну его.
И Николай Иванович стал отворять саквояж.
– Постой… Погоди… Фонари появились… Улица… Мы выехали из леса… – остановила мужа Глафира Семеновна.
Действительно, выехали из леса. Ехали улицей с мелькавшими кое-где газовыми фонарями. То там, то сям попадались постройки. На одной из них виднелась даже вывеска: Hotel de Bayoune. Наконец постройки пошли уж вплотную.
– Ну, слава богу, город… здесь, если что случится, так и караул закричать можно. Услышат… – сказала Глафира Семеновна и перекрестилась.
Николай Иванович тоже ободрился и тотчас же стал упрекать жену:
– Какая ты, однако, трусиха… Это ужас что такое!
– Да ведь и ты то же самое…
– Я? Я ни в одном глазе…
– Однако за револьвером полез.
– Это чтоб тебя успокоить.
А дождь так и лил, ветер так и завывал, гремя железными вывесками.
Омнибус остановился перед железной решеткой, за которой виднелся двухэтажный дом с освещенной фонарем вывеской Hotel de France, висевшей над входной дверью. Из двери выбежал мужчина с непокрытой головой и с распущенным зонтиком, отворил дверцы омнибуса и, протянув руку Глафире Семеновне, помог ей выйти и под зонтиком проводил ее до входа.
Сзади ее перебежал и Николай Иванович.
Супруга стояла в швейцарской и говорила:
– Коробки со шляпками… Бога ради, коробки со шляпками чтоб не замочило! Ле картон авек де шапо… ля плюй… же ву при, авек параплюи… Николай Иваныч, бери зонтики и беги в карету за коробками.
8
Комната в гостинице осмотрена супругами. Цена сообщена. Их сопровождал хозяин-француз, тот самый, который выскочил из гостиницы с зонтиком к Глафире Семеновне.
– Дорого… – сказал Николай Иванович в ответ на объявленную цену. – Се шер… Больше шер, чем в Париже. А Пари дешевле…
Он хотел было торговаться, но Глафира Семеновна перебила его.
– Брось… Биарриц ведь самое дорогое, самое модное место, – сказала она. – Здесь, само собой, дороже Парижа.
– Модное-то модное, но почем знать, может быть, мы не в центре города, а в каком-нибудь захолустье? Да и верно, что в захолустье, судя по той пустынной дороге, по которой мы ехали.
– А если это в захолустье, то ночь переночуем, а завтра и переедем. Ведь завтра утром пойдем смотреть город и увидим, в захолустье это или в центре.
Пока они разговаривали по-русски, француз-хозяин хлопал глазами.
– Если вы возьмете у нас полный пансион, то, разумеется, вам обойдется дешевле, – проговорил он по-французски.
Глафира Семеновна перевела мужу.
– Какой тут пансион! – воскликнул тот. – Надо прежде испытать завтра – чем и как здесь кормят, а потом уж уговариваться о пансионе. Нон, нон, пансион демен, завтра пансион, – дал он ответ хозяину. – А апрезан – дони ну дю тэ… тэ рюсс… русский чай и манже, манже побольше. Глаша! Ты лучше меня говоришь. Скажи ему, чтоб подали нам чаю, молока, кипятку к чаю и поесть чего-нибудь.
Начала ломать французский язык Глафира Семеновна. Хозяин понял и объяснил, что еды теперь он никакой не может дать, кроме хлеба, масла и яиц, так как кухня уже заперта. Она перевела мужу.
– Ну, черт его дери, пусть даст к чаю хоть хлеба с маслом и яйца.
Хозяин ушел. В комнату начали вносить картонки, саквояжи, баульчики, полушки. Явилась в комнату молоденькая заспанная горничная в черном платье и белом чепце и стала приготовлять постели и умывальник. Глафира Семеновна раздевалась, снимала с себя корсаж и надевала ночную кофточку. Николай Иванович сердился и говорил:
– И как это они здесь за границей свою кухню везде берегут! Кухня и повар словно какая-то святыня. Еще нет одиннадцати часов, а уж и кухня закрыта, и ничего достать поесть горячего нельзя. Мы, русские, на этот счет куда от иностранцев вперед ушли! У нас в Петербурге, да и вообще в России, в какую хочешь захолустную гостиницу приезжай ночью до полуночи, то тебе уж всегда чего-нибудь горячего поесть подадут, а холодного – ветчины, телятины, ростбифа, так и под утро дадут. Разбудят повара и дадут. А здесь в хорошей гостинице только в одиннадцатом часу и уж отказ: кухня заперта, его превосходительства господина повара на месте нет.
– Ну что делать, в чужой монастырь с своим уставом не ходят, – откликнулась умывавшаяся супруга. – Такие уж здесь порядки.
– Да пойми ты: я есть хочу, есть, я путешественник и приехал под защиту гостиницы. Гостиница должна быть для меня домом, как это у нас в России и есть. Ведь это гостиница, а не ресторан. А я в ней и холодной еды себе вечером достать не могу, – доказывал Николай Иванович.
Девушка принесла в номер чай, сервированный на мельхиоре, две булочки, два листочка масла, но яиц не было.
– Пуркуа без еф? Яйца нужно! Еф! – воскликнул Николай Иванович.
Но горничная заговорила что-то на непонятном для супругов языке.
– Испанка, должно быть, – сказала Глафира Семеновна. – Эспаньоль? – спросила она девушку.
– Non, madame… Basque… – дала ответ горничная.
– Баска она.
– Что же она про яйца говорит?
– Ничего понять не могла я. Да брось. У меня в корзинке два хлебца с ветчиной есть, которые ты купил в Бордо, – вот и съешь их.
– Ах, Бордо, Бордо! Вот видишь, как Бордо нам помог, а ты не хотела в этот город заехать! – проговорил Николай Иванович. – Ну, баска, уходи, проваливай, – махнул он рукой остановившейся горничной и смотревшей на него недоумевающими глазами. – Да никак она и кипятку к чаю не подала? – взглянул он на поднос с чаем.
– Подать-то подала, но меньше чайной ложки, в маленьком молочничке, – отвечала жена и покачала головой: – Не могут они научиться, как русские чай пить любят, а еще имеют здесь в Биаррице так называемый русский сезон.
– Да, да, – подхватил Николай Иванович. – К англичанам приноравливаются, англичанам и чай приготовляют по-английски, и английские сандвичи делают, пудинги английские в табльдотах подают, хотя эти пудинги никто не ест за столом, кроме англичан, а для русских – ничего. А русских теперь за границей не меньше, чем англичан, да и денег они тратят больше. Черти! закоснелые черти! – выбранился он и принялся есть хлебцы с ветчиной, купленные в Бордо, запивая их английским вскипяченным и доведенным до цвета ваксы чаем.
Хлебцы с ветчиной опять навеяли ему воспоминание о Бордо и о других винных городах, мимо которых он проехал, и он снова принялся вздыхать, что не побывали в них.
– Ах, Бордо, Бордо! Но о Борле я не жалею. Но вот за город Коньяк – никогда я себе не прощу…
– Да уж слышали, слышали. Я думаю, что пора и бросить. Надоел, – оборвала его супруга.
– Эдакий знаменитый винный город…
– Брось, тебе говорят, иначе я погашу свечи и лягу спать.
– Хорошо, я замолчу. Но я удивляюсь твоей нелюбознательности. Женщина ты просвещенная, объездила всю Европу, а тут в Коньяке, который лежал нам по пути, имели мы возможность испробовать у самого источника…
Глафира Семеновна задула одну из свечей.
– Не замолчишь, так я и вторую загашу, – сказала она.
– Какая настойчивость! Какая нетерпеливость! – пожал плечами муж и зажег погашенную свечку.
– Надоел… Понимаешь ты, надоел! Все одно и то же, все одно и то же… Коньяк, Коньяк…
– А ты хочешь, чтобы я говорил только об одних твоих шляпках, купленных тобой в Париже?..
– Как это глупо!
Глафира Семеновна, кушавшая в это время грушу, рассердилась, оставила грушу недоеденною и начала ложиться спать.
Николай Иванович умолк. Он поел, зевал и стал тоже приготовляться ко сну, снимая с себя пиджак и жилет.
На дворе по-прежнему ревела буря, ветер завывал в каменной трубе, а дождь так и хлестал в окна, заставляя вздрагивать деревянные ставни, которыми они были прикрыты.
– Погода-то петербургская, нужды нет, что мы в Биаррице, на юге Франции, – сказал он.
– Не забудь запереть дверь на ключ, да убери свой бумажник и паспорт под подушку, – командовала ему супруга.
– Ну вот… Ведь мы в гостинице. Неужели уж в гостинице-то?.. – проговорил супруг.
– А кто ее знает, какая это гостиница! Приехали ночью, не видали ни людей, ни обстановки. Да наконец, давеча сам же ты говорил, что, может быть, эта гостиница находится где-нибудь на окраине города, в захолустье. Сундук давеча внес к нам в комнату совсем подозрительный человек, черный как жук и смотрит исподлобья.
– Хорошо. Вот этого совета послушаюсь.
Николай Иванович положил под подушку часы, бумажник и стал влезать на французскую высокую кровать, поставив около себя, на ночном столике, зажженную свечку.
В трубе опять завыло от нового порыва ветра.
– Холодновато, холодновато здесь на юге, – пробормотал он, укрываясь по французскому обычаю периной. – Как мы завтра в море-то купаться полезем? Поди, и вода-то теперь от такого ветра холодная, такая же, как у нас в Петербурге.
– Ну вот… Ведь здесь купаются в костюмах, а костюмы эти шерстяные. В костюмах не будет так уж очень холодно. Все-таки в одежде, – отвечала Глафира Семеновна.
Через пять минут супруги спали.
9
Ночью утихла буря, перестал дождь, и наутро, когда Николай Иванович проснулся, он увидел, что в окна их комнаты светит яркое южное солнце. Он проснулся первый и принялся будить жену. Глафира Семеновна проснулась, потянулась на постели и сказал:
– Всю ночь снились испанские разбойники. В чулках, в башмаках, в куртках, расшитых золотом и с ножами в руках. Все будто бы нападали на нас. А мы в лесу и едем в карете. Но я почему-то не пугалась. Да и не страшные они были, а даже очень красивые. Нападают будто на нас и трубят в рога.
– Это ветер всю ночь завывал, а тебе приснилось, что в рога трубят, – заметил Николай Иванович.
– А один будто бы с головой, повязанной красным платком… Точь-в-точь как мы видели в опере… А один из них ворвался в карету, схватил меня на руки и понес будто бы в лес.
Николай Иванович покрутил головой.
– И всегда тебе мужчины снятся, которые тебя на руках таскают, – проговорил он. – Но я молчу. А приснись мне испанки, так ты бы уж сейчас набросилась на меня от ревности, хотя бы я ни одной из них на руках и не таскал, – Полно врать-то! Когда же это я за сон?.. На дворе, кажется, хорошая погода? – спросила она.
– Прелестная. Солнце светит вовсю…
Он отворил окно и сквозь пожелтевшую уже листву платана увидал голубое небо, а между двумя домами виднелся кусок морской синевы. Невзирая на восемь часов утра, уличная жизнь уже началась. Сновал народ по тротуару, проезжали извозчики в пиджаках, красных галстуках и в испанских фуражках без козырьков с тульями, надвинутыми на лоб. Везли каменный уголь в телеге, запряженной парой рыжих быков с косматыми гривами между рогов, тащился серый осел с двумя корзинками, перекинутыми через спину, в которых был до краев наложен виноград. Щелкали бичи, бежали в школу мальчики с связками книг, пронзительно свистя в свистульки или напевая какие-то разудалые мотивы. В домах через улицу были уже отворены магазины. Николай Иванович увидал газетную лавку, кондитерскую с распахнутыми настежь дверями и, наконец, вывеску Hotel de l'Europe.
– Знаешь, Глаша, ведь мы хоть и наудачу приехали в эту гостиницу, а остановились в центре города, да и море от нас в ста шагах. Вон я вижу его, – проговорил Николай Иванович.
– Да что ты! – воскликнула Глафира Семеновна и тотчас же, вскочив с кровати, принялась одеваться. – Неужели видно море?
– Да вот оденешься и подойдешь к окну, так и сама увидишь.
– А купающихся видно? Ведь тут так прямо на виду у всех, без всяких купален и купаются мужчины и женщины. Мне Марья Ивановна рассказывала. Она два раза ездила сюда.
– Нет, купающихся не видать. Да ведь рано еще.
Глафира Семеновна торопилась одеваться. Она накинула на юбку утреннюю кофточку и подскочила к окошку.
– Быки-то, быки-то какие с косматыми головами! Я никогда не видала таких. Шиньоны у них, – указывала она на пару волов, тащащих громадную телегу со строевым лесом. Смотри-ка, даже собака тележку с цветной капустой и артишоками везет. Бедный пес! А кухарка сзади тележки под красным зонтиком идет. Должно быть, что это кухарка… Вот за этого несчастного пса я уже отхлестала бы эту кухарку. Вези сама тележку, а не мучь бедную собаку. Смотри, собака даже язык выставила. Нет здесь общества покровительства животным, что ли?
Но Николай Иванович ничего не ответил на вопрос и сам воскликнул:
– Боже мой! Михаил Алексеич Потрашов на той стороне идет!
– Какой такой Михаил Алексеич?
– Да доктор один русский… Я знаю его по Москве. Когда езжу в Москву из Петербурга, так встречаюсь с ним в тамошнем купеческом клубе. Вот, значит, здесь и русские доктора есть.
– Еще бы не быть! Я говорила тебе, что теперь здесь русский сезон, – отвечала супруга.
– И еще, и еще русский! – снова воскликнул муж. – Вот Валерьян Семеныч Оглотков, переваливаясь с ноги на ногу, плетется. Это уж наш петербургский. Он лесник. Лесом и бутовой плитой он торгует. Смотри-ка, в белой фланелевой парочке, белых сапогах и в голубом галстуке. А фуражка-то, фуражка-то какая мазурническая на голове! У нас в Петербурге солидняком ходит, а здесь, смотри-ка, каким шутом гороховым вырядился! Батюшки! Да у него и перчатки белые, и роза в петлице воткнута! Вот уж не к рылу-то этой рыжей бороде англичанина из себя разыгрывать, – прибавил Николай Иванович и сказал жене: – Однако давай поскорей пить кофей, оденемся да и пойдем на берег моря. Все вниз к морю спускаются. Туда и доктор Потрашов пошел, туда и Оглотков направился.
Он позвонил и приказал явившейся на звонок горничной, чтобы подали кофе.
– Женская прислуга здесь, должно быть, – проговорил он. – Люблю женскую прислугу в гостинице и терпеть не могу этих чопорных фрачников лакеев с воротничками, упирающимися в бритый подбородок. Рожа, как у актера, и надменная-пренадменная. То ли дело молоденькая, миловидная горничная, кокетливо и опрятно одетая! В чепчике, в фартучке… Люблю!
– Еще бы тебе не любить горничных! Ты волокита известный… – пробормотала жена.
– Ну, вот видишь, видишь, – подхватил супруг. Я сказал тебе давеча, когда ты мне рассказывала твой сон об испанцах… Чуть я что – сейчас и ревность, сейчас и упреки. А я ведь небось не попрекнул тебя испанцами-разбойниками.
– Так ведь я, дурак ты эдакий, испанцев видела во сне, а ты наяву восторгаешься горничными и говоришь взасос об них. Свеженькая, молоденькая, в чепчике, в передничке… – передразнила Глафира Семеновна мужа.
Горничная внесла поднос с кофе, булками и маслом, остановилась и, улыбаясь, заговорила что-то на ломаном французском языке. Глафира Семеновна раза два переспрашивала ее и наконец перевела мужу:
– Хозяйка здешней гостиницы хочет нас видеть, чтобы переговорить с нами о пансионе.
– Опять пансион?! – воскликнул Николай Иванович. – Какой тут пансион, если мы только вчера ночью приехали! Надо сначала испробовать, чем и как она нас кормить будет. Апре, апре авек пансион! – махнул он горничной.
Супруги наскоро пили кофе. Глафира Семеновна прихлебывала его из чашки, отходила от стола и рылась в своем дорожном сундуке, выбирая себе костюм.
– Не знаю, во что и одеться. Кто их знает, как здесь ходят!
– Да выгляни в окошко. Лам много проходит, – кивнул муж на улицу.
– Но ведь тут обыкновенная улица, а мы пойдем на морской берег. Мне Марья Ивановна рассказывала, что на морском берегу гулянье, всегда гулянье.
– Ну так и одевайся, как на гулянье.
– Давеча, когда я смотрела в окошко, дамы все больше в светлых платьях проходили.
– Вот в светлое платье и одевайся. Ведь у тебя есть.
– Хорошо, я оденусь в светлое. Но большой вопрос в шляпке. Что здесь теперь: осень или лето? По-нашему осень, но ведь здесь юг, Биарриц, морское купание. Если здесь теперь считается осень, то я надела бы большую шляпу с высокими перьями, которую я купила в Париже как осеннюю. Она мне из всех моих шляп больше идет к лицу. Но если здесь теперь считается лето, то у меня есть прекрасная волосяная шляпа с цветами… Как ты думаешь? – обратилась Глафира Семеновна к супругу.
– Ничего я, матушка, об этом не думаю. Это не по моей части, – отвечал тот, смотря в окно.
– Ах, так ты думаешь только об одних молоденьких горничных в передничках и чепчиках? – уязвила она его.
– Лето здесь, лето… Надо одеваться по-летнему. Купальный сезон, так, значит, лето.
– Однако он называется осенний сезон.
– Ну и одевайся как знаешь.
Глафира Семеновна одевалась долго. Только к десяти часам она была готова, пришпилила к горлу брошку с крупными бриллиантами и надела на руку дорогой бриллиантовый браслет. Наконец супруги стали спускаться с лестницы. В швейцарской с ними низко-пренизко раскланялся хозяин, приблизился к ним и заговорил по-французски. В речи его супруги опять услышали слово «пансион», произнесенное несколько раз.
– Дался им этот пансион! – воскликнул Николай Иванович по-русски и тут же прибавил по-французски:
– Апре, апре, монсье!.. Нужно манже, а апре парле де пансион.
Супруги вышли на улицу.
10
Глафира Семеновна прочитала на углу дома, что улица, на которую они вышли, называется улицей Мэрии, и тотчас сообщила о том мужу, прибавив:
– Мэрия у них – это все равно что наша городская дума.
– Знаю я. Что ты мне рассказываешь! – отвечал супруг и спросил: – Ну, куда ж идти: налево или направо?
– Да уж пойдем к морю. Ведь мы для моря и приехали. Вон море виднеется, – указала она проулок, спускающийся к куску синей дали.
Они стали переходить улицу Мэрии, засаженную около тротуаров платанами, и увидали, что дома ее сплошь переполнены магазинами с зеркальными стеклами в окнах. В проулке, ведущем к морю, направо и налево были также магазины с выставками на окнах. В открытые двери магазинов виднелись приказчики в капулях и с закрученными усами, перетянутые в рюмочку разряженные продавщицы. Супруги остановились перед окном магазина, где за стеклом были вывешены шерстяные купальные костюмы.
– А вот они, купальные-то костюмы! – воскликнула Глафира Семеновна. – Посмотри, какая прелесть этот голубой костюм. Голубой с белым, – обратилась она к мужу. – Мне, как блондинке, он будет к лицу. Вот его я себе сегодня и куплю.
Из магазина тотчас же выскочил молодой приказчик с карандашом за ухом и с черными усами щеткой и, поклонившись, произнес по-французски:
– По случаю конца сезона все вещи продаются с уступкой двадцати двух процентов, мадам. Не угодно ли будет зайти и посмотреть?
– Уй, уй… Ну зариврон апре, – кивнула ему Глафира Семеновна.
А супруг ее заметил:
– Замечаешь, здесь тоже на апраксинский манер зазывают.
Но вот перед ними открылось необозримое синее пространство. Они подошли к террасе, обрывающейся прямо к морю и огороженной железной решеткой с кустарными насаждениями, тщательно подстриженными в линию. Это был маленький залив, и налево виднелся также крутой берег с очертаниями вдали голубовато-серых и фиолетовых гор, подернутых легким туманом. Направо, тоже на берегу, высились пятиэтажные строения гостиниц, несколькими террасами спускающиеся к воде. Далее по берегу виднелся маяк. Супруги взглянули вниз и увидали, что у самой воды на песке, на который устремлялись белые пенистые морские волны, как муравьи, копошились дети с няньками и гувернантками, а выше, на тротуаре набережной, пестрыми вереницами тянулась гуляющая публика.
– Какая прелесть! – невольно вырвалось у Глафиры Семеновны. – Смотри, вон вдали парус виднеется, – указала она мужу.
– Хорошо-то хорошо, но, по-моему, в Ницце на Жете-Променад лучше, – отвечал Николай Иванович.
– Надо спуститься вниз.
– Но как?
– Вот налево дорога вниз идет.
И супруги начали спускаться к воде по крутой дороге, идущей извилинами и внизу разветвляющейся на несколько тропинок. Они взглянули назад и увидали, что за ними остались десятки крупных построек с громадными вывесками гостиниц.
– Гран-Готель, Готель-д'Англетер, Готель-де-Казино… – прочел Николай Иванович и прибавил: – Все гостиницы. Вон еще готель… Еще…
– Да ведь и в Ницце главным образом все гостиницы, – отвечала супруга.
Но вот и набережная со спусками на песчаный берег. Слышен шум набегающих на песок волн, увенчанных белыми пенистыми гребнями и рассыпающихся в мелкие брызги.
– Смотри-ка, смотри-ка, ребятишки-то почти все голоногие, – указала мужу Глафира Семеновна. – Какие нарядные и голоногие.
– Да ведь это же нарочно. Это не потому, чтобы у них не было сапогов или из экономии. Это новая система закаливания здоровья, – отвечал супруг.
Глафира Семеновна обиделась.
– Неужели же ты думаешь, что я дура, что я не понимаю? – сказала она. – А я только так тебе указываю. В Германии есть лечебница, где и взрослых, даже стариков и старух заставляют босиком и с непокрытой головой под дождем, по мокрой траве и по лужам бегать. И в этом заключается лечение. Я читала. И самое модное лечение.
– Слыхал и я. Теперь чем глупее лечение, тем моднее.
– А собак-то, собак-то сколько! – дивилась супруга. – Людей-то, однако, покуда я не вижу купающихся.
Супруги двинулись по набережной. Гуляющих было довольно много. Почти все мужчины были в серых фетровых шляпах или в триковых испанских фуражках. Преобладали светлые костюмы. Мужчин было больше, чем женщин.
– Однако я не вижу здесь особенных нарядов на женщинах, – заметила Глафира Семеновна. – Говорили: «Биарриц, Биарриц! Вот где моды-то! Вот где наряды-то!» А тут, между прочим, есть дамы в платьях чуть не от плиты…
Некоторые мужчины и дамы из идущей супругам навстречу публики осматривали их с ног до головы, и наконец вдогонку супругам послышалось русское слово «новенькие».
То там, то сям среди публики, в особенности среди голоногих ребятишек, роющихся в песке, бегали мальчишки-поваренки в белых передниках, куртках и беретах с корзинками в руках и продавали пирожное и конфеты, невзирая на раннюю пору отлично раскупающиеся. На тротуаре, спинами к морю, сидели на складных стульях слепые нищие, очень прилично одетые, и потрясали большими раковинами с положенными в них медяками. Вот слепой певец, сидящий за фисгармонией, аккомпанирующий себе и распевающий из «Риголетто».
– Кого я вижу! Здравствуйте! – раздалось русское восклицание, и пожилой коренастый человек, в серой шляпе, в светлой серой пиджачной паре и белых парусинных башмаках, растопырил перед Николаем Ивановичем руки.
– Здравствуйте, доктор… – отвечал Николай Иванович.
– Какими судьбами?
– Вчера приехали из Парижа, приехали покупаться в морских волнах. Вот позвольте познакомить вас с моей женой. Доктор Потрашов из Москвы. Супруга моя Глафира Семеновна. У ней не совсем в порядке нервы и по временам мигрень, так хочет покупаться.
– Прекрасное дело, прекрасное дело, – проговорил доктор Потрашов. – Здесь положительно можно укрепить свои силы. Даже и не купаясь можно укрепить, только прогуливаясь по пляжу и вдыхая в себя этот влажный и соленый морской воздух.
– Да неужели он соленый? – удивился Николай Иванович.
– А вы вот попробуйте и лизните вашу бороду. Не бойтесь, не бойтесь. Возьмите ее в руку и закусите зубами.
Николай Иванович исполнил требуемое.
– Ну что? – спрашивал его доктор Потрашов.
– Действительно, волос совсем соленый.
– Ну, вот видите. А между тем ведь вы вашу бороду, я думаю, не смачивали соленой водой. Здесь в воздухе соль.
– Да что вы! Глафира Семеновна, слышишь? Ведь эдак мы с тобой, прожив здесь в Биаррице недели две, в селедок превратиться можем.
Супруга посмотрела на мужа и глазами как бы сказала: «Как это глупо».
– А вы здесь, доктор, уже давно? – спросил Николай Иванович.
– С неделю уже мотаюсь. Я приехал сюда с одним больным московским фабрикантом. За большие деньги приехал, – прибавил доктор. – Фабрикант этот, впрочем, не болен, а просто блажит. Ну, да мне-то что за дело! Я сам отдохну и надышусь морским воздухом. Вы гуляете? – задал он вопрос супругам.
– Да, только что вышли и обозреваем.
– Ну, давайте ходить.
Доктор присоединился к супругам Ивановым, и они медленным шагом двинулись по набережной, называемой здесь русскими пляжем.
11
– Скажите, доктор, отчего же мы не видим купающихся? – спросила Потрашова Глафира Семеновна.
– Рано еще. Здесь принято это делать перед завтраком, приблизительно за полчаса перед завтраком. Вот в начале двенадцатого часа и начнут… А теперь модницы наши еще дома и одеваются.
– Здесь купаются? С этого берега? – спросил Николай Иванович.
– Здесь, здесь… Вот направо в этом здании под арками находятся кабинеты для раздевания. Вот это женские кабины, как их здесь называют, а дальше мужские, – рассказывал Потрашов. – Там в кабинах разденутся, облекутся в купальные костюмы, а затем выходят и идут в воду. Женщины в большинстве купаются всегда с беньерами, то есть с купальщиками, которые их вводят в воду и держат за руки. Здесь в Биаррице прибой велик и нужно быть очень сильным, чтоб волны не сбили с ног. Вот беньеры стоят. Они уже ожидают своих клиентов. Посмотрите, какие геркулесы!
Действительно, на галерее кабинок вытянулись в шеренгу семь или восемь бравых, загорелых молодцов, по большей части в усах, в ухарски надетых набекрень шляпах, из-под которых выбились пряди черных, как вороново крыло, волос. Только один из них был старик с седыми усами и бородой, но старик мощный, крепкий, статный. Все беньеры были босые, голоногие, в черных суконных штанах до колен и в черных виксатиновых или кожаных куртках, без рубах. В распахнутые от горла куртки виднелась загорелая волосатая грудь. Беньеры стояли и рисовались своей статностью и красотой перед гуляющей по пляжу публикой. Они то подбоченивались, то выставляли правую или левую ногу вперед, стреляли, как говорится, глазами и ухарски крутили ус. Проходившие дамы почти все косились в их сторону, а некоторые из дам так буквально любовались ими и, останавливаясь, пожирали глазами.
– Красавцы… – заметила Глафира Семеновна, взглянув на шеренгу беньеров.
– Еще бы, – откликнулся доктор. – Есть дамы, которые влюбляются в них как кошки. Рассказывают, что третьего года одна приезжая русская вдова увезла одного такого молодца с собой в Москву. Он обобрал ее, разумеется, вернулся сюда и теперь в Сан-Жане держит гостиницу. Сан-Жан – это в десяти верстах отсюда и считается тоже купальным местом, – прибавил доктор.
– Совсем красавцы… – повторила Глафира Семеновна.
Николая Ивановича покоробило, и в отместку жене он сказал:
– А мне, доктор, покажите потом здешних хорошеньких женщин. Я слышал, что здешняя местность славится ими.
– Вздор. Их нет или очень мало, – отвечал доктор. – Ну да вот доживете до воскресенья, так сами увидите. Надо вам сказать, что по воскресеньям, после завтрака, здесь на пляже публика меняется. Все приезжие отправляются по трамваю в Байону. Это верст восемь отсюда. Там они сидят на площади в кофейнях, пьют шоколад и слушают военную музыку, которая играет на площади каждое воскресенье. А сюда, на пляж, приходят погулять здешние горожанки, дамочки и девушки из соседних деревень, так как в будни они все заняты, а по воскресеньям свободны. Наплыв такой, что вот здесь на пляже бывает тесно. И исключительно почти дамы и девушки, так как местные мужчины по воскресеньям собираются где-нибудь отдельно для своей излюбленной игры в мяч. Эта игра в мяч какая-то особенная, и здесь вся местность упражняется в эту игру по воскресеньям.
– Посмотрим в воскресенье, поглядим… – сказал Николай Иванович.
Теперь супруга в свою очередь гневно стрельнула в него глазами, но ничего не сказала.
Доктор Потрашов продолжал:
– Я был-с… Два воскресенья уже был здесь. Женщинами запружен весь пляж… Кажись, цветник уж огромный, а между тем, представьте себе, я едва-едва встретил два-три личика поистине красивых. Так себе, свеженьких и недурненьких много. Но красавиц – ни боже мой! А ведь между тем, в самом деле, здесь стоит молва, что здесь много красавиц. Вот в Сан-Себастьяно… Это уж переезжая испанскую границу, но очень недалеко отсюда… Вот Сан-Себастьяно – там, говорят, красивых женщин много. Но там уж испанки. А здесь простые женщины – баски, баски…
– Съездим и в Себастьяне… – проговорил Николай Иванович.
Глафира Семеновна снова стрельнула в мужа гневно глазами.
– Съездим, съездим… – отвечал доктор. – Я сам еще не бывал там и охотно составлю вам компанию. Эту прогулку можно в один день сделать. Рано утром туда поедем и ночью вернемся. Эта прогулка бывает всегда преддверием для путешествия по всей Испании. Так все делают. Съездят в Сан-Себастьяно, разлакомятся, а по окончании купального сезона в Биаррице катают уж прямо в Мадрид, а затем и дальше.
Доктор умолк. На пляже делалось все многолюднее и многолюднее. Появились гуляющие с ящиками для моментальных фотографий. Они держали их на груди, перекинутыми на ремнях через шею.
– Сейчас купаться начнут, – прервал молчание доктор. – А вот эти фотографы-любители начнут снимать с них фотографии. Здесь этот спорт чрезвычайно распространен. Кроме купающихся снимают что попало: плачущих ребят, дерущихся собак. Тут как-то поссорился один из приезжих русских с своей птит-фам, с которой познакомился здесь в казино. И поссорился-то в самом уединенном месте, где-то в кустах на скамейке. Она замахнулась на него зонтиком и сшибла с него шляпу. Им казалось, что никого ни вокруг, ни около их не было, а между тем с них сняли фотографию, и теперь она ходит здесь по рукам.
– Да что вы! – удивился Николай Иванович. – Глаша, слышишь? – отнесся он к жене.
– Верно, верно… – подтвердил доктор. – Я сам видел. Этот приезжий мой знакомый. Фотография удивительно схожая. Поразительно удачно вышло. Здесь фотографический спорт до того распространен, – продолжал он, – до того распространен, особенно между приезжими англичанами, что во многих гостиницах есть уже темные комнаты для проявления фотографий. Этими темными комнатами заманивают к себе в гостиницу путешественников, раскидывая и развешивая объявления по станциям железных дорог.
Глафира Семеновна слушала и сказала:
– После этого, что вы рассказываете, здесь не безопасно купаться.
– Отчего? – спросил доктор.
– Да вдруг снимут фотографию.
– Так что же? Здесь даже добиваются этого многие дамы. Нарочно одеваются в шикарные купальные костюмы, распускают себе волосы а-ля русалка, купаются с привязными косами, в ожерельях, в браслетах. Тут одна купается в браслетах не только на руках, но даже и на ногах. Ну, да вы сейчас сами увидите.
– Тогда, если так, я не стану купаться здесь… Помилуйте… что это такое! – проговорила Глафира Семеновна.
– Да на первых порах я вам даже не советую купаться прямо в море. Вам прежде нужно привыкнуть и к соленой воде, и к температуре. Вы прежде возьмите две-три теплые ванны в закрытом помещении. Здесь все так делают. Возьмите первую в двадцать восемь градусов и понижайте температуру. А потом и в открытое море идите, – давал советы доктор. – Готово! Начали купаться. Смотрите. Вон бежит барынька в купальном костюме, а за ней гонится беньер, – указал он.
По песку, выскочив из галереи, действительно стремилась купальщица в плаще из мохнатой бумажной материи. Достигнув воды, она сбросила с себя плащ на песок, сделала несколько поз, очутившись в нарядном купальном костюме, плотно прилегавшем к ее телу и обрисовывавшем все ее формы, подала руку бравому беньеру и пошла в воду. Налетевшая пенистая волна тотчас же покрыла их с головами.
12
Завидя купающуюся женщину, гуляющие тотчас же начали сосредоточиваться против самого места купания. Направились туда же и супруги Ивановы. На галерее женских купальных кабин публика тотчас же начала занимать стулья, отдающиеся по десяти сантимов за посиденье.
– И мы можем присесть, – сказал супругам доктор Потрашов. – Что стоять-то и жариться на солнце! А стулья в тени.
Супруги сели.
Из ворот кабин вышли уже две купальщицы. Одна в плаще – пожилая, толстая, краснолицая, в чепчике с красной отделкой, другая без плаща и без чепца – молоденькая брюнетка в туго обтянутом по телу розовом купальном костюме. На них тотчас же направились лорнеты и бинокли. Сзади супругов Ивановых кто-то спрашивал по-французски:
– Кто это такие? Вы не знаете?
– Это жена и дочь одного разбогатевшего на шоколаде кондитера, – был ответ. – Они из Лиона. Я забыл их фамилию. Дочке ищут богатого жениха – вот маменька и привезла ее сюда на показ. Маменька напоминает совсем гиппопотама, но дочка недурна. Говорят, что ее нынче летом только что взяли из монастыря.
Купальщицы сбежали по каменным ступеням с набережной на песок. За ними шел голоногий беньер в куртке с короткими рукавами. Они сделали шагов тридцать по песку, лавируя между играющими ребятишками. Маменька шепнула что-то дочке. Та остановилась, подняла ногу и стала поправлять парусинный башмак, привязанный к ноге переплетом из черных лент, доходящим до колена. Сделано это было грациозно. Вышла красивая поза.
– Видите, сама барышня останавливается, сама напрашивается, чтобы с нее сняли фотографию, – сказал доктор супругам, кивая на девушку.
И точно, рядом с супругами тотчас же щелкнула пружинка ящичка моментальной фотографии, находившегося в руках седого англичанина, облеченного в палевую крупными клетками фланель. Сняв фотографию и опустив висевший на ремне через плечо фотографический ящичек, он быстро встал с своего стула, направился к самому краю набережной, расставил длинные ноги с завернутыми у щиколок панталонами и стал направлять на удаляющихся к воде маменьку и дочку большой морской бинокль, висевший у него до сего времени на ремне, перекинутом через плечо.
Вот и еще купальщица, полная, красивая женщина лет под тридцать. Эта шла медленно, закутанная в полосатый белый с красным плащ, и имела на голове повитый тоже из белого с красным тюрбан.
– Вот и наша русская, – проговорил доктор.
– Кто такая? – спросил Николай Иванович.
– Она из Москвы. Происхождение купеческого. Дочь не то крупного бакалейщика, не то дровяника. Вышла замуж за полковника, но с мужем не живет. Она каждый вечер играет здесь в казино в лошадки. Игра такая здесь есть, вроде рулетки. Играет в лошадки и проигралась уже изрядно.
– Как фамилия?
– Статинская, Ховинская, Сатинская – вот так как-то. Забыл. Приехала сюда с компаньонкой.
Мадам Статинская или Ховинская шла медленно и два раза кивнула встречным знакомым мужчинам. Вот она и на песке. Остановилась около какого-то белокурого ребенка, одетого матросом, приласкала его и пошла дальше. Вот она у самой воды. У ног ее разбилась громадная волна и обдала ее брызгами. Купальщица, не торопясь, скинула с себя плащ и передала его сопровождавшему ее беньеру. Тот принял плащ и в свою очередь передал его караулящей плащи женщине в полосатой тиковой юбке, затем подал руку купальщице, и они побежали навстречу волнам.
Еще купальщица, еще и еще…
– А эта блондинка кто такая? – задала вопрос доктору Глафира Семеновна.
– Генералыпа-с… Муж ее генерал и тоже здесь, но на пляж он редко ходит, а предпочитает стрелять в здешнем тире голубей. Она здесь всегда с племянником, прикомандированным к какому-то губернатору для ничегонеделания.
– Русская?
– Самая что ни на есть… Из Петербурга… Занимается живописью. После завтрака вы ее всегда можете встретить против La roche de Viei'ge на складном стуле с палитрой и кистями перед начатой картинкой…
– Сколько здесь русских! – удивленно проговорила Глафира Семеновна.
– Русский сезон теперь, – отвечал доктор. – Теперь в Биаррице приезжих русских больше всех национальностей. Стали, правда, наезжать англичане, но английский сезон еще не начался. Английский сезон начнется с конца октября. Русские уедут, и начнется английский сезон. А теперь сплошь русские. Русская речь так и звенит на пляже. Да вот даже сзади нас разговаривают по-русски, – шепнул доктор, наклонившись к Глафире Семеновне.
И действительно, сзади супругов Ивановых разговаривали по-русски. Двое мужчин – один в серой фетровой шляпе, а другой в испанской фуражке с дном, нависшим на лоб, смотрели на удалявшуюся к воде генеральшу и обсуждали стати ее телосложения.
– Что вы, помилуйте… Вот уж кого не нахожу-то хорошо сложенной! – говорил усач в шляпе. – Это пристрастие с вашей стороны к ней и больше ничего. Что вы у ней хорошего находите? Скажите. Бедра у ней плоские, талия необычайно низка…
– Но бюст, бюст, – перебивал его бородач в испанской фуражке.
– Полноте… и бюст ничего не стоит. Во-первых, она ожирела… Я два раза стоял на песке у самых волн и видел, как она выходила из воды, накидывая на себя пеньюар, но, право, ничего, кроме икр, не находил хорошего.
– А! За икры вы сами стоите. Но разве этого мало? – вскрикивал бородач в испанской фуражке. – Наконец, лицо, шея…
– По-моему, уж губернаторша-то куда статнее, нужды нет, что она некрасива лицом.
Глафира Семеновна слушала и удивлялась.
– Что они говорят! Боже мой, что они говорят! – прошептала Глафира Семеновна, обратясь к мужу и доктору, и покрутила головой. – Разбирать по частям женщину, как лошадь!
– Здесь это обычное явление… – тихо отвечал ей доктор. – Сюда за этим приезжают. Здесь все так.
А сзади Глафиры Семеновны уже слышалось:
– Во-первых, у этой гречанки гусиная шея, во-вторых, у ней лошадиное лицо. Да я не понимаю, кто это и выдумал, что гречанки могут быть статны. Вот итальянки – те наоборот.
– Нет, я, кажется, ни за что не решусь здесь купаться, – проговорила Глафира Семеновна. – Уж одно, что нужно пройти мимо тысячи глаз… Мимо сотни биноклей…
– Совсем как сквозь строй… – поддакнул Николай Иванович.
– А все эти пересуды!.. У кого гусиная шея, у кого бычьи ноги.
– Мода, что вы поделаете! – сказал доктор. – Но ведь здесь есть места, где вы можете купаться так, что на вас никто и не взглянет. Около Port des Peclieurs, например. Там можно купаться даже без беньеров, потому что там бухточка, и даже без прибоя волн. Плавать даже можно, тогда как здесь ведь никакой пловец не проплывет. Но там, в этой спокойной бухточке, почти никто не купается.
– Сраму хотят, – закончил Николай Иванович.
– Именно сраму… Ведь это ужас что такое! – прибавила Глафира Семеновна.
Купальщицы начали выскакивать из кабин все чаще и чаще. Беньеры были все разобраны. Свободным стоял только один беньер – коренастый старичок с седой бородой клином. Глафира Семеновна тотчас же это заметила и сказала:
– Смотрите, старичка-то беньера никто не берет. Молодые беньеры разобраны, а этот без дела.
– Никто, никто. Он совсем без дамской практики. Вот разве детей приведут купать, так его возьмут, – отвечал доктор. – Помилуйте, зачем старика брать, если есть статные молодые красавцы! Здесь поклонение пластике.
А купальщицы все прибывали и прибывали. Некоторые выскакивали из кабин на пляж, как кафешантанные певицы на сцену к рампе, припрыгивали и бежали навстречу волнам.
Степенно шли бородатые и усатые мужчины к воде. Эти были, по большей части, без плащей и все без головных уборов и без купальной обуви. Некоторые докуривали на ходу окурки папирос и сигар. Они шли туда же, где купались и женщины, по дороге останавливались, давали дорогу вышедшим уже из воды женщинам, направлявшимся в кабины одеваться. На мужчин публика как-то мало обращала внимания. Об них совсем и не разговаривали, хотя кое-кто из сидевших на галерее лам и направлял на них бинокли. Впрочем, когда показался один красивый прихрамывающий усач в черном фланелевом купальном костюме, одна дама, влево от Глафиры Семеновны, сказала своей собеседнице по-французски:
– Это испанский капитан. Он недавно дрался на дуэли из-за какой-то наездницы, был ранен и вот теперь хромает. Смотрите, какой красавец!
Слышал или не слышал испанский капитан эти слова, но остановился и сейчас же начал позировать и крутил свой черный ус.
Вышла из воды какая-то черноглазая купальщица с красивыми глазами и распущенной черной косой. Она переходила набережную и направлялась в кабины одеваться, ловко и кокетливо отбрасывая рукой назад пряди своих волос. Двое мужчин, очевидно ожидавшие ее выхода из воды, посторонились и зааплодировали ей. Она поклонилась, весело улыбаясь, и побежала одеваться.
– Да это купание совсем что-то вроде сцены, вроде представления! Здесь даже и аплодируют купальщицам, как актрисам! – воскликнула Глафира Семеновна.
– Зрелище… – отвечал доктор. – И согласитесь сами, зрелище очень занимательное.
13
Часовая стрелка на здании городского казино, выходящего своим фасадом на пляж, где сидели супруги и где в настоящее время было сосредоточено все общество Биаррица, перешла уже цифру двенадцать. Головы и туловища купающихся, виднеющиеся среди обдающих их волн, начали редеть. Женщины спешили выходить из воды и одеваться к завтраку. В воду вбегали теперь только запоздавшие мужчины, чтоб наскоро окунуться перед завтраком в морскую пену. В воле долго они не засиживались и тотчас же выхолили вон. В выходящих на пляж отелях слышались звонки, призывающие обитателей их к завтраку. Доктор Потрашов стал раскланиваться с супругами Ивановыми.
– Пора идти червяка морить, – проговорил он. – Мой больной патрон, я думаю, уже вернулся из теплых ванн и ожидает меня за самоваром.
– Как, у вас есть самовар? – удивился Николай Иванович.
– С собой привезли. Настоящий тульский. Это мой патрон, фабрикант… И бочонок квасу ведер в пять с нами сюда приехал из Москвы.
– Да что вы! – воскликнула Глафира Семеновна.
– Верно, мадам… – улыбнулся доктор. – Это опять-таки мой патрон… Он не может без квасу… И если бы вы знали, чего ему стоит сохранить этот бочонок с квасом во льду! Здесь лед чуть не на вес золота. Ну, да и то сказать, у денег глаз нет.
– Блажит ваш пациент, блажит, как женщина, – сказала Глафира Семеновна. – И самовар, и квас.
– А что за блажь самовар? – возразил супруг. – Про квас я скажу, что это лишнее, ну, а что касается до самовара, то не худо бы и нам его с собой захватывать из России и возить в путешествии. Маленький самовар. Место он немного бы занял в багаже, а иметь его приятно. Ведь вот для меня, например: какое это лишение во время всего заграничного путешествие не пить чая, заваренного по-русски, а тянуть английское прокипяченое варево из чая, напоминающее запаренные веники своим запахом, густое, как вакса. Фу!
– Да вы и здесь можете себе маленький самовар купить за двадцать франков, – сообщил доктор.
– Неужели есть? Неужели здесь продаются русские самовары? – удивленно спросил Николай Иванович.
– Даже два из них на окнах выставлены в магазине русских изделий.
– Да разве есть такой магазин здесь?
– Есть. Вы где остановились?
– В Готель-де-Франс.
– Ну так это около вас. Спуститесь только в улицу за мэрию и вы увидите этот магазин. Там увидите наши нижегородские лукошки, лукутинские ящички и портсигары с изображением на них троек, мчащихся во весь опор, и мужиков, наигрывающих на балалайке. Увидите долбленые из осины табуреты с красной и желтой поливой, увидите наши русские уполовники из дерева.
– Глаша! Слышишь? Непременно надо будет зайти в этот магазин, – отнесся супруг к Глафире Семеновне.
– И знаете, для какого употребление служат здесь эти деревянные русские уполовники? – продолжал доктор.
– Нет.
– А вот взгляните на детей на песке. Этими уполовниками играют дети. Они заменяют им лопаточки. Да вот-вот… смотрите…
Николай Иванович и Глафира Семеновна взглянули на двух проходивших под конвоем бонны хорошеньких и нарядно одетых ребятишек и увидели в их руках по уполовнику. Николай Иванович пожал плечами и произнес:
– Думали ли наши русские кустари, что их произведения найдут себе такое применение!
– До свидания! – еще раз поклонился доктор супругам. – Надеюсь, что перед обедом здесь на пляже опять увидимся?
– Всенепременно. Пойдем осматривать город после завтрака, а потом сюда.
– Город нечего осматривать. Биарриц состоит почти из одной улицы и прилегающих к ней маленьких проулков, совсем коротеньких и спускающихся к морю.
Доктор поклонился и тронулся в путь.
– Счастливец! – кивнул ему Николай Иванович. – Через час будете сидеть за самоваром и вспоминать нашу матушку-Россию.
– Болыпе-с… – ответил доктор, снова останавливаясь. – Сегодня за обедом у моего патрона повар будет угощать нас ботвиньей с тюрбо, из нашего кваса.
– Да ведь здешние французские повара не умеют, я думаю, приготовлять ботвинью.
– А зачем нам повар-француз? Мой патрон-фабрикант привез с собой из Москвы русского кухонного мужика, который и ботвинью делает, и дутые пироги печет. Собираемся даже блины с икрой есть, но забыли захватить с собой из Москвы блинные сковородки, а здесь не можем таких разыскать по посудным лавкам. Впрочем, у моего патрона деньги шальные, он их не жалеет и сковородки собирается заказать на чугунолитейном заводе.
Последние слова доктор досказал уже на ходу и ускорил свой шаг.
– Каков магнат-то! – обратился Николай Иванович к жене. – Русский самовар, квас и даже кухонного мужика с собой из Москвы привез. Да, фабриканты теперь сила! Говорят, какой-то московский фабрикант себе свой собственный парадный вагон построил и уж разъезжает в нем по России, прицепляя его к курьерским поездам, платя дорогам по соглашению. Ну что ж, – сказал он, – надо и нам идти адмиральский час справить.
– Это что же такое? Насчет водки и коньяку? – воскликнула Глафира Семеновна. – Не дам я тебе здесь, в Биаррице, пить крепких напитков. Ведь ты приехал сюда, чтобы убавить свою толщину.
– Да вовсе не насчет водки, а надо позавтракать.
– А, это другое дело. Есть мне давно хочется. Но куда мы пойдем завтракать?
– Да пойдем к себе в Готель-де-Франс. Ведь там предлагают нам пансион. Посмотрим, как и чем кормят, и если хорошо, то можно торговаться и насчет пансиона.
– Только чтобы они не мудрили насчет кушанья, – отвечала супруга. – Самые простые блюда – я и буду довольна. А как начнут давать змеиной породы рыб, омаров, улиток, голубей – ну, я и не могу.
– А ты им поясни. «Пур муа, мол, сельман суп, бифштекс, пуле, – то есть курицу, и гляс или компот».
– Я и курицу не люблю.
– Ну, яичницу.
– И яичницу не люблю.
– Ну, макароны с сыром.
– Что же макароны! Макароны – тесто.
– Ну, дичь: куропатки, дупеля.
– Терпеть не могу.
– Тогда что же тебе? Я уж и не знаю.
– Рябчики – это я ем.
– Ну, рябчиков здесь на вес золота не достанешь.
– Окрошки, ботвиньи поела бы, но только ботвиньи с лососиной.
– Тогда уж постарайся познакомиться с фабрикантом доктора Пограшова, и пусть он тебя ботвиньей угостит.
– Да ведь доктор сейчас сказал, что у фабриканта ботвинья с тюрбо, а я тюрбо в рот не беру.
Разговаривая таким манером, супруги поднимались по крутому берегу и направлялись к своей гостинице.
14
Супруги Ивановы возвращались домой. Хозяин гостиницы уже ждал их. Он распахнул перед ними дверь, низко им поклонился, улыбаясь, и опять заговорил о пансионе. Услыша слово «пансион», Николай Иванович даже плюнул.
– Да дайте прежде поесть-то! – воскликнул он. – Лайте посмотреть, чем вы кормите! Глаша, переведи ему, – обратился он к жене.
– Апре, апре, мосье. Иль фо дежене, иль фо вуар… е апре, – сказала хозяину Глафира Семеновна.
Тот поклонился еще раз и повел супругов в «саль а манже», то есть в столовую.
– Если к столу будут выходить англичане во фраках и белых галстуках, ни за что не останусь здесь жить с пансионом, – сказал супруг. – А то придешь в пиджаке к столу, и смотрят.
– Полно тебе. Не такая здесь гостиница. Это уж сейчас видно. Сам хозяин здесь и за швейцара, и за кого угодно, – отвечала супруга. – А вот надо испытать, чем кормят.
И точно, в столовой уже завтракали человек десять за маленькими столиками, по двое и по трое, но никто парадными костюмами не отличался. Столовая была небольшая, блеском зеркал не отличалась, и прислуга, служившая у столиков, была смешанная: кушанья подавали две горничные в черных платьях и лакей, хотя и во фраке и белом галстуке, но имевший такой вид, что он больше привык к синей блузе и к пиджаку.
– Видишь, – сказала мужу Глафира Семеновна. – Даже табльдота нет, завтракают отдельно за маленькими столиками и служат вместе с лакеем горничные. Рад?
– Еще бы. Главное, мне уж то приятно, что он без капуля на лбу и без карандаша за ухом. Я про лакея…
– Косматый даже. Какой тут капуль! И выглядит как будто он столяр или слесарь.
– Этого-то нам и нужно. На нашего трактирного шестерку смахивает – и довольно.
Супруги сели за столик, на котором было два прибора и две бутылки вина – красное и белое. Столовая была в первом этаже, столик стоял у окна, и, сидя за ним, можно было видеть все, что происходит на улице. Николай Иванович попробовал вина и сказал:
– Белое вино псиной припахивает, но красное пить можно.
– По мне хоть бы оба собакой припахивали, так еще лучше, – отвечала супруга.
Подали меню на разрисованной карточке с изображением гномов, тащащих блюда, переполненные яствами. Глафира Семеновна стала рассматривать его и читала.
– Первое гор девр – закуска, второе омлет – яичница, третье бифштекс. Ну, это еще есть можно. А вот затем я уж и не разберу, какое это блюдо. Ну, да его можно и не есть. С меня довольно. Вот еще сыр имеется и фрюи – фрукты. Вино даром.
– Фрукты здесь должны быть хороши. Ведь в фруктовое царство приехали, – заметил Николай Иванович, прихлебывая из стакана красное вино.
– А ты уж, голубчик, полбутылки вина успел выпить?! – воскликнула супруга. – Ловко!
– Ну, и что ж из этого? Сама же ты прочла, что вино даром.
– Однако ты еще кусочком еды не успел окрупениться.
Подали штук шесть креветок, по кружочку масла толщиной в лист бумаги и четыре тоненьких ломтика колбасы.
– На трех тарелках, а есть нечего, – сказал супруг.
– Тарелками-то за границей только и берут. Это тебе должно быть известно. Не в первый раз уж путешествуешь, – отвечала супруга, придвинула ему тарелочку с креветками и прибавила: – Этих гадов ты можешь всех съесть, мне не надо.
– Да ведь это те же раки.
– Раки красные бывают, а это какие-то розовые с белым.
– Такие маленькие, что не знаешь, что в них и есть.
– Ешь, ешь. Сам же ты хвастался, что за границей надо есть что-нибудь особенное, местное, чего у нас нет.
– Не люблю я такую еду, которую надо в микроскоп рассматривать. Уж есть так есть. А тут не знаешь, как и скорлупу с них снять.
Появилась яичница. Николай Иванович наложил себе на тарелку половину того, что подали, и проговорил:
– Спасибо, что хоть яичницей-то по количеству не обидели.
– Ты уж, кажется, бутылку красного-то вина прикончил? – удивилась супруга.
– Да ведь пить, душечка, хочется. А только где же прикончил? В бутылке еще осталось.
Явился бифштекс, но кусочки его были так малы, что Николай Иванович надел на нос пенсне и сказал:
– Боюсь, что без пенсне вместо куска в пустое место вилкой попаду.
– Мне довольно, – отвечала супруга. – Ты забываешь, что ведь это не обед, а только завтрак.
– Однако, матушка, мы сегодня по пляжу как скаковые лошади бегали, осматривая местность.
– Да ведь еще тебе будет какое-то неизвестное блюдо. Можешь и мою порцию съесть.
Подали неизвестное блюдо. Это было что-то мясное, темное, с маленькими позвоночными костями, под темным, почти черным соусом и заключавшееся в металлическом сотейнике. Глафира Семеновна сделала гримасу и отодвинула от себя сотейник к мужу. Тот взял вилку, поковырял ею в сотейнике, потом понюхал приставший к вилке соус и сказал:
– Какой бы это такой зверь был зажарен?
– Ешь, ешь, – понукала его супруга. – Сам же ты хвастался, что за границей любишь есть местные блюда, чтоб испытать их вкус.
– Верно. Но я прежде должен знать, что я пробую, а тут я не знаю, – проговорил супруг. – Кескесе? – спросил он горничную, указывая ей на сотейник с едой.
Та назвала кушанье.
– Глаша, что она сказала? Ты поняла, какое это кушанье? – обратился он к супруге.
– Ничего не поняла, – отвечала та и опять заговорила: – Ешь, ешь, пробуй. В Петербурге ведь ты хвастался приятелям, что в Марселе лягушку ел.
– Пробовал. Это верно, но тогда я знал, что передо мной лягушка. А это черт знает что такое! Что это не лягушка – это сейчас видно. Вот эти позвонки, например… Смотри, у лягушки разве могут быть такие позвонки! Видишь?
Николай Иванович выудил кусок кости на вилке. Глафира Семеновна брезгливо отвернулась.
– Ну вот! Стану я на всякую мерзость смотреть! – проговорила она.
– Здесь, во Франции, кроликов едят. Не кролик ли это? Как «кролик» по-французски?
– А почем же я-то знаю!
– Да ведь это самое обыкновенное слово и даже съедобное. Сама же хвасталась, что все съедобные слова знаешь.
– У нас в Петербурге слово «кролик» не съедобное слово, а я всем словам в петербургском пансионе училась.
– А то, может быть, заяц? Зайчатину и в Петербурге едят. Как «заяц» по-французски?
– Знала, но забыла. Ты будешь есть или не будешь? – спросила мужа Глафира Семеновна. – А то сидишь над сотейником и только бобы разводишь.
– Если бы знал, что это такое, – попробовал бы.
Горничная давно уже стояла у стола, смотрела на супругов, не дотрагивающихся до блюда, и недоумевала, оставить его на столе или убирать.
– Кескесе? – снова задал ей вопрос Николай Иванович. – Кель анималь?
– Le lievre, monsieur… – был ответ.
– Гм… Са? Воля са? Такой зверь?
Николай Иванович сложил из пальцев рук зайца с утками и лапками и пошевелил пальцами.
– Oui, oui monsieur… – утвердительно кивнула горничная, рассмеявшись.
– Заяц! – торжествующе воскликнул Николай Иванович. – Ну, зайца я не буду есть, я знаю его вкус.
И он отодвинул от себя сотейник, кивнул горничной, чтобы та убрала его.
– Соте из зайца очень вкусное кушанье, месье. Напрасно вы его не кушаете, – сказала горничная, прибирая блюдо.
Услыша от нее раз сказанное французское слово «льевр», Глафира Семеновна сама воскликнула:
– Льевр, льевр! Теперь я вспомнила, что льевр – заяц! Нас учили.
– Ну, вот видишь…
Николай Иванович налил себе в стакан остатки вина и выпил его, как бы вознаграждая себя за труд разгадывания кушанья.
Супруга взглянула на пустую бутылку и покачала головой.
Подали сыр и фрукты.
15
Лишь только супруги вышли после завтрака из столовой и стали подниматься к себе в комнату во второй этаж, как их догнала горничная и сообщила им, что с ними желает говорить «мадам ля проприетер», то есть хозяйка гостиницы.
– Что такое у нее стряслось? – воскликнул Николай Иванович. – Неужели опять пансион?
Но хозяйка стояла уже тут. Это была пожилая женщина в кружевном фаншоне на голове, с крендельками черных с проседью волос на висках. Она приседала перед супругами, спрашивала, как им поправился завтрак, и супруги опять услышали в ее речи слово «пансион».
– Тьфу ты пропасть! Вот надоели-то с этим пансионом! – проговорил Николай Иванович, разводя руками. – Оголодали они здесь, что ли! Глаша, скажи ты ей, что прежде нужно прожить хоть день один, пообедать и уж потом разговаривать о пансионе, – обратился он к жене.
– Апре, мадам, апре. Иль фо дине… иль фо вуар. Апре дине, – сказала ей Глафира Семеновна.
– Bon, madame… Merci, madame… – поклонилась француженка и стала спускаться по лестнице.
– Переоденусь в другое платье попроще… – сказала Глафира Семеновна, входя к себе в комнату. – Не перед кем здесь щеголять. Я думала, здесь все по последней моде в шелка разодеты, а здешние дамы в самых простых платьях разгуливают. И шляпку эту с высокими перьями не надену. Еще ветром, пожалуй, сдунет в море. Давеча ее у меня на голове как парус качало.
Супруга начала переодеваться. Супруг сел в кресло и задремал. Вскоре послышалось его всхрапывание.
– Николай Иваныч! Да ты никак спишь? – воскликнула Глафира Семеновна.
Она уже прикалывала к косе другую шляпку, низенькую, с бантами из разноцветного бархата и кусочком золотой парчи, наброшенном сбоку.
Супруг очнулся.
– Сморило немножко… – проговорил он. – Но я готов… Идти куда-нибудь, что ли?
– Да само собой. Не для того мы сюда приехали, чтобы спать. Надо идти город осматривать. Я уж переоделась. Надевай шляпу и пойдем.
Позевывая и покрякивая, супруг поднялся с кресла. Ему сильно хотелось спать, но он повиновался.
Супруги вышли из гостиницы и пошли по улице, останавливаясь у окон магазинов, где за стеклами были размещены разные шелковые и кружевные товары. Были и магазины с безделушками, с местными «сувенирами» в виде видов Биаррица, изображенных на раковинах, на веерах, на тамбуринах.
– Вот этих безделушек надо непременно купить, чтобы потом похвастаться в Петербурге, – сказала супруга. – Смотри, какая прелесть веера, и всего только полтора франка. Вон и цена выставлена. Потом надо купить… Чем славится Биарриц? – спросила она мужа.
– Да почем же мне-то знать? – отвечал супруг. – Если уж ты не знаешь, то я и подавно.
– Вот надо узнать у доктора, чем Биарриц славится, и тоже купить для воспоминания.
– Купим, – проговорил супруг, отошел от окна и нос с носом столкнулся с рыжебородым человеком в белом фланелевом костюме и серой шляпе, воскликнув:
– Валерьян Семеныч!
Это был тот самый петербургский купец-лесник Оглотков, которого он уже видел сегодня утром из окна своей гостиницы. Оглотков остановился и проговорил:
– Гора с горой не сходится, а человек с человеком сойдется. Какими судьбами здесь?
– Приехали из Петербурга сюда себя показать и людей посмотреть.
– Вот и мы то же самое. Когда вы приехали?
– Вчера. Вот позвольте вас познакомить с моей супругой: Глафира Семеновна, месье Оглотков.
– И я здесь с супругой, – сказал Оглотков. – Но мы здесь уже больше двух недель мотаемся и через недельку сбираемся уезжать.
– Где же жена-то?
– Утром купалась, после завтрака раскисла и теперь дома в дезабилье отдыхает. А я бегу теперь голубей стрелять.
– То есть как это голубей стрелять? – удивился Николай Иванович.
– А здесь у нас уже такая английская затея. Голубей стреляем. Пари держим, – отвечал Оглотков и погладил рыжую бороду.
– Да вы-то разве англичанин? Ведь вы, кажется, ярославского происхождения-то.
– Да, наш папашенька действительно славянин с берегов Волги, но мы-то уж здесь живем совсем по-английски. Впрочем, в нашем обществе не одни англичане. У нас князь Халюстин, граф Жолкевич, генерал Топтыгин… Есть даже принц немецкий… Вот уж фамилию-то я его не могу выговорить… Гау-Гау-Альт… Вот так что-то… Фамилия какая-то трехэтажная… Ну и много другой аристократии. У нас все аристократы.
– Так… Стало быть, здесь в аристократы записался? – спросил Николай Иванович.
– Нельзя. У нас общество такое… Мы остановились в такой гостинице… У нас и обед даже не в семь часов, а в восемь, и выходим мы к столу во фраках и белых галстуках. Перед обедом у нас «файф-о-клок», – рассказывал Оглотков.
– Это что же такое? – спросил Николай Иванович.
– Переодеваемся в смокинг и пьем чай. Нам в это время делают визиты.
– Фю-фю-фю!..
– Что же тут свистеть-то? Вечером мы в казино. Там у нас иногда концерты, иногда игра. В баккара все больше играем. Дамы в лошадки…
– Это, стало быть, как в Ницце… такое же казино?
– Вот, вот… Вы еще не записались членами? Советую записаться, – сказал Оглотков.
– Это кула? Чтобы во фраках и в белых галстуках обедать? Благодарю покорно, – отвечал Николай Иванович. – Я рад-радехонек, что нашел такую гостиницу, где этого не водится.
– Нет, нет. Я говорю про казино. В казино записаться членом. Вы и ваша супруга. Вот там и будем встречаться. Там познакомим и наших жен друг с другом.
– Ах, в казино-то записаться! Пожалуй… Впрочем, ведь можно и так ходить, гостями.
– Дороже… И опять же шик не тот. Тону такого нет. А мы если, стало быть, теперича члены с супругой, то входим туда, как хозяева… Иногда по два, по три раза в день ходим. Вот, например, сегодня… Сегодня у нас там в три с половиной часа дня концерт классической музыки. Исполнена будет оратория… Вот уж какая оратория, я забыл, а только оратория… Жена знает. Приходите.
– Да ведь это я знаю… – сказал Николай Иванович. – Это ведь на скрипицах душу вытягивать начнут.
Оглотков пожал плечами.
– Правильно… что говорить! – произнес он. – Но зато модно… На аристократический манер… Все здешнее высшее общество там увидите. Одних княгинь разных будет штук пять-шесть.
– Нет, уж мы лучше вечером придем. Придем в лошадки поиграть.
– Конечно же лучше вечером, – поддакнула мужу Глафира Семеновна.
– Мы с женой и вечером будем. Вот там, мадам, я вас и познакомлю с своей супругой. А теперь до приятного… – раскланялся Оглотков. – Побегу голубей стрелять. И так уж опоздал.
Он пожал руки супругам и ускоренным шагом пошел по тротуару, помахивая тростью с серебряным набалдашником в виде шара.
Николай Иванович посмотрел ему вслед, кивнул и сказал супруге:
– Каков английский аристократ! А еще года три тому назад, когда его отец-покойник был жив, так за обедом все они из одной чашки щи хлебали, а за фрак-то тятенька выволочку бы дал, если бы во фраке его увидел.
– Цивилизация… – отвечала Глафира Семеновна.
16
Оставшись на улице одни, супруги почувствовали какое-то сиротство. Они взглянули друг на друга, и Николай Иванович спросил жену:
– Куда ж мы теперь?..
– Да пойдем дальше по этой улице. Доктор Потрашов давеча говорил, что и весь Биарриц-то состоит из одной улицы.
Они шаг за шагом и останавливаясь у окон магазинов, кондитерских и парикмахерских прошли всю улицу Мэрии и продолжение ее – улицу Мазагран, свернули в рынок, где продавались съестные припасы, побывали на почте, находящейся против рынка, и уперлись в берег моря, где уже кончалась улица Мазагран. Перед ними была бухточка Порт-Вье с зданием теплых ванн у самой воды. Здесь они спустились к воде. В тихой бухточке со стеклянной синей поверхностью, совершенно без всякого прибоя, купались двое мужчин. Никто на них не смотрел, да и никого на берегу не было. Только старуха прислужница из теплых ванн развешивала для просушки купальное белье на веревку.
– Вот оно, скромное-то купальное место, про которое говорил доктор Потрашов, – заметил Николай Иванович. – Сюда купаться завтра и приду.
– А ты слышал, что нам нужно прежде приучить себя к морской воде теплыми ваннами? – отвечала супруга.
Супруги свернули направо и пошли по хорошо отделанной камнем набережной, висящей над морем. У берега виднелись скалы самой причудливой формы, выставившиеся из воды и обливаемые наскакивающими на них пенистыми волнами. Вот Rocher de la Vierge, дальше других скал выдавшаяся в море островком и соединенная со скалистым берегом мостиком. На вершине скалы стояла статуя Левы Марии, и к ней вела высеченная в камне лестница с перилами.
– Надо зайти посмотреть, – сказал Николай Иванович, и они стали перебираться на скалу.
Вид со скалы на город был восхитительный. Глафира Семеновна, запасшаяся биноклем, тотчас же стала любоваться видом. Вокруг плескались волны. Насмотревшись на город, расположенный по берегу террасами, стали смотреть в необозримую даль океана. Николай Иванович тотчас же произнес:
– Вот откуда бы хорошо написать письмо в Петербург свояку Петру Васильевичу, чтобы похвастаться перед ним. «Стоя на скале в Атлантическом океане, приветствуем тебя и Марью Семеновну! Вокруг нас бушуют дикие волны, и над нашими головами слышен зловещий крик чаек…»
– Ну, довольно, довольно… – прервала его импровизацию супруга. – Чаек-то как раз и нет.
– Нет, я все-таки уж вечером дома напишу. «Вдали виднеется парус погибающего в волнах судна. Киты, чуя добычу, играют в необозримом пространстве… – продолжал он импровизировать. – Глафира Семеновна, ухватившись за меня…»
– Нет, уж ты, пожалуйста, меня не впутывай… – перебила супруга.
– Отчего? Пущай… Тебя ведь теперь вся родня считает за всемирную путешественницу. Пусть знают, что ты на скале в Атлантическом океане стояла.
– Нет, нет, нет! Я прошу тебя… Через это только зависть и потом ссоры…
Глафира Семеновна продолжала наводить бинокль на берег.
– Вон доктор идет… Доктор! Доктор! – замахала она ему зонтиком.
Доктор остановился на берегу, и супруги перешли к нему со скалы.
– Приехала какая-то красавица испанка из Сан-Себастьяно и завтра будет купаться. Я сейчас был в казино, так там только и говорят об этом, – сообщил доктор. – Запасайтесь завтра биноклями, когда выйдете перед завтраком на пляж.
– Всенепременно… – отвечал Николай Иванович.
Супруга грозно сверкнула в его сторону глазами.
– Гуляете? – спросил доктор.
– Да, осматриваем здешние достопримечательности, – сказали супруги.
– Достопримечательностей-то здесь только нет. Разве вот… Видите вы этот замок? – указал доктор. – Он называется Вилла Менье…
– Ну, и что же в нем достопримечательного?
– Он построен из шоколада.
– Как из шоколада? Да что вы говорите! Как же он не растает от дождей? – удивилась Глафира Семеновна. – Я видела на выставке стол из шоколада, статую, но чтоб дом…
– Доктор шутит, а ты и поверила, – улыбнулся супруг.
– Нет, нет, прямо из шоколада, из шоколадных плиток, проданных фабрикой Менье. Это замок шоколадного фабриканта Менье… Когда вы ехали сюда в Биарриц по железной дороге, видели вы тысячи синих вывесок с фирмой Менье, прибитых на станциях, полустанках и всех попадающихся по пути строений? На синем белыми буквами.
– Ах да, да… ужас сколько!
– Вот эти-то объявления и рекламы и помогли выстроить такой великолепный домик.
– Ну, я теперь понимаю. Замок выстроен на деньги, нажитые на шоколаде! – проговорила Глафира Семеновна.
Доктор улыбнулся.
– Здесь есть замок американского миллионера, замок королевы Сербской, но шоколадник и их превзошел по роскоши своего замка. Смотрите, какой сад, какой цветник…
Они подошли к самому замку и остановились перед решеткой сада, с лужайкой, идущей в гору и изукрашенной ковровыми клумбами цветов.
– А ведь когда-то, говорят, бегал в белой куртке с ящиком за плечами и продавал шоколадные плитки вразноску, – рассказывал доктор про владельца замка. – Теперь же крупный акционер той железной дороги, по которой вы приехали.
– Ну, этим нас не удивишь, – сказал Николай Иванович. – У нас в Москве есть достаточно миллионеров, бывших когда-то коробейниками.
Они миновали Port des Pecheurs – бухточку с молом, где пристают со своими лодками рыбаки. Тут же на моле сидели, свесив ноги, и рыболовы-любители с длиннейшими удочками. Тут была смесь племен, наречий, состояний. Удили босоногие мальчишки в рваных куртках и замасленных фуражках блином, удили элегантные англичане в клетчатых пиджаках и белых шляпах с двумя козырьками – на лоб и на затылок, щеголяя изящными удочками. Сидели французы-блузники из мастеровых, солидные, сосредоточенные буржуа с черепаховыми и золотыми пенсне на носу, дети в матросских костюмах, в сопровождении гувернанток, стоявших сзади их, какой-то седой старик, все чертыхавшийся по-немецки на рыбу, которая то и дело срывала у него с крючка наживку из тельца улитки, два баска в соломенных шляпах с широчайшими полями, прикрепленных к подбородкам, без жилетов, в панталонах, держащихся на одной подтяжке. Был и наш бородатый русак в сером пиджаке, национальность которого сейчас же можно было узнать по поплевыванию на крючок при прикреплении к нему наживки.
Сзади удящих стояла глазеющая публика. Остановились посмотреть на рыбную ловлю и супруги, сопутствуемые доктором.
17
Рыба ловилась плохо, как и всегда у удильщиков, сидящих в компании. Попадалась по большей части мелкая, серебрящаяся макрель и изредка та крупноголовая, тоже чешуйчатая рыба, которую французы называют «волком» (loup). Удильщики тотчас же отцепляли рыбу от крючков и бросали ее каждый в свою корзинку. Наибольшая удача была для баска в широкополой шляпе и с давно не бритой бородой, которая засела густой щетиной на его щеках и подбородке. На баска взирали все с завистью. Но вот пришел католический священник в черном подряснике и круглой шляпе. Он был с удочками, корзинкой с крышкой и жестянкой с наживками. Баск и сидевший с ним рядом мальчик в шляпе с надорванными в нескольких местах полями тотчас же раздвинулись и дали священнику место. Тот сел на мол, свесив к воде длинные ноги, обутые в башмаки с серебряными пряжками, и только что закинул улочку, как тотчас же вытащил довольно крупную рыбу.
– Тьфу ты пропасть! Попам везде счастье! – воскликнул по-русски бородач в серой паре, плевавший на крючок. – Только пришел, как уж и с рыбой.
Священник торжествующе спрятал рыбу в корзинку и только что закинул свою удочку еще раз, как у него снова клюнуло.
– Опять? Ну, поповское счастье! – продолжал по-русски бородач в серой паре.
Супруги переглянулись друг с другом, и Николай Иванович шепнул:
– Земляк-то наш как сердится!
Священник медленно вытягивал из воды лесу.
На этот раз показалась не рыба, а какой-то темно-бурый комок, с первого раза казавшийся похожим на гигантскую жужелицу, как бы обмотанную потемневшими водорослями. Эти водоросли шевелились, вытягивались и извивались. Удившие и смотревшая публика захохотали.
– Что это такое? – спросил доктора Николай Иванович.
– Каракатица. Здесь их много.
Глафира Семеновна, заметив извивающиеся, выходящие из головы каракатицы щупальца, пронзительно воскликнула: «Ах, змеи!» – отскочила от удящих и опрометью бросилась бежать по набережной. Супруг и доктор Потрашов побежали за ней.
– Что с вами? Что с вами? – кричал ей доктор.
– Она змей видеть не может. С ней делаются даже какие-то конвульсивные содрогания, – отвечал супруг.
– Да это вовсе не змеи, это каракатица, чернильная рыба.
– Она даже угрей и налимов боится.
Николай Иванович и доктор подбежали к Глафире Семеновне. Она уже сидела на скамейке и, слезливо моргая, смотрела в морскую даль.
– Чего вы испугались? Это вовсе не змеи. Это каракатица, самое невинное животное, – проговорил доктор, садясь с ней рядом.
– Но ведь я видела, как что-то извивалось… Фи!
– Ноги каракатицы или, лучше сказать, щупальца. Вот они и извивались. Это животное головоногое, как его называют, – рассказывал доктор. – Самое безобидное животное, никогда ни на кого не нападающее, кроме мелкой рыбешки, ракушек и креветок. Вот какому-нибудь зубастому морскому хищнику каракатица неприятна. Спасаясь от него, она тотчас выпустит из себя вонючую, черную, как чернила, жидкость, и хищник, ошеломленный вонью и темнотой воды, останавливает свое преследование, а каракатица в это время спасается. От способности испускать из себя черную жидкость ее иные и зовут чернильной рыбой.
Доктор Потрашов приготовился прочесть целую лекцию о каракатице, но Николай Иванович его перебил:
– Вот и отлично. Теперь по крайности будем знать, какая такая эта самая каракатица. А то у нас каракатица вроде ругательного слова. Сам говоришь иногда про кого-нибудь: «Ах ты, каракатица!» А что такое каракатица, до сих пор не знал.
Глафира Семеновна улыбнулась.
– Одну нашу знакомую мы все зовем каракатицей, – отвечала она, взглянула на мужа и прибавила: – Пелагею Дмитриевну. Она такая смешная, на коротеньких ножках и рот до ушей.
Они поднялись со скамейки и пошли по пляжу. Глафира Семеновна успокоилась и спрашивала Потрашова:
– Где бы нам, доктор, начать завтра утром брать теплые ванны?
– Да вот… – И доктор указал на двухэтажное строение, приютившееся внизу, под самой набережной около воды. – Только зачем вам брать теплые? Возьмите тепловатые.
– Будто это не все равно? – спросил Николай Иванович.
– Тепловатые прохладнее теплых. Здесь градусники децимальной системы – ну, возьмите двадцать шесть градусов, двадцать пять.
– Тут мужские и женские ванны? – спросила Глафира Семеновна.
– Здесь пол вообще не разделяется. Вы видите, и в открытом-то море купаются мужчины и женщины вместе.
– Нужно вперед записаться или можно и так?
– Прямо приходите и закажите себе ванны. Вам отведут один кабинет, а мужу вашему другой. Ванна стоит франк и двадцать пять сантимов. Впрочем, в верхнем этаже, кажется, обстановка получше и стоит полтора франка.
– Вот в полтора франка и пойдем.
– Там есть консультация врача, и стоит это два франка, но зачем вам консультация? Да и врач-то этот, кажется, сомнительный.
– Ну что тут! Проконсультируемся. Важная вещь два франка! Два франка я, два франка она – четыре франка! Уж приехали на морские купания, так надо все испытать. Пускай наживаются.
Часы показывали еще только около трех. На пляже не было особенного многолюдия. Только ребятишки усеивали своими пестрыми костюмами песок у воды и делали берег похожим на цветник. Пестроту прибавляли няньки и мамки-кормилицы, одетые в национальные костюмы разных департаментов Франции и обвешанные яркими разноцветными лентами. Был морской прилив, песчаная полоса берега у волы сузилась, а потому детские толпы были теперь теснее, чем утром. Слепые певцы надсаживались, распевая арии и аккомпанируя себе на мандолинах. Был и скрипач, выводивший смычком убийственные ноты, был даже кларнетист. Сидели и так слепые нищие, сидели на стульях и побрякивали раковинами с положенными в них медными монетами, приглашая гуляющих к пожертвованию. У некоторых слепых на груди были прикреплены докторские свидетельства в рамках, объясняющие, что сбирающий подаяние действительно слеп, и даже объясняющие, вследствие каких причин он ослеп. Одни слепые нищие были с провожатыми женщинами или мальчиками, у других были собаки, пуделя, привязанные к ножкам стульев. Бросалось в глаза, что все эти нищие были прилично и даже франтовато одеты.
– Сколько слепых-то! – вырвалось у Глафиры Семеновны, и она сунула одному из них полфранка.
– И хорошо здесь собирают, – отвечал доктор. – В особенности щедро им русские подают. Здешние нищие откровенны. Я разговаривал с ними, и они говорят, что времени лучшего, как русский сезон, для них нет. Вы вот будете в воскресенье в русской церкви у обедни, так посмотрите, сколько там на паперти нищих стоит! Я пришел в первый раз туда и подумал, что я на русское кладбище попал. Да вот вам мальчик при этом слепом старике. Я думал, что он старику внуком приходится и, разговаривая с мальчиком, назвал старика его дедушкой – гран-пер. Мальчик улыбнулся и отвечал мне: «Нет, он мне не дедушка, он мой хозяин, а я его доместик – слуга». – «Ах, так ты и жалованье получаешь?» – спросил я его шутя. «Да, он мне платит франк в день и дает мне два завтрака и обед». И мальчик сказал мне правду. А вот и еще сорт нищенства, – указал доктор на проходящего старика. – Продавец.
Старик нес ящичек, перекинутый на ремне через шею. В ящике лежало несколько карандашей, шпильки, две пачки конвертов и почтовая бумага.
– Да ведь и у нас есть такие нищие, – заметил Николай Иванович.
– Нет-с… Посмотрите ему на спину.
На спине старика висела дощечка, и на дощечке крупными буквами было написано: «Grand-père Isidor Court, né à 1804».
– «Дедушка Сидор Кур, родился в тысяча восемьсот четвертом году», – перевел доктор и спросил супругов:
– Есть у нас на Руси что-нибудь подобное?
18
Перед обедом, в пятом часу, пляж стал оживляться. Показались дамы, утренние купальщицы, значительно уж подпудренные и подкрашенные и в сопровождении маленьких собачонок. И каких собак тут только не было! Мохнатые и гладкие, с обрезанными ушами и с стоячими ушами, с хвостом, стоящим палкой кверху, голым и с кисточкой на конце, и с хвостом пушистым, опущенным книзу, как у барана. Все собаки исключительно были маленькие, ни к какой известной породе не принадлежали и отличались только своим курьезным видом, показывающим, что они побывали в руках парикмахера, который и придал им этот вид. Некоторые собаки были в попонках, хотя вовсе не было холодно, некоторые с бубенчиками на ошейничках, а одна черненькая так даже в белом кружевном воротничке. Глафира Семеновна увидала ее и рассмеялась.
– Смотрите, смотрите, какая франтиха идет! Даже в гипюровых кружевах… – сказала она.
– Здесь собаки ценятся не по породе, а по их безобразию, – заметил доктор. – Курьезными собаками часто обращают на себя внимание и нарочно для этой цели водят их с собой…
– Полноте.
– Уверяю вас. Здесь прогуливалась дней пять-шесть тому назад одна парижская дама «из легких», нарочно приезжавшая сюда в Биарриц.
– А разве есть здесь такие? – быстро спросил Николай Иванович.
– И сколько! – отвечал доктор. – Да вот если вы сегодня вечером будете в казино, так увидите их. Они являются туда часов в одиннадцать, и там у них происходит что-то вроде биржи. Так вот эта дама… Она теперь, кажется, уехала обратно в Париж… Так вот эта дама гуляла здесь по пляжу с беленькой собачкой, у которой ушки, мордочка, передние лапы и хвост были окрашены в розовый цвет. Хозяйка, одеваясь на прогулку, сама притиралась кармином и тем же кармином мазала и собачонку. Ламу эту так и звали: «мамзель с розовой собачкой». Цель была достигнута. По курьезной собачонке ее знали все. Потом…
– Позвольте… – остановила доктора Глафира Семеновна. – Вы говорите, что эти дамы устроили биржу в казино. А один наш русский знакомый часа два тому назад рассказывал, что в казино собирается только цвет здешней аристократии.
– Да, но эта аристократия дольше одиннадцати часов там не остается, а с одиннадцати начинаются свободные нравы. Ну да вы вечером увидите. А! Вот и мой патрон вылез из своей берлоги на пляж… – сказал доктор.
– Московский фабрикант? – спросили супруги Ивановы.
– Да, да… Максим Дорофеич Плеткин. Вот и его два прихлебателя с ним: один в качестве шута, а другой в качестве льстеца. Шута и льстеца с собой на свой счет привез. «Не могу, – говорит, – быть в одиночестве, нужна компания».
Показалась колоссального роста жирная фигура в горохового цвета пальто нараспашку и в московского образца картузе с белым чехлом. Фигура шагала ногами как поленьями, опираясь на палку, и колыхала животом. Широкое красное лицо фигуры, обрамленное жиденькой полуседой бородкой, улыбалось во всю ширину. Справа его шел черноусый с помятым лицом пожилой мужчина в кургузом сером пиджаке и малиновом галстуке и что-то нашептывал; слева шагал толстенький коротенький, тоже уже не первой молодости человек на кривых ножках, с маленькими бачками на прыщавом лице. Он был в испанской фуражке, и на плечах его было накинуто бурое, сильно потертое пальто-крылатка, по которому за границей всегда узнают русских. Коротенький человек тоже шевелил губами, что-то рассказывая.
– Который же льстец и который шут? – поинтересовался Николай Иванович.
– Шут в крылатке. Это актер, провинциальный комик, – отвечал доктор. – А на обязанности усача лежит только славить патрона. Вез наш Максим Дорофеич сюда в Биарриц и одну из своих дам сердца, но по дороге поссорился с ней и из Смоленска прогнал ее обратно в Москву.
Плеткин и его компания поравнялись с супругами и доктором.
– Прогуливаетесь? – встретил Плеткина доктор вопросом. – Ну, вот это и хорошо. А то сидеть и киснуть у себя дома вам просто на погибель. Дышите скорей морским-то воздухом, дышите, да уж не присаживайтесь на стулья-то, а гуляйте.
– Ладно, – проговорил Плеткин с одышкой и махнул ему рукой.
– Максим Дорофеич сейчас обыграл меня на круглом бильярде в кафе, – сообщил доктору льстец.
– Нарочно поддался, так как же не обыграть, – пробормотал Плеткин и отдулся.
– Нет, ведь на круглом бильярде я не мастак играть, – оправдывался льстец.
– И бильярд хорошо для моциона, – сказал доктор. – Но морской воздух куда лучше. Двигайтесь, двигайтесь. Хорошенько двигайтесь теперь.
– Сейчас шар полетит. Максим Дорофеич заказал итальянцу воздушный шар пустить, – сообщил доктору шут.
– Ну что ж, посмотрим и мы на шар. Не стойте, не стойте на одном месте. Двигайтесь. Господа, не давайте садиться Максиму Дорофеичу, – обратился доктор к шуту и льстецу и кивнул Плеткину, прибавив: – А я к вам сейчас вернусь.
Плеткин и его спутники зашагали.
– Какой это такой шар он заказал? – спросил доктора Николай Иванович.
– Большой бумажный шар, наполняемый гретым воздухом. Тут на пляже каждый день перед обедом появляется бродячий итальянец-фокусник. Он и фокусы ручные желающим показывает, он и шары пускает. Чтобы пустить шар, он берет пять франков. Иногда эти пять франков подносят итальянцу гуляющие по пляжу вскладчину, а иногда этот шар заказывает кто-нибудь один из щедрых. Вот сегодня наш Плеткин и заказал шар, – пояснил доктор и стал откланиваться супругам Ивановым, чтобы идти к Плеткину. – Надеюсь, вечером встретимся в казино? – спросил он.
– Да уж надо, надо побывать, – отвечал Николай Иванович. – Посмотрим, что за казино такой.
– Интересного мало, кто в баккара не играет, но все бывают.
Доктор поклонился, и супруги Ивановы расстались с ним.
Вскоре супруги увидали в конце пляжа около ворот во дворе Готель-де-Пале большой красный шар, возвышающийся над толпой окружающих его ребятишек. Они подошли к толпе и увидали посреди ее жиденького человечка с клинистой бородкой, в клетчатых брюках и замасленном бархатном пиджаке. Бормоча что-то без умолку на ломаном французском языке, он жег под бумажным шаром губку, пропитанную керосином. Шар наполнялся горячим воздухом, разбухал и увеличивался в своем объеме. Но вот шар наполнился. Итальянец привязал к нему два флага из бумаги – русский и французский и перерезал нитки, которыми он был привязан к большой гире, лежавшей на земле. Шар взвился и полетел в голубое небесное пространство. Ребятишки зааплодировали и закричали ура. На пляже остановились и взрослые гуляющие и, задрав головы кверху, смотрели на шар, кажущийся все меньше и меньше. Смотрели и супруги Ивановы, следя за шаром.
– Quelque chose pour le balonieur, madame! – раздалось над самым ухом Глафиры Семеновны.
Она обернулась. Перед ней стоял итальянец в клетчатых брюках и держал створку большой раковины, приглашая к пожертвованию. Не удовольствовавшись пятью франками, данными ему Плеткиным, он собирал и доброхотную лепту с зрителей.
Николай Иванович дал полфранка.
– Однако не пора ли нам к обеду? – сказал он супруге. – Скучно здесь.
– Что ты! – воскликнула та. – Еще только пять часов, а здесь обедают в семь.
Но тут опять подошел к ним доктор Потрашов.
– Ну вот и шар видели, – проговорил он. – Не надоело вам еще на пляже?
– Да вот мужу уж надоело, – отвечала Глафира Семеновна.
– Да, сегодня здесь скучновато, потому что в казино теперь концерт классической музыки и половина публики там. Подождем полчаса, и я вас поведу к Миремону.
– Что это за Миремон? – задал доктору вопрос Николай Иванович.
– Здешний знаменитый кондитер на улице Мазагран. В шестом часу у него в кондитерской собирается все здешнее высшее общество пить шоколад и кушать сладкие пирожки.
– Это перед обедом-то? Да ведь аппетит испортишь.
– Совершенно верно, но у здешней аристократии вошло это как-то в обычай… – пожал плечами доктор. – Ну, можете не кушать там, а только купить десяток пирожков, унести их домой, а посмотреть-то вам общество надо, чтобы познакомиться с здешней жизнью.
– Надо, надо… – подтвердила Глафира Семеновна. – Ведите нас, доктор.
– К вашим услугам. Мой патрон тоже туда собирается пройти.
Доктор пошел рядом с супругами.
19
По правую и по левую сторону улицы Мазагран, против кондитерской Миремон, выстроились парные экипажи. В них приехали в кондитерскую люди биаррицкого высшего круга. Кучера, по местной моде, в лакированных черных шляпах, в черных куртках с позументами нараспашку и в красных жилетах, покуривали на козлах папиросы. Против кондитерской на тротуаре стояли зеваки и смотрели в распахнутую настежь дверь на сидевшую за столиками публику. Супругам Ивановым и доктору Потрашову, подошедшим к кондитерской, пришлось проталкиваться сквозь толпу, чтоб попасть в кондитерскую. В кондитерской, представляющей из себя всего одну большую комнату, все столики были заняты. Проголодавшиеся перед обедом посетители с каким-то остервенением пожирали сладкие пирожки. Перед многими были чашки с шоколадом. Некоторые, которым не хватило места, ели пирожки стоя, прислонившись к прилавку и держа блюдечко с пирожками в руках. Большинство явилось сюда с концерта классической музыки, бывшем в казино. Некоторые дамы были еще под впечатлением выслушанных музыкальных пьес и в разговоре друг с дружкой закатывали под лоб глаза и восклицали:
– C’est délicieux! C’est fameux!
Супруги быстро окинули взорами помещение. Прежде всего им бросилась в глаза несколько сгорбленная тщедушная старушка, вся в черном, с митенками на руках, с желтым лицом и вострым носом. Перед ней стояла тарелка с пирожками, но сама она их не ела, а, ломая ложечкой по кусочку, скармливала трем, самого разнообразного вида, маленьким собачонкам, помещавшимся на коленях у ее приживалки – тощей пожилой дамы с помятым лицом в помятой накидке. Приживалка, сидевшая около того же стола, при этом блаженно улыбалась и говорила по-русски:
– Теперь для Тото кусочек… Теперь для Муму кусочек… Теперь для Лоло… Что это? Лоло-то уж не кушает?..
– Сыт, должно быть, – отвечала старушка. – О, Лоло не жаден и всегда первый отстает от всякого угощения! Милый… – наклонилась она к собачонке, причем та, улучив момент, лизнула ее в нос.
– Тогда передайте, ваше сиятельство, Тотошке.
– Тотошке я с яичным кремом кусочек дам. Он с кремом любит. Послушай… Не хочет ли Лоло пить? Оттого, может быть, и не кушает? – спросила старушка.
– Как сюда ехать, ваше сиятельство, так только что напоила молочком. Ну, если ты сыт, Лолоша, то благодари княгиню, поцелуй у нее ручку, – обратилась приживалка к собачке.
– Он уж благодарил. Оставь… Он лизнул меня.
И опять началось:
– Тотоше кусочек… Муму кусочек пирожка. Вот Муму сколько хотите будет кушать. Она жадная-прежадная девочка.
– Княгиня Храмова из Москвы… – шепнул супругам Ивановым доктор Потрашов, кивнув на старушку. – Она здесь Thermes Salins принимает. Это уж ванны не из морской соленой воды, а из соленого источника. Вода его почти вдвое солонее морской воды.
К княгине подошел совсем расхлябанный молодой человек, тощий, с истощенным лицом, в черных усах щеткой и с моноклем в глазу, и произнес по-французски, стараясь сделать масляно-блаженную улыбку:
– Смотрю я на ваших собачек, княгиня, и любуюсь. Какая прелесть!
– Merci, mou bon… – отвечала старушка, тоже блаженно улыбнувшись. – Эти собаки все равно что люди. А вот моего Тото я даже считаю умнее многих людей. Вообразите, он иногда даже философствует, – прибавила она уже по-русски.
– Неужели? – удивился молодой человек.
– Верно, верно. Тотоша, ты философствуешь? – спросила мохнатого черненького песика княгиня.
– Гам, гам… – пролаял песик.
– Видите, отвечает, что да.
– Восторг! Один восторг! – воскликнула приживалка, взяла собачку за голову и чмокнула ее в мордочку.
– А этот молодой человек кто? – спросил доктора Николай Иванович.
– Он наш аташе при каком-то посольстве, – был ответ.
– Ну что же… Надо что-нибудь скушать, – сказала Глафира Семеновна.
– Ей-ей, ничего не могу, – отвечал супруг. – Как же это так перед обедом сладкое?.. Вот если бы рюмочку водки и бутерброд с тешкой или семгой… А то вдруг пирожки!
– Ешь, ешь… Бери и ешь. Бери вон яблочное пирожное… Уж если здесь так принято и попал ты в такое общество, то обязан есть. Не правда ли, доктор?
– Сам я есть не буду. Я только выпью рюмку коньяку, – отвечал доктор.
– Как? Да разве здесь коньяк есть? – радостно воскликнул Николай Иванович.
– Сколько хотите! И коньяк, и ликеры.
– Де коньяк! – сказал Николай Иванович продавщице. – Вот после коньяку, пожалуй, можно закусить какой-нибудь конфетиной.
Он выпил вместе с доктором по рюмке коньяку и только стал жевать шоколадную лепешку, как увидал, что с дальнего стола ему кивает Оглотков. На этот раз Оглотков был в смокинге и в черном цилиндре. Он тотчас же подошел к супругам Ивановым, которые за неимением свободного столика должны были стоять, и предложил свое место за столиком Глафире Семеновне. За столиком сидела жена Оглоткова – молодая дама, с круглым купеческим лицом, блондинка, совершенно без бровей и вся в белом.
– Супруга моя Анфиса Терентьевна… Мадам Иванова… – тотчас же отрекомендовал Оглотков дам. – Николай Иваныч Иванов, наш петербургский коммерсант.
Познакомился с Оглотковым и доктор Потрашов. Мужчины окружили сидевших за столиком дам. Оглотков жевал тарталетки с пюре из абрикосов и говорил:
– Наешься вот перед обедом этой разной сладкой дряни, а потом за обедом ничего в горло не идет.
– Так зачем же есть-то? – сказал доктор.
Оглотков развел руками.
– Так здесь принято среди высшего общества. Назвался груздем, так полезай в кузов. Не побываешь у Миремона, и уж чего-то не хватает.
– Выпили бы чашку кофе, вместо того чтоб есть пирожки, – посоветовал доктор. – Кофе не отнимает аппетита.
– Сейчас чай пили по-английски. После концерта у нас был «файф-о-клок». У нас здесь английский регулятор.
– То есть как это? Какой регулятор? – недоумевал доктор.
– Тьфу ты, регулятор! – плюнул Оглотков. – И я-то: регулятор! Режим… Английский режим… Мы здесь все по-английски… от доски до доски… Вот завтра в десять утра на игру в мяч приглашен я в здешний английский клуб. Игра-то уж очень мудрено называется, так что боюсь ее и называть, чтобы не провраться.
– Лаун-теннис? – подсказал доктор.
– Вот-вот… Лаун-теннис… С лордом одним завтра играть буду… с настоящим лордом… Потом из египетского посольства один будет… – похвастался Оглотков.
А мадам Оглоткова щурила в это время свои и без того маленькие заплывшие сальцем глазки и рассказывала Глафире Семеновне о концерте классической музыки, на котором она была час тому назад.
– Это восторг! Это восторг что такое! – говорила она. – Бах… Берлиоз… Мендельсон… Ах, как жалко, мадам Иванова, что вы не были на этом концерте! Это буквально упоение… Я закрыла глаза и чувствую, что уношусь под небеса. Впрочем, в следующий понедельник будет второй такой же концерт, и я советую вам побывать. Валер! – обратилась она к мужу. – Нам, мон шер, пора ехать. И так уж темнеет, а надо еще прокатиться по Рю де Руа. Я обещала встретиться с графиней Клервиль. Она будет верхом и с ней этот турок… Как его?.. Вы знаете, мадам, здесь есть турок, который прекрасно говорит по-русски… Ага-Магмет.
– Позвольте… Да он вовсе и не турок, а жид… – заметил доктор. – Одесский жид… Комиссионер по пшенице. Я его отлично знаю.
– Не знаю. Его здесь все считают за турка, – отвечала мадам Оглоткова и стала прощаться с Ивановыми. – Надеюсь сегодня встретиться в казино. Сегодня там маленький суаре дансан.
– Будем, будем… Непременно будем, мадам Оглоткова, – отвечала Глафира Семеновна.
Они всей компанией стали выходить из кондитерской. В дверях им повстречался седой черноглазый статный мужчина в сером пальто и серой шляпе, с толстой тростью в руке и в золотом пенсне на носу. Доктор Потрашов кивнул на него дамам и шепнул:
– Вот это настоящий турок и даже паша, приближенный к султану.
– А не похож. И без фески, – заметила мадам Оглоткова.
– Оттого что с ног до головы европеец. Феску он только у себя на родине носит.
На улице супруги Оглотковы сели в экипаж, дожидавшийся их у кондитерской, а супруги Ивановы, простившись с доктором, направились к себе в гостиницу обедать.
На улице уж зажглись фонари. Гостиница была в десяти шагах.
– Пообедаем дома, отдохнем часик – и в казино, – говорил Николай Иванович.
Лишь только они подошли в гостинице, хозяин гостиницы тотчас же распахнул перед ними дверь, и первыми его словами, обращенными к супругам Ивановым, была французская фраза:
– Могу я уговориться с вами теперь о пансионе, мадам и месье?
– Тьфу ты! Опять пансион! – плюнул Николай Иванович и закричал: – Апре, апре дине пансион!
20
Было около девяти часов вечера. Супруги Ивановы, выйдя из своей гостиницы, направлялись в казино на вечер. Погода была тихая, теплая. Светила с темно-синего неба луна и делала совсем не нужным свет городских фонарей. Магазины на улицах Мэрии и Мазагран были уж сплошь заперты, но около некоторых из них на стульях разместились их хозяева и дышали легким воздухом. Иногда виднелись целые семьи. Пыхтели папироски. В руках иных женщин виднелось вязанье, машинально ковыряемое длинной иголкой с крючком. Тротуары были переполнены гуляющими после дневных трудов и так стоящими на углах домов и около подъездов мужчинами и женщинами. Уличные скамейки под платанами также были заполнены сидящими. На женщинах в большинстве случаев виднелись белые чепцы и белые передники. Это была прислуга из бесчисленных гостиниц, управившаяся с работой и вышедшая попользоваться воздухом. То там, то сям слышался сюсюкающий говор басков. Извозчики в испанских фуражках и красных галстуках, не находя больше за поздним временем седоков, направлялись к себе на дворы, по пути останавливались около уличных скамеек и беседовали с знакомыми. Виднелись шушукающиеся парочки, укрываясь за стволами платанов.
– Какой вечер-то прекрасный! – сказала мужу Глафира Семеновна. – Смотри, какая яркая луна! Как, должно быть, теперь красиво на море.
– А вот сейчас увидим, как подойдем к казино, – отвечал супруг.
Они свернули в улицу, стали спускаться к берегу – и им открылся дивный вид посеребренного синего моря, над которым стоял громадный шар бледной луны. Здание казино было налево. Балкон его был освещен электричеством, и с него доносились звуки струнного оркестра. Супруги хотя и не были особенными друзьями природы, но остановились и залюбовались лунным видом, большой золотисто-серебряной полосой от луны. На большом пляже от отражения луны на белом здании купальных кабин было светло, как днем, но пляж был пустынен. На нем не виднелось ни души. Николай Иванович посмотрел на небо и сказал:
– Вон и Большая Медведица здесь есть, только кажется, что у нас она как будто больше. Вот и Малая Медведица… – указывал он на звезды.
– Пойдем в казино. Чего тут стоять! – торопила его жена. – Шляпка отсыреет. На мне новая соломенная шляпка с цветами из перьев.
– А вот и Треугольник…
– Брось. Пойдем.
– Постой, душечка, дай Пса и Псицу отыскать.
– Ну вот… Какой еще такой Пес и Псица на небе.
– Есть. Все животные на небе есть, как и на земле. Пес, Лев, Кошка, Тигр…
– Ври больше. Пойдем. Ну дело ли это, чтобы на небе Пес! Это даже и неприлично.
– Позволь… Если Медведица есть, то отчего же Псу не быть? Такая же божья тварь.
– Ты пойдешь в казино или не пойдешь?! – возвысила голос супруга.
– Иду, иду… Эх, не дашь уж и на звезды посмотреть! – проговорил Николай Иванович и направился за женой.
– На звезды смотрят ученые люди, астрономы на обсерватории, а зачем тебе звезды? – был ответ.
Вот и подъезд казино. Около него стоял один-единственный экипаж, и кучер на козлах курил трубку. Ливрейный швейцар распахнул перед супругами дверь, и открылся великолепный вестибюль. Шла мраморная лестница вверх, застланная ковром. Стены были расписаны живописью. Стояли статуи. Налево помещался прилавок кассы и за ним касирша, затянутая в рюмочку и с живыми цветами в волосах.
– Де билье… – обратилась к ней Глафира Семеновна.
– Прикажете вам два абонемента на месяц? – спросила касирша.
– Нон, нон. Де билье пур ожурдюи.
– Тогда возьмите абонемент на неделю.
– Нон, мерси. Пур ожурдюи… – стояла на своем Глафира Семеновна. – Зачем нам абонемент? С какой стати? Может быть, еще и не понравится, – сказала она мужу.
– Абонемент, мадам, обойдется вам вдвое дешевле, – поясняла кассирша и оторвала два билета, взяв за них по три франка.
– Как навязывает-то! Должно быть, делишки здесь не особенно важны, – заметил Николай Иванович.
Супруги поднялись по лестнице и очутились в длинной галерее с диванами по стенам. Галерея была совершенно пуста. Они прошли ее и очутились в буфетной комнате. Стояли маленькие столики. В глубине помещалась буфетная стойка с фруктами в вазах и целая батарея бутылок, из-за которой торчала голова буфетчика. Буфетная была также пуста. В ней уныло бродил лакей во фраке и за одним из столиков перед самой маленькой рюмкой коньяка сидел громадного роста мужчина с большим животом и, откинувшись на спинку стула, пыхтел и отдувался.
– Однако публики-то не завалило! – заметил жене Николай Иванович.
– По всем вероятиям, музыку слушают. Ведь музыка играет, – отвечала жена.
Они прошли в зал. Зал также был пуст. Двое дверей из зала вели на балкон, и там слышалась музыка. Супруги вышли на балкон, висящий над морем. Балкон громадный, во весь этаж, весь уставленный мраморными столиками, но за ними опять-таки сидело не более пяти человек. В выстроенном на балконе стеклянном киоске играл небольшой струнный оркестр. Дирижер во фраке и белом галстуке так и надсаживался, размахивая смычком.
– Где же публика? – дивилась Глафира Семеновна. – И Оглотковых нет, и доктора нет, а ведь как просили нас прийти сюда!
Они прошли вдоль всего балкона и смотрели в лица немногочисленных слушателей музыки. Одиноко за одним из столиков, перед остывшей чашкой кофе, спал рыжий бакенбардист в смокинге, прислонясь головой в серой шляпе к стене и опустя вниз руку, в которой была сжата газета. Далее сидела пожилая дама, сильно закутанная в перовые боа и смотревшая на освещенное лунным светом море. Она облокотилась на столик и тоже дремала. Еще подальше – дама с мужчиной во фраке. Дама сидела перед чашкой с шоколадом или кофе, была нарядно одета в шелковое платье и в малиновое сорти-де-баль, опушенное перьями белых марабу, а мужчина клевал носом, вздрагивая черным цилиндром.
– Что это, сонное царство, что ли? – продолжала недоумевать Глафира Семеновна. – Как хорошо слушают музыку! Вот меломаны-то!
– Да ведь после обеда, так уж какая тут музыка! Наелись вплотную, ну, винца хлобыстнули малость, а теперь вот здесь, в холодке, и сморило их, – отвечал супруг. – Музыка после обеда – беда, сейчас в сон ударит. Я по себе знаю.
Они шли дальше, и вдруг показалась стеклянная дверь, выходящая на балкон. В стекла этой двери виднелась целая толпа публики, окружавшей большой стол.
– Вот, вот, где все собрались! – воскликнула Глафира Семеновна. – А мы-то ищем на балконе над морем! Кому теперь охота на сырости!.. Входи скорей. Надо посмотреть, что тут делают.
Николай Иванович отворил дверь, и они вошли в комнату с позолотой на потолке и на стенах и стали смотреть, чем были заняты мужчины и дамы. Оказалось, что тут была игра в лошадки, нечто вроде рулетки. На разлинованное зеленое сукно стола с номерами игроки бросали франковики и двухфранковики, усатые крупье нажимали шалнер, по столу двигались цинковые раскрашенные лошадки с красными, белыми, желтыми и зелеными жокеями, и, когда останавливались, раздавался возглас номера, который выиграл.
– Как в Ницце, совсем как в Ницце, – сказала Глафира Семеновна. – Помнишь, мы играли в Ницце? Надо и здесь поставить.
– Погоди, матушка. Лай осмотреться-то порядком, – отвечал супруг.
Далее был стол с шаром, пускаемым с желоба на зеленое сукно с лунками, – тоже игра. И около этого стола стояло человек пятнадцать нарядных мужчин и дам, бросающих на жертву игорному откупщику серебряные франки.
Около этого стола Глафира Семеновна увидала и мадам Оглоткову в шляпке, в гранатового цвета шелковом платье и белом сорти-де-баль. Она тронула Оглоткову за плечо и сказала:
– Здравствуйте.
Та обернулась и произнесла:
– Ах, это вы, мадам Иванова? Не хотите ли пополам? Одной мне ужасно не везет. Я уж два золотых проиграла.
– Да, пожалуй…
Мадам Оглоткова чуть не вырвала у мадам Ивановой деньги и бросила их на стол.
21
Не прошло и получаса, как у Глафиры Семеновны не хватило уже золотого, а мадам Оглоткова приглашала ее продолжать игру.
– Нет ли у тебя золотого? – обратилась Глафира Семеновна к мужу.
– Прокатала уж, матушка, свои-то? – спросил тот.
– Давай, давай… Не задерживай! Я уж теперь сама по себе играю и хочу на лошадки перейти, к другому столу. Здесь с шаром что-то такое сомнительное. Никто не выигрывает.
– Да иначе и быть не должно. А то из-за чего же держать стол и таких усатых молодцов при нем?
– В столе с лошадками все-таки игра правильнее. Давай сюда золотой-то.
Николай Иванович дал две пятифранковые монеты.
– Ладно. Для первого раза достаточно и тридцать франков проиграть.
Еще через четверть часа Глафира Семеновна отошла от второго стола.
– Ну что? – спросил муж.
– Хуже еще, чем в столе с шаром. Там я все-таки хоть что-нибудь брала, а здесь подряд ничего. А главное, мне мешала вот эта крашеная в фальшивых бриллиантовых серьгах.
– Тсс… Остерегись. А то может выйти история вроде усатой ведьмы. Помнишь, в вагоне-то? Здесь русских гибель, – предостерег супругу Николай Иванович.
– На какой бы номер я ни поставила, сейчас и она лезет с своим франком, – понизила голос жена.
Подошел доктор Потрашов.
– Играете? – спросил он супругов.
– Да вот жена просадила тридцать франков.
– Во что играли?
– Сейчас в лошадки, а давеча в шар. Я не знаю, как эта игра называется.
– По-русски называется она – дураков ищут.
– Как это глупо! – покачала головой Глафира Семеновна. – Стало быть, я дура и все играющие в шар дуры и дураки? Послушайте, доктор, разве вот эта накрашенная дама с подведенными глазами и в парике русская? – обратилась она к Потрашову.
– Никогда не бывала. Это кокотка из Парижа.
– Как же она сюда попала? Ведь здесь только высшее общество Биаррица собирается.
– Вздор. Кто угодно. Всем двери открыты. А для этих дам-то так здесь даже биржа. Теперь еще немного рано, а посмотрите, часа через полтора сколько их здесь соберется!
– А Оглотковы нам рассказывали, что здесь в казино только высшее общество собирается!
– У них все высшее общество… Они вон одесского жида-комиссионера за турка из Египта принимают. Впрочем, что ж, чем бы кто ни тешился. По вечерам сюда собираются все-таки кто хочет кровь поволновать игрой. Тут, кроме этих рулеток, большая игра в баккара… Мой патрон уже засел и обложил себя стопками русских полуимпериалов.
Где-то в отдаленности раздался ритурнель кадрили.
– А вот и танцевальный вечер начинается, – встрепенулась Глафира Семеновна.
– Танцевальный он только по названию, – отвечал доктор.
– То есть как это?
– Очень просто. На здешних вечерах никто не танцует. Да вот пойдем и посмотрим.
Из игорной комнаты они вышли в галерею и проследовали через буфетную комнату в зал.
В зале сидели несколько дам в шляпках, разместясь по стульям и мягким скамейкам, стоявшим по стене. В дверях столпилось человек восемь мужчин, но никто не становился в пары, никто не приглашал дам, хотя повестка на кадриль была уже подана музыкантами. Ритурнель повторили. Прошло минут пять. Опять никто не группировался для кадрили.











