Читать онлайн Крестоносцы: Полная история
- Автор: Дэн Джонс
- Жанр: Зарубежная образовательная литература, Популярно об истории, Религиоведение, История религий, Христианство
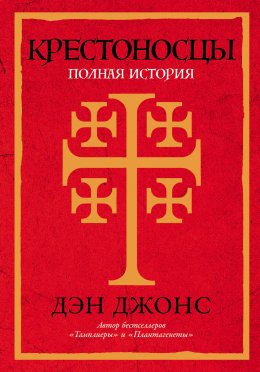
Переводчик Галина Бородина
Научный редактор Николай Сайнаков, канд. ист. наук
Редактор Наталья Нарциссова
Издатель Павел Подкосов
Руководитель проекта Александра Казакова
Ассистент редакции Мария Короченская
Художественное оформлние и макет Юрий Буга
Корректоры Татьяна Медингер, Ирина Панкова
Компьютерная верстка Андрей Ларионов
Все права защищены. Данная электронная книга предназначена исключительно для частного использования в личных (некоммерческих) целях. Электронная книга, ее части, фрагменты и элементы, включая текст, изображения и иное, не подлежат копированию и любому другому использованию без разрешения правообладателя. В частности, запрещено такое использование, в результате которого электронная книга, ее часть, фрагмент или элемент станут доступными ограниченному или неопределенному кругу лиц, в том числе посредством сети интернет, независимо от того, будет предоставляться доступ за плату или безвозмездно.
Копирование, воспроизведение и иное использование электронной книги, ее частей, фрагментов и элементов, выходящее за пределы частного использования в личных (некоммерческих) целях, без согласия правообладателя является незаконным и влечет уголовную, административную и гражданскую ответственность.
© Dan Jones, 2019
© Издание на русском языке, перевод, оформление. ООО «Альпина нон-фикшн», 2024
Уолтеру
χαλεπὰ τὰ καλά[1]
В те дни мужчины пеклись о мехах не меньше, чем о своих бессмертных душах.
АДАМ БРЕМЕНСКИЙ (ОК. 1076 Г.)
Карты
1. Европа и Святая земля после Первого крестового похода (ок. 1099 г.)
2. Государства крестоносцев в XII в.
3. Ход Реконкисты
4. Путь Первого крестового похода из Константинополя (1097–1099 гг.)
5. Осада Антиохии (1097–1098 гг.)
6. Осада Иерусалима (июнь – июль 1099 г.)
7. Второй крестовый поход (1147–1149 гг.)
8. Языческие племена Прибалтики (ок. 1100 г.)
9. Дельта Нила в период Пятого крестового похода (1217–1221 гг.)
10. Монголы и мамлюки (ок. 1260 г.)
.











