Читать онлайн Орудия пыток. Всемирная история боли
- Автор: Майкл Керриган
- Жанр: Зарубежная публицистика, Публицистика
Размер шрифта: 15
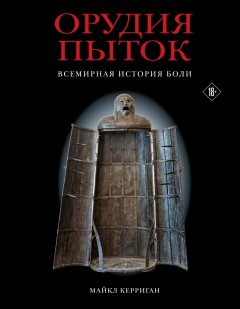
Michael Kerrigan
The Instruments of Torture
© Amber Books Ltd 2017
© Смолина М. Ю., перевод на русский язык, 2024
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2024
* * *
Введение
Продолжить чтение











